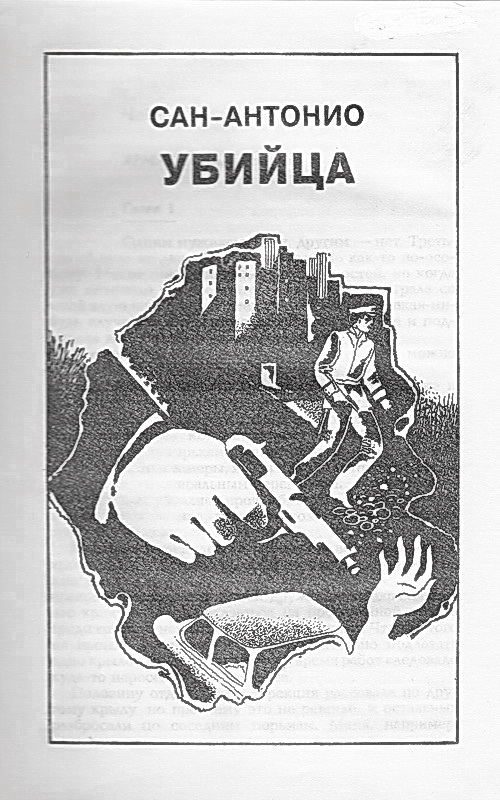Шарль Эксбрайа
Шарль Эксбрайа
АЛИБИ НА ВЫБОР
Глава первая
Каждое утро, встав с постели, донна Серафина обращалась к небу с жаркой мольбой: «Господи, сделай так, чтобы в сегодняшней газете не было дурных известий, иначе я больше не ручаюсь за спасение души моего хозяина, дона Адальберто». Если бы донна Серафина умела читать, она бы скрывала от него «Ломбардский курьер» в те дни, когда на первой странице было особенно много ужасов и нелепостей; но экономка дона Адальберто читать не умела, поэтому она только смотрела на фотографии, которые ее почти всегда подводили, так как у негодяев были лица честных людей, а честные люди, увы! часто походили на бандитов. Кроме того, поди догадайся, кто из этих прекрасно одетых и вполне корректных господ; так учтиво приветствующих друг друга, успел осыпать оскорблениями своих коллег в ООН, угрожая им самыми страшными катастрофами! Старушка проклинала газету и журналистов, по чьей вине дон Адальберто рисковал тем участком рая, который ему предназначался.
С самого детства дон Адальберто просыпался в шесть часов утра. Ему исполнилось шестьдесят пять лет, он весил шестьдесят килограммов и со своим венчиком белоснежных волос был похож на старого цыпленка, слишком долго проспавшего в забытом яйце. Серафина же считала, что шестьдесят килограммов, составляющих вес ее хозяина, состояли в равной мере из доброты и вспыльчивости, склонности к милосердию и насилию, короче говоря, из какой-то мешанины всевозможных человеческих качеств, за исключением мягкости. Несмотря на то, что донна Серафина заботилась о доне Адальберто уже добрых тридцать лет, знала она о нем не больше, чем в тот далекий день, когда поступила к нему в услужение. Ей было уже за семьдесят, но он разговаривал с ней, как с безмозглой девчонкой, и это огорчало ее больше всего. И все же она очень любила своего хозяина. Если бы кому-нибудь вздумалось причинить ему даже незначительное зло, она способна была бы умереть, защищая его.
Лежа в постели, где зимой и летом он укрывался старой периной, доставшейся ему от матери, дон Адальберто постепенно возвращался в окружающий мир. При этом он следовал неизменному ритуалу: прежде всего открывал левый глаз, которым лучше видел, и рассматривал небо через незанавешенное окно; если оно оказывалось чистым, он поднимал правое веко, высовывал из-под перины свои худые руки и складывал их для краткой благодарственной молитвы, адресованной Тому, кто создал солнце и ясные утра. Если же, напротив, небесный свод был серым и хмурым, он закрывал левый глаз и отказывался от всякого выражения благодарности. Это был его способ протеста, его порицание Тому, кто выдумал плохую погоду и все людские беды. Однако в любом случае через четверть часа он вставал, умывался холодной водой и брился древней бритвой, давно уже утратившей свою первоначальную форму. Потом он надевал тщательно вычищенную одежду, аккуратно разложенную на единственном стуле в его побеленной известкой спальне, и переходил в кухню, где Серафина уже ждала его, чтобы подать кофе.
Как только дон Адальберто входил в кухню, служившую также столовой и гостиной, он сразу бросался в атаку, сопровождая свои слова скрипучим смехом.
— Так ты не умерла сегодня ночью, добрая моя Серафина? Очень рад! Господь Бог снова забыл о тебе…
Серафина не выносила таких шуток; она боялась смерти, считая себя недостойной находиться в одном месте с законниками, ангелами, святыми и мучениками. Она представляла себе рай как учреждение со строгой иерархической системой, где сияющие нимбы украшают головы префектов. Когда Серафина слышала насмешливые речи хозяина, все ласковые, приветливые слова, которыми она собиралась встретить его, замирали у нее на устах. От горечи и досады она начинала ворчать. Обычно она завтракала стоя, сначала из уважения, а потом рассердившись. После того как дон Адальберто заканчивал свой скромный завтрак, он задавал вопрос, которого она больше всего боялась:
— Ты принесла «Ломбардский курьер»?
В зависимости от больших или меньших опасений, внушаемых ей фотографиями, Серафина либо сразу находила газету, либо долго делала вид, что ищет ее, чем неизменно раздражала своего хозяина, давно знакомого с ее хитростями.
— Ну как, ты, может быть, поторопишься, Серафина? — спрашивал он.
В этот день экономка обнаружила газету под кучей тряпок, куда она запрятала ее в тщетной, но вечно живой надежде, что дон Адальберто забудет о ней. Она протянула ее хозяину как нечто непотребное: на первой странице были сняты атомные взрывы и расщепление атома, которые кроме других своих свойств обладали способностью возбуждать ярость дона Адальберто. Заглянув в газету, он стукнул кулаком по столу и пробормотал в адрес ее редактора страшные ругательства, заставившие Серафину незаметно перекреститься.
— Видишь, что происходит? Господь снова разрешил им взорвать эту их бомбу. Кажется, Он непременно хочет, чтобы наша планета взлетела на воздух из-за этих кретинов! Не лучше ли было бы прийти на помощь нам, разумным людям? Совсем небольшое чудо, и — раз, два, три, никакие бомбы больше не взрываются, ученые забывают свои расчеты, приходится все начинать сначала, но Он делает так, что это уже невозможно! Не так уж это и трудно! Господь Бог, вероятно, не сознает, что Он заставляет многих порядочных людей терять веру и думать, что дьявол вот-вот выиграет у Него второй раунд!
Резко отодвинув свой стул, дон Адальберто выбежал на улицу, не подумав даже надеть шляпу. Как только дверь за ним закрылась, Серафина упала на колени, умоляя Спасителя проявить еще немного терпения по отношению к хозяину, который уже тридцать лет ссорится с Ним, хотя и продолжает служить Ему от всего сердца. Дело в том, что дон Адальберто в течение тридцати лет был священником в Фолиньяцаро, деревушке в Верхнем Пьемонте, где он родился. Ее обитатели жили очень бедно, несмотря на то, что работали в поте лица своего.
Придя в ризницу, куда лучи солнца проникали через растрескавшиеся стены и освещали убогую утварь, дон Адальберто переоделся в свое облачение при помощи Теофрасто, служки, который так привык к его неровному характеру, что не обращал на него внимания.
— Я отслужу сейчас обедню, Теофрасто, но, поверь мне, душа у меня к этому совсем не лежит! Что это ты там бормочешь? Ничего? Тем лучше для тебя, потому что в противном случае ты схлопочешь такую затрещину, что голова у тебя расколется на две части, так я взволнован! Да, да, можешь не сомневаться! Я отслужу Ему обедню и, как обычно, вложу в это всю душу, чтобы разозлить Его. Может быть, Он воображает, что, допуская совершение всевозможных гнусностей на земле и позволяя побеждать тем, кто Им пренебрегает, Он сумеет внушить нам, любящим Его, отвращение к Нему? Так вот, Теофрасто, послушай, что я тебе скажу и не корчь эту идиотскую рожу, которая напоминает мне твоего отца! Господь ошибается, если думает, что мы Его покинем. Он-то не отрекся, когда взбирался на Голгофу, осыпаемый ударами и оскорблениями, почему же мы должны остановиться в пути? А ты чего прохлаждаешься, несчастный бездельник, горе своей матери, позор Фолиньяцаро, вместо того, чтобы открыть дверь в церковь и заставить замолчать этих язычников, которые орут так, будто они не в храме, а в доме нечестивого Онезимо Кортиво, где они бражничают по воскресеньям? И не забудь, когда выйдешь отсюда, зайти к Серафине и взять у нее двадцать лир, отложенных для тебя. А сейчас, вперед! Но предупреждаю: если ты опять запутаешься в ковре перед алтарем, как вчера, я дам тебе такой пинок, что ты пробьешь церковную стену и вылетишь на площадь, где от тебя останется только мокрое место!
Следуя за доном Адальберто (который никогда не забывал, что военную службу он проходил в частях Альпийских стрелков), Теофрасто взлетел на хоры так быстро, что дверь снова захлопнулась, раньше чем священник успел переступить через порог, и ударила его. Из уважения к месту дон Адальберто удержался от брани, рвавшейся с его уст, но так как эта сцена вызвала некоторое оживление среди присутствующих: восьми старух, одной молодой женщины и одного старика, то он остановился у подножия алтаря и гневно обратился к своей пастве:
— Вам непременно нужно напоминать о необходимости соблюдать приличия, безбожники! гугеноты! коммунисты! фашисты! Это ты, Леонардо, первый поднимаешь шум, как в прежние годы в школе, где ты чуть не свел с ума бедную сестру Кунегунду? Но я ведь не Кунегунда! Если не будешь сидеть спокойно, при выходе я тебя вздую или отлучу от церкви. Можешь выбирать!
Не ожидая ответа, на который, впрочем, и трудно было рассчитывать, так как старый маразматик, к которому он обращался, был совершенно глух уже больше двадцати лет, дон Адальберто поднялся к алтарю, как в старину воины шли на штурм крепости.
* * *
В то время как дон Адальберто расправлялся с молитвами, дверь дома мэтра Агостини, самого красивого здания во всей округе, стоявшего при въезде в деревню, тихонько отворилась, и Аньезе, единственная дочь нотариуса, выскользнула на улицу. Ее голову и плечи прикрывала шаль. Она прошла задами, через сады, расположенные террасами, к шаткому домику вдовы Россатти. Подойдя к двери кухни; она осторожно постучала и скоро услышала тяжелые шаги донны Элоизы (эта славная женщина весила около восьмидесяти килограммов), которая шла, чтобы посмотреть, кто беспокоит ее так рано. Когда она узнала девушку, лицо Элоизы Россатти, обычно безмятежное, застыло, как телячий студень на холоде. Видя, как она долго вбирает воздух, легко было догадаться, что донна Элоиза готовится произнести одну из тех пылких речей, которые вот уже лет тридцать, как прославили ее на десять верст кругом.
— Ты!.. Ты, Аньезе Агостини!.. Как смеешь ты являться в дом, вокруг которого смерть бродит по твоей вине? Ты должна быть в тюрьме, да, в тюрьме! Я поговорю с Тимолеоне, и тебя бросят в тюрьму, потому что никто не имеет права, и ты меньше всех, разбивать сердце мальчика, составляющего единственную гордость своей несчастной матери!
Аньезе в ужасе пролепетала:
— Смерть?..
— Ах, горе мне, мой Амедео говорит только о смерти. По его словам, жизнь без тебя ему не мила; ему невыносимо думать, что кто-то другой, а не он, будет отцом твоих детей; ты ему принадлежишь, говорит он, и если ты согласишься вернуться, то он удовольствуется тем, что перережет горло твоему отцу и его проклятому клерку…
— Иисус-Мария!
— Но если ты будешь упорствовать в своей измене, тогда он подожгет деревню, после того как повесится… или до того, я уже не помню. Во всяком случае, что-то ужасное! Ведь ты знаешь моего Амедео… Он весь в меня.
Аньезе залилась слезами.
— Может быть, ты не такая плохая, как кажешься, бедная моя овечка? Скажи мне, наконец, именем Христа распятого, любишь ты Амедео или нет?
— А как я могу любить человека, который грозится перерезать горло моему отцу и сжечь Фолиньяцаро?
— Ну, не будем преувеличивать… ладно? Ведь ты знаешь, какая я… Я болтаю, болтаю и в сущности говорю о том, что я бы сделала на его месте… Но он, о, пресвятая Богородица!.. Ты, державшая на коленях своего Божественного Сына, когда Он истекал кровью, Ты меня поймешь… На что он теперь похож… Настоящее привидение… Еле тащится из кухни в комнату, из комнаты в кухню… Если бы он хоть ел! Как же! Невозможно уговорить его проглотить маленький кусочек! Сил у него совсем нет, и когда он поднимает ружье, чтобы надеть его, то под тяжестью едва не опрокидывается на спину… Просто несчастье, Аньезе! Если бы ты его видела, у тебя не хватило бы слез, чтобы оплакать свой позор — ведь это ты довела до такого состояния человека, который в своей капральской форме был самым красивым парнем от Фолиньяцаро до Милана! Теперь — мне больно об этом говорить — форму можно два раза обернуть вокруг того, что от него осталось… И это по твоей милости, проклятая! Окаянная! Колдунья! Да что говорить! Если мой мальчик умрет, я задушу тебя собственными руками, слышишь? Моими собственными руками!
— Но ведь я люблю его, донна Элоиза! Я люблю вашего Амедео!
— Ты любишь его, несчастная, тогда как повсюду рассказывают, что ты собираешься выйти замуж за этого неведомо откуда взявшегося Эузебио Таламани!
— Мой отец этого требует!
— Тот, кто любит по-настоящему, не считается с тем, что от него могут потребовать! Когда я, к примеру, выходила замуж за покойного Россатти, его семья была против, но он любил меня и я его любила. И вот однажды вечером, в то время как все они были в сборе, я отправилась к Россатти. Мой будущий муж не решался с ними говорить, и я сама выложила им все, что было у меня на сердце, потом взяла его за руку и увела. Я сказала им: он появился голым в этом доме и голым уйдет из него! Завтра же отошлю вам его одежду! На следующий день все Россатти явились к нам и умоляли меня стать их невесткой!
— Я не такая сильная, как вы, донна Элоиза…
— А кроме того, ты не любишь Амедео так, как я любила моего Джанни!
— Не говорите так!
— Я говорю так, потому что я знаю! Худощавые маленькие женщины не умеют любить, как полнокровные толстушки! Если бы мое сердце билось в твоей груди, ты бы сейчас подскакивала на месте, так бы тебя трясло! Но оставим это. Скажи, наконец, выйдешь ты замуж за моего Амедео или не выйдешь?
— Папа этого не хочет…
— Тогда уходи!.. Уходи прочь, потому что, если я брошусь на тебя, я способна тебя раздавить! И предупреди своего отца: в случае несчастья с моим мальчиком я выцарапаю ему глаза, и все в нашей округе меня одобрят! А теперь послушай, Аньезе, что я тебе посоветую: не вздумай возвращаться сюда, здесь, наверху, мы не привыкли к вежливому обращению с распутницами, бесстыдными девками, потаскухами!
— О!.. Это… это меня… вы называете… называете…
— Тебя, конечно! А ты как назовешь девушку, которая развлекается с несколькими мужчинами сразу, а?
Задыхаясь от слез, стыда и раскаяния, Аньезе спустилась в нижнюю часть Фолиньяцаро. При виде ее старая прачка Элеонора печально покачала головой и доверительно сказала, обращаясь к своему коту Ганнибалу:
— У этих Агостини всегда были в семье чокнутые… Боюсь, что теперь пришла очередь этой бедной Аньезе.
Если сам нотариус и не обратил внимания на отсутствие дочери, то не так обстояло дело с его женой, донной Дезидератой. Она ожидала возвращения Аньезе, выглядывая из дверей, ведущих в сад. Увидев, что дочь подходит, спотыкаясь и рыдая, она забыла о своем намерении соблюдать осторожность и принялась кричать, потому что в Фолиньяцаро без крика говорить не умеют.
— Аньезе, свет очей моих, что с тобой?
Молодая девушка упала на тощую грудь донны Дезидераты. Прерывистые рыдания продолжали сотрясать ее тело. Ей удалось наконец, в ответ на материнские уговоры, взять себя в руки и описать свое столкновение с Элоизой Россатти. После этого рассказа беспокойство супруги нотариуса уступило место негодованию.
— Эта Элоиза, что за наказание Господне! Ах, я понимаю теперь, почему ее покойный муж предпочел умереть, вместо того чтобы мирно стариться рядом с ней. Ничего, она обо мне еще услышит! Хоть она и похожа на слона, я еще способна вбить ей в глотку все ее злобные слова!
Но Аньезе было сейчас не до обид.
— О, Боже! Так ты не понимаешь, мама, что Амедео почти кончается? Мой Амедео!
Услышав вопли жены, мэтр Агостини, который в это время брился, едва не порезался. Он страшно выругался, однако, будучи человеком благочестивым, тут же произнес короткую молитву, надеясь убедить своего ангела-хранителя забыть услышанное. Но так как сам дон Изидоро не принадлежал к ангельскому сословию, он не мог себе позволить забыть донесшийся до него крик. Как и подобает главе семьи, сознающему свою ответственность, он спустился на первый этаж, чтобы выяснить, что там происходит. Еще на лестнице он услышал, что его жена жалуется раздирающим душу голосом:
— Кончается? Такой красивый юноша! Кончается от любви к моей Аньезе! Это ужасно! Бедная моя голубка! Как он покончил с собой? Я надеюсь, он повесился? Это более романтично…
— Кто это кончается и чья смерть побуждает тебя, Дезидерата, изображать сирену корабля, терпящего бедствие?
Голос нотариуса оторвал его супругу от драматической ситуации, к которой было приковано ее внимание. Она обернулась к нему и объявила серьезным, печальным тоном:
— О, Изидоро, ты должен как можно скорее броситься к ногам дона Адальберто и исповедаться в своих прегрешениях. Сможешь почитать себя счастливым, если он удовольствуется тем, что заставит тебя пройти босиком до церкви Санта Мария Маджиоре, неся в каждой руке по пятифунтовой свече!
Опешив от такого предположения, столь мало соответствующего его высокому званию и полному отсутствию склонности к умерщвлению плоти, дон Изидоро проворчал:
— Ты что, Дезидерата, сошла с ума?
— Да, я схожу с ума от мысли, что я жена убийцы и что Бог может покарать меня наравне с тобой за твое преступление.
Нотариус посмотрел на жену с нескрываемым беспокойством.
— О каком преступлении ты говоришь?
— Ты убил Амедео Россатти.
— Я?
— Ты толкнул его на самоубийство, а это одно и то же!
— Так Амедео умер? — осведомился дон Изидоро.
— Потому что ты отказался отдать за него нашу дочь, которая любит его и которую он любил!
Тут вмешалась Аньезе, все еще распухшая от слез.
— Я не говорила тебе, мама, что Амедео умер; просто он хочет умереть, потому что не может примириться с мыслью, что отцом моих детей будет кто-то другой.
Этот новый нюанс не смутил донну Дезидерату. Она тут же обратилась к мужу:
— Слышишь? А сам ты хотел бы, чтобы у Аньезе был другой отец, а не ты?
Вот уже двадцать семь лет как логика его супруги представлялась дону Изидоро пропастью, глубину которой он отчаялся измерить.
— Не вижу в этом никакой связи, точно так же как не вижу, почему я должен отдать мою дочь человеку без копейки только потому, что ему не хочется, чтобы у Аньезе были дети от другого мужчины! Если хочешь знать мое мнение, Дезидерата, то я считаю, что Амедео полностью лишен, как культуры, так и скромности.
В ответ на это безапелляционное утверждение Аньезе издала стон, полный такой страшной скорби, что Джудитта Скьявони, соседка Агостини, упала на колени, готовясь достойно принять смерть: она была уверена, что это голос ее матери, которая умерла двадцать два года назад и теперь звала ее к себе. Нотариус не выносил подобных проявлений чувств.
— Перестань, Аньезе, — сказал он. — Ты подрываешь уважение к нашей семье! Замуж за Амедео Россатти ты никогда не выйдешь, а я сегодня же попрошу сделать оглашение о твоем бракосочетании с Эузебио Таламани!
После этого заявления дон Изидоро повернулся на каблуках и поднялся к себе, намереваясь закончить свой туалет. Что касается донны Дезидераты, то она присоединила свой голос к воплям дочери. Прохожим казалось, что целая свора собак воет по покойнику в доме Агостини.
* * *
Тимолеоне Рицотто обладал счастливым характером, который стал еще лучше после смерти его жены. Каждое утро он благодарил Провидение за то, что оно сделало его начальником карабинеров, и не где-нибудь, а в Фолиньяцаро, его родной деревне, куда он был назначен благодаря поддержке друзей сразу же после окончания войны. Толстый и коротконогий, он каждый год вынужден был покупать более широкий пояс. Из-за своей полноты Тимолеоне терпеть не мог делать лишние движения, торопиться сверх меры и волноваться. С видом гурмана он признавался, что никакое событие в мире не может отвлечь его от тарелки хорошо приготовленных рубцов и что, по его мнению, в этой юдоли слез нет ничего важнее поленты с птичьим паштетом или булочек с изюмом и цукатами. Гордый своим опытом, он сообщал всем желающим, что пить приятнее всего грумелло, легкое красное вино с запахом и вкусом клубники. Пока донна Мария Рицотто была жива, она ухитрялась удерживать аппетит своего мужа в разумных пределах. Когда она отдала Богу свою благочестивую душу, Тимолеоне пролил несколько подобающих случаю слез, но тут же вздохнул с облегчением, отлично понимая, что теперь-то он сможет беспрепятственно предаваться своей страсти. Чтобы наверстать потерянное время, он стал есть вдвое больше и скоро превратился в затянутую в мундир бесформенную массу. Каждый выход на улицу стал для него пыткой, и он уже мечтал о безмятежных радостях жизни на пенсии.
Несмотря на свои размеры, Тимолеоне заботился о своей внешности. До того как приступить к завтраку, он тщательно занимался своим туалетом, и опрыскивал себя с головы до ног одеколоном из лаванды, который делал сам. После этого с набожной улыбкой на добродушном лице, он готовился к незыблемому ритуалу, сопровождавшему завтрак. Чтобы продлить удовольствие, он все делал сам. Начинал он обычно с толстого ломтя болонской колбасы, за которым следовали яичница болтунья и маслины. Напоследок он съедал кусок сухого сыра, запивая его одним или двумя стаканами грумелло. Покончив с первой частью трапезы и еще не надев кителя, он вкушал заслуженный отдых, выкуривая сигарету, и переходил ко второй: кофе со сливками и с булочками, которые пекарь Маренци приносил ему каждое утро в определенный час. Стоило тому прийти чуть раньше или чуть позже, и настроение начальника карабинеров было испорчено.
Проглотив последний кусочек булочки, Тимолеоне мыл посуду, приводил в порядок свои руки, натягивал китель, надевал пояс и производил Смотр своих войск в составе капрала Россатти и карабинера Бузанелы. Услышав от них, что происшествий не было, он ждал маловероятного прихода почты, подремывая или размышляя о том, что бы приготовить на обед.
В это утро, наполнив желудок хорошей пищей, сделав все необходимое по хозяйству и закончив свой туалет (Тимолеоне жил один, не прибегая к помощи служанок, так как после смерти своей супруги он дал волю своему долгое время подавлявшемуся женоненавистничеству), он призвал своих подчиненных. Явился один карабинер Иларио Бузанела. Это был уже немолодой, худой, как щепка, человек. Покидая свой полк, он колебался: стать ли ему карабинером или взломщиком сейфов — ремесло, к которому, как он чувствовал, у него были недюжинные способности; и если в конечном итоге он выбрал карабинеров, то только потому, что в дальнейшем они получали пенсию. Внешность Иларио приводила Тимолеоне в отчаяние. Его худоба, желтушный цвет лица и унылый вид казались ему какой-то постоянной провокацией, и это убеждение толкало его на несправедливое отношение к бедняге.
— Докладывайте, карабинер!
— Никаких происшествий, шеф…
— Где капрал?
— Он ночевал у матери и еще не вернулся.
— Этот тип слишком много себе позволяет. Пришло время заставить его уважать устав. За кого он себя принимает, этот Россатти, черт его побери?
— За капрала, шеф.
— А меня за кого?
— За шефа, шеф.
— А ваше мнение кто спрашивает?
— Вы, шеф.
— Превосходно! Если я вас правильно понял, Бузанела, вы хотите сказать, что я просто-напросто глупец, который сам не помнит, что он делает и что он говорит?
— Нет, шеф.
— А если я вам влеплю четыре дня ареста, что вы на это скажете?
— Я ничего не скажу, шеф.
— Почему?
— Потому что я всего лишь простой карабинер, шеф.
— Вот как, вот как!.. Ну, хорошо, Бузанела, а если бы вы были, как и я, начальником карабинеров, в общем, если бы мы были на равных, что бы вы мне сказали?
— Я бы вам сказал: «Иди ты знаешь, куда», шеф.
В течение одиннадцати лет, что Иларио Бузанела жил в Фолиньяцаро и служил под его началом, Тимолеоне никак не мог решить, был ли его карабинер кретином или только представлялся им. Грубость, которую он сейчас сказал ему прямо в лицо, могла с одинаковым успехом быть местью умного человека, воспользовавшегося данным ему разрешением, и ответом полного идиота, просто высказавшего то, что он считал привилегией старшего по званию. Тимолеоне мучила эта неопределенность, его раздражало, что из страха совершить несправедливость, противную его доброму сердцу, он все время вынужден сдерживать гнев, ставя под угрозу свое пищеварение.
— Ну, ладно! Но в следующий раз будьте любезны дождаться недвусмысленного приглашения, прежде чем высказывать свое мнение. А теперь отправляйтесь на ваш пост, мне нужно работать.
Карабинер вышел из кабинета, а Тимолеоне проскользнул на кухню. Сняв китель и подпоясав синим фартуком свой округлый животик, он приступил к приготовлению рагу по-милански, при одной мысли о котором у него начинали течь слюнки. Подобно генералу, производящему смотр своих войск, прежде чем бросить их в атаку, Тимолеоне разглядывал ломтики телячьей ноги, разложенные на доске вместе с мозговой косточкой, чашкой муки, бутылкой белого вина, томатным соусом, чесноком, анчоусами, петрушкой, лимонной цедрой и сливочным маслом. Раздув ноздри, чтобы вдохнуть воображаемые запахи, заранее опьянявшие его, начальник карабинеров потер руки одну о другую — жест полный благодушия, свидетельствующий о внутреннем ликовании. Стремясь к полной ясности мыслей и желая убедиться в том, что вино достаточно сухое для намеченной цели, он выпил стаканчик и выразил свое удовлетворение. После такой подготовки Тимолеоне приступил к священнодействию: мягкими, осторожными движениями посыпал кусочки мяса мукой, слегка поджарил их в хорошо смазанной маслом кастрюльке, налил туда белого вина, дал ему испариться, добавил немного бульона и хорошую порцию томатного соуса. После этого, отрегулировав огонь как следует, он накрыл кастрюльку крышкой и опустился в кресло (никакой стул его не выдерживал). Скрестив руки на животе в позе задумчивого старого Силена, он весь погрузился в предвкушение гастрономических радостей.
* * *
Сидя верхом на стуле, который он поставил справа от входа в полицейский участок, и положив руки на его спинку, Иларио Бузанела испытывал настоящее блаженство, свойственное простым душам и заключающееся в том, чтобы ни о чем не думать. Веки его были полузакрыты, во рту он держал комок жевательного табака; сплевывая через равные промежутки времени, он старался делать это с максимальной точностью — словом, наслаждался жизнью. Внезапно он выпрямился, увидев идущую прямо на него синьору Россатти. Издали она казалась очень взволнованной. Иларио с трудом поднялся, расправил свои длинные ноги и уже держался почти как следует, когда донна Элоиза оказалась рядом с ним.
— Иларио, где Тимолеоне?
— Он работает.
— Вот это новость! Он никогда в жизни не работал, неужели он начнет теперь, в его-то возрасте?
— Он не хочет, чтобы его беспокоили.
— Можешь положиться на меня, Иларио, это случится!
— Я не могу этого допустить, синьора!
И в подтверждение своей решимости карабинер стал перед входом в участок, раскорячив руки и ноги.
— Ты это серьезно, Иларио?
— С вашего позволения, синьора.
Элоиза подошла к нему вплотную и сказала с состраданием:
— Ты в самом деле думаешь, что можешь мне помешать?
* * *
Рагу тушилось уже ровно час. Тимолеоне собирался приступить к дальнейшим кулинарным операциям, когда какой-то шум заставил его подскочить. Не подумав снять фартук и положить двузубую вилку, которую держал в руке, он в три прыжка пересек кабинет и открыл дверь в служебное помещение. Представившееся ему зрелище заставило его открыть рот от удивления. Иларио Бузанела сидел на шкафу с делами. Очутиться там он мог бы, только став на стул, но стула рядом со шкафом не было, а поза карабинера и его более, чем обычно, тупой вид свидетельствовали о том, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Тимолеоне знал синьору Россатти всю свою жизнь и не мог заблуждаться. Без гнева, но голосом полным упрека он осведомился:
— Что ты еще наделала, Элоиза?
— Этот клоун сказал, что не даст мне войти.
Совершенно забыв о своем фартуке и вилке для жаркого, Тимолеоне выпрямился и сурово поглядел на нее.
— Элоиза, ты не имеешь права так отзываться о человеке, носящем такой же мундир, как твой сын! Ты наносишь ущерб достоинству карабинеров!
— А ты, Тимолеоне?
— Я?
— Ты, может быть, считаешь, что подобное одеяние внушает уважение к закону?
Вспомнив о своем костюме, Тимолеоне покраснел до ушей.
— Шум, который ты произвела, застиг меня в самый разгар расследования, я бы сказал изучения…
— Вижу, вижу!
— Кроме того, тебя не касается, как я провожу свое время, когда нахожусь у себя, Элоиза Россатти! Я знаю одно: существуют правила, и Иларио обязан… Но прежде всего, почему он находится наверху, а?
— Прошу тебя, Тимолеоне, не будь идиотом. Я тебе уже сказала, что он не хотел меня впустить.
— Но это не объясняет, почему…
— Я его слегка отодвинула.
— Слегка, да?
— Ну… Он ничего не весит, этот тип!
— Разве это объяснение? А ты, Иларио Бузанела, ты настоящий позор для карабинеров!
Сидя на шкафу и постепенно начиная понимать, что с ним произошло, Иларио справился:
— Почему, шеф?
Тимолеоне призвал свою посетительницу в свидетели:
— Слышишь, Элоиза? Он еще спрашивает, почему я думаю, что он не делает чести своему мундиру!
Опустив глаза, синьора Россатти лицемерно подтвердила:
— Нынешние мужчины, Тимолеоне, уже не то, что старшее поколение!
Бузанела робко попытался протестовать:
— Но ведь, шеф, это она…
— Что из этого? Ты считаешь себя способным следить за порядком, но если нервная женщина легонько тебя толкнет, ты спасаешься от нее на шкафу?
— Не я полез туда, это она меня забросила!
— На твоем месте я бы не стал этим хвастаться. Спускайся и запиши в регистрационной книге, что я тебе даю два дня ареста! Что касается тебя, Элоиза, постарайся запомнить, что законы следует уважать, а приказания исполнять! И я нахожу возмутительным, что мне приходится напоминать об этом матери капрала Амедео Россатти! А кстати, где он сам?
Это напоминание о ее переживаниях заставило Элоизу простонать:
— Я как раз и хотела с тобой поговорить, Тимолеоне, о моем сыне!
— Да?.. С ним что-то серьезное?
— Хуже не бывает!
— Правда?.. В таком случае пройди в мой кабинет.
Оставив Бузанелу заниматься горным спортом в одиночестве, они уселись в маленькой комнате, где начальник карабинеров, как полагали, должен был решать сложные проблемы, имевшие отношение к поддержанию общественного порядка в Фолиньяцаро.
— Садись, Элоиза, и перестань плакать, потому что ты уже походишь на пострадавший от жары рокфор. Скажи мне, чем сейчас занимается твой сын, вместо того чтобы находиться здесь, куда его призывает долг?
— Тимолеоне, ты оскорбляешь несчастную мать!
— Это тебя-то?
— Да, меня, а что касается Амедео, то ты его не скоро увидишь!
— Помоги мне святой Иосиф, он что, дезертировал?
— Можно сказать, что так!
— Элоиза, думай, что ты говоришь! Сейчас не до шуток!
— Так ты воображаешь, бессердечный толстяк, что мне хочется шутить в то время, как мой Амедео умирает?
Тимолеоне очень любил Амедео. Он остолбенел, услышав слова Элоизы.
— Умирает? Но от чего?
— От любви.
Начальник карабинеров вздохнул с облегчением.
— Только то…
— Только то? Ну и ну! Несчастный! Ты никогда не был способен на настоящее чувство, поэтому думаешь, что все на тебя похожи! Мой сын — это новый Ромео! И так как его Джульетта собирается выйти замуж за другого, то он предпочитает умереть!
— Он не имеет права! Он капрал карабинеров! Его жизнь принадлежит государству!
— Он сейчас в таком состоянии, что плевать хотел на государство!
— Хорошее дело! И это карабинер, который подавал большие надежды! Я надеялся, что он станет унтер-офицером, а потом — кто знает? — может быть, и офицером. И вот, вместо того чтобы думать о своей карьере, этот дурачок хнычет из-за того, что Аньезе Агостини предпочла ему Эузебио Таламани, клерка своего отца! Вот что я тебе скажу, Элоиза: мужчин уже не осталось!
— И это все, что ты можешь мне сказать в утешение?
— Во-первых, твой сын не умрет, а получит восемь дней ареста, которые научат его не относиться к своим обязанностям спустя рукава! Во-вторых, с тобой всегда случались всевозможные истории, и с возрастом это не прошло. Несмотря на это, ты ведь знаешь, с каким уважением я к тебе отношусь?
Синьора Россатти приосанилась, потом проворковала:
— Знаю, Тимолеоне…
— Так вот, при всем моем к тебе уважении, Элоиза, позволь тебе заметить, что ты всегда была, есть и останешься до последнего издыхания страшной занудой.
Поставленная в тупик этим рассуждением, онемевшая от его неожиданной логики, Элоиза смотрела, раскрыв рот, на карабинера, который воспользовался этим, чтобы добавить:
— В конце концов, что я должен, по-твоему, сделать, чтобы заставить Аньезе Агостини любить твоего парня?
— Сделать! Да она его и так любит!
— Это ты так считаешь!
— Нет, она сама! Не позже, чем сегодня утром, она специально пришла ко мне, чтобы мне это сообщить!
— Так пусть выходит за него!
— Она-то очень этого хочет, но ее отец, этот глупец Изидоро, не разрешает ей.
— Аньезе ведь совершеннолетняя!
— Ты прекрасно знаешь, что девушки у нас никогда не бывают совершеннолетними!
— В таком случае пусть выполняет волю отца!
— Чтобы мой Амедео совсем извелся? Нет, Тимолеоне! Неужели у тебя под кителем нет ничего, кроме жира?
Начальник карабинеров попытался ввести разговор в более спокойное русло:
— Послушай, Элоиза… Я совсем не хочу с тобой ссориться, особенно по поводу вещей, которые меня не касаются. Остановимся на этом. Скажи только твоему сыну, что, если он не будет на своем посту в два часа пополудни, я доложу начальству, что он отсутствует без основательной причины! Но знай: это путь к дезертирству, разжалованию и каторжным работам!
Элоиза сразу поднялась и в свою очередь спокойно произнесла:
— Благодарю тебя, Тимолеоне Рицотто. Благодарю тебя не только за то, что ты пальцем не шевельнул для спасения моего мальчика, но еще и за то, что ты хочешь разлучить меня с ним навеки, погубить его!
Начальник карабинеров добродушно расхохотался.
— Ах, ты действительно родом из Фолиньяцаро, милая Элоиза! Сразу все превращаешь в драму! Пусть твой сын быстренько прибежит и докажет, что он получает деньги не зря, и эта идиотская история будет забыта.
— Значит, ты считаешь, что любовь Амедео к Аньезе и Аньезе к Амедео — идиотская история?
— Право, ты начинаешь меня раздражать! Нет, идиотизм заключается в том, что капрал карабинеров, который должен был бы быть настоящим мужчиной, начинает изображать из себя томного пастушка.
— По-твоему, у карабинера не может быть сердца?
— Вернись домой, Элоиза, так будет лучше… Я терпеливый человек, но всему есть предел!
— Нет, я не выйду из этой комнаты, пока ты меня не выслушаешь, эгоист!
— Выслушать тебя? Да я только это и делаю!
— Тимолеоне Рицотто, я требую, чтобы ты арестовал этого Эузебио Таламани, который называет себя клерком нотариуса!
— Арестовать Таламани! Ты что, с ума сошла? Почему я его арестую?
— Потому что он не местный! Потому что он появился здесь два года назад неизвестно откуда и не имеет права сеять беспокойство и смуту в Фолиньяцаро! А если понадобится, то ты арестуешь и мэтра Агостини за то, что он нарушил свое слово! В противном случае предупреждаю тебя, начальник карабинеров, я камня на камне не оставлю от нашей деревни и уйду с сыном в подполье!
Запыхавшись, Элоиза уселась на прежнее место.
— Если ты вздумаешь поднять шум, Элоиза Россатти, я тебя посажу в тюрьму! Схватить парня только потому, что он соперник твоего сына! Должно быть, ты совсем свихнулась, моя милая! Таламани миланец, который приехал сюда в ответ на объявление мэтра Агостини, искавшего клерка. Об этом парне ничего плохого сказать нельзя. Он сирота, живет тихо-смирно, и в тридцать два года за ним не числится даже ни одного романа.
— И ты считаешь, что это нормально?
— Нормально или нет, это не касается ни меня, ни тебя! Бедняжка, по временам ты просто теряешь рассудок! Ты себе представляешь, как я пойду к мэтру Агостини и скажу ему: «Я должен вас арестовать, потому что вы отказываетесь выдать вашу дочь за Амедео Россатти»? а свобода личности, Элоиза, об этом ты подумала?
— Ты можешь говорить все, что тебе угодно, я-то знаю, что на самом деле ты рад возможности отомстить.
— Отомстить? Но кому?
— Мне!
— Тебе?
— Да, потому что я не стала тебя слушать тридцать пять лет тому назад, когда ты хотел на мне жениться.
— Час от часу не легче!
— Посмей только сказать, что ты не любил меня в то время, трус, изменник!
— Что-то не припомню.
— А когда ты потащил меня за бывший свинарник в вербное воскресенье и стал меня щипать, этого ты тоже не помнишь? Я еще влепила тебе тогда пощечину!
— Ты, вероятно, путаешь.
Элоиза возмущенно выпрямилась.
— Давай, давай! Сейчас ты скажешь, что я путалась с кем попало! Оскорбляй, оскорбляй меня, если уж начал! Тебе, значит, недостаточно способствовать убийству моего сына, ты хочешь еще замарать честь его матери?
Тимолеоне поднялся в свою очередь:
— Взвешивай свои слова, Элоиза, ты можешь за них поплатиться! Начальника карабинеров не оскорбляют при исполнении служебных обязанностей, иначе…
Неожиданно он замолчал, раздувая ноздри и принюхиваясь к запаху, идущему из кухни. Пока он спорил с синьорой Россатти, произошла страшная катастрофа! Поняв это, он завопил:
— Мое рагу! Боже правый, я забыл о нем, и оно подгорает!
* * *
Облаченный в пиджак из альпака, из-под которого выглядывал белый пикейный жилет, в пожелтевшей от времени панаме, опираясь на трость с серебряным набалдашником, мэтр Агостини направлялся к церкви. Все, с кем он встречался, почтительно ему кланялись: нотариус воплощал успех, и каждый житель Фолиньяцаро гордился им, как будто его состояние принадлежало всем. Постучав деликатнейшим образом в дверь обветшалого домика священника, метр Агостини спросил у открывшей ему донны Серафины:
— Дон Адальберто дома, донна Серафина?
Старушка, весьма чувствительная к вежливому обращению, приветствовала посетителя и ответила, что хозяин у себя и она пойдет его предупредить. Но она не успела этого сделать, так как над ними появилась голова священника:
— Это ты, Изидоро?
— Как видите, дон Адальберто.
— Ты пришел на исповедь?
— Не совсем.
— Очень жаль, ты нуждаешься в хорошей чистке. Так поднимись ко мне в спальню.
Священник был старше нотариуса на двенадцать лет и знал его с самого дня рождения. В школе он был помощником сестры Кунегунды и вместе с ней учил маленького Изидоро читать и писать. В последующие годы их дружба сохранилась. Нотариус неизменно проявлял глубокое уважение к священнику, который, к слову сказать, обвенчал его с девицей из соседнего городка Домодоссолы и крестил их дочь Аньезе. Каждый раз, когда он входил в комнату своего старого друга, Изидоро испытывал странное волнение, какое-то смешанное чувство жалости при виде неопровержимых доказательств аскетического существования священника, легкого стыда оттого, что сам он принадлежал к привилегированному сословию и, наконец, невольной зависти при мысли о том, что дону Адальберто обеспечено местечко в раю.
— Так что же, Изидоро, у тебя случилось? Ты ведь так нарядился не только для того, чтобы поболтать со мной?
— Я предпринимаю важный, даже значительный шаг, дон Адальберто, и поэтому счел своим долгом надеть лучший костюм.
— В общем, ты решил оказать мне уважение?
— Именно так.
— Благодарю, хотя… мне помнится… когда ты был маленьким, всякий раз, как ты принимал этот серьезный вид и держался так торжественно, всякий раз, как твои глаза выражали это напускное смирение, которое я вижу в них в настоящий момент, ты замышлял какую-нибудь гадость…
— Дон Адальберто!..
— Не волнуйся, Изидоро, скажи мне лучше, как поживают твоя жена и дочь?
— Вы ведь знаете Дезидерату? Она все чаще и все громче ноет по всякому поводу и без всякого повода. Что касается Аньезе, то она только о том и думает, как бы выйти замуж.
— Это нормально, не так ли?
— Ну, конечно, падре, и я пришел к вам поговорить как раз по поводу Аньезе.
— По поводу Аньезе? Я тебя слушаю…
— Я хотел бы отпраздновать ее помолвку в середине следующей недели, и, конечно, дон Адальберто, желательно, чтобы эта церемония была проведена вами… Я подумал, что церковное благословение…
— Ну, конечно, конечно… Однако должен сразу тебе сказать, правда, для тебя это не новость, что не могу пообещать ничего роскошного. У меня остался только старый хлам для совершения обрядов бракосочетания и похорон…
— Дон Адальберто, Аньезе — моя единственная дочь… Следовательно, в нашей семье другие свадьбы не предвидятся… Я хотел бы в знак нашей старинной дружбы, в знак нашей взаимной привязанности преподнести нашей дорогой церкви в Фолиньяцаро все, чего ей недостает, для того чтобы вы сами, падре, а также тот, кто вас заменит, могли достойным образом женить, крестить и хоронить наших сограждан. Могу я надеяться, что вы примете этот дар? Вы доставили бы мне величайшую радость.
Слезы показались на глазах дона Адальберто, когда он встал с постели, на которой сидел — в его комнате был всего один стул, занятый Агостини — и обнял нотариуса.
— Изидоро… благодарю. Ты славный человек… Забудь, как я тебя дразнил только что… Прости меня.
— Помолчите, падре! Вам ли, святому человеку, просить прощения у такого грешника, как я?
— Прекрасно! Так попросим же прощения друг у друга и не будем больше об этом говорить. Я состряпаю миленькую проповедь для жениха с невестой, скажу, как я восхищаюсь добродетелью Аньезе и прекрасными качествами Амедео, который, несмотря на то, что был лишен отцовской поддержки, сумел занять приличное место в обществе в ожидании лучшего, так как, поверь мне, Изидоро, этот мальчик далеко пойдет и ты еще будешь гордиться своим зятем! Но что с тобой? Ты, кажется, не в восторге от моих слов?
И в самом деле, у нотариуса был ужасно смущенный вид.
— Я не понимаю, дон Адальберто, почему вы говорите об Амедео Россатти?
Теперь уже священник выглядел удивленным.
— Да ведь это за него ты отдаешь свою дочь, разве не так? Эти дети
уже давно любят друг друга, и не скрою, Изидоро, я не мог дождаться момента, когда ты, наконец, решишься соединить их, чтобы не допустить греха.
Как всегда, когда люди замышляют недоброе, Изидоро вышел из себя:
— В мои намерения никогда не входило просить синьора Амедео Россатти войти в мою семью! Я не испытываю симпатии к военным, даже К карабинерам. На мой взгляд, их нравы несовместимы с правилами, которыми должна руководствоваться христианская семья!
— Ты смеешься надо мной, Изидоро?
— Нисколько!
— В таком случае ты мне, может быть, объяснишь, что означает комедия, которую ты передо мной разыгрываешь? Всё Фолиньяцаро уже несколько лет как знает, что Амедео и Аньезе друг в друге души не чают! Не позже, чем позавчера, сам Тимолеоне утверждал при мне, что его капрал невероятно трудолюбив, что он занимается до поздней ночи и собирается, как только его переведут в унтер-офицеры, готовиться к поступлению в офицерское училище. В чем ты можешь его упрекнуть?
— Да ни в чем. Синьор Россатти меня не интересует, я не хочу, чтобы он был моим зятем, вот и все. Просто, не так ли?
— Но Аньезе…
— Аньезе, благодарение Богу, порядочная девушка, воспитанная в уважении к родителям. Я не сомневаюсь, что она подчинится воле своего отца!
Священник помедлил с ответом. Глядя в упор на своего посетителя, он, наконец, тихо произнес:
— Я беру назад свои извинения, Изидоро. Оказывается, я не ошибался и ты готовишь порядочную подлость. Могу только посоветовать не вмешивать Господа Бога в твои грязные махинации.
— Дон Адальберто!
— А можно у тебя спросить, кому ты собираешься отдать свою дочь?
— Эузебио Таламани, моему клерку… Это серьезный, благонамеренный молодой человек. Я очень ценю его отношение к работе, его преданность. Он станет моим зятем, а когда для меня наступит время уйти на покой, я оставлю ему мою контору.
— Аньезе согласна?
— Аньезе мне подчинится!
— Послушай меня, Изидоро… Я никогда не был женат, поэтому то, о чем я тебе скажу, мне известно только из признаний других людей… Я глубоко убежден, что нет большего преступления, чем жениться без любви. Жизнь вдвоем вообще нелегкое дело, а если, вдобавок, супруги не любят друг друга, то это — не скажу ад на земле, но по меньшей мере чистилище…
Нотариус пожал плечами.
— Все это романтические бредни, падре!
— Итак, ты собираешься совершенно сознательно выдать свою дочь за человека, которого она не любит?
— Не любит, так полюбит!
— А если ей это не удастся? Ведь у твоего Эузебио, несмотря на все его достоинства как клерка, противнейшая рожа!
— Падре!..
— Именно так, противнейшая рожа! Кроме того, когда ты говоришь о христианской семье, ты меня смешишь… Твой Эузебио ни разу не был на исповеди, понимаешь ты это? Ни разу! А сам ты, Изидоро? Годы прошли с тех пор, как ты в последний раз опускался на колени в исповедальне, чтобы очиститься от грехов. Хороша христианская семья, нечего сказать!
— Аньезе выйдет за Эузебио!
— Едва ты вошел в эту комнату, как я почувствовал, что ты готовишь какую-то подлость… Около полувека прошло, а ты не изменился… Ты все такой же негодный человечишко, Изидоро!
Нотариус поднялся с чопорным видом.
— Я не подозревал, идя сюда, что подвергнусь оскорблениям!
— Только тот, кто чувствует свою вину, может принять правду за оскорбление.
— Ваше одеяние, падре, не позволяет мне вам возразить. Но не злоупотребляйте этим. А теперь я спрашиваю вас: согласны вы или нет благословить помолвку моей дочери Аньезе и моего клерка Эузебио Таламани?
— Я не властен тебе отказать, но при условии, что в церкви Аньезе скажет, что согласна.
— Скажет, скажет. Можете положиться на меня!
— Я готов положиться на кого угодно, Изидоро, только не на тебя.
Ничего не ответив, Агостини подошел к двери.
— Предоставляю вам, падре, назначить дату церемонии. Как только вы выберете день, предупредите меня, пожалуйста.
— Я пришлю к тебе Серафину.
— Благодарю вас.
— Да, вот еще что, Изидоро. Нотариус обернулся.
— Твой дар церкви… Я не приму его.
— Почему?
— Потому что ты можешь обманывать людей, нотариус, но Бога тебе провести не удастся. Он видит всю черноту твоей души. Несмотря на все твои кривляния, ты его враг, а мне ничего не нужно от врага Господа Бога!
* * *
Эузебио Таламани недолюбливали в Фолиньяцаро. Не то чтобы его упрекали в чем-то определенном, просто в общину его не принимали. Следует сказать, однако, что вдова Геновеффа, в чьем доме он жил с тех пор, как приехал из Милана, расхваливала вовсю его аккуратность, серьезность, чистоплотность… Это не помогало: он оставался чужаком. Такова была воля жителей деревни.
Когда они узнали о визите мэтра Агостини к священнику, начались пересуды. Конечно, люди давно уже догадывались, что происходит что-то неладное. Все замечали, каким грустным стал Амедео Россатти, как переживает Аньезе, а так как Элоиза была не способна держать язык за зубами, то ее жалобы и проклятия стали известны в каждом доме. Но слова, крики и проклятия не вызывают беспокойства в Фолиньяцаро. Их там оценивают так, как они того заслуживают, то есть как забавные интермедии, нарушающие монотонное течение жизни. Когда же стало известно, что дон Изидоро официально заявил о своем намерении выдать дочь за Эузебио Таламани, вся деревня пришла в волнение. Говорили о злоупотреблении родительской властью, о посягательстве на свободу личности и так далее. Вечером, когда Эузебио зашел к Онезимо Кортиво, хозяину кафе на площади Гарибальди, чтобы выпить свой ежедневный стаканчик вина, никто не ответил на его приветствие.
Таламани был сравнительно молод. Черты лица у него были расплывчатые, а манеры подчеркнуто учтивые, почти угодливые — прямая противоположность качествам, которые ценили обитатели горной деревушки. До сих пор по отношению к нему проявляли вежливость, так как гостеприимство считалось обязательным в Фолиньяцаро, но нельзя было допустить, чтобы какой-то чужак отнял у местного жителя девушку, давно ему обещанную.
Одиноко сидя за столом, Эузебио скромно пил свой аперитив, делая вид, что не замечает окружающей враждебности. Онезимо, высокий и толстый субъект, сохранивший от своего прежнего ремесла дровосека чудовищные мускулы, не выдержал и приблизился к его столику. Все в зале насторожились.
— Синьор Таламани, это правда, что вы собираетесь жениться на Аньезе Агостини?
Любезно и чуть-чуть заносчиво, Таламани подтвердил:
— Да, это верно.
Онезимо потряс головой, как бык, осаждаемый мухами на летнем пастбище.
— Но это невозможно…
— Почему же, собственно говоря?
— Потому, что она вас не любит!
— Откуда вам это известно?
— Она ведь любит Амедео Россатти.
Тут Эузебио заговорил таким презрительным тоном, что многие из присутствующих почувствовали, как их мышцы напрягаются.
— Этого маленького карабинера? Вы, вероятно, шутите! Впрочем, я ведь не увожу ее силой! Аньезе согласна на наш брак…
— Ее заставляет отец.
— Дорогой Кортиво, позвольте вас спросить: какое вам до всего этого дело?
Кортиво громко запыхтел, борясь с желанием схватить миланца за загривок и хорошенько встряхнуть.
— Аньезе родом из Фолиньяцаро.
— Ну и что?
— А вы… вы чужой человек в наших местах.
— Ну и что?
Онезимо не обладал тонким знанием диалектики и не нашелся, что возразить. Таламани воспользовался этим, чтобы бросить несколько лир на стол, встать и сказать с самодовольным видом:
— Вот, возьмите, мой друг, и занимайтесь собственными делами, так будет лучше для всех.
Он уже дошел до двери, когда хозяин кафе догнал его и, положив ему руку на плечо, заставил обернуться.
— Синьор Таламани, вы, конечно, умнее меня, но я вам скажу одну вещь: если вы будете настаивать на браке с Аньезе Агостини против ее воли, произойдет несчастье!
Эузебио довольно резко освободился из его рук и ответил, ухмыльнувшись:
— Поживем — увидим!
Он не подозревал, что скоро уже ничего не будет видеть.
Глава вторая
Через две недели после описанных событий, в воскресенье, состоялась помолвка Аньезе Агостини и Эузебио Таламани. На церемонии присутствовали все окрестные жители, и этот день никогда не изгладится из их памяти.
С самого утра вся деревня была в волнении. Единственным, кто казался совершенно спокойным, был Эузебио. Он занялся своим туалетом с особым старанием, и, когда спускался по лестнице, Геновеффа Маренци, у которой он снимал комнату, восхищенно всплеснула руками.
В доме нотариуса в это время разыгрывалась настоящая драма. Аньезе глаз не сомкнула всю ночь, и при первом свете утра видно было, что лицо ее распухло от слез. Ее мать, не переставая плакать сама, помогала ей одеваться. Так, должно быть, Клитемнестра наряжала Ифигению перед жертвоприношением во имя вящей славы ее отца Агамемнона и греческой армии. Что касается дона Изидоро, то он оттянул, насколько возможно, свое появление перед дамами. Когда он, наконец, решился прийти, то был явно не в духе и с трудом скрывал за плохим настроением свое смущение, а может быть, и раскаяние. Ворча, вошел он в комнату Аньезе.
— Ну что, скоро вы будете готовы? Кончится тем, что мы опоздаем к обедне!
Раздавшееся в ответ двойное стенание привело его в страшное раздражение.
— Скажите на милость, эта комедия когда-нибудь прекратится?
Тут донна Дезидерата пришла в себя. К ней сразу вернулся ее молодой задор, и она нашла силы, чтобы восстать против такой бесчувственности, такого лицемерия. Она выпрямилась, глаза ее горели, слова были, полны горечи.
— И не стыдно тебе, Изидоро, так вести себя по отношению к твоему единственному дитяти?
— Замолчи, Дезидерата, или я по-настоящему рассержусь!
— Сердись сколько тебе угодно! Что мы еще можем потерять теперь, когда ты продаешь свою дочь, как какой-нибудь работорговец? Остерегайся, Изидоро, я способна устроить скандал перед всем народом на площади!
Мэтр Агостини знал, что застенчивая Дезидерата ничего подобного не сделает, но ему было также известно, что материнская любовь может придать неожиданную смелость.
— Прошу тебя, Дезидерата, следи за своим поведением! Ты просто смешна. Эузебио превосходная партия для Аньезе.
— Да у него ни копейки нет!
— У него есть то, что гораздо дороже… ремесло! И он унаследует мою контору!
— Значит, ты жертвуешь своей дочерью для того, чтобы он мог стать твоим наследником?
— Я убежден, что Аньезе будет с ним гораздо счастливее, чем с этим карабинером.
Тут Аньезе рухнула на пол, и матери пришлось ее поднимать.
— Крепись, моя невинная бедняжка!.. Крепись, несчастная жертва бесчеловечного отца!.. Подумай о Господе нашем, который тоже принес себя в жертву…
Прерывающийся голос Аньезе послышался сквозь рыдания:
— Я… Я не… хочу… Эузебио…
Агостини вышел из себя:
— Что ты хочешь или не хочешь, никого не интересует! Ты должна мне повиноваться, вот и все!
Донна Дезидерата бросилась на мужа и заголосила, стуча кулаками по его груди:
— Фашист! Гнусный фашист!
В свое время нотариус немного заигрывал с бывшим режимом. Он приходил в ярость, когда ему напоминали об этом бесславном периоде его прошлого, которое он всегда изображал как целиком посвященное демократическим принципам. Гнев заставил его забыться настолько, что он отвесил своей супруге затрещину. Это случилось в первый раз в их жизни, и сама новизна этого жеста, так же как его грубость, привели в растерянность и палача и жертву. Донна Дезидерата пролепетала:
— Ты ударил меня…
Ужасно расстроенный Изидоро тем не менее не стал оправдываться, а перешел в наступление:
— Не следовало меня оскорблять!
И, повернувшись кругом, он вышел из комнаты, сообщив на ходу двум несчастным женщинам, что если через пять минут они не спустятся вниз, то увидят, каким может быть отец, когда ему отказывают в уважении и послушании, принадлежащих ему по праву.
Оставшись одни, мать и дочь бросились друг другу в объятия. Дочь клялась, что готова пожертвовать собой ради спасения жизни своей дорогой матери; мать, в свою очередь, утверждала, что согласна умереть от побоев, только бы ее обожаемое дитя было счастливо. Они рыдали, горячо обнимались, не скупились на нежные слова, обменивались обещаниями в вечной привязанности и, наконец, в указанное время очутились у лестницы, где дон Изидоро в своем пиджаке из альпака уже поджидал их с часами в руках.
* * *
Стремясь скрыться от доброжелательного любопытства своих сограждан, Амедео Россатти очень рано покинул материнский кров после разыгравшейся там душераздирающей сцены. В пять часов утра Элоиза вошла в его комнату, неся на подносе завтрак. Это был исключительный знак внимания, который обычно она ему оказывала только во время болезни. Но разве Амедео не был болен? Едва мать вошла, даже раньше, чем рассеялась дымка, окутавшая его мозг, пока он спал, ее торжественный и жалостливый вид сразу воскресил страдания несчастного карабинера. Сегодня его разлука с Аньезе станет окончательной. Вспомнив об этом, он впал в какое-то мучительное оцепенение, которое Элоиза приняла за начало конца. Поставив поднос прямо на пол, она упала на колени и сжала в своих руках руки сына.
— Амедео?.. Это я, твоя мама… Ты ведь не умрешь, правда? Не причинишь мне такого горя? Я запрещаю тебе это! Кроме того, эта Аньезе, ведь она никуда не годится! Уверяю тебя! Не вздумай утверждать обратное, дурачок! Если бы она любила тебя по-настоящему, разве она согласилась бы выйти за другого, как ты думаешь? Она совершенно лишена характера, настоящая тряпка! Ее не хватило бы даже на то, чтобы родить тебе хороших детей! И ты убиваешься из-за такой девушки? Послушай, несчастный, в женщинах нет недостатка, и все они друг друга стоят, это твоя мать тебе говорит! Ты веришь или не веришь своей матери, скажи, чудовище? Посмей только сказать, что ты мне не веришь, и я влеплю тебе такую пощечину, что голова у тебя будет кружиться в течение целой недели! Я, я одна люблю тебя, слышишь, кретин? Я одна! Нужно быть последним идиотом, чтобы искать еще какую-то любовь, когда имеешь мать, которая тебя любит! Вот что я об этом думаю!
Амедео еле слышно прошептал:
— Без Аньезе мне жизнь не мила…
Возмущенная, донна Элоиза вскочила на ноги.
— Что только не приходится слышать, пресвятая мать всех ангелов! А до сих пор ты, значит, не жил? И ты смеешь заявлять своей собственной матери, которая носила тебя под сердцем целых девять месяцев, которая кормила тебя своим молоком, которая уже перенесла из-за тебя все возможные несчастья, что она зря убивала себя работой? Эта чертова Аньезе не сердце у тебя похитила, а мозги! Неблагодарный, жестокосердный сын — вот кто ты такой! Я не хочу тебя больше видеть, слышишь меня! Никогда! И не вздумай кончать с собой, как это делают артисты в кино, тебе придется тогда иметь дело со мной! А если ты будешь еще отравлять мне жизнь из-за твоей Аньезе, то так же верно, как то, что я стою сейчас перед тобой, я побегу в церковь и удавлюсь на глазах Господа Бога и всего Фолиньяцаро!
Амедео не смог сдержать своего возмущения. Он высвободился из материнских рук и, несмотря на то, что стоял посреди комнаты в одной ночной рубашке, проговорил с большим достоинством:
— Мама, ты бросила мне страшные обвинения… Ты стыдишь меня… Оскорбляешь мою Аньезе… Выгоняешь меня из дому…
Тут негодование взяло верх над благородной позой:
— Да что там! Покинутый Аньезе, покинутый тобой, неужели ты надеешься, что я буду продолжать жить?
Донна Элоиза, вся во власти материнской любви, проливая потоки слез, бросилась к сыну и стала душить его в объятиях:
— Пусть она покинула тебя, это обычное дело! Но твоя мама? Никогда в жизни! Если ты покончишь с собой, я тоже убью себя!
Ни один из них не верил в желание собеседника умереть. Но утешать друг друга так приятно! И донна Элоиза согласилась выйти из комнаты только после того, как Амедео поклялся отправиться на дежурство, не пытаясь приблизиться к церкви, где вероломная Аньезе готовилась нарушить данную ему клятву. Последний взгляд, который взволнованная мать бросила на сына, немного успокоил ее: Амедео принялся за принесенные ею бутерброды.
* * *
Гнев дона Адальберто не проходил. Встав до рассвета, он погрузился в долгую молитву, прося Создателя не дать восторжествовать несправедливости. Но Бог не внимал его трогательным призывам, и дону Адальберто ничего не оставалось, как пройти на кухню, чтобы выпить свой утренний кофе. Донна Серафина нашла, что он плохо выглядит, и не замедлила сообщить ему об этом громким и внятным голосом. Она проявила неосторожность, и дон Адальберто не преминул поставить все точки над «i»:
— А ты бы хорошо выглядела, если бы тебя заставили совершить гнусный поступок? Этот Агостини олицетворенный дьявол! Впрочем, он всегда был лживым и лицемерным. Я должен был бы, пожалуй, попытаться изгнать из него бесов.
— Если бы вы попросили Господа Бога вразумить вас?..
— Бедная моя Серафина, похоже на то, что Господу Богу есть о чем подумать, кроме любовных переживаний какого-то карабинера. А для меня вот что тяжелее всего: меня вынуждают принимать участие в людской мерзости, хотя я и знаю, что это мерзость.
Экономка поняла, что ее хозяин расстроен не на шутку, и попыталась успокоить его.
— В мое время из-за таких вещей не поднимали шума. Я вышла замуж за покойного Гульельмо, после того как видела его всего три раза… Наши родители обо всем договорились, так что…
— Так что ты дура, Серафина! Ты такая же мягкотелая, как эта глупышка Аньезе! А главное, ты совершила страшнейший смертный грех!
— Я? О, сладчайший Иисус!.. Какой смертный грех, дон Адальберто?
— Выйдя замуж за нелюбимого, ты пренебрегла заповедями Господа Бога нашего! Женщина, которая выходит замуж без любви, это продажная женщина, лишенная целомудрия! Не будет ей прощения!
— Но отец и мать…
— Ты, может быть, думаешь, что их призовут к тебе на помощь, когда ты предстанешь перед Высшим Судией?
— Не знаю…
— Но я-то знаю и говорю тебе, что ты одна должна будешь отвечать за свои прегрешения! Кроме того, посмеешь ли ты утверждать, что не обрадовалась, узнав о своем вдовстве, когда Гульельмо был убит во время битвы на Пьяве?
— Да, немножко… Он напивался и бил меня.
— Серафина, если мое мнение что-то для тебя значит, то знай, что тебе придется уплатить немалый долг и ты бы правильно сделала, если бы начала постепенно готовиться к жару чистилища! Погладила ты мою воскресную сутану?
— Чистилища?.. Вы так думаете?
Священник понял, что шутка зашла слишком далеко, а так как он очень любил свою старую Серафину, то подошел к ней и обнял:
— Неужели ты не понимаешь, что я дразню тебя? Прости меня… Конечно же нет, ты не попадешь в чистилище, а прямо в рай, где для тебя уже приготовлено место!
Преобразившись от радости, она осведомилась с улыбкой, осветившей все ее лицо:
— Вы в этом уверены?
— Еще бы! Я попросил Господа Бога, если там осталось только одно место, отдать тебе мое. Я могу и подождать…
Она хотела броситься на колени, чтобы поцеловать его руку, и он с трудом удержал ее от этого. Подходя к церкви, дон Адальберто твердил про себя, что Создатель был прав, предоставив Свое царствие в первую очередь нищим духом.
* * *
При приближении Амедео Россатти обитатели Фолиньяцаро скрывались в своих жилищах. Им было жаль парня, и они не хотели ему этого показывать. Поэтому капрал пересек совершенно пустынную деревню, прежде чем дошел до домика, где размещались карабинеры. Увидев старшего по званию, Иларио выпрямился и, дождавшись, когда он совсем приблизится, щелкнул каблуками и отдал честь самым безупречным образом. К его глубокому разочарованию Амедео ответил рассеянно и небрежно.
Начальник карабинеров Тимолеоне Рицотто облекся в парадную форму; вертикальное перышко на его шапочке придавало ему игривый вид. Он полагал, что будет приглашен на обед к нотариусу по случаю помолвки, и в ожидании этого пиршества не заказал никаких продуктов. Это его немного беспокоило, так как он терпеть не мог пищи, приготовленной наспех. По его мнению, это было святотатство, полное отсутствие культуры. Когда капрал явился к нему, Тимолеоне не удержался от вопроса:
— Удалось тебе хоть ненадолго уснуть, бедный мой Амедео?
— Почти нет, синьор…
— Я тебя понимаю, ведь и у меня есть сердце. Если я и посвятил себя исключительно гастрономическим радостям, то только потому, что и мне пришлось пострадать… Хочешь, я расскажу?
— С вашего позволения, лучше не надо.
— Понимаю тебя, Амедео, но сожалею об этом… Это была одна малютка из Домодоссолы, тоненькая и подвижная, как козочка… Ну что ж, отложим до другого раза. А мама как?
— Места себе не находит. Мне пришлось поклясться, что я не буду покушаться на свою жизнь.
Тимолеоне побледнел.
— Значит, ты собирался?
Капрал пожал плечами.
— Без Аньезе у меня нет цели в жизни, нет честолюбия, ничего нет.
Рицотто с трудом поднялся и отеческим жестом прижал Амедео к своей груди.
— Ты не смеешь так поступить, мой мальчик… Подумай о своей бедной старой матери. Что с ней будет без тебя? А я, твой духовный отец? Неужели ты отравишь оставшиеся мне годы? Твой мундир, наконец? Ты ведь не захочешь обесчестить его самоубийством, этим худшим видом трусости! Амедео, сын мой, поверь человеку, имеющему опыт в этих делах… Любовные разочарования — это как расстройство пищеварения. Пока ты страдаешь, ты даешь себе клятву никогда больше не любить или не есть ничего, кроме спагетти, сваренных на воде и без всякой приправы… Но как только выздоравливаешь, сразу все забываешь и снова засматриваешься на девушек и составляешь новые меню. Такова жизнь, Амедео, и никто не может плыть против течения!
— Если я не покончу с собой, я убью Эузебио Таламани, который отнимает у меня Аньезе!
— И закончишь свою жизнь на каторге? Да, только этого не хватало! До сих пор я говорил с тобой, как с разумным существом, Амедео Россатти, но если ты будешь продолжать эти дурацкие речи, то я изменю тон. Капрал карабинеров, который становится убийцей! Сам-то ты себя слышишь?
— Простите меня, синьор!.. Вы надели ваш парадный мундир, как я вижу?
Тимолеоне казался смущенным.
— Право…
— Вы, может быть, собираетесь присутствовать на службе?
— Ну, само собой разумеется. Если мое место будет пусто, в Фолиньяцаро начнут болтать, скажут, что я стал коммунистом, а… а отставка не за горами.
— А может быть, вы останетесь и на церемонии обручения?
— Пойми меня, Амедео… Мэтр Агостини — значительная особа, он пользуется большим влиянием…
— Его отношение ко мне является оскорблением для всех карабинеров!
— Не надо преувеличивать, Амедео! По-твоему получается, что если бы простой пехотинец оскорбил генерала карабинеров, то весь полк должен был бы вернуться к гражданской жизни?
— Ну, так вот! Если вы будете присутствовать при обручении, то и я последую за вами, и будь, что будет!
— Нет, ты не пойдешь туда!
— Пойду!
— Нет!
— Да!
— Нет! Ты не пойдешь туда потому, что я назначаю тебя дежурным на весь сегодняшний день, и если ты покинешь свой пост, это будет дезертирством! Тебя будет судить военный трибунал!
— Это превышение власти!
— Нисколько, это простая предосторожность! Я для того и нахожусь в Фолиньяцаро, чтобы люди соблюдали порядок, а не нарушали его, даже если нарушитель капрал карабинеров.
Амедео Россатти стал навытяжку и произнес без всякого выражения:
— Слушаюсь!
Они расстались недовольные друг другом, и Тимолеоне подумал, что если из отвращения к форме, которую он носит, мэтр Агостини не пригласит его, то он приготовит себе на обед эскалоп по-милански с гарниром из спагетти и соусом.
* * *
Десятичасовая служба проходила в напряженной атмосфере, которой явно недоставало духа горячей набожности, обычно сопутствовавшего ей по воскресеньям. Обитатели Фолиньяцаро утратили свойственную им во время обедни сосредоточенность. Они указывали друг другу на членов семьи Агостини и на Эузебио Таламани, который не постеснялся занять место справа от нотариуса. Слева от последнего находилась Аньезе, и все отметили ее глубокую грусть. Что касается донны Дезидераты, то, видя ее горящие глаза, дрожащие губы и судорожные движения, было ясно, что ее мысли заняты чем-то, не имеющим никакого отношения к службе. Спустившись со ступеней алтаря, дон Адальберто был вынужден несколько раз остановиться и окинуть присутствующих гневным взором, стараясь напомнить им о соблюдении приличий по отношению к Создателю. Его сдержанный гнев был направлен главным образом против мэтра Агостини, которого он считал виновным в нарастающем скандале, первом с тех пор, как он стал пастырем этой церкви.
Для сегодняшней проповеди дон Адальберто выбрал, перефразировав его, следующий отрывок из Евангелия от Луки: «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали…» Подходя к жертвеннику, отделявшему его от паствы, он обратил внимание на полный высокомерия вид дона Изидоро, на измученное лицо Аньезе, на самодовольную улыбку Эузебио и дрожащие губы донны Дезидераты. В тот же миг он забыл все приготовленные слова и разразился страстной речью против тех, «через кого приходит соблазн». После этого никто не остался в заблуждении, меньше всех мэтр Агостини. Он поколебался с минуту, спрашивая себя не уйти ли ему тут же, но не решился. Верующие подталкивали друг друга локтями, указывая подбородком на спину нотариуса. Только Тимолеоне Рицотто ничего не заметил, так как мирно дремал, положив шапочку на колени. Время от времени, когда его нос опускался настолько, что его щекотало задорное перышко, украшавшее этот головной убор, он ненадолго просыпался и обводил всех мутным взглядом.
Эузебио один из всех открыто смеялся над словами священника. Видя его насмешливую улыбку, многим хотелось закатить ему пощечину. Сам дон Адальберто был близок к тому, чтобы забыть свой сан и место, где он находился, и, снова став двадцатилетним юношей, перескочить через жертвенник и задать хорошую трепку этому клерку, которого, несмотря на все усилия священника, он не мог полюбить, как самого себя.
После проповеди дон Адальберто ускорил темп богослужения, стараясь приблизить заключительную молитву и покончить поскорее с церемонией обручения, самая мысль о которой заставляла его выходить из себя.
Есть в Фолиньяцаро обычай, который всегда скрупулезно соблюдается. В воскресенье, при выходе из церкви после обедни, священник, окруженный прихожанами, провозглашает обручившимися молодые пары, желающие вступить в брак. Если против этого нет обоснованных возражений с чьей бы то ни было стороны, он их благословляет. В этот день, само собой разумеется, немало прихожан бросилось вон из церкви до конца богослужения, чтобы занять местечко получше и наблюдать с самой выгодной позиции за маленькой церемонией, во время которой, как многие надеялись, произойдет нечто достойное войти в недолгую еще историю Фолиньяцаро.
Семья Агостини — Аньезе в центре, отец и мать по бокам — вышла в числе последних, желая дать согражданам возможность устроиться поудобнее. Перед ними торжественно выступал Тимолеоне, сзади следовал Эузебио. Выйдя на маленькую площадь, семейство Агостини и Эузебио стали лицом к паперти, где не замедлил появиться дон Адальберто в сопровождении своего служки, юного Теофрасто. Рядом с Эузебио по просьбе нотариуса встал Тимолеоне, чтобы заменить несуществующих родственников. Нотариус тут же пригласил его на обед.
Все сразу поняли, что священник намеревается круто повести дело. Он откашлялся и громко произнес:
— Слушайте меня все!
В ответ на этот призыв во внезапно наступившей тишине послышалось кудахтанье курицы, сзывавшей свою семью.
— Оказывается…
Здесь он сделал небольшую паузу, стараясь с нескрываемым недоброжелательством подчеркнуть, что он-то в этом сомневается:
— …что между Эузебио Таламани из Милана, в настоящее время работающим клерком в конторе мэтра Агостини, и Аньезе Агостини, дочерью вышеупомянутого нотариуса, существует договоренность относительно заключения брака. Знает ли кто-нибудь из вас о возможной помехе этому браку? Если это так, пусть он выскажется по совести и без всяких опасений!
После этого он стал спокойно ждать. Кто-то внезапно воскликнул:
— Это просто позор!
Эффект был поразительный. Мэтр Агостини подскочил на месте, потом обернулся и обратил испепеляющий взгляд в сторону оскорбительного возгласа. Дон Адальберто, казалось, пришел в полный восторг. Он объявил:
— Пусть выйдет вперед особа, по мнению которой в этом браке есть что-то позорное.
После короткого замешательства ряды раздвинулись перед фигурой донны Элоизы, и она встала с вызывающим видом перед священником. Тимолеоне Рицотто содрогнулся. Он не сомневался, что если произойдет что-то неприятное, то ответственность взвалят на него.
— Мы все хорошо вас знаем, донна Элоиза… Знаем, как женщину разумную и опытную.
Окружающие посмотрели на нотариуса. Они не без удовольствия отметили, что лицо его стало зеленеть. Дон Адальберто, совершенно забыв о христианском милосердии, наслаждался, как никогда.
— Какие препятствия видите вы, донна Элоиза, на пути к браку между Аньезе и Эузебио?
В поисках дыхания синьора Россатти отправилась в самые глубины своего существа, и когда она заговорила, ее голос донесся до дальних концов деревни.
— Дело в том, что Аньезе любит моего сына, и что мой сын любит ее, и что она не может выйти замуж ни за кого, кроме моего Амедео. В противном случае она такая же лицемерка, как ее отец!
Цвет лица нотариуса перешел в темно-багровый. Он с упреком обратился к Тимолеоне:
— Чего вы ждете, синьор? Вы спокойно позволяете оскорблять самых достойных граждан Фолиньяцаро!
Рицотто задним числом подумал, что лучше бы он остался дома и приготовил себе макароны по-болонски, вместо того чтобы соваться в эту историю, от которой ничего, кроме неприятностей, нельзя ожидать. Он все же подошел к Элоизе и взял ее за руку.
— Синьора… Будьте благоразумны. Не заставляйте меня…
Элоиза так рванулась, что к своему величайшему стыду Тимолеоне едва удержался на ногах. Очутившись перед противником себе под стать, она не скрыла от него ничего из того, что о нем думала:
— А ты, вместо того, чтобы защищать своих карабинеров, ты вступаешь в сделку с врагом! Ты мне противен, Тимолеоне! Толстяк несчастный!
Тимолеоне не мог оставить эти оскорбления, нанесенные ему на глазах у всей деревни, без ответа:
— Еще одна грубость, синьора, и я вас отведу в тюрьму!
— Как, один? Вокруг засмеялись.
— Я позову своих людей!
— И прикажешь моему сыну арестовать свою собственную мать? Ты вызываешь у меня отвращение, Тимолеоне! Но твое поведение меня не удивляет! По-видимому, этот человек, который продает свою дочь, твой друг?
— Донна Элоиза!
— Заткнись, Тимолеоне, или я заставлю тебя проглотить твое перышко!
Нотариус проворчал:
— Возмутительно!
Но его жена возразила:
— Она права!
Эта неожиданная поддержка придала Элоизе сил, и она обратилась ко всем присутствующим:
— Слышите? Даже синьора Агостини меня одобряет! Окончательно выведенный из себя нотариус подошел к священнику:
— Эта сцена слишком затянулась! Закончим!
Дон Адальберто закричал, будто его ужалила оса:
— Вот еще новости! Ты что же это, Изидоро, принимаешь теперь себя за епископа? Кто тебе разрешил мне приказывать? Аньезе, дитя мое, подойди ко мне…
Аньезе приблизилась. Тут все, как один, задержали дыхание.
— Согласна ты выйти замуж за Эузебио Таламани?.. Подумай как следует… Не спеши… Не торопись с ответом… Обещание, знаешь ли, дело серьезное. Поразмысли над тем, к чему это может тебя привести.
Она поколебалась, повернулась к отцу, встретила его суровый взгляд, потом к Элоизе, напряженно ждавшей ее ответа, и так как она не обладала особенно сильной волей, то пробормотала:
— Да.
У всех из груди вырвался вздох разочарования.
— Хорошо… Как хочешь… Только потом не приходи ко мне жаловаться! Что касается вас, Эузебио Таламани, то вы, конечно, согласны?
По-прежнему насмешливо улыбаясь, клерк громко ответил:
— Естественно, падре.
— Превосходно… Подайте друг другу руки. Я вас благословляю и считаю отныне, так же как и все присутствующие должны вас считать, женихом и невестой. А теперь сосредоточьтесь, если вы на это способны.
Дон Адальберто отбарабанил молитвы с невероятной быстротой, схватил протянутое ему Теофрасто кропило как палицу, окропил нареченных жениха с невестой и вернулся в церковь, не пожав никому руки и отказавшись от приглашения нотариуса, догнавшего его в ризнице.
— Нет, Изидоро, на меня не рассчитывай, — сказал он. — Сверх того, что входит в мои обязанности, я не хочу быть замешанным в твои грязные махинации. Возвращайся к себе, здесь тебе не место!
Обиженный и раздраженный, сознавая, что совесть его нечиста, мэтр Агостини понуро последовал за своими гостями.
Дело на этом бы и закончилось, если бы вечером того же дня Амедео Россатти, которого сменил на посту несколько захмелевший Тимолеоне, не зашел к Онезимо Кортиво, чтобы попытаться стаканом доброго вина разогнать душившую его тоску. Собравшиеся там мужчины поторопились выразить ему свое сочувствие, а хозяин кафе рассказал о выступлении донны Элоизы, восхитившем всех, кому выпала честь присутствовать при последних героических усилиях этой дамы во имя счастья ее сына.
— Поверь мне, Амедео, твоя мать почтенная, святая женщина, и ты был бы последним из последних, если бы не сознавал этого!
Все были навеселе, сердца их переполняла нежность, и карабинер клятвенно заверил своих друзей, что прекрасно знает, сколь многим он обязан своей матери и что только ради нее он не кончает с собой. Его похвалили, пролили несколько слез, все были растроганы собственной добротой и горячо обнимались.
Около одиннадцати часов Амедео, сохранивший ясную голову, встал, чтобы обратиться с прощальной речью к своим верным друзьям. Он заявил, что Аньезе может отправляться ко всем чертям, раз она посмела предпочесть какого-то миланца парню из Фолиньяцаро. Друзья устроили ему овацию. Запинаясь на каждом слове, они кричали, что миланцы ломаного гроша не стоят и что только совершенно свихнувшийся человек может отдать свою единственную дочь за какого-то миланца. В блаженной уверенности, что им удалось поддержать правое дело, пьянчужки разошлись по домам или заснули тут же, положив голову на стол.
Эта досадная история могла бы все же окончиться сравнительно благополучно, если бы, по воле случая, в нескольких сотнях метров от кабачка, Амедео не очутился вдруг лицом к лицу с Эузебио, тоже несколько захмелевшим после многочисленных возлияний на алтарь его будущего счастья. Положение осложнялось тем, что хозяин Эузебио, мэтр Агостини, сопровождал своего клерка. Кто начал первым? Может быть, жених ухмыльнулся, узнав карабинера? Или Амедео каким-то образом спровоцировал Таламани? Во всяком случае, они обменялись несколькими далеко не приветливыми словами, а вслед за тем вцепились друг в друга. Дон Изидоро, который хотел было защитить своего клерка, гораздо более слабого, чем его противник, получил такой удар по носу, что у него искры из глаз посыпались, и он свалился на землю. Разъяренный и напуганный, он бросился домой на поиски какого-нибудь оружия. Тем временем Амедео Россатти, забыв от ревности, что его роль в Фолиньяцаро заключается в том, чтобы поддерживать порядок, а не нарушать его, беспощадно колотил несчастного Эузебио, который не замедлил потерять сознание.
* * *
Вид Тимолеоне Рицотто, лежавшего на спине у себя в постели, не мог не привести в замешательство любого наблюдателя. В профиль он походил на горную цепь, где вершины чередовались с впадинами; самой высокой точкой был его живот; под белоснежными простынями он напоминал японское изображение покрытых снегом гор, служащих фоном для тончайших рисунков. Как все люди, чья совесть чиста, начальник карабинеров спал сном младенца. Могучий храп, который был слышен далеко вокруг и в безлунные ночи служил путеводной звездой для возвращающихся домой соседей, звучал как виртуозный музыкальный пассаж с неожиданными модуляциями. Лицо спящего толстяка казалось более молодым, благодаря доверчивой улыбке, игравшей на его устах. Ему снилось, что, приглашенный в Болонью, он председательствует на конкурсе знаменитейших поваров полуострова, которые один за другим почтительно просят его отведать приготовленные ими изысканные кушанья.
Тимолеоне пробовал — во сне — необыкновенно нежный соус, как вдруг все печи чудесной кухни взорвались одновременно с оглушительным грохотом. Разбуженный этой катастрофой, Рицотто сел на постели, пришел в себя и понял, что он находится дома и что какой-то сукин сын колотит, как безумный, по входной двери. Бросив взгляд на часы, начальник карабинеров увидел, что нет еще и полуночи. Он возмущенно завопил:
— Подожди минуту, оглашенный!
Но шум не прекратился. Тимолеоне выругался сквозь зубы и, опустив ноги на пол, проклял бесцеремонного субъекта, прервавшего самый восхитительный сон в его жизни. Прежде всего он сунул ноги в комнатные туфли, потом, так как он спал в ночной сорочке, натянул, пыхтя, свои брюки. С подтяжками не удалось сразу справиться, и пока он с ними возился, он все время повторял про себя, что если стучит какой-нибудь пьянчужка, то он обязательно запрет его в единственной камере жандармерии.
Рот его был судорожно сжат, глаза метали молнии. По дороге он захватил огромный револьвер, намереваясь напугать до смерти нахала, посмевшего разбудить его среди ночи. Тимолеоне вышел из спальни, пересек кабинет, потом вернулся и зашел на кухню, чтобы выпить прямо из горлышка несколько глотков вина: ему хотелось полностью вернуть себе хладнокровие. После этого он направился к двери и отворил ее. Бушевавший в нем гнев сразу испарился при виде мэтра Агостини, чьи искаженные черты и дрожащие руки свидетельствовали о сильнейшем волнении.
— Наконец! Лучше поздно, чем никогда!
Начальник карабинеров был уязвлен такой несправедливостью. — Но, дон Изидоро, ведь уже почти полночь!
— Ну и что ж? Я всегда думал, что карабинеры спят в полглаза.
Рицотто признался, что такой образ жизни не входит в его привычки. Нотариус слегка отстранил его и проник в дежурную часть.
— Выходит, Тимолеоне, что всех жителей Фолиньяцаро можно зарезать, а вам и дела мало? Так?
— Да что вы, синьор Агостини, никто здесь и не помышляет об убийстве своих ближних.
— В этом вы как раз ошибаетесь! Кто-то только что убил Эузебио Таламани!
Что вы говорите?
— Вы может быть оглохли? Только что убили жениха моей дочери, моего клерка Таламани.
Рицотто был вынужден присесть — у него закружилась голова.
— Это… невозможно… Но где? Кто?
— Где? Почти рядом с аптекой. Кто? Амедео Россатти. Тимолеоне вскочил на ноги.
— Это неправда!
— Правда!
— Нет! Вы это сами видели?
— Я не могу, конечно, поклясться, что я все видел своими глазами, но…
И мэтр Агостини рассказал карабинеру о драке, свидетелем которой, а потом и жертвой был он сам, и о том, как он поторопился к себе, чтобы взять какое-нибудь оружие. В доказательство своих слов он показал старинный пистолет, из тех, что были в ходу в восемнадцатом веке.
— Я собирался воспользоваться им, как дубинкой, чтобы поколотить Россатти, но когда я вернулся, я сперва никого не увидел… Я решил, что драчуны разошлись в разные стороны, отправились каждый восвояси, и уже вздохнул с облегчением, подумав, что утром вручу вам жалобу на вашего капрала, но в этот миг…
Голос дона Изидоро прервался. Тимолеоне заставил его продолжать и он закончил:
— … я почти споткнулся о тело Эузебио.
— Он был мертв?
— Да, мертв… Вся грудь залита кровью. Я не решился прикоснуться к нему… Мне кажется, его убили ударом ножа, но у меня нет опыта в этих делах…
Амедео Россатти… Его Амедео, которому он покровительствовал… Рицотто почувствовал себя как в кошмарном сне. Он ухватился за последнюю надежду.
— Вы уверены, что он умер?
— Думаю, что да.
Рицотто вздохнул.
— Хорошо… Я только закончу одеваться. Подождите меня минуту, не больше.
Когда Тимолеоне был готов, они пошли разбудить Иларио Бузанелу. Тот нехотя встал, и начальник карабинеров, забыв о собственной реакции на приход нотариуса, счел нужным прочесть ему суровую лекцию по поводу обязанностей, связанных с его должностью. Не получив никакого объяснения относительно ночного вторжения и причин, побудивших шефа вытащить его из постели в то время, когда ему полагался отдых, Иларио оделся, но так и не пришел в себя окончательно. Выйдя на улицу и увидев нотариуса, он впал в полное недоумение; только вид тела Эузебио Таламани, к которому они вскоре подошли, вывел его из этого состояния. Он посмотрел на него, потом спросил:
— Он мертв, шеф?
— А ты как думаешь, болван?
Мэтр Агостини решил уточнить:
— Он не сдвинулся с того места, где я его оставил.
Рицотто пожал плечами:
— Меня бы удивило, мэтр Агостини, если бы случилось обратное.
Иларио направил луч своего фонарика на лицо покойного, прикоснулся пальцем к его глазам и заключил:
— Уж так мертв, что дальше некуда, шеф.
Потом он провел рукой по груди Эузебио, почувствовал, что она мокрая, посмотрел туда и пробормотал, запинаясь:
— Там… кровь… Это… кровь…
Ну и что? Ты, может быть, упадешь в обморок, а?
— Я… я… страшно боюсь крови, шеф!
Рицотто воздел руки к небу, как будто призывая Бога в свидетели того, что ему приходится терпеть, и намекая, что высшим силам не мешало бы принять меры, если они не хотят, чтобы в один прекрасный день этот добряк Тимолеоне возмутился.
— Иларио, кончится тем, что по твоей вине меня хватит апоплексический удар! Беги лучше к доктору Форгато и попроси его присоединиться к нам как можно скорее.
— А если он
откажется?
— Он не откажется!
— А если все-таки откажется?
— Тогда ты прикажешь ему примчаться без промедления!
— А если он откажется?
— Тогда ты возьмешь его за шиворот и притащишь сюда! — А…
— А если ты прибавишь еще хоть слово, я заставлю тебя проглотить мою шляпу.
И карабинер Иларио Бузанела удалился гимнастическим шагом.
* * *
Доктор Боргато был уже очень стар. Он продолжал заниматься своей профессией только потому, что его более молодые коллеги не желали похоронить себя в Фолиньяцаро. Доктор чувствовал себя очень усталым, и это часто сказывалось на его настроении. Если его приглашали к роженице ночью, на рассвете или просто в тот момент, когда он собирался нырнуть под одеяло, он шел по вызову, но сразу же начинал отчаянно браниться, упрекая будущую мать в том, что она нарочно рожает в такое немыслимое время, повторяя, что считает ее лгуньей, неженкой, одним словом, настоящей занудой. Она, говорил он, совершенно не жалеет и не уважает человека, который мог бы — в зависимости от ее возраста — быть ее отцом или дедом, и уж, во всяком случае, ей придется пенять только на себя, если слабость помешает ему выполнить свои обязанности так, как ему хотелось бы. Такие речи могли кого угодно довести до истерики, особенно женщину, страдающую от схваток, но все давно уже привыкли к выходкам Боргато и знали, что он сам не верит ни одному слову из того, что выкрикивает, и совершит все наилучшим образом. Когда младенец появлялся на свет, доктор всякий раз, прежде чем доверить его бабушке или донне Петронилле, которая вот уже сорок лет выполняла обязанности добровольной акушерки, поднимал его на вытянутых руках, хорошенько осматривал и восклицал:
— Боже мой, как хорош! Самый красивый ребенок из всех, кому я помог здесь родиться! Хотелось бы мне знать, однако, кто его отец!
Услышав эту дежурную шутку, первым смеялся счастливый отец новорожденного, который вслед за этим уводил Фортунато выпить стаканчик вина, чтобы восстановить силы.
Доктор не смог присутствовать на обручении Аньезе и Эузебио: его задержал в одном из окрестных поселков старичок, как раз надумавший умереть от воспаления легких. Он не слишком расстроился из-за того, что не был на церемонии, в его возрасте такие вещи уже не привлекают, а, кроме того, он не сомневался, что если Господь Бог сохранит ему жизнь, то он и никто другой будет принимать роды у Аньезе, когда придет время появиться на свет ее первенцу. Он давно уже овдовел и жил совсем, один. Женщина, которая вела его хозяйство, уходила в семь часов вечера, оставив ему записку, где были отмечены имена тех, кто приходил просить врача о помощи, а также их адрес. С того времени, как дон Фортунато начал практиковать, он познакомился со всеми в округе и, если только речь шла не о несчастном случае, был осведомлен о состоянии здоровья каждого жителя. Когда приходили звать его к какой-нибудь Розалии или какому-нибудь Симеону, он заранее знал, с какой болезнью ему придется иметь дело.
Доктор уже засыпал, успев прочитать, как каждый вечер в течение почти полувека, несколько страничек из Вергилия, который символизировал в его глазах идиллическую эпоху (как все ворчуны, дон Фортунато обладал нежным сердцем), когда Бузанела, войдя, разогнал его сон. Доктор не скрыл своего недовольства.
— Тебе что здесь нужно? Заболел ты, что ли?
— Нет, синьор доктор. Это Эузебио Таламани…
— Жених? А что с ним? Расстройство желудка?
— Не совсем, синьор доктор. Он лежит, растянувшись во весь рост, перед бакалейной лавкой.
— Так он пьян? Скажи ему, чтобы он встал!
— Синьор доктор, он не может этого сделать.
— Почему?
— Потому что он мертв.
— Ты что, смеешься надо мной?
— О, синьор доктор, я бы никогда не осмелился!
— Отчего же он мог умереть?
— Я думаю… Нет, мой начальник думает, а также мэтр Агостини, что это от удара ножом.
Дон Фортунато присвистнул от удивления.
— Убийство?
— Похоже на то.
Доктор потер руки.
— Все-таки какое-то разнообразие… Помоги мне одеться, Иларио… Скажи-ка, у мэтра Агостини, вероятно, дурацкий вид?
…Доктор не ошибся: и в самом деле, у нотариуса был на редкость дурацкий вид. Шум на улице разбудил, наконец, соседей. Они сбежались и стали вслух обсуждать происшествие. Каждый считал своим долгом выразить с плохо скрываемым злорадством свое соболезнование дону Изидоро.
— Увы, дон Изидоро, недолго же синьорина Аньезе оставалась невестой.
— Какое несчастье, мэтр Агостини… Такой славный парень!
— Сочувствуем вам от всей души, синьор Агостини…
— Кто бы мог представить себе такое еще сегодня утром, дон Изидоро? Эти дети казались такими счастливыми…
Нотариус прекрасно понимал, что несмотря на уважение, внушаемое смертью, над ним издеваются, и выходил из себя. Но так как в качестве отца невесты покойного он представлял его семью, ему нельзя было уйти. Время проходило, и настроение его все ухудшалось.
Дон Фортунато, ворчливый доктор, раздвинул любопытных и проговорил с упреком:
— Ну что? Вам приятно смотреть на труп? Вам доставляет удовольствие вид крови?
Все замолчали и отодвинулись, когда он опустился на колени рядом с умершим, не Преминув при этом накричать на карабинера Бузанелу:
— Иларио, осел ты этакий, ты должен освещать труп, а не небо!
Вскоре он поднялся и обратился к начальнику карабинеров:
— Ну, что можно сказать? Он был убит ударом ножа прямо в сердце. Блестящая работа, если хочешь знать мое мнение, Тимолеоне.
Рицотто прошептал:
— Вы… вы не думаете, что это могло быть самоубийство, дон Фортунато?
Старый врач коротко рассмеялся. Звук напоминал скрип заржавленной цепи.
— Обручиться в полдень и покончить с собой в одиннадцать часов вечера? Мало вероятно! И не слишком лестно для синьора Агостини… Ты не думаешь так? А нож? Ты нашел его?
— Нет.
— Так ты, может быть, полагаешь, что после того, как он нанес себе удар, он проглотил оружие, которым это сделал? Просто для того, чтобы сыграть с тобой злую шутку? Если хочешь, я произведу вскрытие с целью выяснить, не находится ли этот нож у него в желудке. Приятно это тебе или нет, Тимолеоне, но Эузебио Таламани был несомненно убит. Прикажи перенести его, куда полагается, и постарайся арестовать убийцу, если ты на это способен. Что касается меня, то я вернусь домой и лягу спать!
Потом он бросил грозный взгляд на окружающих и проворчал:
— И я надеюсь, что никто больше не позволит себе беспокоить меня этой ночью!
Жители Фолиньяцаро так и не уснули в эту ночь… Вскоре стало ясно, что виновным мог быть только Амедео Россатти. Был проведен допрос, и Онезимо Кортиво, хозяин кафе, напомнил о словах, произнесенных напоследок капралом. Его показания были подтверждены всеми собутыльниками. Предупредили дона Адальберто. Он явился раньше, чем его ожидали, и заставил всех опуститься на колени, чтобы произнести молитву, поручающую душу усопшего Эузебио Всесильному Господу. После этого он сказал своим обычным сердитым тоном:
— А теперь возвращайтесь домой, шайка бесстыжих бездельников, и поразмыслите о том, что случившееся с этим человеком может произойти завтра и с вами! Ведь он покинул мир, не исповедавшись, несчастный! В следующее воскресенье все, как один, придете на причастие! В пятницу вечером я буду исповедовать женщин, а в субботу мужчин, и пусть кто-нибудь попробует не прийти, будет иметь дело со мной! Я отвечаю за ваши души, не забывайте об этом!
* * *
Вернувшись домой, Агостини разбудил жену и дочь, чтобы сообщить им о случившемся несчастье. Они были поражены, но не смогли скрыть своего облегчения. Аньезе забыла о прошедшем печальном дне и снова начала улыбаться в предвидении более радостной перспективы. Донна Дезидерата, со своей стороны, сочла нужным заявить пророческим тоном:
— Видишь, Изидоро? Сам Бог был против этого союза… Нотариус, который давно уже сдерживался, тут взорвался:
— Легче всего обвинять небо в наших собственных подлостях! Не Бог был против этого брака, а презренный Амедео Россатти, ведь это он заколол Эузебио своим ножом! К счастью, он закончит свою жизнь в тюрьме, по крайней мере я буду от него избавлен!
Эти мстительные слова были прерваны глухим стуком падения: Аньезе потеряла сознание.
* * *
Донна Элоиза, жившая в самой верхней части Фолиньяцаро, ничего не знала о ночном происшествии. Поэтому, когда она услыхала, что к ней стучат, то сначала подумала, что это привидение. Прислушавшись, она узнала низкий голос Тимолеоне. Это ее удивило. Она набросила платок на свою длинную ночную рубашку, украшенную кружевом у ворота и запястий, и пошла открывать дверь.
— Неужели это ты, Тимолеоне? И ты, Иларио? Да что с вами? Вы может быть пьяны?
Но нахмуренное лицо начальника карабинеров и замешательство его подчиненного быстро ее убедили, что им не до шуток. Тогда она испугалась.
— Что происходит, Тимолеоне? Неприятности?
— Хуже, чем неприятности, Элоиза. А сын твой дома?
— Он спит у себя в спальне. Почему ты спрашиваешь?
— Я должен с ним поговорить.
— В такое время?
— Время больше не имеет значения, бедняжка моя…
Она посмотрела на обоих мужчин и поняла, что большое несчастье постигло ее и сына, хотя и не догадывалась еще какое.
— Я… я пойду за ним.
Рицотто слегка ее отстранил.
— Нет… Мы поднимемся.
Она смотрела, как они поднимаются по лестнице, не в силах произнести ни слова или шевельнуться. Ей было холодно, и, не зная еще почему, она начала плакать.
Приход Тимолеоне разбудил Амедео. Его легкое опьянение уже прошло. Он долго моргал глазами, прежде чем осознал реальность происходящего: начальник карабинеров и Бузанела у его постели. Наконец, он пробормотал:
— Что… что случилось?
— Встань, Амедео.
Совершенно растерянный, неспособный ответить себе на вопросы, теснящиеся в его голове, он подчинился.
— Нет, не надо формы. Надень штатское платье.
Штатское?
— Да, так лучше.
Капрал послушался, двигаясь, как автомат, и когда он был готов, то повернулся к своим посетителям:
— А теперь?
— А теперь дай мне твой нож.
— Какой нож?
— Тот, который ты обычно носишь с собой.
— Я никогда не ношу ножа!
— Не надо считать меня глупее, чем я есть на самом деле, Амедео. Ты его где-то спрятал, но кончится тем, что мы обязательно его отыщем!
— Но позвольте, шеф! Может быть, вы наконец скажете мне, в чем дело!
— А ты совсем не догадываешься?
— Нет, по правде сказать!
— Значит, не догадываешься?
Тимолеоне взволнованно заговорил:
— Как мог ты, мой духовный сын, мой ученик, совершить такой ужасный поступок? Это выше моего понимания! За один час я постарел на десять лет и чувствую, что ко мне никогда не вернется мой прежний аппетит. Если я умру раньше времени, то это будет по твоей вине! Беру в свидетели Иларио!
— Клянусь головой моей матери, шеф, я ничего не понял из того, что вы сказали!
— Комедиант! Ты смеешь лгать мне в лицо, мне, Тимолеоне Рицотто, начальнику карабинеров, твоему старшему по должности, которому ты обязан оказывать уважение, не говоря уже о благодарности? Значит, ты прогнил до мозга костей?
Это было слишком для Амедео. Он снова повалился на постель.
— Должно быть, я болен… Вы говорите вещи, которых я не понимаю…
Внезапно поднявшись, он спросил:
— Вы как будто намекаете, что я совершил какой-то достойный сожаления поступок?
— Достойный сожаления?.. Ты слышишь, Иларио? Достойный сожаления! Он изволит называть свой поступок достойным сожаления! Скажи мне, свирепое чудовище, а Эузебио? Эузебио Таламани? Тот, который увел у тебя невесту, эту глупышку Аньезе… Его ты помнишь?
— Помню ли я Эузебио? А почему я должен забыть о нем? И, прежде всего, я не разрешаю вам оскорблять Аньезе!
— Вот что я тебе посоветую, малыш: не заносись, потому что я сумею сбить с тебя спесь. Это, во-первых. А вот и, во-вторых: что ты сделал с Эузебио?
— Что я сделал с Эузебио?
— Да! С Эузебио! Ты что, оглох?
— Эузебио? Я его оставил на земле, этого подлеца!
— Россатти, призываю вас проявить немного больше деликатности, говоря о человеке, которого…
— Которого я хорошенько вздул? А! Теперь я понимаю! Он вам нажаловался, этот трус! И поэтому вы пришли сюда? Но почему же ночью?
— Потому что карабинеры всегда готовы трудиться, даже ночью, если они узнают о преступлении.
— О преступлении? Где это?
— Почти напротив бакалейной лавки.
— Почти напротив… Там, где я…
— Там, где ты убил Эузебио Таламани!
Какую-то долю секунды молодой человек подумал, что это неудачная шутка, но жесткий взгляд Тимолеоне и жалость в глазах Бузанелы убедили его, что никто в этой комнате не собирается шутить.
— Значит, вы пришли для того… для того… чтобы…
— Чтобы арестовать тебя, Амедео… Именем закона… Эту ночь ты закончишь в тюрьме, а завтра мы тебя передадим карабинерам, которые приедут из Милана.
Россатти схватился за голову.
— Но это невозможно!.. Невозможно! Я не так уж сильно бил его!
— Нет особой необходимости в силе, когда держишь в руке нож!
— Нож? Это я-то держал нож?
— Которым ты ударил его прямо в сердце!
Прежде, чем Рицотто успел защититься, Амедео бросился на него, схватил за горло и сжал так крепко, что начальник карабинеров сразу стал лиловым.
— Вы не имеете права! Лжец! Вы не имеете права! Я никогда в жизни не прибегал к ножу!
Бузанела похлопывал Россатти по плечу, приговаривая:
— Синьор капрал… Осторожно… Синьор капрал, вы задушите его! Синьор капрал, так нельзя! Он ведь наш начальник… Это будет второе преступление!
Слово «преступление» отрезвило Амедео. Он отпустил Тимолеоне. Прошло добрых пять минут, в течение которых начальник карабинеров хрипел, икал, шумно глотал воздух и издавал другие странные звуки, пока, наконец, дыхание не вернулось к нему и он не смог проговорить тонким голосом:
— Ты поднял на меня руку… Тебе наплевать на мои нашивки… Анархист! Каин! Пойдешь под трибунал! Тебе не отвертеться!.. Что касается тебя, Иларио, то я тебе еще покажу! Меня пытались убить, а ты не вмешался. Выходит, ты его сообщник? Чего ты дожидался? Надо было стукнуть его прикладом по голове!
— Но ведь он капрал, шеф!
— Теперь он уже никто, дурень! Просто убийца, которого мы уведем как можно скорее!
— Если только я вам позволю его увести!
Они обернулись. У двери, которую она бесшумно открыла, стояла донна Элоиза, направив на них дуло охотничьего ружья.
— Первому, кто шевельнется, я всажу весь заряд в брюхо! Иларио закрыл глаза, ясно показывая, что происходящее его ничуть не интересует. Рицотто из лилового стал мертвенно-бледным.
— Так ты намеревался арестовать моего единственного сына, несчастный?
— По… послушай… Элоиза… он у… убил Эузебио… Я… я… обязан…
— Лжешь, Тимолеоне! Впрочем, ты всегда был лгуном! Ты просто мстишь, потому что я тебе в свое время отказала!
— Ты опять за свое!
— Скажи, что это не так, и клянусь всевидящим Богом, я тебя уложу на месте!
— Про… прошу тебя, Элоиза… не стреляй! Это правда, что я тебя любил! Я тебя и сейчас люблю и буду любить до самой смерти.
— Боюсь, что это будет не так уж долго!
Отчаявшись, Рицотто обратился к Амедео:
— Не мог ты что ли убить его в другом месте, а?
— Клянусь вам, шеф, я невиновен! Элоиза попыталась утешить сына:
— Я верю тебе, мой мальчик. Ты не смог совершить ничего подобного! Но этот чертов толстяк, ведь он тебя не знает, как знаю я! Так вот, беги, пока не поздно, потому что он на все способен!
Амедео поколебался несколько мгновений, затем скользнул за окно и скрылся.
После его исчезновения оставшиеся участники драмы две-три минуты смотрели друг на друга, как будто не могли поверить в реальность происшедшего. Наконец, Тимолеоне тихо спросил:
— Элоиза… Знаешь ли ты, что он сделал, твой сын?
— Он смылся, что еще?
— Нет, это гораздо более серьезно! Он дезертировал! Теперь уже не только полиция будет его разыскивать, но еще и армия… У него нет ни малейшего шанса, Элоиза…
Но синьора Россатти ничего не хотела слышать. Она непримиримо заявила:
— В наших горах всегда есть шансы!
— Прошу тебя, Элоиза, будь благоразумна!
— Чтобы быть благоразумной, я должна выдать тебе моего сына? И ты его арестуешь, а может быть убьешь? Никогда! Если ты шевельнешься, Тимолеоне, я шарахну прямо в тебя. У меня руки чешутся это сделать!
— Я не верю тебе! — Рицотто гордо выпрямился. — Нет, я не верю тебе, Элоиза Россатти! Ты честная женщина и добрая христианка, ты не захочешь отягчить свою совесть таким омерзительным, таким неоправданным преступлением! Дай-ка мне ружье!
— Ни за что! И не приближайся, иначе горе тебе!
— Дай мне ружье, это приказ!
Он сделал шаг ей навстречу, и тут Элоиза выстрелила. Раздался ужасающий грохот, едкий дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, они ошеломленно посмотрели друг на друга. Элоиза стояла, прижавшись к двери, куда ее отбросила отдача. Тимолеоне неподвижно вытянулся перед ней. Немного подальше находился Иларио; он тоже не двигался с места, но рот его был широко открыт и не закрывался. Против всякого ожидания, Рицотто первым пришел в себя. Он ограничился тем, что заметил:
— Вот так штука!
Руки Элоизы были сложены, как на молитве, глаза ее были полны слез. Она только сейчас начала понимать, какое несчастье едва не случилось, и не могла вымолвить ни слова. Неожиданно карабинер Иларио Бузанела как-то странно захрипел, указывая пальцем на что-то лежащее на постели. Тимолеоне обернулся и обнаружил там свое красивое перышко, срезанное у самого основания зарядом дроби. Он задним числом пришел в ужас:
— Элоиза… Ты чуть не убила меня!
Она заплакала навзрыд, а когда отдышалась, то сказала:
— Ты дашь мне время, чтобы собрать вещи?
— Ты что, уходишь?
— А ты, разве, не собираешься меня забрать?
— Куда, черт возьми, я должен тебя забрать?
— В тюрьму, конечно, за попытку убить начальника карабинеров…
— Не будь дурой!.. Неужели ты воображаешь, что Тимолеоне Рицотто способен опозорить женщину, которую он любил в молодости, как ты только что старалась мне напомнить?
Синьора Россатти пристыженно опустила голову.
— Этого не было…
— Но это могло быть, моя славная Элоиза…
И повинуясь единому порыву, они упали в объятия друг друга. Иларио Бузанела был растроган, но не мог не улыбнуться, глядя на усилия своего начальника и синьоры Россатти обменяться поцелуем, несмотря на их пышные формы.
Глава третья
Тимолеоне Рицотто очень плохо спал в эту ночь. Вернувшись домой около четырех часов утра, усталый, растроганный поведением Элоизы и собственным раскаянием, потрясенный бегством Амедео, он решил несколько позже поставить миланскую полицию в известность о событиях. Себе самому он объяснил это тем, что чувствовал себя слишком измученным для того, чтобы четко все изложить по телефону или написать донесение. В действительности же, откладывая, насколько возможно, момент сообщения властям, он предоставлял Россатти дополнительную возможность добраться до швейцарской границы, находящейся на расстоянии нескольких километров. Конечно, поступок Амедео был ужасен, но, так как мотивом убийства была любовь, то оно приобретало какой-то оттенок благородства. Кроме того, покойный всегда внушал Тимолеоне сильнейшую антипатию, и его смерть ничего в этом смысле не изменила. Принимая во внимание все эти обстоятельства, начальник карабинеров уснул со спокойной совестью. Только сожаление о красивом перышке, утраченном по вине Элоизы, задержало приход сна на несколько минут.
Но спокойно спать ему так и не пришлось: как только занялась заря, дверь его комнаты внезапно отворилась под натиском дона Адальберто, который тут же загремел:
— Тимолеоне! Ты все еще в постели? И не стыдно тебе лентяйничать в то время, как все Фолиньяцаро кипит от возмущения?
Начальник карабинеров так и подскочил. Голова у него болела, во рту он ощущал горечь… Сидя на постели, он смотрел на шумного посетителя, но не видел его. Священнику пришлось схватить его за плечи и сильно встряхнуть, чтобы вернуть ему ясность мыслей. Тимолеоне в свою очередь вышел из себя:
— Кто лентяйничает? Да я только что лег, и до смерти хочу спать!
— В другой раз поспишь, а сейчас — раз, два, три — и вставать!
— Нет!
— Нет? Ты отказываешься в повиновении своему духовному отцу? Поберегись, Рицотто, ты меня знаешь — я терпелив, но…
— Это вы-то терпеливы, падре? Как может священнослужитель говорить неправду с таким цинизмом?
— Вопрос не в этом, и предоставь моему епископу судить меня! Ты же должен немедленно встать. Агнца снова собираются отдать на заклание, а ты хочешь сыграть роль Понтия Пилата? Вбей себе хорошенько в голову, Тимолеоне, я этого не допущу!
Рицотто провел вспотевшей ладонью по голове, которую, казалось ему, придавила страшная тяжесть. Потом проворчал:
— Падре… Вы не могли бы изъясняться более доступно?
— Сначала встань, я не могу разговаривать с человеком, который лежит в постели… Ты ведь не болен, правда?
Рицотто простонал:
— В том-то и дело, что болен…
— Что с тобой?
— Я хочу спать!
— Ты снова начинаешь?
— Кроме того, у меня нет аппетита… Такое со мной случается в первый раз с тех пор, как я появился на свет!
— Тем лучше! Меньше будешь толстеть! Встань и не заставляй меня повторять одно и то же!
Ворча и пыхтя, Тимолеоне вылез из-под простыней. Когда он в своей рубашке встал на коврик, дон Адальберто усмехнулся:
— Да, по правде сказать, ты не слишком красив! Трудно поверить, что ты был таким же ребенком, как все остальные! Разве допустимо так разрушать творение Божье! Подумать только, что твоя Мариетта наблюдала это зрелище в течение долгих лет! Я теперь понимаю, почему бедная женщина поторопилась умереть…
Тимолеоне с возмущенным видом скрестил руки на груди.
— Значит, вы пришли ко мне в этот ранний час, для того чтобы меня оскорблять? Вы всегда меня терпеть не могли!
— Это я-то? Как это могло прийти тебе в голову? Наоборот, я очень люблю тебя, мой славный толстяк, и ты это знаешь. Я считаю тебя одним из самых умных среди моих прихожан.
Рицотто с горечью подчеркнул:
— И поэтому, вероятно, вы обзываете меня дураком на каждом шагу?
— Это от любви, идиот! Если бы ты был действительно дураком, я не стал бы тебя будить, чтобы попросить твоей помощи для спасения Амедео Россатти.
— Этого убийцы? И это мне, начальнику карабинеров, вы предлагаете помочь убийце скрыться от правосудия? От правосудия, чьим представителем я здесь являюсь?
— Дашь ты мне говорить или нет? Амедео невиновен!
— Вот как? Невиновен! Но он сам признался, что избил Эузебио Таламани!
— Ну и что? Он избил его, это правда, потому что тот отнял у него Аньезе при содействии этого гордеца Агостини — еще один, от которого возмездие не уйдет! — но это вовсе не доказывает, что он зарезал его!
— А вы почем знаете?
— Амедео поклялся мне в этом!
— И вы ему поверили? Ведь все убийцы клянутся в своей невиновности!
— Ты очень меня раздражаешь, Тимолеоне, и если бы у тебя была хоть капля разума, ты бы это понял и перестал бы настаивать, потому что я могу рассердиться по-настоящему!
— Выслушайте меня сперва, дон Адальберто. Знаете ли вы, как они со мной поступили, Амедео и его мать?
И начальник карабинеров рассказал о бегстве Россатти, о поддержке, которую ему оказала его мать, и о том, как он сам чудом избежал смерти.
Священник смеялся от всей души.
— Эта Элоиза… Что за женщина! Я знал, что она сильна, но все же не до такой степени! Я буду ее ставить в пример другим!
— За то, что она хотела убить меня!
— Думай, о чем говоришь, Рицотто! Элоиза никогда не хотела тебя убить. Ты и сам признаешь, что это получилось случайно. Бог все равно бы этого не допустил.
— Гм, гм. Так можно говорить, когда все позади!
— Тимолеоне! Не стал ли ты безбожником в довершение всего? Это ведь ты только что говорил о чуде, не так ли? А кто, по-твоему, способен делать чудеса, кроме Бога?
— Возможно, падре… Но если Амедео невиновен, почему он убежал?
— Тимолеоне, сын мой, ты ведь знаешь, как я люблю Господа Бога, которому служу уже очень давно, и как велика моя вера? Но поверь мне, если бы Он раздвинул облака на Своем небе, нагнулся над Фолиньяцаро и сказал мне: «Беги сюда, Адальберто, чтобы я мог отправить тебя жариться в аду», я бы тут же убежал, куда глаза глядят… Амедео просто испугался, вот и все. Он сам мне это сказал.
— Значит, вы видели его?
— О, да! Амедео — верный сын церкви. Он помнит, что если дитя Божье попадает в беду, то помощь ему может прийти только от его Небесного Отца.
— Если я вас правильно понял, дон Адальберто, то вы прекрасно знаете, где он скрывается?
— Да, прекрасно.
— А если я вас попрошу открыть мне, где он находится, вы мне откажете?
— Почему же? Я тебе доверяю. Ты ведь не Иуда.
— Итак, падре, где Амедео?
— У меня.
Не ожидавший такого ответа, Рицотто помолчал с минуту, потом вспылил:
— И вы смеете мне заявлять об этом? Вы позволяете себе прятать убийцу от правосудия? Я сразу же отправляюсь за ним!
— Сперва оденься.
— Хорошо! Если вы воображаете, что можете сбить меня с толку, то вы ошибаетесь! Само собой, я ваш прихожанин, но в первую очередь я начальник карабинеров!
— Это неважно.
— Посмотрим!
Во время этого обмена мнениями Тимолеоне натянул брюки, потом китель, сунул ноги в туфли и надел на голову свою шапочку без перышка.
— Пошли?
— Куда?
— К вам.
— Я, кажется, тебя не приглашал?
— Прошу вас, падре, не будем играть словами. Сказали вы или нет, что Амедео Россатти, разыскиваемый полицией — в данном случае мной — находится у вас?
— Да.
— Так вот, я обязан отправиться к вам за ним!
— Я не могу тебе помешать ворваться в мое жилище, Тимолеоне, но я отлучу тебя от церкви!
— Что?
— Я вышвырну тебя из лона нашей матери церкви!
— За то, что я буду выполнять мой долг, защищая общество?
— За то, что ты поступишь, как кретин! Послушай, Тимолеоне, ты ведь на самом деле неплохой человек. Можешь ты поклясться на Евангелии, что уверен в виновности Амедео?
Рицотто поколебался мгновение, потом сказал:
— Нет.
— Вот видишь. Что касается меня, то я верю Россатти… Вспомни, ведь он всегда проявлял себя, как порядочный юноша с чистыми помыслами…
— Это верно… Но ведь здесь замешана любовь.
— Даже любовь не могла сделать из Амедео труса, который вернулся бы, чтобы заколоть лежащего на земле врага!
— В таком случае?..
— В таком случае, Рицотто, мой славный толстяк, убийца кто-то другой, и именно тебе надлежит его отыскать!
— А что я должен сделать с Амедео?
— Он снова, как ни в чем не бывало, займется своими обязанностями и будет помогать тебе вести расследование.
— Нет, падре, это невозможно. Все Фолиньяцаро уже в курсе, а кроме того, мэтр Агостини рассматривает смерть своего клерка как личное оскорбление. Он не допустит, чтобы Амедео оставался на свободе.
— В свое время я займусь доном Изидоро, но ты, пожалуй, прав. Предоставь кому-нибудь другому искать убийцу.
— Этот другой будет обязательно из Милана, падре.
— Вероятно.
— Ему не придется искать больше часа, чтобы арестовать Амедео.
— Есть такая возможность.
— И на этом он закончит расследование.
— Это менее вероятно.
— И прикажет мне переслать обвиняемого в Милан.
— Не думаю.
— Почему?
— Потому что у меня есть план… план, который я уточню, пока ты будешь связываться с Миланом. К тому времени, когда миланец явится сюда, мы будем готовы его принять. Тимолеоне, возвращаю тебе мое уважение. Сейчас я пришлю обратно твоего капрала.
Последовавшее за этим утро было очень беспокойным. Началось с того, что Иларио Бузанела чуть не упал от удивления, когда, придя в участок, столкнулся со своим капралом, который дружелюбно его приветствовал, как будто ночной сцены и не бывало. Ничего не понимая, карабинер бросился к начальнику, который, вновь обретя аппетит, наслаждался яичницей с луком и едва не подавился при шумном и непочтительном вторжении своего подчиненного. Он поперхнулся, закашлялся, побагровел и, как только к нему вернулось дыхание, зарычал на злосчастного Бузанелу:
— Иларио! Что с тобой? Что ты себе позволяешь?
— Шеф!.. Он… он там!
— Кто?
— Капрал… Россатти…
— А где он должен, по-твоему, быть?
Бузанела открыл рот раз, другой, потом закрыл его и в полном смятении вернулся в дежурную часть заполнять поджидавшие его официальные бумаги. Положение становилось для него слишком сложным, и он предпочел выбросить этот вопрос из головы.
* * *
Когда мэтр Агостини узнал от торжествующей Аньезе, что Амедео вернулся к исполнению своих обязанностей, как будто ничего не случилось, он сперва ей не поверил и послал жену разузнать, что происходит, Донна Дезидерата, не менее сияющая, чем дочь, подтвердила слова последней. Возмущенный дон Изидоро надел шляпу, взял свою трость и пошел к начальнику карабинеров требовать объяснений.
* * *
В это время дон Адальберто выходил из дома сыровара Замарано. Неделю назад тот отпраздновал помолвку своей дочери Сабины с каменщиком Зефферино Гаспарини.
Подготовленный священником, Тимолеоне очень плохо отреагировал на выговор нотариуса. Считает ли тот себя вправе, спросил он, давать советы и даже указания начальнику карабинеров? Мэтр Агостини, уже раздраженный поведением жены и дочери, ответил ему в том же тоне: каждый порядочный человек, по его мнению, должен по мере сил помогать бездарному чиновнику выполнять свои обязанности. Встав с места, Тимолеоне осведомился со спокойной величавостью:
— Скажите, синьор, берете вы на себя полностью ответственность за произнесенные вами слова?
— Почему вы меня спрашиваете об этом?
— Потому что вы оскорбили в моем лице всех карабинеров и я обязан составить протокол.
Как всякий законник, дон Изидоро испытывал страх перед официальными бумагами. Понимая, что увлекся и перешел границы допустимого, он попытался сгладить неприятное впечатление:
— Тимолеоне… Я сказал больше, чем думаю на самом деле… Прошу вас не сердиться на меня за это… Я испытываю глубокое уважение к карабинерам, к этим отборным войскам… и к вам лично, их начальнику?
— Верится с трудом!
— Поймите меня, Тимолеоне, я страшно взволнован… Речь идет в какой-то мере о моей чести. В Фолиньяцаро все были против брака моей дочери с Таламани… Кое-кто рассматривает его гибель как вмешательство свыше, а я не могу этого допустить! Амедео Россатти должен искупить свою вину!
— Да, если он виновен.
— Это несомненно так!
— А вы почем знаете?
— Позвольте, но ведь…
— Он подрался с Эузебио Таламани, это все, что мы имеем право утверждать, мэтр Агостини. Что касается преступления, может быть, он действительно в нем виновен, но возможно также, что он здесь ни при чем.
— Однако вы согласны со мной, что Россатти трудно не заподозрить.
— Согласен.
— В таком случае, почему он по-прежнему занимает свою должность?
— Потому что до официального обвинения у меня нет никаких оснований позорить его в глазах деревни, которая должна его уважать как представителя общественного порядка!
— А если он убежит?
— Позвольте вам напомнить, синьор, что карабинеры не убегают.
У Рицотто был при этом такой чистосердечный вид, что дон Изидоро попался на удочку и повторил свои извинения.
* * *
Мэтр Агостини расстался с начальником карабинеров в тот самый момент, когда дон Адальберто входил к вдове Габриелли, портнихе, жившей вдвоем с дочерью, очаровательной Терезой.
* * *
Отправив свое донесение в Милан и переговорив по телефону с начальством, Тимолеоне заметил, что время уже перевалило за одиннадцать, а для обеда ничего еще не сделано.
Он погрузился в глубокое раздумье, стремясь определить научным путем, какое блюдо лучше всего подойдет к его нынешнему душевному состоянию. В это время перед ним появился Амедео, и, став по стойке «смирно», оторвал своего шефа от его гастрономических проблем.
— Что тебе?
— Здесь моя мать, шеф.
— Твоя мать?
— Она хочет что-то сообщить вам.
— Амедео, мы с твоей матерью уже обо всем переговорили этой ночью, и лучше бы нам больше не встречаться.
— Обманщик!
Отстранив сына, донна Элоиза, медленно вплыла в кабинет начальника карабинеров. Она осторожно несла какой-то предмет, аккуратно прикрытый салфеткой. Приблизившись, она поставила его на стол. Рицотто инстинктивно отпрянул: всего можно было ожидать от женщины, которая только чудом не убила его.
— Что это такое, Элоиза?
— Догадайся!
Быстрым движением она отдернула салфетку, и тут же комнату наполнил восхитительный аромат жареной телятины, оливкового масла, ветчины, томатов, белого вина и придававшего всему букету особую пикантность розмарина. Тимолеоне, вытаращив глаза, восхищенно созерцал замечательное кушанье, принесенное донной Элоизой. Горка белоснежного риса обрамляла великолепно приготовленное блюдо. Рицотто пробормотал:
— Боже… Какая красота…
— Надеюсь, тебе понравится!
— Святые угодники! Один этот запах является настоящим пиром! Но, Элоиза… За что?
— За то, что ты вел себя, как порядочный человек по отношению к Амедео и ко мне.
— Постой, Элоиза! А ты не пытаешься меня подкупить?
* * *
Чокаясь с доном Адальберто, Бертолини, сапожник, заверял его:
— Можете рассчитывать на моих дочерей, падре. Эуфразия и Клара хорошие девочки. Вы им только скажите, что они должны делать.
* * *
Тимолеоне пригласил Элоизу разделить с ним принесенную ею еду. Они ели с аппетитом, переставая жевать только для того, чтобы отпить из стаканов, наполненных кьянти. Полузакрыв глаза и плутовски улыбаясь, Рицотто нежно говорил:
— Теперь я вспомнил, Элоиза…
— Что ты вспомнил?
— Как я тебя уводил за свинарник…
— Замолчи! Не стыдно тебе?
— Нисколько… Ты была такая миленькая тогда, и если бы я мог предвидеть, что со временем ты будешь так чудесно готовить, я бы ни за что не уступил тебя этому бездельнику Россатти.
— Берегись, Тимолеоне! Я любила моего Россатти!
— Хочешь заставить меня ревновать?
Они рассмеялись счастливым смехом, как люди, которые сами не верят тому, что говорят, но все же допускают для собственного удовольствия некоторую долю сомнения.
— Только подумать, что ты собиралась убить меня сегодня ночью!
— Я бы умерла с горя!
— Это меня не воскресило бы!
— Ты думаешь только о себе!
— В такие минуты, моя красавица, нет, знаешь ли, времени думать о других… Ты никогда не помышляла о том, чтобы снова выйти замуж, Элоиза?
— Случалось…
— А почему ты не сделала этого в конце концов?
— Потому что те, о ком я думала, не обращали на меня внимания или не были свободны…
Так как оба обладали превосходным пищеварением, то после еды погрузились в настоящую эйфорию. Тимолеоне расстегнул пояс и скорее вздохнул, чем вымолвил:
— Теперь мы оба свободны… а у тебя такие способности к поваренному искусству…
* * *
Кузнец Гамба и его сын Кристофоро, слывший в Фолиньяцаро силачом, проводили дона Адальберто до его дома.
— Если бы кто-нибудь другой, а не вы, падре, предложил нам что-нибудь подобное, мы бы набили ему морду, скажи, Кристофоро?
— Точно!
— Но, поскольку это вы, мы не сомневаемся, что вы это делаете с благой целью, хотя и не совсем понимаем, в чем дело, как ты считаешь, Кристофоро?
— Точно!
— Так вот, вы только объясните все Кристофоро, а уж он, в свою очередь, объяснит Аделине. Она очень прислушивается к словам брата…
* * *
Восьмидесятичетырехлетний дон Чезаре, мэр Фолиньяцаро, практически не выходил из дома. Для того чтобы он решился показаться на улице, погода должна была быть исключительно благоприятной, так как у него были слабые легкие, и врачи приговорили его к смерти еще в 1893 году, то есть семьдесят лет назад. Поэтому муниципальный совет обычно собирался у него дома. По правде сказать, интересы муниципалитета, как правило, представлял мэтр Агостини, его первый заместитель. Однако в особых случаях дон Чезаре, совершив полный и тщательный туалет (он полагал, что в любой момент может внезапно скончаться на улице), рисковал подвергнуть себя воздействию сильного ветра с ближайших горных вершин, который круглый год продувал Фолиньяцаро из конца в конец.
Элоиза и Тимолеоне так и замерли на своих стульях, узнав дона Чезаре в жестикулирующем сердитом человечке, неожиданно распахнувшем дверь, за которой они с одинаковым усердием предавались мирным радостям чревоугодия. Начальник карабинеров нашел, наконец, в себе силы встать:
— Дон Чезаре!..
Стоя неподвижно, мэр созерцал представившееся, ему зрелище своими маленькими проницательными глазками. Он усмехнулся:
— Ты никогда не изменишься, Тимолеоне… А кто это с тобой?
И он приблизился к импозантной синьоре Россатти.
— Как тебя зовут, малютка?
Уже давно никому не приходило в голову так называть донну Элоизу, и у доброй толстушки выступили слезы на глазах. Но раньше, чем она собралась ответить, дон Чезаре воскликнул:
— О, да я узнаю тебя! Ведь ты Элоиза… Элоиза Бергаши…
— Теперь уже нет, дон Чезаре… Я Элоиза Россатти.
— А, верно… Этот славный Россатти… не слишком умный правда, но в высшей степени порядочный человек… Как он поживает?
— Он умер, дон Чезаре.
— Правда? И давно?
— Уже лет пятнадцать…
— Странно, что я забыл об этом… Так теперь ты путаешься с этим толстяком?
— О! Дон Чезаре!
— Ну и что? Ты вдова и он вдовец. Это ваше право, не так ли? Полный чувства собственного достоинства, Тимолеоне счел необходимым внести ясность.
— Дон Чезаре, в знак нашей дружбы Элоиза захотела сделать мне подарок. Она приготовила для меня великолепное кушанье… и я решил, что должен из учтивости пригласить ее разделить со мной эту трапезу… Кроме того, Элоиза — мать моего капрала Амедео Россатти…
— Того самого, который убил клерка нотариуса?
Донна Элоиза, забыв о почтенном возрасте мэра, сразу бросилась в бой, чтобы защитить своего отпрыска. Дон Чезаре выслушал ее, не говоря ни слова, потом сказал:
— Ты на стороне своего сына, это хорошо, это нормально… А ты что об этом думаешь, Тимолеоне?
— Я не считаю его виновным… Таково мнение и дона Адальберто.
Старый господин засмеялся слегка астматическим смехом, напоминавшим стук орехов, высыпанных из мешка на стол.
— Этот чертов Адальберто… Мальчишка, у которого всегда были оригинальные идеи… Он еще себя покажет…
Тимолеоне и Элоиза, смущенные этим пророчеством по отношению к человеку, чье семидесятилетие было не за горами, не знали, как на него реагировать. Им было хорошо известно, что дон Чезаре, последний оставшийся в живых представитель многочисленной семьи, считал детьми всех, кто был моложе его в Фолиньяцаро.
— Так вот… Я как раз пришел повидать тебя по поводу этого убийства, Тимолеоне… Поступай, как знаешь, но я не хочу, чтобы мне досаждали, понятно? Вообще, но это между нами, я не понимаю, почему поднимают такой шум из-за одного умершего! На моей памяти столько мужчин и женщин покинули этот мир… и живущие ныне не знают даже их имен… У меня было две жены… Три дочери… Два сына… Все они на кладбище… Хотел бы я знать, зачем я еще торчу здесь?
Он порывисто вышел, не попрощавшись, и вернулся к себе, чтобы запереться в обществе родных теней.
* * *
Когда Рампацо, старшему комиссару уголовной полиции Милана, доложили об убийстве, совершенном в Фолиньяцаро, он связался с непосредственным начальством Тимолеоне и скоро понял, что на проницательность толстого шефа карабинеров особенно рассчитывать не приходится. Положив трубку, он решил поручить расследование одному из своих инспекторов и подумал сперва об Ансельмо Джаретте, к которому особенно благоволил. Ему, несомненно, было бы приятно провести несколько дней в горах. Кроме того, разрешение даже самого легкого дела всегда является стимулом для продвижения по службе. Но его любимец, и Рампацо это знал, страдал одной непростительной слабостью: женщины. Ансельмо не мог видеть ни одной юбки, без того чтобы немедленно не влюбиться по уши, а комиссару прекрасно было известно, что в горных деревушках на эти вещи не смотрят сквозь пальцы. Послать туда Джаретту означало самому нарываться на серьезные неприятности. Вздохнув, Рампацо мысленно произвел смотр своим кадрам; он остановился на бесцветном, но прилежном Маттео Чекотти и приказал прислать его к себе как можно скорее.
Полицейские, отправившиеся на розыски, обнаружили инспектора Чекотти на рынке. Он записывал выставленные торговцами цены, желая установить, соблюдают ли они предписания закона. Маттео не был злым, но он любил свою профессию, испытывал болезненное отвращение к нечестности и считал, что никакое усилие не может быть чрезмерным, когда речь идет о торжестве закона. Он всегда носил темный костюм, и хотя его нельзя было назвать брюзгой в полном смысле слова, но после короткой и столь же печальной любовной истории он превратился в закоренелого женоненавистника. В тридцать два года он обрек себя на безбрачие и старательно избегал общества женщин. Для его коллег эта странность была постоянным источником шуток. Они изощрялись в поисках предлогов для того, чтобы посылать служащих в полиции девушек поздравить его с днем рождения, именин или с любым другим праздником, надеясь, что ему придется поцеловать поздравительницу. Однажды при соучастии одной из этих барышень был разыгран целый спектакль, после которого Маттео опасался, что его заставят на ней жениться для искупления воображаемой вины. К счастью для него, комиссар вовремя вмешался, восстановил порядок, перевел девушку в другое место и сделал серьезное внушение инициаторам бестактного фарса.
Инспектор Чекотти, впрочем, не был застенчивым, и если в его отношении к женщинам сквозила какая-то странная растерянность, то это было следствием давней неприязни, заставлявшей его постоянно подозревать ложь и обман. Он не целовал девушек даже украдкой, потому что боялся снова попасть в ловушку, которую однажды избежал. Это был способный полицейский, пользующийся доверием начальства и уважением своих коллег. Единственное, что препятствовало Ого продвижению но службе, это некоторая сухость в обращении.
Комиссар приветливо принял его.
— Чекотти, администрация уполномочила меня предложить вам несколько дней отпуска. Любите вы горы?
— Да, очень.
— Прекрасно! Знаете вы деревню Фолиньяцаро, в нескольких километрах от Домодоссолы?
— Нет.
— Ну что ж! Это будет для вас открытием. Вы едете туда завтра утром.
— Простите, шеф, но чему я обязан этой неожиданной любезностью?
— Тому, что в Фолиньяцаро был убит человек, и мы надеемся, что вы обнаружите убийцу.
— А, вот как…
— Между нами говоря, у меня создалось впечатление, что речь идет о мести и что убийца поторопился пересечь границу… Если же преступление совершил какой-нибудь бродяга, карабинеры его заберут… В любом случае, вы насладитесь несколькими днями отдыха в горах, и если к концу этого срока положение вам покажется безвыходным, можете возвращаться. Согласны?
— Конечно, шеф.
* * *
Сидя за рулем своего маленького фиата, инспектор Чекотти не спеша поднимался к Домодоссоле. Неподалеку от Стрезы он позволил себе остановиться и просидел часа два, мечтательно глядя на озеро. Если, по словам комиссара, ему предложили отдых, то почему бы им не воспользоваться? Проехав Домодоссолу, маленькая машина свернула к северо-востоку и, с трудом пробираясь по плохой дороге, прибыла в Фолиньяцаро во второй половине дня. Маттео сразу же направился в участок. Вид начальника карабинеров удивил и насмешил его, но, само собой разумеется, он этого не показал. Первым вопросом Рицотто было:
— Вы любите грумелло?
— Грумелло? Конечно, но…
— В таком случае следуйте за мной!
Тимолеоне привел инспектора к себе, предложил ему сесть и налил полный стакан свежего грумелло. Сидя напротив своего гостя, он заметил:
— Следует остерегаться поспешных заключений… Противоречия… Ошибки ориентации… Я подробно изложу вам события, имеющие отношение к драме, а мы тем временем будем попивать это винцо, и оно, я надеюсь, прояснит наши мысли.
Чекотти улыбнулся. Ему понравился этот толстяк, хотя он и осудил про себя его подход к преступлению, которое, каковы бы ни были обстоятельства, оставалось делом серьезным.
— Говорите, прошу вас, я слушаю.
И Рицотто объективно рассказал о том, что случилось с женихом Аньезе, постаравшись ни разу не упомянуть имени Амедео. Закончил он так:
— Похоже, на мой взгляд, на убийство с целью ограбления…
— Что вы имеете в виду?
— Да просто какой-нибудь бродяга встречает человека на пустынной улице, убивает его, потом добирается до границы.
— А что, труп, был ограблен?
— Нет.
— В таком случае?..
— Убийце могли помешать, он мог испугаться…
— И убить просто так, без всякой для себя пользы? Не может быть, чтобы вы говорили это серьезно… Кроме того, бродяги редко переходят через границу. Куда бы они ни направлялись, их тут же забирают. У этого Таламани были враги?
— Скажем, что его не очень-то здесь любили.
— Почему?
— Потому что он был из Милана.
— Здесь ненавидят миланцев до такой степени, что убивают? Мне это не слишком приятно слышать, ведь я тоже миланец!
Несмотря на все усилия, Тимолеоне не знал, как ему выбраться из тупика, куда он загнал себя, сам того не желая.
— Нет, конечно… Но этот парень, действительно, внушал антипатию: он ни с кем не общался и изображал из себя презирающего всех горожанина… Представляете?
— Прекрасно представляю. Но из вашего рассказа следует, что по крайней мере один человек хорошо относился к Таламани.
— Это кто же?
— Его невеста, Аньезе Агостини.
Не дав себе времени подумать, начальник карабинеров воскликнул:
— Да она его ненавидела!
— В самом деле?
— Это отец заставил ее согласиться.
— Тогда как она любила другого?
— Возможно.
— Возможно или… определенно?
— Я не ее духовник. Она сама вам скажет об этом, если будете ее допрашивать.
— Можете в этом не сомневаться, дорогой мой. Скажите, пожалуйста, кто самые важные персоны в Фолиньяцаро, кроме вас, разумеется? Мэр?
— О, дон Чезаре так стар, что не позволяет себя беспокоить из-за чего бы то ни было.
— А я его побеспокою.
— Сомневаюсь.
— Увидите! Речь идет о поимке убийцы!
— Думаю, что дона Чезаре убийцы не интересуют.
— Позвольте мне, в свою очередь, думать, что я сумею заставить его ими интересоваться.
— Меня бы это удивило. Имеется еще мэтр Агостини, его первый заместитель, который в действительности исполняет функции мэра, но это между нами. А кроме них, дон Адальберто, священник.
— Он мог бы нам очень помочь, если он пользуется влиянием в Фолиньяцаро.
— О да, он пользуется огромным влиянием… Но что касается помощи…
Инспектор начал терять свою невозмутимость.
— Вы удивляете меня, синьор. Слушая вас, можно подумать, что все здесь являются сообщниками убийцы.
— Да нет, инспектор. Право же, нет, просто я считаю себя обязанным предостеречь вас от возможных ошибок.
Полицейский встал.
— Я даю себе время до завтра на то, чтобы обдумать, как я буду вести расследование. Где я мог бы остановиться?
— Здесь, знаете ли… особых удобств не найдешь… Проще было бы ночевать в Домодоссоле.
— Ни в коем случае! Я обязательно должен остаться в Фолиньяцаро. Если преступник еще в деревне, то я его выслежу. По моему мнению, убийца Эузебио Таламани отнюдь не какой-нибудь бродяга, он не покидал Фолиньяцаро и рассчитывает ускользнуть от правосудия при пособничестве своих друзей!
— Ну что же, и это возможно.
— Я сделаю все, чтобы доказать, что это не только возможно, но в самом деле так, можете в этом не сомневаться, синьор. А теперь, не укажете ли вы мне, где я мог бы остановиться?
Не отвечая, так как полицейский начинал действовать ему на нервы, Тимолеоне позвал карабинера:
— Иларио!
Солдат явился.
— Отведи синьора инспектора к Онезимо. У него, кажется, есть лишняя комната для приезжих…
Когда Бузанела и инспектор ушли, Рицотто бросился к дону Адальберто, чтобы рассказать ему о своей встрече с Чекотти. Священник успокоил его:
— Я предвидел, что мы будем иметь дело с подобным субъектом, воображающим, что истина может открыться кому попало, и всегда ошибающимся, так как он доверяет только очевидности. Не думаю, что он арестует Амедео раньше завтрашнего полудня. Как только это случится, немедленно предупреди меня, хорошо?
* * *
Узнав, чем занимается его будущий постоялец, Онезимо Кортиво повел себя крайне нелюбезно. Да, комната у него действительно есть, но там нет водопровода, нет освещения, и она безусловно недостойна полицейского инспектора, который мог бы найти все необходимое в Домодоссоле. Маттео невозмутимо противопоставил собственное упрямство упрямству хозяина кафе.
— Я удовольствуюсь вашей комнатой без воды и света.
— Что касается пищи, у нас тоже не Бог весть что…
— Мне хватит куска хлеба с сыром. Я не предполагаю оставаться больше двух или трех дней.
— Два или три дня немалый срок…
— Смотря для кого. Убийца Таламани найдет, что это совсем недолго, когда узнает, что я охочусь за ним.
— В наших краях, синьор инспектор, говорят, что нельзя продавать шкуру неубитого медведя.
— Успокойтесь, мой друг, я объявляю о продаже шкуры этого медведя с полным знанием дела. А вы решитесь, наконец, отвести меня в эту комнату, или мне придется ее реквизировать?
Онезимо посмотрел на своего собеседника с нескрываемой враждебностью.
— Странные у вас манеры в вашем Милане!
— Если судить по вас, то в Фолиньяцаро они не менее любопытные.
Не в силах больше сопротивляться, хозяин кафе обернулся и крикнул, обращаясь к дальнему концу зала:
— Эпонина!
В ответ на его призыв вдали раздалось какое-то кудахтанье. Кортиво пояснил:
— Она уже стара, быстро не может.
Прошло несколько минут; наконец, очень пожилая женщина медленно вошла в зал.
— Что тебе, малыш?
— Покажи комнату синьору из Милана. Он хочет там поселиться.
Старушка осмотрела Маттео Чекотти с ног до головы, пожала плечами и высказала свое мнение:
— Странная идея!.. Впрочем, каждый поступает по-своему… Только вы сами понесете чемодан, у меня нет сил… Я буду подниматься первой…
Она засмеялась, как старая колдунья, потом добавила:
— И не пытайтесь меня ущипнуть, я честная девушка!
Эта традиционная шутка никого уже не забавляла в Фолиньяцаро, но она немного смутила полицейского, для которого была в новинку.
Комната оказалась значительно менее заброшенной, чем пытался ее Представить Онезимо, и Маттео не замедлил это с удовлетворением отметить. Он отблагодарил свою провожатую, которая подбоченившись, наблюдала, как он открывает чемодан.
— Так что вы собираетесь делать у нас?
— Арестовать одного убийцу.
— Вы хотите сказать — того, который заколол Эузебио?
— Вот именно.
— Вам, выходит, нечего делать в Милане, раз вы вмешиваетесь в дела, которые вас, не касаются?
Не дожидаясь ответа, она повернулась к инспектору спиной и вышла, предоставив ему размышлять о странной логике местных жителей. Убрав свои вещи в шкаф некрашеного дерева, он немного привел себя в порядок, думая о том, что его приезд явно не вызвал восторга в Фолиньяцаро. Но почему, черт возьми, старались здесь уберечь убийцу? Все, даже начальник карабинеров. Это уже было слишком! Этот-то, правда, свое получит! Он обязан оказывать помощь инспектору, занимающемуся расследованием уголовного преступления, и если он этого не сделает, то пусть ничего хорошего не ждет! О нем будет послан в Милан соответствующий отзыв.
Было уже слишком поздно, для того чтобы начинать расследование. Ночь спускалась над Фолиньяцаро, и спокойствие, которое, казалось, струилось с окружающих гор, не могло не волновать Маттео. Опершись на подоконник, он смотрел на дома, где начинали зажигаться огни. Убийца, подумал он, несомненно предупрежденный, спрашивает себя, вероятно, с тревогой, что собирается предпринять полицейский, приехавший, чтобы арестовать его.
Когда Маттео снова вошел в кафе, за столиками сидели пять или шесть мужчин разного возраста. Желая показать, что он приехал не как враг, полицейский дружелюбно приветствовал всех. Ответа не последовало. Раздосадованный, он сел в стороне. К нему подошла Эпонина:
— Вы, может быть, поужинаете, а?
— С удовольствием… От Милана до Фолиньяцаро не близко, знаете ли.
— Никто вас не просил приезжать! А что вы хотели бы на ужин?
— А что у вас есть?
— Суп и сыр.
— Ну, что же, значит, суп и сыр.
Она удалилась, как усталая гусыня, возвращающаяся к своей луже. Стараясь забыть о враждебном приеме и отнестись к происходящему с юмором, Маттео сказал себе, что никогда еще, должно быть, расследование не начиналось в подобных условиях. Его это даже начало забавлять. Будет потом о чем рассказать. Ведь совершенно ясно, что все эти крестьяне, несмотря на их мелкие хитрости, не смогут помешать ему довести расследование до конца. Он собирался завтра же утром нанести мэру визит и напомнить этому чиновнику о его ответственности. Эпонина принесла ему его скудный ужин. Он поел с аппетитом, но вино, которое она подала, заставило его скорчить гримасу. Подняв глаза от стакана, он заметил улыбки на лицах окружающих и еле удержался, чтобы не вспылить. Но так как было ясно, что именно этого от него ожидали, то он сделал над собой усилие, пообещав себе отыграться, когда придет время.
Проглотив последний кусок, Маттео встал и подошел к столику, за которым перед стаканом белого вина одиноко сидел нестарый еще мужчина и курил трубку. Не спрашивая разрешения, Маттео опустился на стул напротив него.
— Меня зовут Маттео Чекотти, я инспектор полиции.
Человек внимательно посмотрел на него, потом произнес, вынув трубку изо рта:
— Моей вины здесь нет.
И спокойно продолжал курить. Огорошенный неожиданным замечанием, полицейский настойчиво продолжал:
— Инспектор миланской уголовной полиции.
Крестьянин слегка пожал плечами и высказал свое мнение:
— Плохих профессий нет, все зависит от человека. Послышались приглушенные смешки. Несмотря на свое решение, Маттео почувствовал, что начинает сердиться.
— Вы живете в Фолиньяцаро?
— Да.
— Вы были знакомы с Эузебио Таламани?
— Да.
— Вы знаете, что его убили?
— Это меня не интересует.
— Есть у вас подозрение относительно того, кто бы мог совершить это преступление?
— Нет, и мне на это наплевать.
— Остерегайтесь!
— Чего?
Чувствуя, что дело принимает неприятный оборот, к ним подошел Онезимо.
— Он ничего не знает, синьор инспектор… Гвидо проводит весь день в горах со своими козами…
Воспользовавшись вмешательством хозяина, Чекотти обратился к остальным посетителям:
— Я приехал сюда для того, чтобы арестовать убийцу Эузебио Таламани. Вы должны мне помочь. Это ваш долг!
Мужчина лет пятидесяти, с насмешливыми глазами, спросил:
— А вы, услуга за услугу, не поможете ли мне вскопать мой сад?
— Ваш сад? Вот еще!
— Видите? Выходит, у каждого своя работа…
— Но почему, в конце концов, вы не хотите, чтобы убийца был обнаружен?
И снова Онезимо попытался внести спокойствие:
— Вот что я вам скажу, синьор… Дело не в том, что мы против полиции, но мы терпеть не могли Таламани… Этот тип смотрел на нас свысока… Он считал себя лучше всех. Так вот, тот, кто это сделал, избавил нас от него, понимаете? В общем, оказал нам своего рода услугу… Если бы мы даже знали, кто это, нам не хотелось бы его выдавать… И потом, этот Таламани был миланцем, а у нас их недолюбливают.
— Я тоже миланец!
— Это ничего не меняет.
Раздосадованный, Маттео вернулся в свою комнату, больше чем когда-либо полный решимости арестовать убийцу. Для него это уже становилось делом чести. Он должен был показать этим мужланам!
* * *
На следующее утро инспектор холодно поздоровался с Онезимо и попросил, если не трудно, сказать ему, как пройти к жилищу мэра. Хозяин кафе посмотрел на него, округлив глаза.
— Вы в самом деле хотите встретиться с доном Чезаре?
— Ведь мэра Фолиньяцаро зовут Чезаре Ламполи?
— Да.
— В таком случае, это именно с ним я собираюсь побеседовать, как только вы будете настолько любезны, что решитесь доверить мне его адрес, если, конечно, это не один из тех секретов, о которых не следует рассказывать.
Онезимо добродушно засмеялся.
— О нет. В каком-то смысле ваш визит к дону Чезаре даже придется по вкусу всем нашим.
— Придется это им по вкусу или нет, меня нисколько Не беспокоит!
— Прекрасно… Так вот, подниметесь в гору, и первый дом направо, у которого вы увидите множество разноцветных, покрытых глазурью, цветочных горшков, как раз и будет жилищем дона Чезаре. Но, право, синьор, я совсем не уверен, что он будет рад видеть вас.
— Это как ему угодно, но он меня примет!
— Может быть, он вас и примет, но будет ли он с вами разговаривать, вот в чем вопрос?
* * *
Дверь жилища дона Чезаре была из цельного дуба и вся утыкана большими железными гвоздями. Маттео Чекотти подумал, что мэр, вероятно, испытывает ностальгию по домам-крепостям старых времен. Он долго стучал, но никто не вышел, чтобы ему открыть; внутри не было слышно ни малейшего движения, которое свидетельствовало бы о том, что кого-то беспокоит поднятый им шум. Обернувшись, полицейский увидел полную женщину, которая, сложив руки на груди, следила за его действиями. Он окликнул ее:
— А что, там никого нет?
— Дон Чезаре никогда не уходит из дома.
— В таком случае почему он мне не отвечает?
— Ну и вопрос… Потому что ему не хочется!
Она явно считала инспектора умственно отсталым.
— Значит, мэра никогда нельзя видеть?
— С чего вы взяли?
— Ведь дверь заперта!
— Но не на ключ же!
И кумушка вернулась к себе, всем своим видом давая понять, что ей редко приходилось встречать более бестолкового типа, чем этот горожанин.
Раздосадованный, Маттео повернул защелку, и дверь отворилась без всяких помех. Он аккуратно закрыл ее за собой и направился в сторону большой светлой комнаты. Сидевший там в кресле с подлокотниками очень старый человек смотрел, как он приближается, и заговорил первым:
— Это вы подняли такой шум у моей двери?
— Да. Я…
— А если я вас отправлю в тюрьму?
— Меня? За что?
— За то, что вы входите к людям без их разрешения. Вы разбудили меня, молодой человек! А я этого не выношу, ясно?
— Прошу меня извинить!
— Извинения ничего не стоят!
— А вы чего хотели бы? Чтобы я вас убаюкал, что ли?
— О том, чего я хочу, я вам расскажу, после того как вы соизволите мне поведать о цели вашего прихода.
— Вы мэр Фолиньяцаро?
— Вы думаете, что без вас мне это было неизвестно? Я прекрасно знаю, что я мэр! Я был им, когда вас еще на свете не было! Но вы-то кто?
— Маттео Чекотти из уголовной полиции Милана.
— Терпеть не могу миланцев!
— А я не испытываю ни малейшей симпатии к жителям Фолиньяцаро!
— В таком случае поскорее возвращайтесь в Милан!
— Я туда с удовольствием вернусь, но только с убийцей Эузебио Таламани!
— Как вам угодно!
— Мне угодно, синьор, чтобы вы облегчили мою задачу.
— Кому из нас платят, вам или мне, за исполнение ваших обязанностей?
— Мне, конечно, но…
— Так исполняйте их и оставьте меня в покое!
За все время своей работы в полиции добросовестному Чекотти в первый раз довелось встретиться с подобным отношением.
— Позвольте вам заметить, синьор, что убитый был одним из жителей деревни, находящейся в вашем ведении!
— Я хотел бы, чтобы их уничтожили всех до единого! Все они мне досаждают, как и вы в настоящий момент!
— Если это так, то мне ничего не остается, как удалиться.
— Вот, наконец, здравая мысль!
— Но честно вас предупреждаю, что я буду вынужден сообщить моему начальству о вашем отказе сотрудничать с полицией.
— Если это вас позабавит… Я полагаю, что архивы переполнены донесениями на мой счет. Одним больше, одним меньше, не все ли равно? До свидания!
И, закрыв глаза, дон Чезаре заснул.
На улице та же женщина наблюдала за уходом Чекотти. Он поклонился ей и сказал:
— Представляю себе, как идут дела в Фолиньяцаро с таким мэром!
— Да бедняга ничем не занимается, всю работу делает его первый заместитель мэтр Агостини.
— А где живет мэтр Агостини?
— В последнем доме по направлению к Домодоссоле… Самый красивый дом в наших краях… Ведь дон Изидоро Агостини — нотариус!
Маттео рассердился на себя за то, что сразу не отправился к первому заместителю, который был сверх того непосредственно замешан в происшедшей драме как несостоявшийся тесть покойного. Но он счел более политичным поступить, как принято, навестив сначала мэра.
Нетрудно было догадаться, что хорошенькая девушка, которая ему открыла, и есть Аньезе, невеста убитого. Опустив глаза, она ответила на его приветствие, потом предложила ему следовать за ней и привела в кабинет отца, где и оставила. Как только мэтр Агостини узнал, кто его посетитель, он расстался со своей обычной чопорностью:
— Я слышал о вашем приезде и ждал вашего прихода. Полицейский рассказал о своем неудачном посещении дона Чезаре. Нотариус пожал плечами.
— Мы сохраняем его, как древнюю эмблему… как своего рода тотем… Но он ни во что не вмешивается. Впрочем, мы бы этого и не допустили! Вы сегодня же вечером увезете убийцу?
— Сегодня вечером? Нужно сначала его найти!
— Найти? Простите меня, синьор… я не понимаю.
— Позвольте вам сказать, что и я не понимаю. Вы знаете, может быть, кто виновник преступления?
— Еще бы! Конечно, знаю, как и все здесь.
— Вы сказали: все?
— Естественно. Слушайте…
И дон Изидоро рассказал обо всем: о тайной любви между Амедео и Аньезе, о своем решении выдать дочь за Таламани, которому он намеревался впоследствии оставить контору, о сопротивлении Аньезе, о криках и угрозах Амедео. Он добавил, что в день помолвки Амедео подрался в его присутствии с Эузебио и страшно его избил. Чтобы помешать ему прикончить клерка, нотариус побежал домой за оружием, но, вернувшись, нашел труп.
Маттео не мог опомниться от изумления. Следовательно, вся деревня насмешливо следила за его попытками обнаружить то, что все уже знали?
— Должен признаться, мэтр, что ваш рассказ привел меня в замешательство… Вы поставили в известность обо всем этом начальника карабинеров?
— Тимолеоне? Еще бы!
— В таком случае почему он мне об этом не сказал?
— Потому что Амедео Россатти, капрал карабинеров, его подчиненный.
Глава четвертая
Возмущенный испытанным унижением, инспектор Чекотти пересек Фолиньяцаро с быстротой космической ракеты. Он мчался вперед, сопровождаемый удивленными взглядами редких прохожих, никак не ожидавших от миланца подобной прыти. Маттео упивался планами страшной мести, направленной против коварного начальника карабинеров и всех сообщников убийцы. Только одно его беспокоило: почему преступный капрал спокойно остается на месте, вместо того чтобы бежать или прийти с повинной? Неужели он так убежден в своей безнаказанности, что воображает, будто может не опасаться уголовной полиции Милана, представляемой Чекотти? В таком случае, ему придется разочароваться!
Полицейский не вошел, а ворвался в участок. Иларио Бузанела, который спокойно стоял на часах у входа, едва не упал. Он был так поражен, что лишился всякой способности реагировать, и когда, наконец, опомнился, Маттео был уже в кабинете Тимолеоне, погруженного в милые его сердцу размышления о том, как приготовить сегодня поленту. По-тирольски, то есть с белым вином и анчоусами? Или же с ветчиной и швейцарским сыром? Он никак не мог решить. Шумное появление инспектора оторвало его от этих приятных забот, и он не скрыл, что шокирован невежливостью миланца, ведущего себя как завоеватель. Пока Чекотти старался отдышаться, перед тем как начать свою обвинительную речь против Рицотто, последний воспользовался его молчанием и начисто испортил ему весь эффект, спокойно спросив:
— А что, разве горит?
— Горит… где горит?
— Вот об этом я вас и спрашиваю, синьор.
— Я ничего не знаю, да мне и наплевать. Но мне далеко не наплевать на возмутительные вещи, происходящие в Фолиньяцаро!
— Возмутительные вещи в Фолиньяцаро? Вы удивляете меня, синьор!
— Ваше удивление вряд ли сильнее моего! В самом деле: начальник карабинеров, вместо того чтобы выполнять свой долг, идет на сговор с преступником и противостоит закону!
— И этот начальник карабинеров, синьор, это?..
— Кто же еще, как не вы!
Тимолеоне терпеть не мог сердиться, так как у него от этого поднималось давление и расстраивался желудок. Последнее обстоятельство приводило его в ужас, особенно, когда он собирался готовить обед.
— Вам придется объяснить ваши слова, синьор, и как следует, в противном случае я буду вынужден рассердиться.
— В самом деле?
— В самом деле.
— Хватит шутить, прошу вас! Почему вы не арестовали вашего капрала Амедео Россатти?
— А по какой причине я должен был его арестовать?
— Потому что он убил Эузебио Таламани.
— А вы это видели?
— Что я видел?
— Как Амедео убивал Таламани.
— Вот это вопрос! Вы, должно быть, думаете, что мы арестовываем убийцу лишь тогда, когда сами присутствуем при совершении преступления?
— Я уже скоро сорок лет как занимаюсь своей профессией, синьор инспектор, но никогда еще не арестовывал невиновного. Не надейтесь, что я начну это делать теперь, даже для того, чтобы угодить вам!
— Речь идет не о том, чтобы мне угодить, синьор, но об исполнении вашего долга, а ваш долг требует, чтобы вы арестовали убийцу Эузебио Таламани!
— Да, когда я буду знать кто он!
— Вы прекрасно знаете, что это Россатти!
— Значит, вы обвиняете меня во лжи?
Чекотти помолчал, понимая, что следует изменить тон.
— Посмотрим на вещи более спокойно, синьор. Я понимаю, что вы опечалены необходимостью арестовать одного из ваших людей, это нормально, это человечно… Но ведь Россатти любил Аньезе Агостини… Мысль о ее предстоящем браке с Таламани приводила его в ярость. Классический случай убийства из ревности.
— У нас в Фолиньяцаро, синьор, не убивают из-за таких вещей. Мы здесь добрые католики.
— Однако страсть…
— У нас находят облегчение в криках. Во всей Италии нет таких мощных голосов, как у наших женщин, не говоря уже об их репертуаре, который, по мнению знатоков, не имеет себе равных.
— Был бы рад вам поверить, но мэтр Агостини ведь почти присутствовал при этом убийстве!
— Судебные ошибки часто совершаются из-за таких «почти».
— Ну, хорошо… Я вижу, что вы отказываетесь оказать мне содействие!
— Я отказываюсь участвовать в несправедливости.
— Я это предвидел! Вернувшись в Милан с арестованным, я буду вынужден написать суровое донесение на ваш счет, синьор.
— Вы поступите так, как найдете нужным, синьор инспектор.
Чекотти не был готов к конфликту со своими обычными помощниками, карабинерами. Он не сомневался, что комиссар Рампацо, который терпеть не мог осложнений, будет очень недоволен и что это может ослабить впечатление от его удачи. Он сделал последнюю попытку:
— Скажите, синьор, мнение нотариуса вам безразлично?
— Абсолютно!
— Почему?
— Потому что меня не интересует мнение человека, продающего свою дочь.
— Позвольте мне подчеркнуть, что это вас не касается.
— Позвольте вам напомнить, что это говорите вы.
Маттео ясно почувствовал, что наткнулся на стену и что довольно простое дело, которое могло быть урегулировано в течение нескольких часов, грозило серьезно осложниться по вине толстяка-карабинера. Внезапно ему пришла в голову мысль, показавшаяся ему блестящей:
— Ведь вы сказали, синьор, что жители Фолиньяцаро — добрые католики?
— И я это охотно подтверждаю.
— Значит, если ваш священник посоветует вам оказать мне помощь в деле задержания Амедео Россатти, пойдете вы на это?
— Мне никогда не приходилось, даже ребенком, ослушаться дона Адальберто.
Чекотти сразу почувствовал, как с него сваливается огромная тяжесть. Он встал:
— В таком случае можете готовить камеру, чтобы запереть убийцу.
Маленькие глазки Тимолеоне совсем скрылись в жирных складках, которые при улыбке разбегались по его лицу.
— Ничто не могло бы доставить мне большего удовольствия, синьор инспектор.
* * *
Донна Серафина подозрительно разглядывала посетителя, которому только что открыла дверь. Он не показался ей антипатичным, но все новые лица внушали ей опасение. Она была недоверчивой по природе.
— Что вам угодно, синьор?
— Побеседовать с падре, если возможно.
— Вас как зовут?
— Маттео Чекотти. Я полицейский инспектор.
Экономка проворчала что-то невразумительное. Слово «полицейский» совсем ей не нравилось. Она испытывала к нему отвращение, укоренившееся в ней давно, еще в те времена, когда ей случалось воровать фрукты в садах и она пряталась от сельского полицейского.
— Я поднимусь к нему и спрошу, может ли он вас принять.
И она закрыла дверь перед носом инспектора. Он почувствовал себя обиженным, а его симпатии по отношению к Фолиньяцаро и его обитателям отнюдь не возросли.
— Эй! Парень!
Маттео завертел головой, чтобы удостовериться, что это обращение относится к нему.
— Обратите ваши взоры к небу, молодой человек!
Чекотти поднял голову и увидел бледное лицо дона Адальберто в ореоле белоснежных волос.
— Что вам нужно?
— Вы местный священник?
— А кто я по-вашему? Папа римский?
— Хорошо… Могу я с вами поговорить?
— О чем?
Этот странный диалог между небом и землей привел инспектора в замешательство. Было совершенно очевидно, что в Фолиньяцаро мало интересовались законом и его служителями!
— Это конфиденциальный разговор…
— Вы хотите исповедоваться?
— Нет, нет! Что за идея!
— Для священника самая нормальная, молодой человек, и позвольте вам сказать, что невозможно исповедоваться слишком часто! Так вы решитесь, наконец, сказать мне, что вам нужно?
— Это по поводу убийства Таламани. Я полицейский инспектор.
— А я к этому какое имею отношение?
— Как раз об этом я и хочу с вами поговорить.
— Вы, однако, упрямы. Ладно, я спускаюсь… хотя людское правосудие мало меня интересует!
Нищенский вид кухни, куда он вошел, внушил Чекотти какое-то чувство уважения. Дон Адальберто указал ему на стул и извинился:
— Мне нечего вам предложить.
— Я думал, что жители Фолиньяцаро очень благочестивы.
— Ну и что из этого? Это не делает их более богатыми, совсем напротив! Я слушаю вас.
Полицейский рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, и объяснил, что нуждается в помощи падре, для того чтобы убедить начальника карабинеров оказать ему содействие. Краткий ответ священника прозвучал, как щелканье бича:
— Нет!
— Но, падре…
— Нет! Мне не подобает вмешиваться в светские дела. Кроме того, я полностью одобряю поведение начальника карабинеров. Это в высшей степени порядочный человек. Амедео невиновен.
— Какие у вас основания для…
— Его первое причастие состоялось здесь.
Растерявшись, Маттео попытался найти логическую связь между этой религиозной церемонией и невозможностью совершить преступление спустя пятнадцать лет.
— Я не понимаю, какое…
— Вы не знаете Амедео, а я его знаю. Вот и все объяснение. Этот юноша неспособен на поступок, в котором вы позволяете себе обвинять его без всяких оснований!
— Но нотариус…
— Претенциозный кретин! Он ненавидит Амедео, боится, что тот отнимет у него дочь, но, нравится это ему или нет, он ее все равно отнимет, так как то, что написано на небесах, не может стереть этот позер Агостини!
Чекотти почувствовал, что начинает сердиться. В его тоне послышалось раздражение.
— Меня удивляет, падре, что вы на стороне преступника!
— Я на стороне невиновного, молодой человек! Даже если бы вы были правы и Амедео забылся настолько, что посягнул на жизнь своего ближнего, мне бы не следовало его выдавать!
— Однако юридические законы…
— …ничто по сравнению с небесными. Вы утомляете меня, молодой человек. С меня хватит. Серафина, проводи его.
И Маттео очутился на улице, прежде чем осознал, что с ним происходит. Он не сразу понял, что этот ничтожный священник попросту выставил его за дверь, его, инспектора миланской уголовной полиции! Но тут же дикая ярость, унаследованная, вероятно, Чекотти от одной из своих далеких прабабок, согрешившей с каким-нибудь мавром, охватила его. Ах так, значит весь мир объединился против него, чтобы помешать ему арестовать убийцу? Ну что же! Маттео Чекотти еще покажет этим невежам из Фолиньяцаро, где раки зимуют! Он обойдется без падре! Он обойдется без начальника карабинеров! Пусть только нотариус официально подтвердит свои слова, а Аньезе покажет, что ее возлюбленный поклялся при ней убить своего соперника, и дело будет в шляпе! Полный жажды мщения, полицейский снова повернул к дому нотариуса.
* * *
Мэтр Агостини не видел никаких препятствий к тому, чтобы дать письменные показания, не оставляющие сомнений в виновности Амедео. После того как он отдал их полицейскому, тот попросил его прислать свою дочь.
Пришла Аньезе, все такая же красивая, все так же похожая на маленькую девочку, которая боится, что ее будут бранить.
Маттео обратился к ней:
— Синьорина, я приехал в Фолиньяцаро для того, чтобы арестовать убийцу вашего жениха. Надеюсь, я вправе рассчитывать на вашу помощь?
— Нет.
Все начиналось сначала!
— А почему, собственно говоря?
— Потому что я ненавидела Эузебио и тот, кто убил его, принес мне избавление.
— Синьорина, позвольте выразить вам мое недоумение по поводу таких речей. Впрочем, я пришел сюда не для того, чтобы читать вам мораль, а чтобы попросить вас рассказать мне об Амедео Россатти.
— Амедео…
Она произнесла это имя каким-то воркующим тоном, который ясно свидетельствовал о ее страсти.
— Амедео… Я люблю его…
— Об этом, представьте себе, я догадываюсь, но скажите, что это за человек?
— Самый красивый, самый добрый, самый нежный, самый преданный…
Чекотти сухо прервал эти дифирамбы:
— Благодарю вас, синьорина.
И он покинул дом Агостини, ворча про себя, что нельзя верить тем, кто уверяет, будто от любви девушки умнеют.
Маттео рассказал начальнику карабинеров о результате своих посещений, о странном приеме, оказанном ему доном Адальберто. Тимолеоне не мог удержаться от смеха. Желая восстановить свой престиж, Чекотти заметил, что письменных показаний нотариуса вполне достаточно для того, чтобы арестовать капрала. Начальник карабинеров обязан помочь ему в этой операции, в противном случае, он будет вынужден немедленно позвонить в Милан. Рицотто вытаращил глаза:
— А вы знаете, где живет Амедео?
— Нет.
— В верхнем конце деревни!
— Ну и что?
— Вы хотите, чтобы мы туда полезли в это время дня?
— А что в этом особенного?
— Да ведь уже почти полдень!
— Ну и что?
— Во-первых, солнце сейчас печет слишком сильно для того, чтобы подниматься в гору, а во-вторых, я занят приготовлением обеда. Думаю приготовить поленту с ветчиной и сыром… Не пообедаете ли вы со мной?
Прежде чем ответить, полицейский внимательно посмотрел на Тимолеоне, стараясь угадать, не издевается ли тот над ним. Но нет, было ясно, что начальник карабинеров говорит совершенно серьезно.
— Странное же у вас представление о ваших обязанностях, синьор!
— Нисколько, нисколько! Это вы, горожане, всегда торопитесь, когда никакой спешки нет. Амедео у своей матери, это его выходной день, а кроме того, он невиновен…
— Это вы так говорите!
— Да, это я так говорю, синьор инспектор. Почему вы думаете, что сейчас он скорее может убежать, чем сегодня утром или прошлой ночью? С другой стороны, как вы сами понимаете, для приготовления поленты требуется время. Когда вы достигнете моего возраста, синьор, вы поймете, что ничто на свете не имеет большого значения, за исключением того, что вы едите, что вы пьете и о чем вы думаете. И уж вовсе никакого значения не имеет то, что вас заставляют делать!
…Сидя друг против друга, они ели поленту. Чекотти честно признался, что никогда еще она не казалось ему такой вкусной. Это замечание привело Тимолеоне в самое благодушное настроение. Они осушили бутылку грумелло, закурили по сигаре и единодушно решили, что с задержанием Амедео Россатти можно подождать, пока они переварят обед. Согревая в правой руке стакан с коньяком, который Рицотто достал из заветного угла, они лениво беседовали. Оба испытывали сонливость, и только присутствие другого мешало им поддаться ей.
— А что вы думаете о нашей Аньезе, синьор инспектор?
— Просто дурочка! Только и знает, что превозносит своего Амедео!
— Она любит его…
— Это не оправдание!
— О, напротив! Любовь делает нас восторженными, заставляет все видеть в розовом свете… Мы наделяем тех, кто нам нравится, всеми добродетелями… Глаза у нас раскрываются только тогда, когда уже слишком поздно…
— В таком случае мне, должно быть, повезло, потому что у меня они раскрылись вовремя!
Рицотто недоверчиво посмотрел на него.
— Неужели вы хотите этим сказать, синьор инспектор, что никогда не были влюблены?
— Был, но всего один раз. И больше не собираюсь! Та, которая поймает меня в свои сети, еще не родилась!
— Кто знает, синьор?
— Можете мне поверить!
* * *
Около четырех часов пополудни Тимолеоне, сопровождаемый Чекотти, поднимался к дому Элоизы. Он предварительно договорился с полицейским, что тот не наденет на Амедео наручников и не увезет его в Милан в этот же вечер. Перед уходом начальник карабинеров незаметно поручил Бузанеле пойти к дону Адальберто и сообщить ему обо всем.
Поднимаясь, Рицотто ворчал, что недостойно христианина заставлять человека его возраста и комплекции карабкаться на такую высоту. Маттео ответил, что убивать людей тоже не является христианским поступком.
Встретила их Элоиза. Догадываясь о катастрофе, она решила сразу перейти в наступление:
— Тимолеоне! Ты снова за свои глупости, а?
Услышав еще с порога это неожиданное восклицание, Чекотти почувствовал, как рушатся его былые представления об уважении, которым пользуются карабинеры. Не веря собственным ушам, он пассивно следил за словесным поединком между хозяйкой дома и Рицотто.
— Элоиза! Со мной инспектор миланской уголовной полиции!
— А мне-то что?
— Не об этом речь. Синьор убежден в виновности твоего сына.
— Если он так думает, то он попросту глуп!
Маттео так и передернуло. Значит, судьбе угодно было, чтобы в этом Фолиньяцаро, о существовании которого он и не подозревал всего несколько дней назад, рассыпалось в прах все, что он уважал, все, во что он верил!
— Выбирай слова, Элоиза! Как бы тебе не пришлось отправиться в тюрьму вместе с сыном!
— А кто это собирается заключить в тюрьму моего Амедео, хотела бы я знать?
— Синьор инспектор, конечно!
— В таком случае я его убью!
И она побежала за ружьем. Когда она вернулась, Чекотти, с трудом проглотив слюну, произнес, запинаясь:
— Си… синьор… почему… почему… вы ничего не делаете?
— Вспомни, Элоиза, что ты чуть меня не убила!
— И я сожалею, что не сделала этого, подлый ты человек! Предатель! Иуда!
— Продолжай в том же духе, и я протащу тебя в наручниках через всю округу!
Привлеченный шумом, Амедео спустился с лестницы.
— Что здесь происходит?
Элоиза бросилась к сыну и сжала его в своих объятиях.
— Эти чудовища хотят увести тебя в тюрьму!
— Почему?
Инспектор решил, что пора взять слово.
— Потому, что вы подозреваетесь в убийстве Эузебио Таламани.
— Это неправда!
— Придется это доказать. Я обещал вашему начальнику не надевать на вас наручников.
Молодому человеку удалось убедить мать спокойно дожидаться развития событий, и он вышел со своим эскортом. Глядя с порога, как они удаляются, синьора Россатти, вся в слезах, криками выражала свое отчаяние и возмущение:
— Тимолеоне, ты чудовище! Небо покарает тебя! Ты отрываешь от матери ее единственного сына! Пусть будет проклят день, когда ты родился! Ублюдок! Позор для всего человечества! Если с моим Амедео что-нибудь случится, я задушу тебя собственными руками, убийца! Похититель детей!
Выбившись из сил и с трудом переводя дыхание, она бросила им вслед последнее оскорбление:
— Еретики!
Она не совсем понимала, что означает это слово, но помнила, что дон Адальберто всегда им пользовался, когда хотел заклеймить врагов Христа.
Спускаясь по тропинке и слушая все удаляющийся голос донны Элоизы, Маттео Чекотти поинтересовался:
— А что, в Фолиньяцаро все женщины такие?
— Все.
* * *
Тимолеоне Рицотто приказал Бузанеле отвести капрала в камеру. Карабинер заколебался. Речь шла о совершенно новом явлении, непредусмотренном уставом. Открыв дверь в помещение для проштрафившихся, он стоял на вытяжку все время, пока Амедео проходил в камеру и, когда тот присел на соломенный тюфяк, спросил:
— А теперь что я должен сделать?
— Ты выйдешь и запрешь дверь на ключ.
— Этот ключ нужно отдать вам?
— Нет, оставишь у себя.
— Пусть лучше будет у вас, а то я обязательно его потеряю.
Маттео Чекотти страшно рассердился, когда, для того чтобы войти в камеру, ему пришлось взять ключ через окошечко из рук самого узника. Он высказал Бузанеле, что он о нем думает, но тот возмутился:
— Ведь ответственность за ключ лежит на капрале!
— Не тогда, когда он сам заключен в тюрьму!
— Как я мог догадаться! Ничего подобного раньше не бывало! А теперь сами возьмите этот ключ, спрячьте его и оставьте меня в покое!
Решив таким образом проблему, Иларио Бузанела повернулся на стуле и подставил лицо солнцу, ясно давая понять, что его ничто больше не интересует в этом мире, где заключают в тюрьму капралов карабинерских подразделений.
Инспектор как раз собирался приступить к первому допросу, когда в участок вошел дон Адальберто и прямо направился к камере.
— Вот и я, сын мой, явился по твоей просьбе.
Россатти был слегка удивлен этим сообщением, но постарался не подать виду.
— Ты хочешь исповедаться, как мне сказала твоя мать, эта святая женщина?
Капралу все же не удалось полностью скрыть свое недоумение, узнав одновременно о своем желании исповедаться и о внезапном причислении донны Элоизы к лику святых.
— О да, падре.
Чекотти попытался вмешаться.
— Позвольте, падре, я должен его допросить и…
Дон Адальберто смерил его презрительным взглядом:
— В Фолиньяцаро, молодой человек, никто себе не позволяет пройти раньше меня!
— Но я здесь представляю закон!
— А я — Бога! Это не одно и то же, как по-вашему? Вы знаете, вероятно, что исповедь происходит без свидетелей?
— Безусловно, но…
— В таком случае, будьте любезны выйти, прошу вас. Я позову вас, как только закончу.
Вне себя от злости, Чекотти вынужден был уступить. Как только он удалился, дон Адальберто сел рядом с заключенным:
— Амедео, сын мой, можешь ты поклясться здоровьем твоей матери, здоровьем Аньезе, что ты непричастен к смерти этого дурня Таламани?
— Клянусь вам, падре.
— Я верю тебе.
— Но поскольку это не я, кто все-таки убил его?
— У меня есть
на этот счет одно предположение, но для того, чтобы в этом разобраться, нужно время, и мы вместе постараемся его выиграть.
— Каким образом?
— Ты — тем, что не будешь ничему удивляться… Я хочу сказать, что бы ни произошло… Ты будешь хранить полное молчание, не будешь ничего ни подтверждать, ни отрицать… Можешь взывать к чести, к собственной совести, в общем, к чему сам захочешь. А для начала вот как ты должен себя вести с этим миланцем, который намеревается преподать нам урок…
И дон Адальберто долго что-то шептал на ухо Амедео, который кивал головой в знак понимания. Закончив свои инструкции, священник поднялся, благословил Амедео и объявил громким голосом:
— Оставайся с миром, сын мой, ты чист от греха.
По другую сторону двери Маттео нетерпеливо ждал своей очереди. Выйдя, дон Адальберто улыбнулся ему:
— Передаю его вам, сын мой, белым, как снег!
— Это с вашей точки зрения!
— Единственной, которая имеет значение, молодой человек. А раз я уже здесь, не хотите ли, в самом деле, исповедаться?
Чекотти еле удержался, чтобы не ответить грубостью.
— Нет, спасибо.
— Жаль… Ведь ваша совесть не может быть совершенно спокойна. Разве можно преследовать невинных людей и не испытывать при этом угрызений?.. Очень сожалею, что не могу больше оставаться в вашей компании, но мои обязанности… Хотя вы, кажется, и не принимаете их всерьез…
Полицейский был больше не в силах сдерживаться. Его уважение к религии было сметено, как плотина под непреодолимым напором воды.
— Падре!.. Я был воспитан в католической вере. Я чувствую себя добрым христианином… Я готов повиноваться вам, когда нахожусь в церкви, но вне ее, прошу вас, оставьте меня в покое!
— Для доброго христианина вы не слишком-то почтительны, как по-вашему?
Чекотти закрыл глаза, сжал кулаки, стиснул зубы, но все же ухитрился пробормотать:
— Уходите, падре!.. Уходите или я арестую вас!
Дон Адальберто расхохотался.
— Миланский шутник! Впрочем, я и сам люблю иногда хорошую шутку… До свидания, желаю повеселиться…
Полицейский прохрипел:
— Повеселиться!..
— И не забывайте, что я жду вас в любой день на исповедь. Он бодро удалился, оставив Маттео на грани нервного срыва. Тимолеоне, который присутствовал при этой сцене, спрятавшись за полуоткрытой дверью, приблизился к нему.
— Ну и тип этот дон Адальберто, вы не находите?
— Только вас не хватало! Хоть вы-то оставьте меня в покое!
И он бросился в камеру. Амедео, растянувшись на постели, курил и мечтал об Аньезе. Бузанела, в ужасе от того, что с его начальством осмеливаются разговаривать в таком тоне, замер в ожидании взрыва. Рицотто, однако, удовольствовался тем, что заметил, обращаясь к нему:
— Нельзя сказать, что работники уголовной полиции хорошо воспитаны, как ты считаешь?
В камере заключенный насмешливо посмотрел на Чекотти. Тот долго молчал, стараясь прийти в себя. Он твердо решил увезти Амедео в Милан в этот же вечер, несмотря на обещание, данное им Тимолеоне. Фолиньяцаро со своими дикарями-обитателями успело ему смертельно надоесть. Он начал мягко:
— Вы должны знать, что в тюрьме запрещается курить.
— Но ведь я еще не обвиняемый, не так ли?
— Мне кажется, долго ждать не придется!
— У каждого свое мнение, синьор.
— Амедео Россатти, признаетесь ли вы в убийстве Эузебио Таламани?
— Нет.
— Естественно!
— Естественно…
— Но вы не отрицаете, что он был вашим соперником?
— Моим соперником?
— Ведь он собирался жениться на вашей любимой девушке?
— На ком?
— Как это на ком? На Аньезе Агостини, конечно!
— Синьор инспектор, вы, вероятно, знаете поговорку: одну потеряешь, десять других найдешь.
— В самом деле?
— В самом деле.
— Амедео Россатти, подумайте хорошенько, прежде чем ответить: вы смеетесь надо мной, да или нет?
— Я бы никогда не позволил себе, синьор!
— И правильно поступаете. Если, как вы утверждаете, вопреки всеобщему мнению, Аньезе Агостини вас особенно не интересовала, почему же вы избили Эузебио Таламани так сильно, что он потерял сознание и остался лежать на земле?
— Я?
— Да, вы!
— Я и не прикоснулся к Таламани.
— Что?
— Повторяю, синьор инспектор: я и пальцем не тронул Таламани.
— Но послушайте, несчастный! Мэтр Агостини присутствовал при вашей драке!
— По его словам!
— Вы намекаете на то, что он лжет?
— А почему бы и нет?
— С какой же целью?
— В Фолиньяцаро любой вам скажет, что он меня ненавидит, потому что я встречался с его дочерью.
— По вашим словам, вы не любили эту молодую особу?
— Можно подумать, что встречаются только с теми, кого полюбили навеки!..
Амедео мысленно попросил прощения у своей Аньезе за это предательство.
— Значит, вы выбрали такой способ защиты? Он ни к чему не приведет, уверяю вас, так как у меня в кармане письменные показания синьора Агостини!
— Ну что ж! Выходит, мы в равном положении: его слова против моих!
— Его приводили к присяге!
— Меня тоже.
Раздраженный Чекотти начинал понимать, что пустая формальность, как ему казалось сначала, перерастает в трудноразрешимую проблему. Он не мог обвинить Россатти в убийстве и увезти его в Милан на основе одних только показаний мэтра Агостини. Нужно было снова приниматься за расследование и искать свидетелей привязанности Амедео к Аньезе и ненависти, которую он испытывал по отношению к сопернику.
— Если вы воображаете, что сумеете выпутаться таким путем, то вы ошибаетесь!
— Выпутаться откуда?
— Из истории, в которой запутались.
— В которую вы меня впутали, синьор инспектор! На основании голословного обвинения ревнивого отца вы отправляете в тюрьму капрала карабинерских подразделений… Я совсем не уверен, что ваши действия по отношению ко мне будут одобрены в высших сферах!
* * *
В то время как разворачивался этот словесный поединок, дон Адальберто зашел к синьорине Карафальда, старой деве, заведующей маленьким почтовым отделением в Фолиньяцаро. Он очень любезно с ней заговорил, что не могло не удивить пожилую даму, давно знакомую с его далеко не мягким характером.
— Джельсомина, я знаю, как ты привязана к церкви и предана ее служителю. Именно во имя церкви я хочу попросить тебя о большой услуге…
— Если я смогу вам ее оказать…
— Несомненно, дочь моя, несомненно, тебе понадобится только чуточку доброй воли. Так вот: я полагаю, что из Фолиньяцаро совсем немного писем уходит каждый день?
— Совсем немного, падре.
— А ты случайно не записываешь адреса отправителей?
— Обязательно, падре. Во-первых, потому что их так мало, а во-вторых, на случай жалоб. В большом почтовом отделении это было бы невозможно, но здесь…
— И эти адреса, Джельсомина, славная моя Джельсомина, куда ты их записываешь?
— В специальную тетрадку.
— Джельсомина, милая дочь моя, мог бы я заглянуть в эту тетрадку?
— Дело в том, падре, что это запрещено!
— Дитя мое, неужели ты в самом деле думаешь, что существует нечто запретное для Господа Бога, чьим представителем в Фолиньяцаро я являюсь?
В сердце старой барышни началась жестокая борьба между привязанностью к церкви и привычным послушанием по отношению к властям. С присущим ему хитроумием дон Адальберто постарался склонить чашу весов в свою сторону.
— Послушание властям — это доброе дело, почтенное дело, но в конечном итоге оно может принести только небольшую пенсию, тогда как послушание Богу обеспечивает вечную жизнь в раю!
Джельсомина нашла аргумент в высшей степени убедительным и приняла решение в пользу будущих благ.
— Но ведь никто об этом не узнает, падре, не так ли?
Дон Адальберто сделал вид, что он шокирован.
— Джельсомина!.. Открыть эту тетрадь — для меня то же самое, что выслушать исповедь людей, чьи имена здесь записаны.
Она пошла за тетрадкой.
— Только знаете ли, падре, здесь не всегда указано имя отправителя.
— Не имеет значения! У нас не так уж много людей, умеющих писать…
В то время как синьорина Карафальда следила, не покажется ли какой-нибудь посетитель, священник знакомился, удовлетворенно ворча, с корреспонденцией, отправленной из Фолиньяцаро за последние шесть месяцев. Он быстро с этим справился, закрыл тетрадь и, прежде чем вернуть ее законной владелице, заявил:
— Со своей стороны, Джельсомина, забудь о моем посещении… Мы одни, ты и я, будем знать о том, что мы тайно потрудились во славу Господа или, по крайней мере, Его учения.
— Аминь.
— Джельсомина, я горжусь тобой. В следующий вторник я бесплатно отслужу панихиду по твоей покойной матери. При жизни это была славная женщина, и я уверен, что теперь ее место среди избранных. Сверх того я поставлю свечу за восемь лир в память всех усопших Карафальда.
Вне себя от благодарности, Джельсомина всплеснула руками.
— О, благодарю, падре.
— Услуга за услугу… А восемь лир?
— Простите?
— Я сказал, свеча за восемь лир.
— Но я подумала…
— Панихида будет бесплатной, дочь моя, но не свеча.
* * *
Весь этот день Маттео Чекотти бегал, высунув язык, стараясь собрать показания против Россатти. Ему помогал нотариус, возмущенный тем, что Амедео солгал. Инспектор допросил Аньезе в его присутствии, и под безжалостным взглядом отца ей пришлось сознаться, что капрал уверял ее в своей безумной любви, что они поклялись друг другу стать мужем и женой и что Амедео, доведенный до отчаяния, говорил, что убьет всякого, кто будет препятствовать их счастью. Полицейский был очень доволен. Дон Изидоро сопровождал его повсюду, и авторитет нотариуса, а также деньги, которые многие были ему должны, заставили людей, хорошо относившихся к Амедео, признать тем не менее, что они знали о любви юноши к Аньезе Агостини. Правда, никто не смог подтвердить, что между карабинером и Таламани произошла драка: единственным ее свидетелем был нотариус. Но Чекотти считал, что его протоколы и без того достаточно убедительны для оправдания ареста. Горячо поблагодарив мэтра Агостини, он вернулся в участок и сказал Россатти, что собранные им показания заставляют его продлить арест обвиняемого до перевода в Милан на следующее утро. Амедео выслушал это сообщение с безмятежным видом.
— Вы совершаете грубую ошибку, синьор.
— Тем хуже для меня, мой друг. Я беру риск на себя!
Маттео объявил начальнику карабинеров, что возлагает на него ответственность за дальнейшие события. Если, когда он придет за Амедео, того вдруг не окажется в камере, то вместо него он увезет с собой самого Рицотто и ему придется дать объяснения кому следует. Потом он позвонил комиссару Рампацо, чтобы сообщить ему о своем успехе и скором возвращении. Комиссар сдержанно поздравил его; победа Чекотти заставила его пожалеть, что он не поручил этого задания своему любимцу, Ансельмо Джаретте. Довольный проведенным днем, Маттео отправился к Онезимо Кортиво, скудно поужинал, потом, поднявшись в свою комнату, лег спать и уснул сладким сном победителя.
Тем временем Тимолеоне Рицотто успел посовещаться с доном Адальберто. Священник закончил вечер у синьоры Габриелли, портнихи, где долго беседовал с Терезой, ее хорошенькой дочерью.
* * *
Проснувшись на следующее утро и посмотрев на небо, Чекотти решил, что оно никогда еще не было таким голубым и прекрасным. Скромная комната, где он находился, показалась ему очень милой в своей простоте. Он закинул руки за голову и наслаждался первыми минутами дня, который должен был стать для него триумфальным. Эти воображалы из Фолиньяцаро думали, что им удастся его провести, но он утрет им нос. Он дождется середины дня и только тогда пойдет за заключенным и посадит его в свою машину, так что каждый сможет полюбоваться спектаклем. Его реванш должен быть полным и всенародным. Маттео колебался только в одном, следует ли ему пойти на исповедь к падре с целью доказать, что он способен перехитрить его вместе со всей его паствой, включая наглого кабатчика, жирного начальника карабинеров, желчного мэра и идиота-карабинера, не говоря уже, само собой разумеется, о синьоре Амедео Россатти, который позволил себе издеваться над инспектором миланской полиции!
В пустом кафе Онезимо меланхолически перетирал стаканы. Глаза его блуждали в дымке, оставшейся, вероятно, от множества выпитых накануне им и его старыми друзьями стаканчиков виноградной водки. Он сделал вид, что не заметил прихода Чекотти, но полицейский не собирался щадить ни одного из жителей Фолиньяцаро, оскорбивших его достоинство. Любезно улыбаясь, он подошел к хозяину кафе:
— Прекрасный день, не правда ли?
Тот пожал плечами.
— Да, если угодно…
— А знаете, Фолиньяцаро начинает мне нравиться.
Онезимо неуверенно посмотрел на Маттео.
— Мне трудно в это поверить…
— Тем не менее, это так… На первый взгляд эта деревушка, действительно, кажется не слишком приветливой: горы, ветер, который практически не перестает дуть, и, наконец, неожиданная для меня нелюбезность ваших сограждан… Скажите, они всегда такие?
— Это зависит от того, с кем они имеют дело.
Чекотти пропустил намек мимо ушей. Он твердо решил, что никому не позволит испортить себе настроение.
— Вот всегда так бывает: только начинаешь по-настоящему знакомиться с людьми, как приходится уезжать…
Он вздохнул. Кортиво поинтересовался:
— Вы хотите сказать, что покидаете нас?
Инспектор снова лицемерно вздохнул.
— К сожалению… Моя миссия окончена, ничто больше не задерживает меня в Фолиньяцаро.
Полицейский с удовлетворением отметил, что Онезимо попался на удочку.
— Так ваша миссия окончена?
— Да, я задержал убийцу Таламани и мне остается только отвезти его в Милан. Передам его в руки властей и сразу займусь другим делом. В моем ремесле, увы, работы хватает.
Он помолчал как настоящий актер, вздохнул в третий раз, потом взволнованно произнес:
— Бедный парень… Загубить так свою жизнь, утратить свободу, может быть, на двадцать лет… Провести всю молодость в тюрьме, и все это из-за какой-то девицы, которая месяца через два, вероятно, и думать о нем забудет… Как это грустно…
— Да, это грустно.
Хозяин кафе говорил искренне, и Чекотти стало немного стыдно за комедию, которую он перед ним разыгрывал.
— До свидания, синьор Кортиво… Я уеду часам к трем… Я не изверг какой-нибудь и не помешаю ему проститься с матерью, бросить последний взгляд на свой дом, куда он, несомненно, больше не вернется… Бывают моменты, когда мое ремесло становится мне в тягость.
Закрывая за собой дверь кафе, Маттео не сомневался, что Онезимо тут же бросится к своим друзьям и что меньше чем через час все Фолиньяцаро будет в курсе событий.
* * *
В помещении карабинеров стоял приятный запах кофе и поджаренного хлеба. Амедео завтракал в своей камере в обществе Тимолеоне. Приоткрыв дверь, инспектор насмешливо спросил:
— Не помешаю?
Его приход, казалось, нисколько не смутил карабинеров. Тимолеоне предложил ему кофе с молоком, но он с достоинством отказался.
— Не хочу вам портить аппетит, Россатти, но у меня для вас плохие новости.
Капрал с виду не слишком расстроился.
— Меня не удивляет, синьор, что это говорите вы.
— Мэтр Агостини подтвердил свои показания; Аньезе признала, что вы неоднократно клялись в ее присутствии убить вашего соперника, если она подчинится воле отца; у меня имеется, наконец, целый список лиц, свидетельствующих о вашей любви к синьорине Аньезе. Если хотите, я их перечислю.
Рицотто тут же заметил:
— Жители Фолиньяцаро, синьор инспектор, обладают пылким воображением.
— Не сомневаюсь в этом, но когда воображаемое совпадает с действительностью, оно становится правдой. Мне кажется, следует предупредить мать этого парня, что я увожу его в Милан.
Тимолеоне воздел руки к небу.
— Синьор инспектор, я знаю Элоизу с того дня, как она впервые открыла глаза на этот мир. Так вот: если она узнает о вашем намерении, она устроит в Фолиньяцаро революцию, а так как вы лишили меня моего капрала, то нас теперь только двое. В этих условиях я не могу больше отвечать за порядок. Когда вы собираетесь уехать?
— Около трех часов, я полагаю.
— Надо поразмыслить… Если вы не возражаете, я удалюсь ненадолго, чтобы получше сконцентрироваться и все обдумать.
— Что именно, синьор?
— Как что? Меню сегодняшнего обеда, конечно!
— Синьор, ведь я говорю о серьезных вещах!
— Я тоже, синьор. Подумайте сами: сейчас всего без пятнадцати десять, следовательно, я успею еще приготовить для вас такую фаршированную телячью грудинку, что пальчики оближешь! Бузанела!
— Да, шеф?
Вскочив со стула, к которому он прилип как улитка к раковине, карабинер примчался на зов.
— Возьми листок бумаги и запиши то, что я тебе скажу.
— Слушаюсь!
— 700 граммов телячьей грудинки… Впрочем, запиши лучше килограмм… По 150 граммов жирной и постной ветчины… Смотри хорошенько, Иларио, чтобы тебе не всучили один жир, иначе будешь иметь дело со мной, понял? 150 граммов болонской колбасы… 50 граммов пармезана… два яйца… головку чеснока… Пучок петрушки. Это все.
Амедео, который до этого сидел не открывая рта, запротестовал:
— А шалфей, шеф? Вы забыли шалфей! Моя мать всегда его добавляет.
Тимолеоне подскочил, будто его ужалила оса.
— Я уважаю твою мать, Амедео, но вынужден тебе сказать, что хотя она хорошо готовит, но душу в это не вкладывает!
— Не могу вам позволить, шеф…
— Позволяешь ты мне или нет, это ничего но меняет! Элоизе всегда недоставало вдохновения, которое создает великих кулинаров! А у меня оно есть, можешь не сомневаться. Значит, я знаю, о чем говорю, и не такому сопляку, как ты, учить меня готовить фаршированную телячью грудинку! Бузанела, даю тебе двадцать минут, чтобы принести все это!
— Слушаюсь!
Карабинер устремился к двери, захватив по дороге корзинку. Рицотто заключил, улыбаясь:
— Славный Иларио, какой он преданный…
Маттео не верил своим глазам. Этот начальник карабинеров, думающий только о еде… Этот парень, обвиняемый в убийстве, которого волнуют кулинарные проблемы… Впору было спросить себя, сохранился ли у этих людей здравый смысл? Принадлежало ли Фолиньяцаро к нормальному миру, где мужчины и женщины боятся окончить свою жизнь в тюрьме? Эти карабинеры выглядели такими искренними, что Трудно было заподозрить, будто они играют всю эту комедию с единственной целью посмеяться над ним. Он сделал попытку вернуть их на землю.
— Синьор, вы удивляете меня! В то время как правосудие отнимает у вас вашего капрала, с которым вас, как кажется, связывает большая дружба, вы думаете только о приготовлении обеда.
— Аппетит не имеет никакого отношения к чувствам, синьор!
— А что касается вас, Россатти, то вы, по-видимому, не понимаете, что вам грозит тюремное заключение, по крайней мере, на двадцать лет?
— Ну и что? По вашему мнению, я должен на этом основании объявить голодовку?
Не зная, что на это ответить, Чекотти молчал. Тимолеоне дружелюбно похлопал его по плечу и попросил помочь ему в приготовлении обеда:
— Наденьте-ка фартук и постарайтесь помельче нарубить петрушку, чеснок, колбасу и ветчину.
* * *
Не в характере Маттео было хитрить с самим собой. Поэтому он не мог не признать, что замечательно пообедал. Несмотря на выпитое вино и коньяк, во рту у него сохранялся тонкий вкус созданного Тимолеоне фарша. Инспектор пребывал в том неестественном состоянии, когда дух как будто отделяется от тела, отяжелевшего от съеденной пищи. Начальник карабинеров спал, сидя напротив него, а Амедео, вопреки самым элементарным правилам военной дисциплины, мирно подремывал. Из караульного помещения доносился храп Иларио Бузанелы, разомлевшего от жары. Вдалеке, а может быть, поблизости — Чекотти не в состоянии был определить — пробило два часа. Полицейский встряхнулся, как собака, выходящая из воды, и постучал по столу, чтобы разбудить своих сотрапезников. Те подняли отяжелевшие веки, приоткрыв полные упрека глаза: эти миланцы никогда не научатся жить, как подобает людям! Храп в караулке прекратился. Среди наступившей тишины раздался заплетающийся голос Маттео:
— С весельем покончено, начинаются серьезные дела… Через час мы уезжаем, Россатти… Может быть, пора предупредить вашу мать?
— Она уже давным-давно все знает, синьор.
— Каким образом?
— Можете не сомневаться, что из деревни к ней были отправлены гонцы.
— В таком случае, почему она не пришла до сих пор? Где она?
Тимолеоне вмешался в разговор:
— Вы, действительно, хотите знать, где она, синьор? Ладно… Иларио!
Бузанела поторопился явиться.
— Скажи синьору инспектору, где находится Элоиза.
— Она на миланской дороге, в двух метрах от деревни, сидит со своим ружьем за насыпью.
Полицейский удивился.
— Что это ей пришло в голову? Зачем она там сидит?
— Она ждет вас.
— Меня? Но почему?
— Она собирается вас застрелить.
И Иларио любезно пояснил:
— А как же! Ведь вы отнимаете у нее сына, вот она и… понимаете?
Тимолеоне, со своей стороны, счел необходимым добавить:
— Можете себе представить, на самом солнцепеке?!
Чекотти явно было не до шуток.
— Вот что я представляю себе: вы знаете о приготовленной для меня западне и не принимаете никаких мер! По-вашему, вероятно, совершенно естественно, что на мою жизнь покушаются!
— Иларио!
— Шеф?
— Пойди и скажи Элоизе, чтобы она перестала валять дурака или я рассержусь! И отнеси ей остатки грумелло. Бедняжка, должно быть, испытывает жажду.
— Но послушайте, шеф… Мне придется пройти через всю деревню!
— Ну и что?
— Ведь жарко!
— Иларио Бузанела, считаешь ты себя карабинером, да или нет?
— Да, шеф!
— В таком случае замолчи и исполняй приказ.
— Слушаюсь, шеф.
Иларио удалился, волоча ноги. Чекотти встал.
— Благодарю за обед… Амедео Россатти, можете вы дать мне слово, что не попытаетесь убежать! Тогда я не надену на вас наручников.
— Даю вам слово, синьор инспектор.
— В таком случае, собирайтесь.
В тот самый момент, когда двое из собутыльников — полицейский уже был на ногах — с трудом поднимались со своих мест, стараясь принять вертикальное положение, в участок с шумом ворвалась вдова Габриелли, таща за собой свою очаровательную дочь Терезу, которая казалась довольно растрепанной. Тимолеоне и его гости еще не успели раскрыть рта, как синьора Габриелли начала кричать:
— Где этот полицейский из Милана?
Тимолеоне пальцем указал на Маттео. Одним движением руки вдова притянула дочь к себе, потом буквально швырнула ее на грудь инспектора. Последний только успел подумать: какую еще дьявольскую шутку задумали с ним сыграть проклятые обитатели Фолиньяцаро? Но в этот миг опять раздался голос синьоры Габриелли:
— Обо всем расскажи ему, мерзкая! Исповедайся публично, позор всей моей жизни! Бесстыжая! Твой бедный отец, должно быть, переворачивается в своем гробу, видя, какой ты стала! Подумайте, синьор инспектор, эта девчонка, которую я всегда учила только добру, ведь ее поведение отбивает всякую охоту иметь детей! А у вас есть дети?
— Нет.
— Вы сами не понимаете, как вам повезло! Будешь ты говорить, Тереза, или хочешь, чтобы я тебя поколотила?
Опустив голову, Тереза прошептала:
— Я не смею…
Вдова обернулась к Амедео:
— В таком случае говори ты, бездельник! Соблазнитель! Бесчестный!
— Я? А что вы хотите, чтобы я сказал?
— Тебе стыдно, да? Так вот: если у вас обоих храбрости не хватает, я сама все расскажу синьору из Милана!
И, ухватившись за лацканы пиджака Чекотти, глядя прямо ему в глаза, она стала жаловаться:
— Знаете, что она сделала со мной, со своей матерью, эта бесстыжая? Она меня обманула! Я думала, что она у своей тетки, а она в это время встретилась с этим проходимцем Амедео! Она поджидала его, как какая-нибудь уличная девка, у выхода из кафе этого подлеца, этого отравителя Онезимо. Что вы на это скажете?
Полицейский сначала высвободился, потом заверил вдову, что ему нет дела до поведения ее дочери и что, кроме того, ей не придется больше опасаться дурного влияния со стороны Амедео, так как он его увозит в миланскую тюрьму.
— Но, синьор, именно это-то и невозможно!
— Почему?
— Потому что эта парочка занималась Бог знает чем как раз в то время, когда убили этого несчастного Таламани. Кстати сказать, это был прекрасный человек, вежливый и все такое… А ведь это чудовище Амедео не мог одновременно находиться в разных местах, как по-вашему?
Чекотти почувствовал, что земля уходит у него из-под ног.
— И вы только теперь являетесь, чтобы сказать мне об этом?..
— Это по ее вине! Чтобы спасти свою репутацию, она позволила бы вам увезти его, эта бессердечная! Но, к счастью, я здесь! Для меня справедливость на первом месте! А ведь я была бы очень довольна, если бы этот Россатти, этот соблазнитель, совсем уехал отсюда! Но, что делать, Габриелли всегда были на стороне закона.
Инспектор повернулся к девушке:
— Это правда?
— Да, синьор… Простите меня.
Вне себя от злости Маттео набросился на Амедео:
— А вы что же? Почему вы мне не сказали?..
Россатти придал своему лицу серьезное выражение и сдержанно произнес:
— Честь молодой девушки поставлена на карту, синьор инспектор.
— Не морочьте мне голову вашими глупостями. Подтверждаете вы или нет то, что рассказала эта женщина?
— Я не имею права ничего сказать.
Чекотти с удовольствием закатил бы ему затрещину. Он сделал попытку напугать вдову Габриелли, так как не знал, что страх неведом женщинам из Фолиньяцаро.
— Известно ли вам, как закон карает за лжесвидетельство?
— Лжесвидетельство? Так вы думаете, что мне доставляет удовольствие чернить собственную дочь перед посторонними?
— Хорошо, можете идти…
И он добавил в силу привычки:
— Оставьте вашу фамилию и адрес.
Все расхохотались, кроме Маттео.
…Когда они остались втроем, Чекотти, покраснев под ироническими взглядами двух остальных, некрасиво выругался, потом воскликнул:
— Я уверен, что обе они лгали!
Тимолеоне Рицотто добродушно улыбнулся:
— Очень возможно, синьор, но как это доказать?
Глава пятая
В эту ночь инспектор Маттео Чекотти спал очень плохо. Накануне вечером он вынужден был освободить Амедео Россатти; показания Терезы свидетельствовали о его невиновности по крайней мере до тех пор, пока не удастся доказать, что она говорила неправду. После этого ему пришлось позвонить комиссару Рампацо и признаться, что дела идут, пожалуй, не совсем так хорошо, как ему сперва показалось из-за чрезмерного оптимизма, и что его возвращение откладывается до ареста убийцы Эузебио Таламани. Слушая смущенный голос своего подчиненного, комиссар Рампацо испытывал какое-то нездоровое злорадство. Он сделал несколько нелестных замечаний о людях, продающих шкуру неубитого медведя, и повесил трубку, радуясь про себя, что не послал своего любимца — инспектора Ансельмо Джаретту — в это осиное гнездо.
Страшные сновидения мучили Чекотти: толстый начальник карабинеров оказывался в них сообщником убийцы; он цеплялся за инспектора, наваливался на него всей своей тяжестью в то время как какой-то злодей с ножом угрожал населению Фолиньяцаро; когда преступник обернулся, несчастный полицейский увидел его лицо и вскрикнул, узнав прелестные черты Терезы Габриелли, очаровательной лгуньи. Собственный крик разбудил Маттео: он сидел на постели, освещенный слабым светом зари, по его лбу струился пот. Он закурил сигарету, пытаясь вернуть себе спокойствие, необходимое для дальнейшего расследования. Как честный человек, он признался себе, что с того момента, как он увидел Терезу, он слишком много о ней думал, гораздо больше, чем об убийце или жертве. Несомненно, она была чрезвычайно мила, эта Тереза. Из-за своего маленького роста она казалась девочкой, прекрасно сложённой девочкой. Из-под пышных темных кудрей на вас смотрели восхитительные глаза, чья кажущаяся невинность могла ввести в заблуждение любого мужчину, менее искушенного в женском вероломстве, чем инспектор. Он чувствовал, он знал, что должен избегать этой Терезы, как чумы, но когда у чумы такая обольстительная внешность, очень трудно противиться желанию заключить ее в свои объятия. Должно быть, она влюблена в Амедео… Иначе, как объяснить поступок, который может дорого ей обойтись? Закон, чьим представителем он является, не любит шутить с теми, кто прибегает к лжесвидетельству, чтобы помешать работе правосудия. Между тем, пока он не сумеет заставить Терезу признаться во лжи, нельзя будет арестовать Россатти, несмотря на то, что его виновность совершенно очевидна.
Выкурив сигарету, Маттео выпил стакан воды и снова лег. Через некоторое время он уснул тяжелым сном. Его разбудил стук в дверь. Как истинный полицейский, всегда готовый к действию, он сразу сел на постели и предложил посетителю войти. Это был Онезимо Кортиво, хозяин кафе. Маттео принял его не слишком любезно.
— Что вам нужно?
Онезимо улыбнулся добродушно, но с оттенком иронии, которая не ускользнула от квартиранта.
— Я пришел посмотреть, не заболели ли вы часом.
— А почему я должен был заболеть?
— Потому что сейчас уже половина десятого…
— Не может быть!
— Это именно так… И поскольку не в ваших привычках поздно спать, особенно при выполнении задания (Чекотти невольно покраснел, услышав этот почти неприкрытый намек), то я решил подняться, подумав, что может быть убийце Таламани пришло в голову рассчитаться и с вами. Приятно было убедиться в своей ошибке… Я вам приготовлю кофе, хотите?
— Нет, спасибо, я не буду завтракать.
Онезимо, казалось, не понял, что ему предлагают удалиться. Напротив, он приблизился к постели.
— Значит, вы сегодня еще не уезжаете?
— Почему вы так думаете?
— Ну как же! Теперь, когда вы поняли, что Амедео не виноват в смерти клерка нотариуса… Ах, эта маленькая Тереза, хорошо же она скрывала свои похождения… Видите ли, синьор инспектор, живем мы в своей деревушке, и нам кажется, что мы знаем все, что здесь происходит, а вот эти молодые люди встречались, и никто об этом не догадывался… Удивительно, правда?
Прекрасно понимая, что Кортиво насмехается над ним, Маттео сухо ответил:
— Не только удивительно, но, безусловно, неверно!
Онезимо прикинулся удивленным:
— Неверно?
— Эта Тереза лжет! Но я найду способ заставить ее во всем признаться, и тогда пусть пеняет на себя! Можете Думать, что угодно, синьор Кортиво, но я твердо намереваюсь увезти Амедео Россатти в Милан не позже, чем сегодня вечером!
Лицо Онезимо выразило сомнение.
— Кто может знать, что готовит нам будущее, синьор инспектор?
Маттео почувствовал, как у него сжимаются кулаки.
* * *
…Чекотти решил зайти к нотариусу, своему единственному союзнику, чтобы расспросить его о Терезе Габриелли и выяснить, какие средства могут заставить ее отказаться от своих слов. Он находился еще довольно далеко от жилища мэтра Агостини, когда увидел женщину, выходившую оттуда. Ему показалось, что он узнает мать Терезы в этой фигуре, облаченной в черное платье, и он подумал, что бы это могло означать. Посетительница свернула в какую-то улочку и скрылась.
Дон Изидоро сразу встал на точку зрения Маттео: он тоже считал, что Тереза солгала. Желая окончательно в этом убедиться, он позвал дочь, и инспектор рассказал ей о приходе синьорины Габриелли в полицейский участок. Обычная мягкость тут же покинула Аньезе, теперь это была настоящая фурия. Она закричала, что Амедео не думал ни о ком другом, кроме нее, никогда и не смотрел на эту нахалку Терезу; если бы между ними что-нибудь было, она бы не преминула это заметить, и, во всяком случае, он не впал бы в такое отчаяние, узнав о ее официальной помолвке с Таламани. С трудом переводя дух, она прервала свою горячую речь, чтобы спросить:
— А сам Амедео что об этом говорит?
— Ничего.
— Как так?
— Он утверждает, что честь не позволяет ему подтвердить или отрицать слова девушки, убежденной в том, что он ее любит.
В полном замешательстве Аньезе не знала, что и сказать. Тогда заговорил ее отец:
— Явный обман, синьор инспектор, вы сами это видите!
— И я так думаю, но как его разоблачить?
— Это я беру на себя. Пойдем поговорим с Терезой. Я не сомневаюсь, что сумею заставить ее признаться.
Мать и дочь Габриелли жили рядом с церковью. Когда нотариус и полицейский вошли к ним, синьора Габриелли шила, а Тереза вынимала зернышки из помидоров. Приход посетителей, казалось, их нисколько не смутил. Нотариус немедленно бросился в атаку:
— Скажи, Тереза, ты знаешь, почему мы пришли?
Она подняла на обоих мужчин свой ясный взгляд.
— Вероятно, вы хотите заказать платье для Аньезе или синьоры Агостини.
Чекотти увидел, как вздулись вены на висках дона Изидоро, и догадался, что тот едва сдерживается, чтобы не закричать.
— Тереза, я не допущу, чтобы девушка твоих лет издевалась над человеком в моем возрасте!
— Я вас не понимаю.
— Что означают эти смехотворные признания, которые ты сделала инспектору с целью оправдать Россатти?
— Это правда…
Опустив голову, плутовка добавила шепотом:
— Мне очень стыдно, дон Изидоро…
— В самом деле? Лгунья! Гадкая лгунья! Я сам был там, когда Россатти набросился на Эузебио, как дикий зверь!
— Вы вероятно, ошибаетесь, синьор.
Вне себя, нотариус поднял руку, чтобы ударить девушку, но Маттео вовремя удержал его.
— Прошу вас, синьор…
Ворча, бормоча угрозы и оскорбления, мэтр Агостини уступил место полицейскому, который предпочел разговаривать с матерью.
— Синьора, мы совершенно точно знаем, что ваша дочь говорит неправду. Но меня интересует, почему она это делает, какие у нее на то причины. Убедите ее рассказать нам все как было, в противном случае, даю слово, я немедленно ее арестую за пособничество в убийстве Эузебио Таламани и увезу в Милан. Если, напротив, она откажется от своих заявлений, то я приму во внимание ее возраст и постараюсь забыть о ее поведении, наказуемом обычно несколькими месяцами тюрьмы и таким штрафом, который полностью разорит вас обеих.
Синьора Габриелли с испуганным видом всплеснула руками.
— Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных! Боже мой, разве я заслужила, чтобы у меня была такая дочь, скажите сами, дон Изидоро? Разве я это заслужила?
Нотариус повернулся к ней спиной, чтобы показать, что ее сетования только сердят его, но не вызывают ни малейшей жалости. Видя, что ее мольбы не производят впечатления, вдова обратилась к дочери:
— Тереза… Твоя старая мама взывает к тебе… Если ты солгала, признайся этим господам…
— Я не солгала.
Чекотти подошел к ней.
— Прекрасно, раз она не хочет образумиться, я увожу ее. Пойдите с ней, синьора, и помогите ей уложить вещи. Мы уезжаем в Милан.
Тут синьора Габриелли испустила душераздирающий вопль, который, казалось, потряс Терезу. Она поглядела на мать, потом на своих мучителей и наконец призналась:
— Успокойся, мама… Это верно, я обманула их.
Инспектор и нотариус облегченно вздохнули. Чекотти радостно подумал: на этот раз ему удастся надеть наручники на Амедео Россатти. Нельзя сказать, чтобы он испытывал личную неприязнь к парню, но ведь это из-за него в Фолиньяцаро насмехались над ним, а значит, и над всей миланской полицией. Синьора Габриелли смотрела на свою дочь во все глаза:
— Так ты не была с Амедео в тот вечер?
— Нет.
— А где ты была?
— С Кристофоро…
— С Кристофоро Гамба, сыном кузнеца?
— Ну, конечно, у нас ведь нет другого Кристофоро!
— Несчастная! Он способен переломить тебя пополам, сжав в своих объятиях, и даже не заметить этого!
Повернувшись к Маттео, она пояснила:
— Он сам не понимает, как он силен, этот Кристофоро!
— Синьора, меня не интересуют отношения вашей дочери с этим геркулесом. Единственное, что я хочу знать, это почему ваша Тереза разыграла перед нами такую комедию. Пусть сама скажет, кто ее подбил на это.
— Никто.
— Вы думаете, что я могу поверить, будто вы сочинили всю эту историю только для того, чтобы мне досадить?
— Нет.
— Тогда зачем вы это сделали?
— Чтобы защитить одну особу.
— Кого?
— Я этого не могу сказать…
— Опять! Берегитесь! Мое терпение на исходе!
Мать тоже стала настаивать:
— Теперь уж говори, Тереза! Раз начала, надо закончить!
— Но ведь я обещала!
— Подумаешь, какое дело, обещала! Этот синьор представляет закон, он имеет право освободить тебя от твоего обещания.
Тереза поколебалась еще с минуту, потом, не в силах больше сопротивляться, прошептала:
— Я обещала это Сабине.
Ничего не понимая, они посмотрели друг на друга. Синьора Габриелли выразила общее недоумение, спросив:
— Какой Сабине? Дочери сыровара Замарано?
— Да.
— Какое она имеет отношение к Амедео?
— Они встречаются.
— Что ты болтаешь? Ведь она практически помолвлена с каменщиком Зефферино!
— Вот в том-то и дело.
— Что ты хочешь этим сказать? Ты сердишь меня, Тереза, и если не объяснишь, что ты имеешь в виду, то очень скоро схлопочешь пощечину!
— Сабина любит Амедео… Я не знаю, любит ли он ее. Во всяком случае, мы с ней ждали его у выхода из кафе, и она ушла вместе с ним, а я встретилась с Кристофоро… Когда случилась эта история, Сабина уговорила меня сказать, что с Амедео была я… из-за Зефферино, понимаешь?
— И ты согласилась?
— Сабина моя подруга, мама.
Явно растроганная, синьора Габриелли подошла к дочери, обняла ее, прижала к своей груди и горячо поцеловала. Потом, отстранившись, чтобы лучше ее видеть, она заверила ее дрожащим от волнения голосом:
— Тереза, ты святая, это твоя мама тебе говорит!
Нотариус завопил:
— Как же! Святая! Отъявленная лгунья, вот она кто! Синьора Габриелли мигом преобразилась в мегеру и набросилась на дона Изидоро.
— Вы оскорбляете мое дитя, а сами неспособны уследить за вашей недотрогой, которая гуляет со всеми парнями подряд!
— Моя дочь гуляет с… О, синьора, возьмите назад эти слова, или я не ручаюсь за себя!
— Попробуйте только ударить меня в присутствии инспектора, если посмеете!
Тереза, чтобы дополнить картину, схватила нож, которым она очищала помидоры, и бросилась, подняв его, на синьора Агостини, пища:
— Только прикоснитесь к моей матери!
Чекотти, считавший, что в Фолиньяцаро и одного трупа достаточно, вмешался:
— Перестаньте! Вы все теряете разум!
Нотариус запротестовал:
— Да разве вы не понимаете, что эта новая история рассчитана на то, чтобы вы поверили, будто Амедео не мог встретить Таламани?
— Спокойно! Если синьорина опять пытается меня одурачить, то она за это поплатится! Это ваше последнее слово, Тереза Габриелли?
— Да.
— Очень хорошо. Я допрошу Сабину Замарано. Молите Бога, чтобы она подтвердила ваши слова, в противном случае можете готовиться к поездке в Милан, где вам будут обеспечены на некоторое время квартира и питание за счет республики!
После этой угрозы Чекотти покинул дом вдовы, увлекая за собой дона Изидоро. Но так как, по его мнению, присутствие нотариуса не способствовало успеху допросов, то он попросил его больше не сопровождать себя. Дон Изидоро обиделся, повернулся к нему спиной и удалился, не попрощавшись.
* * *
В отличие от своей подруги Терезы, Сабина Замарано была блондинкой высокого роста и казалась невозмутимой. Видя, с каким спокойствием она встретила его появление, Чекотти подумал, что оно не было для нее неожиданным.
— Синьорина Замарано?
— К вашим услугам, синьор. Могу я что-нибудь для вас сделать?
— Безусловно, синьорина, безусловно… Ваших родителей нет дома?
— Жив только мой отец, синьор. Он сейчас в сыроварне.
— А Зефферино Гаспарини?
Она нисколько не смутилась и ответила тем же спокойным тоном:
— Он, должно быть, на работе.
Спокойствие девушки начало раздражать полицейского.
— Вы не спрашиваете меня, почему я задаю вам все эти вопросы, синьорина?
— Если вы найдете нужным, синьор, вы сами мне это скажете.
— Вы правы. Речь идет об Амедео Россатти. Каковы ваши отношения с ним?
— Мне кажется, мы любим друг друга… но я еще не совсем уверена.
— Извините меня, синьорина, но разве вы не помолвлены с каменщиком Гаспарини?
— Да, но только помолвлена.
— Тем не менее…
— Что, синьор? Если я предпочитаю Амедео, лучше, чтобы я в этом убедилась до, а не после того, как я буду окончательно связана с Зефферино, разве не так?
Чекотти кусал губы от досады. С этой девушкой нелегко было справиться!
— Да, вероятно… А когда вы видели Амедео Россатти в последний раз?
— Сегодня утром.
— Нет, я не так выразился. Когда у вас с ним было последнее свидание?
— В день обручения Аньезе Агостини.
— Вы знаете, должно быть, что Россатти утверждал, будто он безумно влюблен в синьорину Агостини?
Она засмеялась мягким, материнским смехом.
— Аньезе воображает, что все ребята влюблены в нее.
— Но вы ведь не можете отрицать, что Россатти очень бурно отреагировал на помолвку синьорины Агостини с Эузебио Таламани?
— Это неверно, синьор, иначе Амедео не встретился бы со мной в тот же вечер. Я ждала его у выхода из кафе.
— И… и куда вы отправились потом?
— Если память мне не изменяет, мы гуляли в верхней части деревни.
— Вы там не встретили Таламани?
— Таламани? Нет.
— Но ведь многие здесь утверждают, что, выйдя из кафе, Россатти встретил Таламани, избил его, а может быть, и убил.
Спокойствие не покинуло девушку при этом сообщении.
— Они или лгут, синьор, или заблуждаются.
— Если только вы сами не лжете, синьорина.
— И это возможно. Но ведь вы можете проверить мои слова.
— Каким образом?
— Допросив Терезу Габриелли. Скажите ей, что это я вас посылаю.
— А что она может мне сообщить?
— Она может подтвердить, что согласилась сказать
Зефферино, если он будет ее расспрашивать, что на свидание с Амедео приходила она, а не я…
— Я уже допрашивал Терезу Габриелли…
— В таком случае, вы должны быть в курсе дела.
— Как же! В курсе! Да ведь все вы, девушки из Фолиньяцаро, лжете наперебой!
— То, что вы говорите, синьор, не слишком любезно.
— А мне, представьте себе, не до любезности. Надоело смотреть, как меня обводят вокруг пальца девчонки, заслуживающие, чтобы их хорошенько поколотили!
— Не думаю, синьор, что они позволили бы вам это сделать. Как по-твоему, папа?
Маттео обернулся и увидел того, к кому обращалась Сабина. Это был мужчина среднего роста, на редкость волосатый. Он принес с собой устойчивый запах козьего, слегка прокисшего, молока. Не двигаясь, он смотрел на свою дочь и Чекотти.
— Что здесь происходит?
Желая сразу внести ясность, полицейский объяснил:
— Меня зовут Маттео Чекотти, я полицейский инспектор и специально приехал из Милана, чтобы арестовать убийцу Эузебио Таламани.
— А дальше что? Вы, может быть, надеетесь найти его здесь?
— Нет, но я надеюсь, что мне помогут напасть на его след.
— Каким образом?
— Сказав мне правду, например. Я знаю, что в Фолиньяцаро это не принято, но хоть один раз, в виде исключения, можно, как вы считаете?
Сыровар ответил не сразу. Его нахмуренные брови и неподвижный взгляд свидетельствовали о напряженной работе мысли, о желании понять смысл сказанного полицейским. Наконец, глубоко вздохнув, он спросил:
— А вы, синьор, не хотите ли часом сказать, что Сабина вам солгала?
— Не скрою, синьор Замарано, у меня создалось именно такое впечатление.
Сыровар почесал подбородок.
— Ах, но ведь это нехорошо, синьор, совсем нехорошо! Неужели вы пришли в мой дом для того, чтобы оскорблять мою дочь?
— Не надо преувеличивать!
— А в Милане как? Если вас называют лжецом, там это не считается оскорблением?
— Смотря при каких обстоятельствах.
— Так вот, синьор, в Фолиньяцаро мы не обращаем внимания на обстоятельства. Только назовите мою дочь лгуньей, и я вам набью физиономию.
После этого обиженный отец стал засучивать рукава рубашки. Густой волосяной покров на его руках не мог скрыть хорошо развитой мускулатуры. Чекотти подумал, что если он схватится с этим одержимым, то навсегда загубит свою репутацию, тем более что тот, несомненно, возьмет над ним верх. Сабина попыталась исправить положение, уточнив:
— Синьор не верит, что я была с Амедео в ту ночь, когда убили клерка нотариуса.
— А почему бы она не могла быть с ним, а, синьор?
— Потому что люди видели, как Россатти дерется с убитым.
— Везде найдутся любители болтать языком.
— Значит, вы тоже утверждаете, что ваша дочь была с Россатти в тот вечер?
— Она мне рассказала об этом, а я верю всему, что говорит Сабина.
— А какую роль играет во всем этом Гаспарини?
Замарано пожал плечами.
— В эти истории я не вмешиваюсь… Ведь это их дело, не так ли?
— Но если ваша дочь не любит этого каменщика, почему она ему об этом не скажет прямо?
— Дело в том, что когда Зефферино сердится, он становится опасен…
— Настолько, что может ударить?
— Это не исключено… Кстати, вы меня навели на мысль… Если Зефферино спутал Таламани с Россатти, он вполне мог его вздуть!
— А как он мог их спутать?
— Ночь… Он ослеплен ревностью… Как тут разобраться?
— Вот это, синьор Замарано, как раз то, что я пытаюсь сделать! В общем, если я вас правильно понял, вы полагаете, что возлюбленный вашей дочери мог бы быть тем, кого я разыскиваю?
— Он или кто другой!..
— Давайте-ка уточним: у Зефферино появляются подозрения относительно верности той, кого он считает своей невестой… Он следует за ней… Видит, что она поджидает Россатти и уходит вместе о ним… Он их выслеживает… и когда они расстаются, он бросается вслед за карабинером, полный решимости отомстить. Так, что ли?
— Возможно.
— После этого Зефферино каким-то чудом ошибается и следует за Таламани, которого принимает за Россатти.
— В темноте и не такое может случиться.
— Осыпая ударами Таламани, Зефферино не замечает, что это не его соперник… Вы считаете меня дураком, синьор Замарано?
— Я недостаточно вас знаю, синьор инспектор, чтобы иметь мнение на этот счет.
— Я допрошу каменщика и сообщу ему, что его будущий тесть считает его возможным убийцей.
— Я этого не говорил!
— Но к этому сводится то, что вы сказали, потому что тот, кто избил клерка, несомненно является и его убийцей! До свидания!
— Прощайте.
— Нет, не прощайте, синьор, я не сомневаюсь, что очень скоро вы еще со мной увидитесь, вы и ваша дочь!
Выходя, Чекотти услышал, как Сабина спрашивает у отца:
— Скажи, папа, в Милане они все такие?
* * *
Зефферино Гаспарини работал за деревней, и Маттео не решился туда идти под палящим солнцем. Он удовольствовался тем, что послал встреченного им мальчишку предупредить каменщика, чтобы сразу после обеда тот явился в участок. После этого он зашел в кабинет Тимолеоне Рицотто, где было относительно прохладно. Начальник карабинеров встретил его со своим всегдашним добродушием.
— Итак, синьор инспектор, вы продвигаетесь?
— Ах, не начинайте, пожалуйста. Меня и так уже замучили!
— Догадываюсь, что дела идут не совсем так, как вы надеялись.
— Нет, дела идут не так, как я хотел бы, потому что здесь все ухитряются противодействовать моим усилиям! Но прежде всего, где Россатти?
— Он у себя.
— А что он делает у себя?
— Отдыхает.
— От каких трудов? Он никогда не работает!
Тимолеоне неодобрительно надул губы.
— Вы забываете о том, что этот несчастный пережил вчера!
Рицотто был несомненно искренен. Чекотти это видел и только поэтому не вспылил. Он ограничился тем, что сказал с иронией:
— А я и не знал, что у карабинеров такое мягкое сердце.
— Дело в том, что я очень люблю Амедео.
— Насколько я могу судить, вы в этом не одиноки. Аньезе… Тереза… Сабина…
— Дочь Замарано?
— Она самая.
И он рассказал Рицотто, не пропуская никаких подробностей, о своей встрече с сыроваром и его невозмутимой дочерью. Начальник карабинеров, казалось, был в восторге. Когда инспектор закончил свой рассказ, он растроганно заключил:
— Какое у них доброе сердце, у этих девочек!
— Сердце, которое их приведет прямиком в тюрьму, и не без моей помощи, если только они мне еще солгут!
— Вы на это не решитесь, синьор.
— Не решусь? А закон?
— А любовь?
И Тимолеоне добавил после краткого раздумья:
— Этот Амедео… Настоящий дон Жуан!
— Я сумею умерить его любовный пыл, можете на меня положиться!
— А не выпить ли нам по стаканчику грумелло, пока варятся мои спагетти по-неаполитански?
— Я обедаю у Кортиво.
— Синьор инспектор, неужели вы нанесете мне такую обиду? Что обо мне подумают в Фолиньяцаро, если узнают, что вы отказались попробовать мои спагетти? Мне не останется ничего другого, как пустить себе пулю в лоб!
И у доброго Тимолеоне слезы навернулись на глаза при мысли о подобном необъяснимом оскорблении, которое не могло не повлечь за собой бесчестья, разрушив его славу замечательного кулинара. Искреннее огорчение начальника карабинеров позабавило Маттео. Он решил больше не дразнить его.
— Ну что же, решено, мы пообедаем вместе… Я не хочу упустить возможность попробовать лучшие в мире спагетти!
— Насчет всего мира не могу сказать, но в Италии — безусловно!
* * *
Они заканчивали грумелло, запас которого у Рицотто казался неисчерпаемым, и собирались погрузиться в приятную дремоту, когда приход карабинера Бузанелы вырвал их из сладкого мира сновидений и грубо перенес в будничную действительность.
— Пришел Гаспарини, каменщик. Он говорит, что его вызывали.
Чекотти выпрямился, Рицотто застегнул расстегнутый было китель.
— Пусть подождет!
Они осушили наспех по стаканчику виноградной водки в надежде, что она их окончательно разбудит, и последовали за Бузанелой в караульное помещение, где их ждал Зефферино Гаспарини. У него была ничем не примечательная внешность и медлительные жесты. Он казался удивительно спокойным. Чекотти подумал, что они с Сабиной составят замечательную супружескую пару, которая никогда не будет ссориться.
— Зефферино Гаспарини?
— Да, синьор.
— Я вызвал вас, чтобы сообщить не совсем приятные вещи.
— Да?
Он и глазом не моргнул.
— Скажу вам в двух словах, что кое-кто подозревает вас в убийстве Эузебио Таламани.
— Того самого, которого убили недавно ночью?
— Да.
Он почесал в затылке, потом проронил:
— Забавная мысль…
— Не такая уж забавная, если хотите знать мое мнение. Подозрение в убийстве — вещь малоприятная.
— А зачем мне было убивать этого типа?
— О ваших мотивах скажу позже. Начнем с фактов. Признаете вы себя виновным или нет?
— Нет.
— Есть у вас алиби?
— Али… как вы сказали?
— Где вы находились во время убийства Таламани?
— Я был в Домодоссоле.
— Вы можете это доказать?
— Весь день после полудня я там работал с двумя другими каменщиками в ресторане синьора Фолы. Мы облицовывали стены. Хозяин пригласил нас поужинать с ним, и мы ушли все вместе только около полуночи. Я добрался домой на заре.
— Проверю все это в Домодоссоле. Вы знаете, как зовут ребят, работавших вместе с вами?
— Только их имена: Нино и Марио. Синьор Фола знает, вероятно, их фамилии.
Чекотти не питал никаких иллюзий: это было солидное алиби. Его снова пытались навести на ложный след.
— А теперь, синьор, могу я вернуться к своей работе?
— Можете… Минуточку. Вас не интересует имя человека, который вас подозревает?
— Не очень… Но, похоже, вы сами хотите мне его сообщить?
— Его имя Замарано.
Это, кажется, его, наконец, немного смутило.
— Как, отец…
— Да, отец Сабины. А кстати, знали ли вы, что, в то время как вы работали в Домодоссоле, синьорина Замарано бегала на свидание с Амедео Россатти?
Каменщик тихо засмеялся.
— Вы меня разыгрываете, синьор?..
— Она сама сказала мне об этом!
— Это невозможно!
— Почему? Вы считали ее более постоянной, чем все остальные?
— Дело не в этом… Я думаю, что Сабина такая же, как все девушки, и ее нужно держать в руках, но в тот вечер это было невозможно.
— В самом деле?
— Я потому и пошел в Домодоссолу, что она не могла со мной встретиться.
— Это она вам рассказала, и вы ей поверили!
— Нет, не она, а врач.
— Врач?
— Сабина была нездорова уже дня три, поэтому синьор Боргато пришел утром к Замарано и сказал, что она должна лежать в постели и чтобы отец поставил ей банки. У нее была очень высокая температура. Ну вот, так как она должна была оставаться дома, я отправился немного подзаработать в Домодоссоле. Деньги нам не помешают, когда мы поженимся. Могу я теперь уйти?
— Проваливайте!
Нисколько не расстроившись из-за грубого ответа, Зефферино приложил палец к фуражке и вежливо сказал:
— До свидания всем!
Чекотти бросился к телефону, набрал номер врача, нарушил и его послеобеденный отдых и в ответ на свой вопрос получил ворчливое подтверждение рассказа каменщика. Полицейский тихо положил трубку и заставил себя медленно двигаться, чтобы не поддаться ярости, от которой его всего трясло. Увидев обеспокоенный взгляд Тимолеоне, он ограничился тем, что сказал:
— Ну и девушки у вас в Фолиньяцаро…
Потом он опустился на стул и попытался прийти в себя. Это ему не удавалось. Он все повторял:
— Ну и девушки… ну и девушки… И не смотрите на меня так, синьор, это меня нервирует!
Рицотто выпрямился, исполненный чувства собственного достоинства.
— Синьор инспектор, я не привык… Маттео встал и положил ему руку на плечо.
— Простите меня… Я сам не знаю, что говорю… Вы прекрасный человек, Тимолеоне Рицотто… Может быть, не совсем такой, каким должен быть начальник карабинеров…
Тимолеоне улыбнулся.
— Я уже так давно исполняю эти обязанности, что это не очень важно.
— Возможно, возможно… Но ваши девушки!.. Ваши девушки!..
— Я их Очень люблю, синьор.
— И вам не противно! Лгуньи! Лицемерки! Бесстыдницы! Впрочем, их отцы, матери и женихи немногим лучше! Все они сообщники! Все объединились против меня!
Начальник карабинеров серьезно подтвердил:
— В самом деле, не стану вас уверять, что они хорошо себя ведут по отношению к вам… Нет, я не могу этого утверждать.
— Вы очень добры… Но, смею вас заверить, две из них ответят за всех остальных: этот чертенок Тереза и эта лицемерка Сабина! Я на них надену наручники и брошу в мою машину! Они узнают, как живется в тюрьме!
— Девочки, выросшие в горах! Да они там погибнут!
— Тем хуже для них! Ведь это преступницы! Они заключили союз, пытаясь спасти Амедео. Что до этого типа, то он свое получит, клянусь вам! Это из-за него все прогнило в Фолиньяцаро! В конечном итоге по вашей вине, синьор.
— По моей?
— Ну конечно? Если бы вы арестовали Амедео Россатти сразу же после преступления, как вы обязаны были сделать, у него не было бы времени для того, чтобы договориться с этими дерзкими девчонками.
— Но у меня не было достаточных улик и…
— Бросьте! Правда заключается в том, что вам не хотелось взять под стражу вашего Амедео и причинить огорчение вашей дорогой Элоизе! Вы изменили своему долгу, синьор!
— Если Амедео виновен, я выйду в отставку!
— Вы-то выйдете в отставку, а вот меня вышвырнут из полиции за бездарность, понимаете вы это? Но, Боже мой, что мне оставалось делать? Одна за другой они доказывали его алиби. Околдовал он их всех, что ли? Меня учили опасаться всевозможных негодяев, которые бродят по земле, но никогда, слышите вы, синьор, никогда меня не предупреждали, что следует не доверять невинным молодым девушкам, живущим в горах! В миланской уголовной полиции и не подозревают о существовании Фолиньяцаро и о том, что там проживают девицы, которых следовало бы повесить у въезда в вашу деревню!
— О!
— Да, да, повесить! Скажу вам откровенно, синьор, я скорее соглашусь иметь дело с миланскими уличными девками, чем с вашими нахалками, которые лгут, глядя прямо на вас своими ясными глазками!
— Синьор инспектор, вы взволнованы…
— Я не взволнован, синьор! Я возмущен и готов мстить! Я хочу, чтобы они на коленях просили у меня прощения! Карабинер!
Бузанела, который, прижав ухо к двери, внимал отголоскам этого страшного гнева и еле сдерживался, чтобы ничего не сказать, явился на зов.
— Карабинер, бегите за Терезой Габриелли и Сабиной Замарано! Если вы не вернетесь через четверть часа, я вас арестую как их сообщника!
Иларио в ужасе убежал.
— А вам, синьор, я даю столько же времени, для того чтобы привести сюда этого Россатти, которого я цепями прикую к моей машине, так как хочу быть уверенным, что на этот раз никто не поможет ему улизнуть. А сейчас мне надо позвонить в Милан.
Когда комиссар Рампацо услышал, что кроме убийцы Таламани, его подчиненный собирается привезти еще двух девушек, он снова порадовался тому, что не послал в Фолиньяцаро своего любимца Ансельмо Джаретту. Поскольку в этой истории фигурировали юбки, Ансельмо способен был натворить глупостей. С Чекотти такого риска не было. Несмотря на это, опасаясь комментариев печати, зачастую недоброжелательных, комиссар посоветовал Маттео задержать этих молодых особ только в том случае, если они действительно замешаны в преступлении. Положив трубку, инспектор громовым голосом перечислил все знакомые ему ругательства, поразив Рицотто полнотой своих познаний. Рекорды в любой области всегда восхищали начальника карабинеров.
— Вот как! — прорычал полицейский. — Только потому, что они принадлежат к слабому полу, с ними нужно обращаться бережно и деликатно. Если они действительно замешаны!.. Еще бы они не замешаны, а, синьор?
— Я думаю, синьор инспектор, что сперва следовало бы узнать мотивы их поведения.
— Мотивами пусть занимается суд!
— Может быть, эти девочки повиновались романтическим побуждениям? Ведь вы знаете, как мы, итальянцы, склонны к пониманию и прощению необдуманных поступков, совершенных по велению сердца?
— Издевательство над полицией, направление ее по ложному следу, циничное отрицание истины — это вы называете романтическими побуждениями?
— Я хочу сказать, что так их может истолковать печать. Она ведь всегда предпочтет более поэтичную версию…
Чекотти понял всю обоснованность этого предостережения. Мнение Рицотто подтверждало сказанное комиссаром. Ему придется хорошенько обдумать план действий. В то же время он не был намерен предать эту историю забвению. Неосторожные девушки должны получить по заслугам! Но какой путь избрать, чтобы, с одной стороны, поддержать престиж правосудия, а с другой, избежать огласки, которой ему не простит комиссар Рампацо? Гнев Маттео был так силен, что в какой-то мере парализовал его мыслительные способности. И вот в этот момент в кабинет вошла Элоиза. Ее доброе лицо так и сияло от радости. Она буквально набросилась на Чекотти, схватила его за руку и горячо ее поцеловала. Полицейский страшно смутился. Ему никогда еще не приходилось быть объектом подобных знаков внимания. Он пробормотал, высвобождая руку:
— Но… но… что с вами?
Элоиза величественно выпрямилась и сказала, обращаясь к Рицотто:
— Ты слышишь, Тимолеоне? Он еще спрашивает, что со мной, этот посланец неба! Этот ангел Справедливости! Этот серафим Милосердия!
Рицотто попытался предупредить свою приятельницу, что она на опасном пути:
— Успокойся, Элоиза…
Но разве кто-нибудь мог остановить Элоизу Россатти, когда она начинала один из своих монологов?
— Успокоиться? Мне? Скажи-ка лучше, человек без сердца, бесплодная смоковница, если бы у тебя был ребенок, которого ты едва не потерял и которого тебе вернули, не был бы ты счастлив? Не было бы у тебя желания дать волю своей радости? Не считал бы ты себя обязанным поблагодарить того, кто подарил тебе больше, чем жизнь?
Инспектор, которого никто еще не сравнивал с ангелом или серафимом, подстерегал удобный момент, чтобы открыть несколько простых истин этой толстушке, источавшей умиление. Она будет первой из жителей Фолиньяцаро, кого поразит его месть. Он не прерывал ее, злорадно предвкушая, что он ей выложит. Чекотти не был злым человеком, но он слишком натерпелся, с тех пор как приехал в Фолиньяцаро. Не подозревая, что ей угрожает — и что предвидел Тимолеоне, — Элоиза продолжала свой гимн любви и благодарности.
— Вы возвращаете честь, вы возвращаете жизнь моему Амедео! Когда он вернулся домой вчера вечером, я не поверила своим глазам! У меня даже не было сил подняться и заключить его в объятия, так я наплакалась! Мои рыдания были, кажется, слышны даже в церкви. Моя соседка Сюзанна говорила всем, кого встречала: «Эта бедная Элоиза долго теперь не протянет!.. Никто еще не видел такого отчаяния! Я никогда не думала, что у человека может быть столько слез!» Вот что Сюзанна всем говорила, а ведь она — Тимолеоне может вам это подтвердить — не из мягкосердечных! Зато она хорошо знает моего Амедео, знает, что он неспособен причинить мне горе. Если мое сердце не разорвалось, когда я узнала, что вы собираетесь увезти его, связанного, как бешеное животное, в Милан, значит, у меня очень прочное сердце. Люди думают, если ты толстая, ты страдаешь меньше, чем другие. Это неправда! Просто… не решаешься это проявлять… всегда боишься показаться смешной. Синьор инспектор, если бы у меня хватило сил, я пришла бы еще вчера вечером поблагодарить вас на коленях, при всех! А сегодня утром мне не хотелось оставлять сына. Я приготовила ему завтрак, а потом обед… Его любимое блюдо — цыплята с артишоками… Но он еще не вернулся домой, это чудовище. Тогда я подумала, что он, должно быть, с вами… А вы знаете, где он, мой Амедео?
— Нет, синьора, я не знаю, где находится ваш Амедео, зато я прекрасно знаю, где он будет, как только мне удастся его поймать!
Элоиза побледнела, услышав тон полицейского.
— А где?
— В тюрьме!
— Опять!
— И надолго! Потому что ваш Амедео — убийца и совратитель!
Синьора Элоиза задыхалась, не в силах произнести ни слова. Тимолеоне пытался прийти к ней на помощь, но она остановила его движением руки. Она хотела сражаться один на один.
— Это о моем единственном сыне вы позволили себе так выразиться?
— Возвращайтесь к себе домой и дайте мне возможность выполнять мои обязанности!
— Хорошие же у вас обязанности! Вы думаете, что достаточно вам приказать: возвращайтесь к себе домой, чтобы я сразу повиновалась и покинула моего сына? Как бы не так! За кого вы себя принимаете, скажите на милость?
— За полицейского, который намеревается заставить вас всех уважать закон!
— Странный закон, который преследует невинных и оскорбляет их матерей! Держи меня, Тимолеоне, или я удавлю этого миланца!
— Вы смеете мне угрожать? Рицотто попытался их успокоить:
— Не слушайте ее, синьор инспектор… Она говорит глупости под влиянием горя… Элоиза, прошу тебя!
— Замолчи! Ты не лучше его! Скажи, ты тоже так плохо думаешь об Амедео?
— Я? Почему?
— Потому что он не твой сын. Это все твоя ревность! Ты никогда мне не простишь, что я тебе не уступила тогда! Но я честная женщина, слышишь, Тимолеоне? Честная женщина, а ты гнусный негодяй!
— Вот как? Выбирай выражения, Элоиза!
— Чтобы защитить убийцу этого Таламани, ты готов принести в жертву моего сына! Сына, которого я родила от другого, а не от тебя! Вот с этим ты никак не можешь примириться, признайся, Тимолеоне!
Начальник карабинеров обернулся к Чекотти и грустно сказал:
— Вы слышали? Говорить такое человеку моих лет да еще находящемуся при исполнении обязанностей…
Эта сцена уже надоела полицейскому, и он сухо ответил:
— Составьте на нее протокол… Я буду свидетелем…
Элоиза снова накинулась на Маттео:
— А вы почему вмешиваетесь, миланец вы несчастный? Что вы можете знать о наших с Тимолеоне отношениях? Разве кто-нибудь мог рассказать вам, как он долгие годы бегал за мной, так что я даже не решалась показываться одна на улице? А когда я вышла замуж, несколько здоровых парней с трудом удержали его от самоубийства, в таком он был отчаянии!
Рицотто схватился за голову.
— Боже мой! Откуда она все это берет? Когда ты выходила замуж, я был в гарнизоне, а после этого не видел тебя по крайней мере семь или восемь лет!
— Ну да, потому что ты так страдал!
— Бедная моя Элоиза! Даже если бы это было правдой, то с тех пор прошло добрых тридцать лет!
— Ну и что из этого? Любовь не забывается, Тимолеоне Рицотто, а твое ожесточение против моего сына, который тебе напоминает твоего соперника, как раз и доказывает, что ты ничего не забыл!
Чекотти положил конец спору.
— Ваши личные отношения меня совершенно не интересуют! Я приехал сюда для того, чтобы найти убийцу Таламани. Я обнаружил его в лице вашего сына Амедео и собираюсь увезти его в Милан, где ему придется ответить за свое преступление!
— Никогда!
— Разыщите этого субъекта, синьор, и приведите его сюда! Элоиза стала перед Рицотто, скрестив руки перед собой.
— Если ты попытаешься выйти из этой комнаты, Тимолеоне, я тебе выцарапаю глаза!
Начальник карабинеров дорожил своими глазами, а вспыльчивый характер синьоры Россатти был ему хорошо знаком. Он заколебался. Полицейский насмешливо улыбнулся.
— Боитесь?
— Не могу сказать, что боюсь… но все же немного есть.
В этот момент появился ничего не подозревающий капрал Амедео Россатти. Благодушно улыбаясь, он приветливо поздоровался со всеми. Элоиза опомнилась первой. Подталкивая сына к двери, она умоляла его поскорее бежать. Но тут раздался крик Чекотти:
— Амедео Россатти, именем закона вы арестованы! Вы обвиняетесь в убийстве Эузебио Таламани!
Не понимая, что происходит, ошеломленный Амедео запротестовал:
— Опять начинается?
— Нет, продолжается! Ваши хитрости ни к чему не привели, они только навлекли позор на двух молодых девушек, которые еще раскаются в том, что слушались вас!
Считая, что игра закончена и Амедео уже невозможно спасти, Тимолеоне Рицотто решил не ломать себе больше голову над этим делом. Он подумал было пойти предупредить дона Адальберто, но и падре ведь не сумел бы переубедить этого полицейского, преисполненного сознания своего долга.
Суматоха еще увеличилась, когда в самый разгар перепалки в кабинете появился карабинер Бузанела, толкая перед собой двух пленниц: Терезу и Сабину. Маттео напрасно надрывался, требуя тишины. Схватив Терезу за плечи, он стал ее трясти.
— Ведь вы мне солгали, правда?
— Меня попросила Сабина!
— А вы, Сабина?
— Я хотела помочь Амедео!
— А почему вы захотели ему помочь?
— Потому что его обвинили в страшном преступлении!
— Ну и что?
— Он невиновен!
— А вы что об этом знаете?
— В этот вечер у Таламани было свидание с одной из дочерей сапожника Бертолини.
— Это еще что за новая история?
— Он любил Эуфразию, и она его тоже.
Тереза запротестовала:
— Ты ошибаешься! Это была не Эуфразия, а Клара!
— Совсем нет! Эуфразия.
— Да что ты говоришь?! Клара сама мне рассказывала о своей любви к Эузебио. Она говорила, что когда они поженятся, она поедет с ним в Милан и будет там жить как настоящая дама!
— Ты все перепутала, Тереза! А мне Эуфразия клялась, что Эузебио собирается на ней жениться и что после этого они уедут в Швейцарию!
Состояние Чекотти напоминало сейчас то, которое испытывает пловец, думающий, что он почти у берега и вдруг замечающий, что он был жертвой миража и берег еще очень далеко, так далеко, что нет надежды до него добраться. Слепой гнев охватил его и лишил последних остатков хладнокровия. Схватив стоявшую на столе пустую бутылку, он хватил ею изо всех сил по стене. Бутылка разлетелась вдребезги. После этого взрыва ярости немедленно наступило молчание. Маттео просунул палец в узел своего галстука и освободил его. Потом расстегнул воротник. И наконец сказал глухим голосом:
— Слушайте меня хорошенько, вы обе… Не принимайтесь больше за свое, ладно? Мне нет никакого дела до Эуфразии и Клары, не вижу никакой связи между поведением этих девушек и преступлением, в котором обвиняют Россатти!
Мягкая, невозмутимая Сабина посмотрела на полицейского тем невинным, чистосердечным взглядом, который вызывал у него желание закатить ей пощечину.
— Но как же, синьор? Если Эузебио прогуливался с Эуфразией, значит, он не был с Амедео… и даже, если бы они встретились, Амедео только порадовался бы, что Эузебио предпочитает Аньезе другую девушку!
— А с кем, по-вашему, Таламани обручился в тот день?
Тереза стала объяснять:
— Я думаю, что Эузебио сделал это для того, чтобы мэтр Агостини оставил его в покое, но он все равно никогда не женился бы на Аньезе… На девушке, которую не любят, не женятся, особенно, когда любят другую. Правда, синьор?
— Об этом я ничего не знаю! Кроме того, я уверен, что вы лжете! Бузанела, отведите их в камеру, они поедут со мной в Милан, и наденьте наручники на Россатти. Убийца не должен расхаживать со свободными руками!
Бузанела никогда не отличался особой смелостью; с другой стороны, он полностью подчинялся военной дисциплине. Надеть наручники на капрала, своего непосредственного начальника, было чем-то выходящим за пределы его разумения. Тем не менее, преодолев внутреннее сопротивление, он уже направлялся к Амедео, когда перед ним выросла Элоиза. Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего.
— Только прикоснись к нему! В тот же миг я так изуродую тебя, что ты сам себе испугаешься, если посмотришься в зеркало!
Иларио дорожил сохранностью своих черт, каждой в отдельности и всех вместе. Он обратился за помощью к Тимолеоне.
— Вы не хотели бы надеть на него наручники, шеф?
— Я? Ты это серьезно? Если я не ошибаюсь, ты уже начинаешь отдавать мне приказания, Бузанела.
Вне себя от ярости, Чекотти выхватил наручники из рук карабинера, оттолкнул донну Элоизу и уже собирался надеть их на Амедео, но в это мгновение в кабинет ворвался Замарано со старым охотничьим ружьем в руках, а за ним Зефферино, размахивающий солидной дубиной. Сыровар завопил:
— Здесь, кажется, что-то замышляют против моей дочери? Кто же это? Пусть покажется! Клянусь кровью Спасителя, я выпущу ему кишки и только после этого начну переговоры! А ты, Зефферино, что ты собираешься сделать?
Каменщик завертел своей дубиной, как будто это была обыкновенная тросточка, и бесхитростно сообщил:
— Я размозжу ему черепушку.
Сабина прижалась к своему жениху, а Тереза спряталась за спиной сыровара. Возмущенный этим бунтом, который казался ему невероятным, Маттео резко сказал, обращаясь к Тимолеоне:
— Ну как, синьор? Вы разрешите им безнаказанно издеваться над государственной властью?
В трудные минуты Рицотто всегда проявлял себя как человек долга. Он не разделял мнения инспектора относительно виновности Амедео, но не мог допустить мятежа. Полный решимости выполнить то, что ему повелевал устав, пусть бы даже это разбило его сердце, он тяжело встал, торжественно надел свой форменный головной убор, вытащил из кобуры револьвер и громко сказал:
— Внимание!
Все замолчали, глядя на него удивленно и недоверчиво.
— Внимание!.. То, что вы делаете, опасно! Очень опасно! Из-за этого вы можете попасть на каторгу и там остаться до конца жизни!
Замарано попытался протестовать:
— Только из-за того, что я защищаю свою дочь?
— Нет, из-за того, что ты выступаешь против закона! Положи ружье на пол, Замарано, в противном случае я всажу в тебя пулю!
Такая возможность поразила сыровара.
— Ты… ты бы убил меня, Тимолеоне?
— Если я тебя убью, это будет без злого умысла, а только потому, что я ношу этот мундир и у меня на рукавах нашивки!
Еще не вполне убежденный, Замарано потребовал дополнительных разъяснений.
— А после этого?
— После этого я прикажу отвести тебя в больницу или же пошлю за доном Адальберто. Бузанела, возьми его ружье!
Угрозы начальника карабинеров сломили сопротивление сыровара, и он отдал свое оружие без сопротивления. Зефферино поступил так же.
— А теперь, Тереза и Сабина, подойдите и станьте позади меня, я собираюсь вас допросить.
Девушки были укрощены. Заплакав, они повиновались.
— Что касается вас, синьора Россатти…
Но Элоиза была не из того теста, что все остальные.
— Что касается меня, знаешь, что я тебе скажу, Тимолеоне… Рицотто прикинулся непонятливым.
— Что касается вас, синьора Россатти, то учтите, что вашим поведением вы отягчаете участь вашего сына, и если судьи окажутся более суровыми, чем мы смеем надеяться, это будет по вашей вине. Амедео Россатти, пока я не получу убедительного доказательства твоего преступления, я буду считать тебя невиновным. Ты продолжаешь оставаться капралом карабинерских подразделений и в качестве такового я, твой начальник, приказываю тебе пойти в камеру. Бузанела запрет тебя там.
Чекотти наблюдал с восхищением и некоторой долей зависти за этим неожиданным для него проявлением авторитета Рицотто. Порядок был уже почти восстановлен. Элоиза прислушалась к советам, которые ей шепотом давал сын, и больше не сопротивлялась, найдя прибежище в слезах. Все бы успокоилось, если бы не дон Чезаре… Как раз в этот момент он вошел со своим обычным сердитым видом.
— Эй, Тимолеоне, что за цирк у тебя?
После этого восклицания атмосфера разрядилась. Величия предыдущей сцены как не бывало. Каждый снова начал провозглашать свою точку зрения, подкрепляя ее криками, жестикуляцией, жалобами и угрозами. Маттео испытывал сильнейшее желание послать мэра ко всем чертям. Примирившись с неизбежным, Тимолеоне сдвинул подбородочный ремень, который натирал ему щеки, и снял шапку.
— Дон Чезаре, мы улаживали важное дело.
— Важное дело в Фолиньяцаро? Вот бы не поверил!
— Дон Чезаре, вы хотели мне сообщить что-нибудь важное?
— О да! Если бы это было не так, неужели ты воображаешь, что я прибежал бы сюда, вместо того чтобы вызвать тебя к себе? Но я думал, что застану тебя одного, а когда увидел всю эту толпу, то забыл зачем пришел… Ладно, я вернусь попозже.
Начальник карабинеров поторопился снова натянуть шапку, надеясь, что после ухода дона Чезаре ему удастся вернуть ту атмосферу почтительного повиновения, которую он сумел создать до злосчастного появления мэра.
— Да, конечно, дон Чезаре… или я сам зайду к вам, если только вам не вздумается запереть дверь на ключ!
Старый господин, бывший уже на пороге, сразу обернулся.
— Ключ! Вот, вот! Ты иногда бываешь гениальным, Рицотто! Дверь Джельсомины Карафальда, заведующей почтой, как раз была закрыта на ключ, и я не смог купить марку!
— Закрыта на ключ, дон Чезаре? Вы в этом уверены? Джельсомина так пунктуальна, никакая причина не могла бы помешать ей открыть почту в обычное время.
— В том-то и дело, что причина была… Она мертва.
— Мертва?
Исключая Чекотти, который не знал, о ком шла речь, все одновременно закричали: «Мертва?» Рицотто поднял руку, призывая к молчанию, обязательному при таких печальных обстоятельствах.
— Но, дон Чезаре, как вы об этом узнали, если дверь, по вашим словам…
— Окно было только притворено… Я его открыл и увидел эту бедную Джельсомину. Она сидела, опустив голову на стол.
— Бузанела, беги скорее за доктором, может быть, у нее просто обморок.
— Не думаю.
— Почему?
— Да у нее вся голова разбита.
Глава шестая
Небольшая группа людей приближалась к домику Джельсомины. Они кричали, призывали проклятия на голову убийцы, обращались к божественному милосердию. Первым, опередив остальных по меньшей мере метров на двадцать, мчался Маттео Чекотти. Он совершенно потерял голову при мысли об ответственности, которую налагал на него самый факт его присутствия в Фолиньяцаро. Как объяснить комиссару Рампацо, что в этой деревушке, насчитывающей всего несколько сотен жителей, люди позволяют себе убивать своих ближних под самым носом у инспектора миланской уголовной полиции? Сильно отстав от передних, следовавших за инспектором, медленным шагом шествовал начальник карабинеров. Он не спешил, во-первых, потому, что если бы он бежал, то стал бы задыхаться и был бы смешон, а во-вторых, потому, что галантность обязывала его быть вместе с Элоизой, которая от волнения и из-за своего веса неспособна была участвовать в таком марафоне. Дон Чезаре остался на пороге участка. Он провожал глазами возбужденных людей, спешивших к мертвой женщине, и качал головой, спрашивая себя, не лишились ли все они разума? Придут они на несколько секунд раньше или позже, ведь бедная Джельсомина все равно не оживет. Разве эти несколько секунд имеют какое-нибудь значение по сравнению с вечностью?
Чекотти взломал дверь с помощью Бузанелы и приказал ему не пускать внутрь никого, кроме Рицотто. Остальные запротестовали, возмущенные тем, что миланец собирается один заниматься Джельсоминой, с которой не был даже знаком и которая принадлежала своим друзьям из родной деревни. Бедняжке был нанесен страшный удар по затылку. Смерть, вероятно, наступила сразу. Все ящики были вырваны из их гнезд, бумаги рассыпаны по полу. Безумец, совершивший это омерзительное преступление, убил, по-видимому, с целью ограбления. Маттео спросил у Тимолеоне, со слезами на глазах смотревшего на труп:
— Какие денежные суммы могла она здесь хранить?
— Тысяч десять лир, никак не больше… Кто бы мог подумать, что наша Джельсомина закончит свою жизнь таким образом?.. Ведь она жила вдали от людских страстей… Уже маленькой девочкой предпочитала одиночество… Целые часы проводила в церкви… У нас предполагали, что она станет монахиней, но ее мать не хотела с ней расстаться… Она была такой скромной, незаметной… Никогда не говорила о своих заботах… Всегда была готова оказать услугу… И вот ее убивают из-за нескольких жалких тысяч лир!.. Бедная Джельсомина! К счастью, она не могла предвидеть, что ее смерть произведет такой шум, она бы сгорела со стыда…
Тимолеоне замолчал, задумался на минуту и заключил:
— Какие только подлецы не живут на земле!
Приведенный Бузанелой врач установил, что раздроблена затылочная кость. По его мнению, удар был нанесен очень сильным человеком или в состоянии аффекта. Смерть, по всей вероятности, наступила мгновенно и с тех пор прошло не больше часа или двух. Следовательно, убийца должен был еще находиться в Фолиньяцаро, может быть, даже среди тех, кто толпился перед дверью, а там, в числе прочих, был Амедео Россатти и никто не знал, куда он уходил утром, перед тем как совсем недавно вернулся. У него было достаточно времени, для того чтобы убить заведующую почтой, а потом явиться в участок и спросить с невинным видом, что происходит.
Предоставив заботу о бренных останках Джельсомины врачу и Элоизе, к которой, узнав о случившемся, присоединились другие женщины, Чекотти вернулся с Терезой и Сабиной в участок. На карту была поставлена его репутация и в еще большей степени его карьера. Маттео не мог вернуться в город без убийцы Эузебио Таламани, который без всякого сомнения, убил также Джельсомину Карафальда, хотя, по правде сказать, полицейский и не видел связи между двумя преступлениями. Разве что убийца нуждался в деньгах, чтобы бежать из Фолиньяцаро, не надеясь больше на поддержку девушек. И вот, ради такой ничтожной добычи он убил Джельсомину…
Если раньше Чекотти испытывал какое-то волнение, то теперь он был абсолютно спокоен. Войдя в кабинет начальника карабинеров, он запер дверь, желая подчеркнуть свою решимость покончить с тем, что происходит в Фолиньяцаро. Потом, не повышая голоса, он обратился к Бузанеле:
— Не зная близко этих синьорин, имеющих весьма смутное представление о своем гражданском долге, я лишен возможности установить, кто из них говорит правду и кто лжет. Прошу вас поэтому, карабинер, с разрешения вашего начальника сходить за нотариусом Агостини и за падре, с тем чтобы они поручились — или нет — за нравственность допрашиваемых.
Тимолеоне кивком головы подтвердил свое разрешение, и Бузанела отправился исполнять поручение. Инспектор снова заговорил:
— А теперь выслушайте меня внимательно. Я опять позвоню в Милан и объявлю, что еще раз откладываю свой отъезд. Вы понимаете, вероятно, что я не собираюсь пожертвовать моей карьерой только для того, чтобы доставить вам удовольствие. Добром или силой, но не позже, чем завтра, я отвезу в город виновного или виновных, клянусь вам в этом!
Он вышел из комнаты, оставив присутствующих под сильным впечатлением от услышанного. Говоря с комиссаром Рампацо, он постарался ему объяснить, какая новая драма разыгралась в Фолиньяцаро. Комиссар довольно плохо принял сообщение, подробно изложил Маттео свое мнение о его профессиональных способностях, дал ему сутки отсрочки для выполнения задания и пригрозил, что в случае неудачи пришлет инспектора Джаретту, который его заменит. После этого он положил трубку, желая предотвратить возможные возражения со стороны своего подчиненного. Тот вернулся в кабинет совсем расстроенный: он прекрасно знал о слабости Рампацо к своему коллеге Джаретте.
Заняв свое прежнее место рядом с Рицотто, Чекотти посмотрел на стоявших перед ним девушек и Амедео.
— С самого моего приезда сюда я подозреваю о существовании какого-то заговора, имеющего целью направить меня по ложному следу. Я дал себя обмануть, так как не думал, что девушки из Фолиньяцаро способны лгать правосудию. Это была ошибка, но теперь все изменится, можете мне поверить. Тереза Габриелли, ведь вы не поджидали Россатти у выхода из кафе, как вы утверждали?
— Нет.
— Для чего вы сочинили эту историю?
— Я думала, что Сабина пошла прогуляться с Амедео, а ее возлюбленный гораздо более ревнивый и необузданный, чем мой.
— Значит, когда вы лгали, считая это вашим долгом, вы делали это для Сабины, а не для Россатти.
— Да.
— Сабина Замарано, теперь ваша очередь. Что вас побудило уверять меня, будто вы были в тот вечер с Амедео?
— Я люблю Амедео как брата, с тех пор как мы вместе ходили в школу. Я знала, что вы хотите его арестовать, знала также, что вы ошибаетесь, считая его убийцей. Тогда я решила вам солгать и уговорила Терезу поступить так же, чтобы сбить вас с толку, и выиграть время для тех, кто действительно старается найти убийцу Эузебио Таламани.
Маттео покраснел при этом намеке на свою неспособность.
— Синьорина Замарано, отдаете вы себе отчет в положении, в которое ставите себя, признаваясь, что вы преднамеренно пытались ввести в заблуждение правосудие?
— Теперь вы упрекаете меня за то, что я говорю правду? Вы преследуете Амедео, вместо того чтобы искать убийцу в ближайшем окружении убитого.
— Вы, может быть, думаете, что он сам себя вздул, прежде чем покончить с собой?
— Нет, но его мог избить кто-то, кому не нравилось, что он путается с Эуфразией после обручения с Аньезе.
Тереза перебила подругу:
— С Кларой…
Инспектор, теряя хладнокровие, стукнул кулаком по столу.
— Хватит! Эуфразия или Клара, какая разница? Кроме того, синьорина, вы забываете одно важное обстоятельство: мэтр Агостини был свидетелем драки между Таламани и Россатти.
Сабина и тут не растерялась.
— Дон Изидоро так опасался, что Амедео помешает помолвке его дочери, что был способен все это сочинить, чтобы наказать его за причиненные неприятности.
— Вы считаете нотариуса способным на лжесвидетельство?
Она спокойно посмотрела ему в глаза.
— Почему бы и нет?
— И сделать это только для того, чтобы отомстить Амедео Россатти?
— Или для того, чтобы покрыть поклонника Эуфразии.
Тереза уточнила:
— Клары.
— Хорошо, я допрошу и этих девушек. Если все будет идти как до сих пор, мне придется исповедовать всех барышень в Фолиньяцаро! А теперь, Амедео Россатти, поговорим немного о вас.
— О, я не настаиваю, синьор.
— Зато я настаиваю. Итак, вы создали с помощью этих молодых особ целый ряд
премилых историй, имеющих всего один недостаток, правда, весьма существенный: все они ложные. Я тоже знаю одну историю. У нее, по сравнению с вашими, одно преимущество: она менее запутанная. Если разрешите, я вам ее расскажу.
— Прошу вас, синьор инспектор…
— Благодарю… Так вот. Жил-был в деревне Фолиньяцаро один нотариус. Он очень гордился своей дочерью, самой богатой наследницей во всей округе, а также одной из самых красивых. Он мечтал для нее о браке с молодым человеком, принадлежащим к их кругу, который в дальнейшем мог бы унаследовать его контору. Все это было бы прекрасно, если бы в этой самой деревне не жил некий капрал карабинерских подразделений, сумевший вскружить голову дочери нотариуса до такой степени, что она никого другого не хотела в мужья. Несмотря на это, нотариус обручил свою наследницу с выбранным им женихом, а обезумевший от ярости капрал выпил вина больше, чем следует. К несчастью, случилось так, что ночью на улице он встретил своего соперника. Ослепленный ревностью и злобой, он набросился на него и страшно избил на глазах у остолбеневшего от ужаса нотариуса. Потом, пользуясь отсутствием свидетеля драки, который бросился домой, чтобы взять какое-нибудь оружие, он прикончил своего беззащитного врага. Единственным оправданием убийцы может служить то, что он совершенно потерял голову. Благодаря невероятной слабости сил общественного порядка…
Начальник карабинеров принял непринужденный вид, как будто последнее замечание его не касалось.
— …а также необъяснимому пособничеству, основанному на ошибочном понимании чувства солидарности, капрал мог некоторое время надеяться, несмотря на показания нотариуса, что ему удастся избежать наказания. Но вскоре он понял, что полиция сумеет свести на нет один за другим все аргументы в его пользу и разоблачить обманщиков, и решил побыстрее покинуть Фолиньяцаро и попытаться перейти швейцарскую границу. Но для этого нужны были деньги, а карабинеры, даже в чине капрала, не купаются, как известно, в золоте. Тогда наш герой сообразил, что единственным местом в Фолиньяцаро, где нетрудно раздобыть немного денег, не обращаясь к своим друзьям, является почта. Я убежден, что он не собирался убивать Джельсомину, но щепетильная старая дева оказала ему сопротивление, не дала украсть не принадлежавшие ей деньги. Думаю, что убийца наметил свой побег на следующую ночь… Как вы находите мою историю?
— Она великолепна, синьор инспектор, но, увы! страдает тем же недостатком, что истории Терезы и Сабины.
— В самом деле?
— О да, синьор! Она не соответствует действительности!
— А я, представьте себе, придерживаюсь другого мнения.
Атмосфера снова стала накаляться, но в это время вошел Бузанела, сопровождаемый нотариусом. Дон Изидоро был потрясен.
— Карабинер сказал мне… Джельсомина… Господи! Что же это происходит у нас в Фолиньяцаро?
Но полицейский считал, что теперь не время для жалоб — следовало действовать. Не отвечая мэтру Агостини, он обратился к Иларио:
— А падре где?
— Он вчера вечером уехал в Милан и вернется только после полудня.
Маттео подумал было, что священник поехал, чтобы пожаловаться на него Рампацо, но тут же сообразил, что комиссар не отказал бы себе в удовольствии сообщить ему о визите дона Адальберто. Он этого не сделал, следовательно, падре находится в Милане по другому поводу.
— Ну что ж, придется обойтись без него… Синьор Агостини, эта синьорина подозревает вас в лжесвидетельстве.
— В самом деле?
— Она утверждает, что с вашим клерком дрался не Россатти.
— Но ведь я сам присутствовал при их схватке!
— Именно так. По ее мнению, вы обвиняете Россатти, чтобы отомстить ему за его поведение по отношению к вашей дочери или чтобы спасти кого-то другого.
Нотариус указал пальцем на капрала.
— А что говорит он?
— Что ему нечего сказать.
Дон Изидоро подошел к Россатти.
— Амедео Россатти… Я требую от вас правды… только правды… Я не утверждаю, что вы убили Таламани… Я ушел тогда за моим револьвером, но ведь вы не можете отрицать, что страшно его избили?
Капрал не забыл наставления дона Адальберто: он отказался отвечать.
— Это полиции надлежит найти доказательства того, в чем она меня обвиняет, а не мне представить их ей. Я сожалею, дон Изидоро.
Нотариус повернулся к Сабине.
— А ты, как ты смеешь меня чернить? Когда ты родилась, я уже занимал мою должность. Мы всегда поддерживали хорошие отношения с твоим отцом. Почему ты стараешься выставить меня лжецом?
Девушка упрямо сказала:
— Амедео невиновен!
— Может быть, в смерти Таламани он и невиновен, тем не менее я видел собственными глазами, как он осыпал его ударами!
— Если только вы говорите правду!
Дон Изидоро остался с раскрытым ртом, и Чекотти подумал, что он похож на вытащенного из воды, задыхающегося карпа. Лицо нотариуса побагровело. Подняв руку, он бросился к Сабине, и Бузанела едва успел встать перед девушкой, чтобы ее защитить, в то время как инспектор сухо советовал мэтру Агостини соблюдать спокойствие. Переведя дух, нотариус закричал, заикаясь от возмущения:
— Она смеет!.. эта девка!.. мне!.. мне!.. перед… перед всеми! В первый раз в жизни… такое неуважение… по отношению ко мне!
— Успокойтесь!
— Вы предлагаете мне успокоиться, в то время, как моя порядочность ставится под сомнение? Синьор Рицотто! Я хочу возбудить дело о клевете!
Тимолеоне не стал спорить:
— Это ваше право, дон Изидоро.
— Я прекрасно знаю, что это мое право! Я уничтожу твоего отца, Сабина, слышишь ты? Я уничтожу его! Вам придется уехать из Фолиньяцаро!
Чекотти решил, что развитие спора по такому пути не представляет для него интереса.
— Вы зарегистрируете его жалобу потом, синьор Рицотто. Сейчас мы занимаемся вопросом о двух убийствах, а это более важно. Мэтр Агостини, подозревали ли вы, что Эузебио Таламани встречался с другой девушкой, ухаживая в то же время за вашей дочерью?
— Это еще что за новости?
— Мой вопрос совершенно ясен, я прошу вас ответить на него однозначно: да или нет?
— Нет, конечно, тысячу раз нет! Таламани кроме Аньезе никого не замечал!
Тереза дерзко захихикала, чем и навлекла на себя гнев дона Изидоро.
— А тебе я советую помолчать, в противном случае твоей матери тоже придется терпеть последствия твоего поведения! Синьор инспектор, вы можете опросить всех, кто его знал: у Эузебио ни с одной женщиной в Фолиньяцаро не было романа. Я бы этого не потерпел!
— При условии, что вы знали бы об этом!
— Поверьте, здесь все очень быстро узнается!
— За исключением тех случаев, когда нужно обнаружить убийцу.
— Это только означает, что его не хотят найти.
И нотариус многозначительно посмотрел на начальника карабинеров. Полицейский подтвердил:
— Это и мое мнение. Вот что я решил: до получения определенных доказательств неправоты мэтра Агостини, я буду основываться на его показаниях. Исходя из этого, я подозреваю Амедео Россатти в убийстве Эузебио Таламани как соперника, отнявшего у него любимую девушку, а также в убийстве Джельсомины Карафальда с целью ограбления почты, для того чтобы раздобыть деньги, необходимые ему для бегства. Я подозреваю его в том, что с помощью синьорин Терезы Габриелли и Сабины Замарано он вел сложную интригу с явным намерением заставить меня подозревать какое-то неизвестное лицо или обеспечить себе алиби, оправдывающее его в моих глазах. Поэтому я арестую Амедео Россатти. Он будет немедленно заключен в камеру, а его охрана поручается начальнику карабинеров Рицотто. Что касается молодых девушек, которые оказались настолько глупы, что позволили вовлечь себя в противозаконные действия, то я до сегодняшнего вечера обдумаю, как с ними поступить, не забывая при этом, что их неопытность легко могла быть использована в преступных целях. Они будут подвергнуты аресту у себя дома, и за них будут нести ответственность их родители, возможно, одураченные ими. Но это еще следует доказать, чем я займусь, до того как окончательно — и с облегчением — покину Фолиньяцаро. Сабина Замарано, и вы, Тереза Габриелли, отправляйтесь к себе и не выходите ни под каким видом, прежде чем я вам разрешу. Мэтр Агостини, благодарю вас за помощь, оказанную следствию. Вы свободны. Синьор Рицотто, будьте любезны, прикажите карабинеру Бузанеле запереть Россатти.
Чекотти снова сел, вполне удовлетворенный произведенным эффектом, если судить по вытянутым физиономиям большинства присутствующих. Тимолеоне скомандовал прерывающимся от волнения голосом:
— Бузанела… запри Амедео.
Когда капрал оказался по другую сторону двери, первым ушел мэтр Агостини. За ним последовали Тереза и Сабина. Бузанела вернулся на свой пост у порога.
Маттео испытывал значительное облегчение. Он не сомневался, что следствие подходит к концу, и эта уверенность заметно улучшила его настроение.
— Синьор Рицотто, я должен допросить двух девушек, Эуфразию и Клару, о которых говорили эти лгуньи. Как их найти?
— Они живут со своими родителям. Бертолини — сапожник. Если вы пойдете по дороге, которая ведет к дому мэра, то вскоре услышите, как Бертолини свистит. Заблудиться невозможно. Вам останется только идти в сторону свиста, но, знаете ли, синьор инспектор, Эуфразия и Клара…
— …хорошие девочки, такие же как Тереза и Сабина, не правда ли? Признаюсь вам, синьор Рицотто, я по горло сыт вашими хорошими девочками из Фолиньяцаро!
После этого безапелляционного заявления Маттео Чекотти отправился на поиски той, которая будто бы пленила Таламани.
* * *
В самом деле, свист сапожника был слышен издалека. Это был настоящий виртуоз, как сразу понял инспектор. Сперва до него доносились гаммы, то восходящие, то нисходящие, со всевозможными модуляциями, потом полились народные песни; звуки удлинялись, укорачивались, варьировались на все лады. На сцене какого-нибудь мюзик-холла это искусство могло бы, несомненно, принести исполнителю заслуженную известность. Подчеркивая окончание музыкальных фраз ударами молотка, сапожник Бертолини насвистывал «Ты романтична», модную мелодию, которую Чекотти не замедлил узнать. Сам того не замечая, он стал напевать ее слова. Ты романтична… Внезапно он резко оборвал свое пение. Романтична! О да! Девушки из Фолиньяцаро, которые преследовали его, как кошмар, были, возможно, романтичны в своей верности Амедео Россатти, но их дурацкие действия страшно раздражали инспектора, и он не сомневался, что сохранит о них самое отвратительное воспоминание. Полный мстительной решимости, Чекотти вошел в мастерскую сапожника. При виде его тот прекратил свои музыкальные упражнения.
— Вы Бертолини?
— Да.
— Ваши дочери дома?
Выражение лица сапожника сразу изменилось. Сжимая в правой руке молоток, он бросил на Маттео угрожающий взгляд.
— А вам что до этого?
— Мне нужно с ними поговорить.
— И вы воображаете, что первый встречный может разговаривать с моими дочерьми, не попросив у меня разрешения?
— Люди моей профессии не обязаны ни у кого спрашивать разрешения, синьор Бертолини. Я полицейский инспектор.
— И это дает вам право вести себя у меня как хозяин?
— Так дома ваши дочери или нет?
— Что вам от них нужно?
— Вы обязательно хотите, чтобы я привлек вас к ответственности за сопротивление правосудию?
— Мои дочери не имеют никакого отношения к правосудию!
— Это не вам решать! Где они?
— Вы будете с ними разговаривать при мне. Знаю я вас, городских! Вы думаете, что с деревенскими девушками можно все себе позволить…
— Закончили? А что до девушек из Фолиньяцаро, то если бы я оставался наедине с одной из них на необитаемом острове, я скорее начал бы ухаживать за каким-нибудь скорпионом, чем за ней!
Бертолини недоверчиво посмотрел на него и сделал свой вывод:
— Вы, должно быть, ненормальны…
Потом, поднявшись, он закричал изо всех сил:
— Эуфразия!.. Клара!.. Идите сюда, мои ягнятки!
Ягнятки, которые, по-видимому, подслушивали под дверью, вошли бок о бок в мастерскую с лицемерно невинным выражением лица, чем сразу вызвали раздражение полицейского. Здесь тоже, подумал он, трудно будет узнать правду, она, кажется, не в почете в Фолиньяцаро. Бертолини величественным жестом указал на дочерей.
— Вот Эуфразия… Вот Клара… Что скажете?
— А что я должен сказать?
— Можете искать, где угодно, вам не найти более красивых, умных и добродетельных девушек! Обе в отца!..
— Нисколько не сомневаюсь, но я здесь не для того, чтобы их рассматривать с этой точки зрения.
Заставляя себя говорить как можно суше, Чекотти не мог удержаться от некоторого волнения при виде двух очаровательных брюнеток с прекрасными фигурами. Отцовская гордость была понятна, хотя Маттео и считал ее неуместной в данной ситуации. Эуфразия и Клара были, вероятно, близнецами, но полицейский воздержался от уточнения этого пункта, опасаясь дать сапожнику новый повод для восхваления своих малюток. У Эуфразии, казалось, были более светлые глаза, чем у Клары. Это было единственное различие, которое инспектор заметил с первого взгляда.
— Детки, этот синьор приехал из Милана… Он хочет вас расспросить… не знаю о чем… Во всяком случае, я остаюсь с вами.
Чекотти понял, что сапожник лжет, что он полностью осведомлен о причинах появления полицейского инспектора, однако, делает вид, что это ему не приходит в голову.
— Я расследую обстоятельства смерти Таламани.
— А, так это вы подняли всю эту суматоху в наших краях?
— И собираюсь поднять еще большую!
— Когда человеку нечего делать, он тратит свое время на всякую ерунду…
В глубине души Маттео поклялся все стерпеть и не терять хладнокровия, необходимого ему при встречах с хорошенькими лгуньями Фолиньяцаро.
— Не все могут быть сапожниками.
— Это точно… Нужны способности…
— Именно. А теперь, после того как вы дали мне понять, что считаете меня ни на что не годным лентяем, может быть, вы разрешите мне заняться моим делом, синьор Бертолини?
Сапожник пожал плечами и, чтобы показать, что его совершенно не интересует происходящее, вернулся к своим башмакам, насвистывая какую-то песенку.
— Ах нет, прошу вас! Помолчите!
— Вот еще! Вы не имеете права приказывать мне!
— Хотите, чтобы я доказал вам, что имею?
— Во всяком случае, поторопитесь, у моих дочек есть дела… Они ведь не служат в полиции!
Чекотти решил не обращать больше внимания на этого типа, старавшегося его поддеть, и занялся дочерьми.
— Скажите, синьорины, которая из вас встречалась с Эузебио Таламани?
Обе ответили в один голос:
— Я.
Сапожник резко вмешался в это многообещающее начало разговора:
— Поосторожней!.. Вы оскорбляете моих дочерей, а я этого не потерплю, будь вы хоть трижды инспектор!
— Оставьте меня, наконец, в покое, слышите вы?!
Свирепость этого окрика заставила Бертолини отступить, но Маттео показалось, что под его усами промелькнула тень улыбки, и он догадался, что попал в ловушку, расставленную этой троицей, которая оказалась ничуть не лучше, чем все те, кого он встречал до сих пор.
— Послушайте, Эуфразия, и вы, Клара…
Сапожник вставил:
— Я нахожу, что вы слишком фамильярны с моими дочерьми, синьор полицейский!
— …я повторяю свой вопрос: кто из вас двоих встречался с Таламани?
И снова они ответили одновременно:
— Я.
Потом они посмотрели друг на друга, и Эуфразия попрекнула сестру:
— Почему ты лжешь, Клара?
— Это ты лжешь, Эуфразия. Только зачем?
— Эузебио любил меня… Он мне поклялся, что дал обручить себя с Аньезе только для того, чтобы не сердить мэтра Агостини, но что он никогда не женился бы на ней!
— Само собой разумеется, потому что он собирался жениться на мне!
— Это неправда. Его женой должна была стать я!
— Ты? Не смеши меня!
— Мы однажды говорили о тебе, и он признался, что ты его не интересуешь!
— Он скрывал свои намерения, хотел, чтобы наша любовь оставалась тайной.
— Настолько тайной, что она существовала только в твоем воображении!
— Лгунья! И вот тебе доказательство: когда стало известно, что он убит, я слегла, так мне было плохо.
— Ты слегла, потому что съела слишком много миндального печенья.
— Ты ревнуешь!
— Ты завидуешь!
Они походили на двух кошек, которые то мяукают, то шипят и готовы наброситься друг на друга, выпустив когти.
Бертолини указал на них Чекотти.
— Ваша работа!
Было совершенно очевидно, что они разыгрывают комедию. Их ссоре недоставало убедительности, а улыбка отца опровергала искренность взаимных упреков. Если бы инспектор не имел еще дела с девушками из Фолиньяцаро, он, пожалуй, попался бы на удочку, но воспоминание о Терезе и Сабине, давшее новую пищу его женоненавистничеству, было свежо в его памяти. Он дал им возможность, как следует развернуться, прежде чем скомандовал:
— Хватит!
Они замолчали, видимо, усмиренные, но Маттео знал, что это далеко не так.
— Главное, не думайте синьорины, что ваша маленькая — и неудачная — комедия меня одурачила.
Полицейский залюбовался на невинное удивление, которое, казалось, парализовало их после этого замечания. Решительно, девушки из Фолиньяцаро были врожденными актрисами!
— Раньше чем позволить вам продолжать ваш номер, я считаю нужным предупредить вас, что по сообщенным мне сведениям одна из вас была с Эузебио незадолго до его смерти, может быть, даже в тот миг, когда он встретил своего будущего убийцу. Следовательно, она является свидетельницей и обязана говорить только правду под страхом очень серьезных санкций. Вы меня хорошо поняли? Теперь снова ставлю тот же вопрос: кто сопровождал Эузебио Таламани в вечер его смерти?
Нимало но смутившись, девушки опять дружно ответили:
— Я.
У Маттео сжались кулаки. Он догадывался, что за его спиной Бертолини подмигивает дочерям, и хотел уже обернуться и перенести весь свой гнев на сапожника, но в это время тот сам вмешался в разговор:
— Внимание, детки!.. Вы слышали, что сказал синьор инспектор? Вопрос стоит серьезно! Этот Эузебио немногого стоил, но все же… Вы должны повиноваться!
Полицейский изменил форму вопроса:
— Которая из вас лжет?
Указывая друг на друга, они воскликнули с одинаковой убежденностью:
— Она!
— Прекрасно… Собирайте ваши вещи, я увожу вас с собой.
Бертолини запротестовал:
— Вы их увозите… вы их увозите! Минутку! А куда вы их увозите?
— В тюрьму.
— Ну вот еще!.. Подождите, вы слишком резко с ними разговариваете. Вы не знаете, как за них взяться… Эти девчонки очень чувствительны… Лучше я сам с ними поговорю…
И не дожидаясь ответа, он обратился к своим наследницам:
— Слушайте, девочки, с меня хватит! Если я правильно понял, то по крайней мере одна из вас встречалась с Таламани, и это без моего разрешения! Этой бесстыжей я задам такую трепку, что она будет о ней помнить всю свою жизнь. Так вот: которая из вас?
Отвечайте или я буду колотить обеих до тех пор, пока не узнаю правды!
Последовало короткое молчание, во время которого Эуфразия и Клара смотрели друг другу в глаза пока, наконец, Эуфразия не призналась:
— Это я…
Сапожник торжествующе посмотрел на Чекотти:
— Видите, синьор? Но скажи нам, Клара, почему ты уверяла, что это ты?
— Я хотела помочь Эуфразии.
Сапожник снова взглянул на Чекотти, видимо, ожидая одобрения.
— Какое у нее доброе сердце, правда? Вылитый я! В ее возрасте мне случалось получать взбучку за других… Наследственность что-нибудь да значит… А теперь, Эуфразия, тебе придется объяснить свое поведение! Чего ты хотела добиться, встречаясь с этим типом?
— Я сказала неправду, папа.
— Сказала неправду?
— Да, чтобы позлить Клару. Бертолини призвал Маттео в свидетели:
— А вот это ее бедная мать… Моя дорогая несчастная жена только тогда и бывала довольна, когда ей удавалось втянуть других в какую-нибудь неприятную историю… Не бойся, Эуфразия… Скажи нам правду.
Чекотти прикинулся удивленным:
— А что, это слово известно в Фолиньяцаро?
Оставив без внимания ироническое замечание инспектора, сконфуженная Эуфразия приступила к признаниям:
— Я знала о склонности Клары к Таламани… Таламани ведь был синьором… Меня это заставило ревновать, и я дала ей понять, что мы тайком встречаемся… Тогда ревновать стала она. Но Таламани ни о ком, кроме Аньезе, не думал, и Клара это знала. В день помолвки Аньезе и Эузебио она подняла меня на смех, а я, желая защититься, сочинила целую историю… Я сказала ей, что в действительности Эузебио любит меня, а дочь нотариуса только для отвода глаз… Она мне не поверила, и я поклялась, что жених назначил мне свидание на этот самый вечер, чтобы доказать, как мало значения для него имеет Аньезе… Я дождалась, когда он проходил мимо нашего дома, спустилась на улицу и подошла к нему…
— Я это видела!
Выражение лица Бертолини при этих словах заставило Чекотти подумать, не приближается ли дело к развязке. Может быть, он все-таки узнает наконец правду? Он сказал:
— Взвешивайте хорошенько ваши слова, Клара… Вы уверены, что видели, как ваша сестра подошла к Таламани?
— Да… Меня даже удивило, что они не поцеловались.
Сапожник завопил:
— Только этого не хватало! Я бы ему тут же свернул шею, можете не сомневаться!
А что, если под чудаковатой внешностью Бертолини скрывался ревнивый отец, способный нанести смертельный удар человеку, который без его ведома ухаживал за одной из его дочерей? Но почему, в таком случае, была убита Джельсомина? Чекотти по-прежнему считал, что оба убийства связаны между собой, хотя и не понимал, каким образом.
— Вы слышали, Эуфразия, что сказала ваша сестра?
— Она ошибается.
Клара покачала головой, давая понять, что она уверена в своих словах.
— Как могла родная сестра вас не узнать?
— Клара стояла у окна нашей с ней комнаты… Когда я вышла на улицу, храбрость мне изменила. Я уже собиралась вернуться и признаться сестре в обмане, но в это время увидела, как кто-то остановил Таламани…
— Это был мужчина или женщина?
— Женщина… Я дала им удалиться, сама же проскользнула в наш сад и там подождала с полчаса. Потом поднялась и рассказала сестре со всеми подробностями о своей прогулке с клерком нотариуса… Клара мне поверила — она была уверена, что видела меня с Таламани.
Сапожник вздохнул:
— Вот так-то лучше!
— По-моему, тоже!
И Клара поцеловала сестру, которая вернула ей ее поцелуй. Растроганный Бертолини похлопал полицейского по плечу.
— После этого вы будете утверждать, что мои дочери не хорошие девочки?
Но Чекотти сейчас трудно было растрогать. Он прервал нежные излияния, спросив:
— Эуфразия, узнали вы ту, с кем ушел Таламани?
Страшно смутившись, она посмотрела на отца и сестру, как будто просила у них позволения ответить.
— Да или нет?
Она ответила утвердительно, но так тихо, что об этом можно было только догадываться.
— Кто это был?
— Аделина.
— Какая Аделина?
— Аделина Гамба, дочь кузнеца.
Все начиналось сначала! Инспектор готов был рвать на себе волосы! Ему придется, видно, допросить все женское население Фолиньяцаро. Он ясно чувствовал, что его водят за нос, но не решался оставить без внимания новый след, хотя сразу заподозрил, что он ложный. Он мог поклясться, что за всю историю миланской уголовной полиции ни одному полицейскому не приходилось находиться в подобной ситуации. Эти циничные девицы швыряли его, как мячик, одна к другой. Тереза, Сабина, Эуфразия и Клара казались ему видениями из кошмарного сна, ведущими вокруг него дьявольский хоровод, в котором появлялись все новые и новые фигуры.
* * *
Направляясь к кузнецу Гамбе, Чекотти мысленно вернулся к неудачам, которые преследовали его с самого приезда в Фолиньяцаро. Совсем простое дело, казалось бы, но кто-то намеренно старался его запутать. Кто? Один пункт оставался непреложным: Амедео встретил Эузебио, и они подрались на глазах у нотариуса. Что произошло во время отсутствия дона Изидоро, ушедшего за оружием? Может быть, Эузебио стал одолевать своего противника, и тот потерял голову? Как бы то ни было, он достал свой нож и нанес клерку меткий удар. Как только весть об убийстве облетела деревню, все Фолиньяцаро, где Таламани, да и нотариус тоже, не пользовались большой симпатией, объединилось на защиту Россатти, и Тимолеоне Рицотто был во главе этого движения. Но кому пришло в голову организовать всю эту чехарду с девушками? Кто пользовался достаточно большим влиянием на них, чтобы заставить повиноваться? На мгновение в уме Маттео промелькнул образ падре Адальберто, но он тут же отбросил это предположение: священник не мог защищать убийцу. Кроме того, если допустить, что никто не сожалел о Таламани, то уж Джельсомину, несомненно, уважали все. Продолжая поддерживать Амедео, хотели ли жители Фолиньяцаро выразить таким образом свою уверенность в том, что убийство старой девы было совершено кем-то другим? В общем, полицейский был вынужден признать, что он нисколько не продвинулся, с тех пор как в первый раз переступил порог кабинета начальника карабинеров.
Чекотти, может быть, и не обладал блестящим умом, зато он отличался редким упорством. У него не было ни малейших иллюзий относительно того, что происходит в данный момент. Он не сомневался, что за занавеской каждого окна, мимо которого он проходит, скрываются люди, насмешливо наблюдающие за ним и точно знающие, куда он идет. Но эти мужчины и женщины ошибаются, если воображают, что они могут заставить его отступить. Несмотря на давление со стороны комиссара Рампацо, инспектор твердо намеревался оставаться в Фолиньяцаро сколько понадобится, изобличить убийцу Таламани и Джельсомины, а также сорвать маску с того, кто приводил марионеток в движение. Черпая силу в этой уверенности, он готовился выслушать все небылицы, которые ему преподнесет Аделина Гамба, и почти весело спрашивал себя, к кому она его отошлет. Кто бы это ни был, скорее всего, очередная девушка, он пойдет к ней, а потом к следующей и так далее! Ведь, в конце концов, число молодых девушек в Фолиньяцаро не было бесконечным! Понравится это им или нет, но он всю ночь будет стучать в двери домов и разговаривать с разными Лидиями, Антониеттами, Марами или Жозефинами, пока не дойдет до последней, и вот тогда-то…
Кузнец жил на восточном краю деревни. По мере того как Маттео приближался к его дому, он чувствовал, что его раздражение проходит и уступает место какой-то насмешливой растроганности. В самом деле, все эти плутовки, которые высмеивали его с таким лукавым простодушием, были прехорошенькими. Особенно Сабина… К сожалению, она была обручена с этим верзилой-каменщиком, с такой легкостью вертевшим тяжелую дубину для разбивания камней. Жаль… А собственно, почему? Что за новости! Инспектор мысленно выругал себя за эту минутную слабость. Не собирался же он влюбиться в какую-то деревенскую красотку только потому, что она казалась ему привлекательной? Брак был подходящим делом для других, для глупцов. Что касается его, то он дорожил своей свободой, своим спокойствием… Поэтому следовало как можно скорее уехать из Фолиньяцаро, но не раньше, чем он сумеет увезти с собой убийцу. Несмотря на упреки в собственный адрес, Маттео, сам того не замечая, насвистывал «Ты романтична» пока не дошел до кузницы Гамбы…
Там, казалось, никого не было. Маттео позвал:
— Эй!.. Есть здесь кто-нибудь?
Никто не ответил. Он вошел в пустую кузницу, посмотрел на молот, на наковальню. Они напомнили ему каникулы, проведенные когда-то в деревне где жила его бабушка.
— Вам что-нибудь нужно, синьор инспектор?
Он увидел ту, которая к нему обратилась. Она стояла, окруженная солнечным нимбом, похожая на фею из сказки. Лицо ее было в тени, и он пошел к ней навстречу, желая поскорее увидеть его. Подойдя ближе, он обнаружил, что она красивее всех девушек из Фолиньяцаро, которых он видел до сих пор, и обрадовался, сам не зная почему. Она улыбнулась.
— Мой отец и брат ушли в Домодоссолу. Я одна. Но ведь вы хотите говорить именно со мной, синьор инспектор, не правда ли? Меня зовут Аделиной.
— Да, действительно, с вами… А как вы догадались, что я полицейский инспектор?
— Потому что я знаю вас… Ваше имя Чекотти… Маттео… Маттео Чекотти.
Маттео никогда еще не приходилось слышать, чтобы его имя произносили таким образом. Это было какое-то воркованье, смягчавшее тоническое ударение, наводящее на мысль о любовных признаниях.
— Маттео очень красивое имя…
Инспектор почувствовал смущение.
— Я слежу за вами, с тех пор как вы приехали в Фолиньяцаро.
— Следите за мной? Почему?
— Потому что вы мне нравитесь… Пойдемте в сад, если хотите. Там разговаривать будет удобнее, чем на кухне.
Он пошел за ней, понимая, что она взяла на себя руководство военными действиями, но не сопротивлялся, чувствуя себя растерянным после ее неожиданных слов. Остановившись перед капустной грядкой, она сказала ему с прелестной улыбкой:
— Надеюсь, вы не шокированы, синьор? Наши девушки гораздо смелее городских, они не могут позволить себе упустить благоприятный случай, женихи здесь слишком редки.
Дрожь пробежала по позвоночнику Маттео.
— Вы думаете, что я…
— Нет, нет, синьор инспектор! Конечно же, нет… Вы для нас, как сказочный принц, который на своем пути покоряет пастушек… Они знают, что он не остановится, но ничто не мешает им мечтать об этом, понимаете? На большее же храбрости не хватает…
Никому еще не приходило в голову сравнивать Маттео Чекотти со сказочным принцем! Польщенный, взволнованный, полицейский не знал, как себя держать. Все его предубеждения против женщин рассеялись, как дым, от одной только улыбки Аделины. Маттео никогда не знал, о чем разговаривать с представительницами слабого пола, кроме тех случаев, когда он их допрашивал в связи с каким-нибудь преступлением. Он поднял глаза к небу, как будто искал там помощи, и небо, явно желавшее ему добра, устроило так, что в это время по его лазури проплыло облачко, чьи очертания сильно напоминали профиль комиссара Рампацо. Инспектор, близкий к тому, чтобы затеряться на дорожках нежных чувств, был возвращен на путь долга и вновь обрел свое критическое чутье. А что, если эта девушка, как и все остальные, смеялась над ним? Может быть, ее приветливость, ее полупрозрачные намеки, были следствием хорошо продуманной тактики? Эти чертовки из Фолиньяцаро не брезговали, видно, никакими средствами! Он сразу возненавидел ту, которая шла рядом с ним, вернее, он попытался ее возненавидеть, но оказалось, что это очень трудно. Стоило ему на нее взглянуть, как его сердце начинало биться сильней! Ему все же удалось заставить себя думать о своем задании, и он сурово спросил:
— Почему вы пошли пройтись с Таламани в тот вечер, когда он был убит?
Она сдержанно усмехнулась.
— Так вам рассказали об этом?..
— Да, мне рассказали.
— И вы пришли сюда для того, чтобы получить ответ на этот вопрос?
— По какой другой причине мог я прийти?
Она печально взглянула на него и трогательно вздохнула.
— Ну, конечно…
— Вы любили этого Таламани?
— Я? Как такая мысль могла вам прийти в голову?
— Это не мысль, а вопрос!
— Я с ним была едва знакома!
— Но все же достаточно для того, чтобы встречаться с ним тайком.
— Это было в первый раз… Мне не хотелось, чтобы у меня дома об этом узнали. Я скучаю в Фолиньяцаро, синьор, и надеялась, что Таламани как житель Милана сумеет мне посоветовать, чем бы я могла заработать себе на жизнь, если я решусь туда уехать. Мне так хочется жить в городе…
— Допустим. Вы никого не встретили во время вашей прогулки?
— Никого.
— Долго вы гуляли?
— Около получаса.
— Где вы расстались?
— У церкви.
— Следовательно, вы не могли не пройти мимо кафе Кортиво. Там еще оставалось много народа?
— Кафе было закрыто.
Это была умелая тактика. Покойный не мог ни подтвердить, ни отрицать того, что говорила Аделина. В отличие от своих подруг, она никого не подозревала, никого не разоблачала. Ее слова вполне убедительно опровергали свидетельство нотариуса, у которого теперь не было возможности доказать, что он действительно присутствовал при драке Амедео с Эузебио. Было известно только одно: клерка кто-то избил до того, как заколоть. Но кто? Все снова возвращалось к исходной точке. Чекотти был опытным полицейским, он прекрасно понимал, что не сможет арестовать Амедео на основании ничем не подкрепленного обвинения нотариуса, к тому же неполного, потому что мэтр Агостини не решался прямо обвинить Амедео в убийстве Таламани. Несмотря на эти соображения, Маттео был по-прежнему убежден в виновности Россатти, но не мог не признать, что тактика девушек из Фолиньяцаро мешает ему действовать. Он сердито сказал:
— Вы, конечно, лжете?
Аделина лучезарно улыбнулась:
— Вы так думаете?
— Не только думаю, я в этом убежден.
Ее серебристый смех окончательно взбесил полицейского. Он схватил девушку за плечи и довольно грубо встряхнул.
— Вы воображаете, что можете одурачить меня вашими хитростями? Лгунья! Слышите? Вы лгунья! Самая отъявленная из всех! Остальные довольствовались тем, что пытались меня навести на ложный след, тогда как вы, зная, что вы красивы и внушаете желание поцеловать вас, взять вас в свои объятия…
— Но вы уже держите меня в ваших объятиях, синьор… Он сразу выпустил ее и стоял в нерешительности. Она воспользовалась этим, чтобы его заверить:
— Несмотря на все это, синьор, вы мне очень симпатичны и имя Маттео мне очень нравится.
Он ушел, не отвечая, так как не знал, что ответить.
* * *
Втайне Тимолеоне Рицотто был на стороне Амедео и его защитников, но когда он увидел, как расстроен миланский полицейский, то не мог не пожалеть его. Прийдя в участок, Чекотти уселся в уголок и продолжал там сидеть, погруженный в задумчивость. Тимолеоне не решался прервать ее.
— Скажите, синьор… Они все такие в Фолиньяцаро? Рицотто, не ожидавший вопроса, вздрогнул.
— Простите?
— Я спрашиваю, все ли девушки в Фолиньяцаро такие, как те, с которыми я встречался.
— Думаю, что да…
— Это ужасно…
— Уверяю вас, синьор, к этому привыкаешь!
— Ваша жена была родом отсюда?
— Да.
— И несмотря на это, вы на ней женились? Вы смелый человек…
— А также неосторожный.
— Извините мое любопытство, синьор… Это долго продолжалось?
— Около тридцати лет.
— И… очень вам было тяжело?
— Очень.
— В общем, обладая таким опытом, вы, вероятно, отсоветовали бы жениться всякому разумному человеку?
— Это зависит от того, на ком.
— Во всяком случае, не на девушке из Фолиньяцаро?
Маттео не удалось узнать ответ Тимолеоне, потому что в эту минуту дверь кабинета распахнулась под натиском похожего на гориллу человека, на котором буквально висел карабинер Бузанела. При виде этой картины Тимолеоне закричал:
— Что это означает? Что тебя принесло сюда, Кристофоро Гамба? Кто тебе разрешил войти? Бузанела, вышвырни его вон!
Смехотворное приказание! Бедный Иларио и так делал неимоверные усилия, стараясь задержать колосса, который подошел к Чекотти и крикнул ему прямо в лицо:
— Это вы полицейский из Милана?
Возмущенный грубостью этого обращения, Маттео, в свою очередь, высокомерно спросил:
— А вы кто?
В это мгновение его собеседник схватил его за лацканы пиджака, оторвал от стула и поднял сантиметров на десять от пола. Маттео висел в воздухе, тщетно болтая ногами, чтобы освободиться, и понимая всю нелепость своего положения. Тимолеоне в ужасе закричал:
— Ты отправишься за это в тюрьму, Кристофоро!
— Плевать я хотел! Для меня честь сестры на первом месте!
Этот неожиданный ответ сразу заставил Рицотто забыть о своем негодовании. Щепетильность его соотечественников в некоторых вопросах была ему хорошо известна, и он стал опасаться худшего. Кристофоро тем временем вернул Чекотти на землю и стал страшно его трясти.
— Что вы сделали с Аделиной? Сейчас же скажите, что вы с ней сделали?
— Я? Но… но я ничего с ней не сделал!
— Почему, в таком случае, я застал ее всю в слезах, когда зашел в сад?
— Как я могу это знать?
— А если я придушу вас, память к вам, может быть, возвратится?
Понимая, что в таких обстоятельствах силу применить невозможно, начальник карабинеров попробовал прибегнуть к убеждению, чтобы усмирить обезумевшего парня.
— Рассуди сам, Кристофоро, если ты его придушишь, то ведь он уже никогда ни о чем не вспомнит!
Но логика этих слов ускользнула от брата Аделины.
— Она поклялась мне, что вы обняли ее!
— Это правда, но…
— Он признался! Вы слышали? Он признался! За дело! Сейчас я придушу его!
В это время Бузанела, незаметно вышедший перед этим, вернулся, держа в руках бутылку, к счастью, пустую, которую он тут же разбил о голову Кристофоро, ухнув при этом, как дровосек. Кристофоро повалился на пол, как подкошенный. Иларио воспользовался этим, чтобы надеть на него пару крепких наручников, после чего гордо выпрямился в предвкушении поздравлений, которые не заставили себя ждать.
— Превосходная инициатива, Иларио. Оставайся около него, и если он попытается встать… действуй согласно инструкции. Что касается вас, синьор инспектор, позвольте выразить вам мое сожаление по поводу вашей неосторожности!
Чекотти, который, весь дрожа от унижения, приводил в порядок свою одежду, заорал:
— Неосторожность?!
— Да ведь ухаживать за Аделиной Гамба — это безумие!
— Но я даю вам слово…
— Я знаю, синьор, она, безусловно, самая красивая девушка в Фолиньяцаро, но я также знаю, что ее отец и брат страшные грубияны. Они всегда готовы наброситься на каждого, кто посмотрит на Аделину не так, как им хочется!
— Повторяю, синьор, я не позволил себе ни малейшего неуместного жеста по отношению к этой девушке!
— Согласен, синьор инспектор, согласен… Вы, вероятно, держали ее в объятиях для того, чтобы заставить ее смотреть вам прямо в лицо во время допроса? Заметьте, однако, что у нас не привыкли к этим миланским методам, вот почему…
— Клянусь вам, синьор, что… А впрочем, какая разница?
Оба на минуту замолчали, потом Рицотто снова заговорил. Тон его выражал братское сочувствие.
— Вы поэтому меня спросили, что я думаю о браке, да? Значит, Аделина так сильно вам нравится?
Вопль, который издал пришедший в сознание Кристофоро избавил Чекотти от необходимости отвечать. Начальник карабинеров занялся узником:
— Кристофоро, я уважал тебя, а ты… ты разочаровал меня!
— Снимите с меня эти наручники! Я не преступник!
— Понимаешь ли ты, глупец, что поднял руку на инспектора уголовной полиции?
— Ну и что? А он разве не поднял руку на мою сестру?
— Ты уверен, что слегка не преувеличиваешь?
— Когда я вернулся домой, Аделина заливалась слезами… Она, оказывается, неравнодушна к этому субъекту… Подумать только, к полицейскому! Нет, можно только пожалеть, что имеешь сестру!
— Думай, о чем ты говоришь, Кристофоро, не забывай, что ты обращаешься к начальнику карабинеров и что карабинеры тоже принадлежат к полиции!
— Да, но вы, вы порядочный человек… Аделина рассказала нам, что когда этот тип обнял ее, она подумала, что он собирается сделать ей предложение, но как только он получил то, что хотел, он тут же смылся. Отец сразу пошел за своим ружьем… Я потому и прибежал сюда первым, что испугался, как бы не было смертоубийства!
Чекотти запротестовал:
— Я и не прикоснулся к вашей сестре! Во всяком случае, не в том смысле, что вы имеете в виду! Я хотел получить от нее сведения, а ваша Аделина оказалась отъявленной лгуньей!
Кристофоро призвал Рицотто в свидетели:
— Слышите? Теперь он ее оскорбляет. А кому будет нужна Аделина после того, как этот шпик ее обесчестил? Один из нас, отец или я, должен его убить, чтобы вернуть семейству Гамба честь!
Подобные угрозы выводили Рицотто из себя.
— Сделай одолжение, оставь меня в покое с вашей фамильной честью! В противном случае я вас обоих заключу в тюрьму до тех пор, пока Аделина не выйдет замуж или не станет монахиней!
Половина деревни могла слышать крики, доносившиеся из участка. Они возбудили любопытство нотариуса, совершавшего свою предобеденную прогулку, и он зашел туда. Вид Кристофоро в наручниках навел его, вероятно, на мысль, что тот убил Таламани.
— Так это он?
Рицотто с удовольствием послал бы нотариуса ко всем чертям, но он не мог себе этого позволить.
— Он… кто он?
— Убийца Эузебио.
Кристофоро сделал страшное усилие, пытаясь разорвать цепочку, сковывавшую его руки. При этом он клялся разорвать нотариуса на части и утверждал, что понадобится несколько ящиков, чтобы увезти то, что от него останется. Мэтр Агостини очень плохо воспринял эти угрозы и предложил Тимолеоне зафиксировать слова Кристофоро, так как он собирается подать на него в суд и потребовать возмещения убытков. Потом, когда ему объяснили причину всего этого шума, он признал правоту Чекотти, выразил свою уверенность в том, что Аделина лжет, и сказал, что она нисколько не лучше, чем ее брат и отец. Карабинеру Бузанеле пришлось усесться на живот сыну кузнеца, чтобы помешать ему встать. Никто из взволнованных и рассерженных людей не заметил, как в кабинете неожиданно появился Теофрасто, маленький служка дона Адальберто.
Увидев мальчика, Тимолеоне набросился на него:
— А тебе что здесь нужно?
— Меня послал доктор.
— Почему?
— Из-за падре.
— Что с ним?
— Он умер.
— Что ты мелешь?
— Доктор подобрал его на дороге и отвез домой. Донна Серафина плачет, не переставая.
— Но от чего он умер?
— Ему проломили череп, как Джельсомине.
Глава седьмая
Как и сказал Теофрасто, была сделана попытка «проломить череп» дону Адальберто, но у горцев крепкие черепа, и когда начальник карабинеров, мэтр Агостини и инспектор Чекотти пришли в жилище священника, они с облегчением услышали от доктора Фортунато Боргато, что удар, нанесенный падре, оказался гораздо менее сильным, чем
тот, который достался Джельсомине. Дон Фортунато цинично предположил, что у убийцы душа не лежала к этому занятию. Он запретил посетителям беспокоить больного в ближайшие часы и потребовал, чтобы ему обеспечили полный покой. Донна Серафина продолжала без устали причитать. Тимолеоне рассердился и приказал ей замолчать, так как ее хозяин, видимо, вне опасности. Добрая женщина ответила, что он мог умереть; эта возможность заставляет ее плакать, и она не может остановиться по первому требованию.
Вернувшись в участок, Чекотти прежде всего освободил Россатти. По его мнению, покушение на жизнь дона Адальберто и убийство Джельсомины были звеньями одной цепи. Амедео не был виновен в этих двух преступлениях. Представить же себе, что в Фолиньяцаро появились одновременно два убийцы, было почти невозможно. Падре не могли пытаться убить с целью ограбления, его бедность была всем известна. Поэтому кража на почте была, вероятно, хитростью, имевшей целью обмануть полицию. В таком случае нападения на заведующую почтой и священника не могли не быть связаны со смертью Эузебио Таламани. Каким образом? Почему? Маттео не знал, но догадывался, что истину следует искать именно в этом направлении и что Россатти в этом сценарии отводилась роль козла отпущения. Следовательно, нападая на Джельсомину и дона Адальберто, в то время, когда все знали, что Амедео взаперти, убийца просто не мог поступить иначе. Еще один вопрос, на который не было ответа.
Несчастье с падре отодвинуло на задний план исступленные фантазии Кристофоро. Его освободили, посоветовав вернуться домой и больше не показываться до отъезда Чекотти, если он не хочет навлечь на себя крупные неприятности. Колосс примирился с необходимостью уйти, но на прощание добавил еще несколько угроз в адрес злодеев, посягнувших на девичью честь Аделины.
Инспектор изложил свои соображения начальнику карабинеров и нотариусу:
— По всеобщему мнению, в почтовом отделении не могло находиться больше нескольких тысяч лир… Только какой-нибудь бродяга мог убить из-за такой ничтожной суммы. Но если бы в деревне появился бродяга, нам бы об этом обязательно сообщили. Если же была создана всего лишь видимость кражи, зачем понадобилось избавляться от Джельсомины? По той же неизвестной причине, должно быть, по которой пытались убить падре…
Рицотто дополнил:
— А ведь Джельсомина готова была броситься в огонь за дона Адальберто!
— Из этого следует, что оба имели какие-то сведения о личности убийцы… или, по крайней мере, у убийцы были основания так думать.
Нотариус с этим не согласился.
— Синьор Чекотти, если бы дон Адальберто действительно знал имя убийцы, зачем бы он поехал в Милан?
— Этого я не знаю. Может быть, он надеялся найти там какие-то доказательства?
— Доказательства чего?
— В этом весь вопрос…
После того как мэтр Агостини покинул их и направился в свою контору, инспектор и начальник карабинеров, оставшись вдвоем, стали рассматривать всевозможные гипотезы, но ни одна их не удовлетворила. Амедео было разрешено пойти к матери, чтобы успокоить ее, но при условии, что он сразу же вернется: не следовало забывать, что капралу карабинеров платят не только за то, что он переходит из тюрьмы в родительский дом и обратно. Россатти поклялся, что будет бежать, как олень, и возвратится в участок, раньше чем заметят его отсутствие. Чекотти и Рицотто понимали, что на это трудно рассчитывать, но оба сделали вид, что верят Амедео: он заслужил это небольшое вознаграждение.
Инспектор и начальник карабинеров перебрали всех жителей Фолиньяцаро, стараясь угадать, кто из них мог ненавидеть Эузебио Таламани настолько, чтобы, воспользовавшись его беззащитностью, вонзить ему в сердце нож. Тимолеоне, прекрасно знавший характер каждого, никого не мог заподозрить. У самых необузданных не было причин желать клерку смерти. Он с жаром воскликнул:
— Нет, ни один! Или, наоборот, все! Начиная с дона Чезаре, а у него, кроме всего прочего, было бы то оправдание, что он немного тронутый!
— Благодарю тебя, Тимолеоне!
На пороге кабинета стоял мэр и насмешливо улыбался. Рицотто позже клялся, что если в этот момент и не свалился, сраженный апоплексическим ударом, то только потому, что его организм не был к этому склонен.
— Начальник карабинеров, который считает местного мэра ненормальным, это великолепно. Да еще в присутствии постороннего! А если я потребую твоего смещения, дурачок?
— Послушайте, дон Чезаре…
— О, нет! Я достаточно наслушался… А я-то думал, что могу рассчитывать на твою дружбу…
— А как же, дон Чезаре! Я вас очень люблю!
— Ты меня очень любишь, но готов отправить в сумасшедший дом, так?
— Я? О, дон Чезаре, как вы можете говорить такие ужасные вещи?
— Прошу прощения, разве ты не сказал этому миланцу, что я ненормальный? Кстати, я сейчас встретил Амедео… Вы освободили его или он убежал?
Рицотто почувствовал необходимость проскользнуть на кухню и выпить стаканчик грумелло — единственное средство, способное привести его в чувство. Чекотти пришел к нему на выручку:
— Я освободил его.
— В общем, вы сами не знаете, чего вы хотите, а?
— Я хочу арестовать убийцу.
— Значит, это не Амедео?
— Не думаю.
— Тем лучше… Он славный малыш… Было бы жаль, если бы его жизнь закончилась в тюрьме. Вы знаете о том, что случилось с доном Адальберто?
— Да. Мы ждем, чтобы он лучше себя почувствовал, и тогда выясним, как все произошло.
Дон Чезаре насмешливо улыбнулся.
— Слечь из-за какого-то удара по голове! В мое время на это и внимания не обратили бы! Но эта молодежь не такая выносливая, как старшее поколение.
Чекотти не сразу понял, что в глазах мэра дон Адальберто принадлежал к презираемой стариком молодежи.
Выйдя из кухни, Рицотто вернулся в кабинет как раз в тот момент, когда, как всегда шумно, туда вошла Элоиза.
— Тимолеоне, ты великодушен и благороден. Я сожалею теперь о том, что не вышла за тебя замуж, когда ты умолял меня об этом!
— Уверяю тебя, Элоиза, ты путаешь…
— Ну полно, дон Чезаре знает нас всю жизнь и хитрить перед ним не стоит. Ты вернул мне сына, будь же благословен среди карабинеров!
— Тебе следует за это поблагодарить синьора инспектора.
Радость так переполняла синьориту Россатти, что ее хватило бы с избытком на весь мир. Она бросилась к сидевшему на стуле Маттео и горячо поцеловала его в обе щеки раньше, чем полицейскому удалось помешать ей. Потом она с достоинством воскликнула:
— Это поцелуй благодарной матери!
Послышался блеющий смех дона Чезаре.
— Эта Элоиза всегда была хорошей штучкой… Кстати, дитя мое, тебе придется поторопиться со свадьбой, если ты хочешь, чтобы я на ней присутствовал.
— С какой свадьбой?
— Твоей и Тимолеоне, с какой же еще? Побледневший Тимолеоне пролепетал с трудом:
— Но, дон Чезаре, у нас об этом никогда не было речи!
— Как это не было? Всякий раз, когда я вхожу в этот кабинет, я слышу, как вы любезничаете! Тимолеоне, неужели ты лишен принципов?
Рицотто чувствовал, что скатывается в роковую пропасть, не имея сил за что-нибудь ухватиться.
— Вы… вы преувеличиваете… дон Чезаре!
— Лжец! Посмей только утверждать, что не любишь ее!
— Дело не в этом, но…
— Видишь? Кроме того, ты просил ее руки в свое время. Ее ответ запоздал на несколько десятилетий, вот и все. Ты согласна, Элоиза?
— Боже мой, дон Чезаре, мы с Тимолеоне старые друзья… Это, может быть, не очень разумно… А у меня ребенок, и я никогда с ним не расстанусь!
— У тебя ребенок?
— Ну как же! Амедео!
В это время, к счастью, карабинер Бузанела прервал развитие драмы, грозившей связать Тимолеоне и Элоизу до конца их дней. Доктор, доложил он, проходил мимо и сказал, что дон Адальберто в состоянии принять ненадолго посетителей.
* * *
Когда Маттео Чекотти увидел спальню дона Адальберто во всей ее монашеской наготе, он изменил свое мнение о раздражительном священнике, который так плохо к нему отнесся. Стоя рядом с доном Чезаре и начальником карабинеров, он смотрел на изможденное лицо падре, выдубленное горными ветрами и жарким солнцем. На белой подушке, в ореоле марлевой повязки, охватывающей голову, оно казалось ликом старого святого, выточенным из древа. Его ясные глаза были устремлены на посетителей. Тимолеоне подошел к постели и прерывающимся от волнения голосом произнес небольшую речь, в которой описал ужас всех жителей Фолиньяцаро при известии о покушении на их пастыря и их Облегчение, когда они узнали, что он пострадал в основном от испуга.
— Кто тебе позволил утверждать, что я испугался?
Прервав таким образом лирический порыв доброго толстяка, падре вынудил его замолчать.
— Почему бы я испугался? Я ожидал этого нападения, но не знал, где и когда оно произойдет. Убийца Таламани и Джельсомины не мог дать мне вернуться сюда со сведениями, которые я должен был привезти из Милана. Именно потому, что я не испугался, я сумел ослабить удар, нанесенный мне убийцей.
— Так вы видели его, падре?
— Конечно, но мне не нужно было его видеть, чтобы узнать, кто он!
Чекотти захотел сразу уточнить одну деталь, не дававшую ему покоя:
— Простите, дон Адальберто, но если ваша смерть имела такое значение для преступника, как могло случиться, что он не довел дело до конца?
— Видите ли, синьор, это дилетант, не обладающий опытом профессионала.
Дон Чезаре заметил:
— Современные юнцы считают, что они все могут, еще ничему не научившись.
Падре пропустил мимо ушей нелепые слова мэра и предложил посетителям подойти к нему поближе, так как ему трудно говорить громко. Они повиновались.
— Синьор инспектор, я плохо с вами обошелся и прошу извинить меня, но вы сами заставили меня хитрить. Вы шли по ложному следу; я попытался помешать вам сделать ошибочные выводы и причинить неприятности честному малому. Я был уверен, что Амедео невиновен, потому что слишком хорошо его знал. Несомненно, он любит Аньезе, но все же не настолько, чтобы стать из-за этого убийцей. Убийство Таламани означало бы для него пожизненное заключение, то есть безвозвратную утрату Аньезе.
Но если Россатти невиновен, где следовало искать преступника? Чтобы это понять, мне требовалось время, вот поэтому я и затеял всю эту комедию с девушками из Фолиньяцаро. Они согласились, потому что любят меня, так же как я люблю их. Я должен был помешать вам слишком быстро закончить расследование. Мне это удалось, и я еще раз прошу простить мне эти уловки, не слишком честные, должно быть, на ваш взгляд, но, тем не менее, спасшие вас от ошибки, которая могла сильно повредить вам в глазах начальства.
Таламани приехал из Милана. Я был убежден, что в Фолиньяцаро он не мог нажить смертельного врага: он провел здесь всего три года, следовательно, причину его смерти нужно было искать в Милане. В свое время нас всех удивил приезд этого горожанина, который похоронил себя в деревне, где все ему было не по вкусу. Размышляя об этом, я пришел к выводу, что он бежал из Милана по каким-то серьезным причинам и что если мне удастся выяснить эти причины, то они приведут меня к его убийце.
Но где их искать? И вот тогда Небо направило меня на правильный путь. Я подумал, что Таламани мог сохранить некоторые связи с миланскими друзьями и что при их посредстве я сумею побольше узнать о нем, особенно теперь, после его смерти. Я отправился к Джельсомине, бедной аккуратной Джельсомине, которая, постоянно опасаясь маловероятных жалоб, тщательно записывала в особой тетрадке все полученные и отосланные ею письма. Она не сразу согласилась показать ее мне, но, зная, что я действую во имя справедливости, она в конце концов уступила. Вопреки моим ожиданиям, Таламани никогда не писал и не получал писем. Зато он ежемесячно переводил по почте довольно крупные вклады в банк. Мне пришло в голову, что будет небезынтересно установить источник его доходов… Но вот оказалось, что другой обитатель Фолиньяцаро регулярно писал в Милан. Я запомнил адрес, по которому он посылал свои письма, — всегда один и тот же — и решил съездить туда…
Чекотти прервал рассказ дона Адальберто.
— Я полагаю, вы никому не сообщили о вашем открытии?
— Конечно, нет.
— В таком случае, как, по-вашему, объясняется убийство Джельсомины?
— Я думаю, что угрызения совести заставили бедняжку пойти к автору писем и рассказать ему о моем посещении. Однако я убежден, что испуганная гневом того, к кому она обратилась, Джельсомина не сказала ему, что уступила моей просьбе. Больше того, не зная о моем отъезде, убийца подумал, что речь идет лишь о предупреждении, и решил уничтожить тетрадь, заключавшую его приговор. Он пошел к Джельсомине, она, по всей вероятности, отказалась с ней расстаться, и ее сопротивление стало причиной ее гибели.
Пойдя в Милане по адресу, найденному в тетради Джельсомины, я застал там молодую женщину и маленькую девочку. Меня пригласили войти, и я сразу увидел на пианино фотографию Таламани, который, как выяснилось, был двоюродным братом этой дамы.
Маттео запротестовал:
— Падре! Не станете же вы нас уверять, что эта женщина, невидимая, как привидение, явилась в Фолиньяцаро и убила своего родственника?
— Терпение, синьор! Насколько мне известно, я ничего подобного не утверждал. На пианино стояла и другая фотография…
Дон Адальберто обвел взглядом напряженные лица слушателей и тихо произнес:
— На ней был изображен мэтр Агостини.
Все трое ахнули от удивления.
— Несмотря на греховность своего поведения, эта женщина сохранила в своем сердце богобоязненные чувства, и я убедил ее признаться во всем. Она любовница дона Изидоро и родила от него дочь. Это ей дон Изидоро писал каждую неделю, это его имя — имя отправителя еженедельных писем — стояло в тетради Джельсомины.
Инспектор вспомнил тогда о женщине, выходившей из дома нотариуса, которую он принял за мать Терезы. Должно быть, это была Джельсомина.
Дон Чезаре усмехнулся.
— Я всегда считал Изидоро Агостини глупцом, возомнившим о себе. Все же его слабости не объясняют нам убийство Таламани. Как вы считаете, падре?
— Тем не менее это прямое их следствие. По словам его двоюродной сестры, Таламани был никуда не годным бездельником, неоднократно побывавшим в тюрьме и часто приходившим к ней выклянчить немного денег. В один из своих визитов он застал у нее мэтра Агостини и быстро сообразил, какого рода отношения связывают его родственницу с нотариусом. Он увидел в этом неисчерпаемый источник доходов и принялся шантажировать дона Изидоро. Три года назад он потребовал, чтобы тот взял его в качестве клерка в Фолиньяцаро, твердо решив стать зятем своей жертвы. Вот почему нотариус пытался навязать этот чудовищный брак своей дочери, вопреки ее желанию, воле ее матери и общественному мнению Фолиньяцаро. Можно только догадываться, что дон Изидоро был недоволен собой и ненавидел Таламани… Сам того не подозревая, избив клерка, Амедео помог нотариусу избавиться от шантажиста. Дон Изидоро, действительно, отправился домой за оружием, но не за револьвером, а за ножом. Вернувшись к месту драки, он застал Таламани без сознания. Это была возможность освободиться самому и освободить свою дочь. И он нанес Таламани роковой удар. Не думаю, что он действовал преднамеренно, он просто потерял голову. Вот и вся история, друзья мои.
Потрясенный Тимолеоне спросил:
— А на вас как он решился напасть?
— Узнав о моем отъезде в Милан, последовавшем за моим посещением Джельсомины, нотариус понял, что убил ее напрасно. Нужно было убить меня, но, когда пришло время нанести удар, он испугался, почувствовал стыд. Он ударил неловко, потом у него не хватило храбрости проверить, умер я или нет, и он убежал. А теперь дайте мне отдохнуть. Синьор инспектор, постарайтесь арестовать Агостини без особого шума — из-за Аньезе и донны Дезидераты. Они ведь тоже жертвы.
* * *
Возвращаясь в участок, мужчины встретили Бузанелу. Он направлялся к дому священника, торопясь сообщить им, что мэтр Агостини покончил с собой. Тимолеоне облегченно вздохнул:
— Такой выход меня больше устраивает…
…Попрощавшись с Рицотто, Россатти и Бузанелой, Маттео Чекотти пошел за своей машиной, чтобы вернуться в Милан. У входа в кафе Кортиво его поджидала группа девушек. Узнав Терезу, Сабину, Эуфразию, Клару и Аделину, он отпрянул было, но девушки окружили его, и Аделина попросила у него прощения от имени их всех. Он заверил их, что совершенно не сердится, так как благодаря им избежал ошибки. Такое великодушие заставило Аделину — опять же от имени всех — поцеловать его. При этом она прошептала ему на ухо:
— Извините меня также за сцену, которую разыграл Кристофоро… В том, что он вам наговорил, однако, кое-что соответствовало действительности, но он этого не знал.
* * *
Чекотти медленно ехал по дороге, ведущей в Домодоссолу, откуда он должен был прямиком отправиться в Милан, Несмотря на их дружелюбное расставание, девушки из Фолиньяцаро продолжали внушать ему страх. И все же в глубине души он знал, что обманывает себя и не замедлит вернуться в деревушку, хотя бы для того, чтобы потребовать дополнительных объяснений у прелестной Аделины.
Перевод с французского Д. Б. Санадзе
Огюст ле Бретон
СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН
I
В длинном коридоре, где на каждой двери висели таблички с фамилиями судей, слышался негромкий шум. Подследственные, сидя на скамьях и опершись спинами на грязную стену, ожидали вызова. В конце коридора в сопровождении двух жандармов показался Роже Сарте по прозвищу Муш. Тринадцать месяцев, проведенных в тюрьме, наложили на него свой отпечаток. Он слегка растолстел, что вполне объяснялось спертым воздухом и недостатком движения. С губ его не сходила вызывающая улыбка, за внешне безразличным выражением глаз таилась настороженность.
— Сюда! — приказал, дергая за прикрепленную к наручникам цепочку, рыжий коренастый жандарм, идущий первым. Но Мушу не нужно было показывать дорогу. За время следствия его привозили сюда из тюрьмы Сантэ десятки раз. Он уселся напротив кабинета следователя Мартена. Рядом плюхнулся охранник. Другой жандарм отошел поболтать с коллегой, сопровождавшим старика с внешностью благородного жулика. Муш попытался поправить узел галстука, но ему мешала цепочка. Он негромко запротестовал:
— Вы могли бы по крайней мере убрать цепь! Не наброшусь же я на вас!
— У меня есть четкие распоряжения насчет тебя, — невозмутимо ответил охранник. — И тебе это известно.
И все же снял ее. Муш вернул на место узел галстука и принялся неловко шарить в кармане плаща, пытаясь выудить оттуда пачку «Голуаз», которыми он вынужден был довольствоваться вместо любимых «Пэлл-Мэлл». Рыжий жандарм пришел ему на помощь. Взяв сигарету, Муш протянул ему пачку:
— Угощайтесь!
Неподкупный, как Робеспьер,[1] тот отрицательно покачал головой и вытащил древнюю зажигалку. Муш жадно затянулся, зажмурившись от наслаждения. Из этого состояния его вывел звук шагов. Он поднял веки, и сердце его подпрыгнуло. Со стороны, противоположной той, откуда вошел Муш, показался Серджо, младший брат Альдо. Можно было подумать, что итальянец поджидал его, затаившись где-нибудь в укромном углу. На нем тоже были наручники, рядом шел охранник, высокий красивый блондин со смеющимися глазами. Серджо что-то сказал ему на ходу, и оба остановились рядом с Мушем. Итальянец хотел сесть рядом с убийцей, но охранник резко его остановил:
— Вон туда!
Он устроился на скамье между двумя преступниками и повернулся к своему рыжему коллеге:
— Если этим ребятам дать волю… Кивнул на Муша и спросил:
— А это кто?
— Муш. Тот самый, — ответил жандарм.
Добродушие блондина внезапно исчезло. Нахмурив брови, он внимательно смотрел на своего соседа и, наконец, яростно проговорил, стиснув зубы:
— Вот оно что… Надеюсь, тебе отрубят башку, мерзавец! Убивать полицейских…
— Мы все на это надеемся, — поддержал его рыжий.
Он изучал Серджо, на котором были куртка из тонкой замши, шерстяная рубашка в красную клетку и кремовые джинсы. Настала его очередь полюбопытствовать:
— Ты тоже к Мартену?
— Нет, — ответил блондин, посмотрев на соседнюю дверь. — Мы к следователю Ренонсо. Рановато приехали. Мой парень в замше ничего общего не имеет с твоим убийцей. Он здесь за кражу машин.
Рыжий жандарм с неодобрением взглянул на Серджо и вздохнул:
— Эта молодежь просто с ума сходит от автомобилей.
Он взял сигарету из пачки, протянутой блондином над коленями Муша, зажег ее и снова вздохнул:
— Мой старший просит, чтобы я купил ему подержанную машину. Представляешь?! Это с моими-то доходами… Сейчас они все носятся на своих жестянках, как будто кто-то воткнул им в задницу шило!
В его взгляде читался извечный вопрос. Рука Муша, в которой он держал сигарету, на мгновение застыла. Он почувствовал, что охранник Серджо, незаметно толкнув его ногой, положил в карман его плаща удлиненный плоский предмет. Но лицо убийцы оставалось спокойным. Рядом с ним послышалось шуршание. Колено блондина снова уперлось в ногу Муша. Тот медленно повернул голову и встретился глазами с соседом, делавшим вид, что читает газету. В верхней части листа было едва заметно написано: «Побег сегодня. Машинка на батарейках. Инструкция внутри. В твоем распоряжении десять минут. На улице Кассини тюремный фургон ненадолго остановится. Будь готов. Тебя позовет женщина с собачкой на поводке. Пойдешь за ней. Ни пуха ни пера». Муш чуть кивнул в знак того, что все понял. Он снял с языка крошку табака и повернулся к своему охраннику:
— Моя дочь тоже без ума от автомобилей. Молодых ведь нужно понять…
Тот, выведенный из задумчивости, проворчал:
— Не хватало еще, чтобы ты учил меня понимать молодежь! Убийца!
Муш хотел возразить, но его опередил Серджо:
— Я могу сходить в туалет?
Белокурый жандарм сложил газету, поправил кепи, встал и раздраженно сказал:
— Шагай!.. До скорого, — обратился он к рыжему охраннику. — Если только вас не вызовет следователь. Ты потом в Сантэ?
— Да, — подтвердил тот. — А ты во Фрэн?[2]
— Увы! Представляешь, какие концы?!
Конвоир Серджо дернул его за рукав замшевой куртки и приказал:
— Пошевеливайся!
Шаги их смолкли в дальнем конце коридора, но Муш даже не посмотрел им вслед. Он скрестил ноги и, сделав вид, что рассматривает свои плохо начищенные ботинки, пытался локтем ощупать предмет у себя в кармане. Это был его последний шанс. Следствие завершилось, и теперь он только чудом мог оказаться за стенами тюрьмы. Мысль написать следователю, что он готов во всем сознаться, и тем заставить вызвать себя на допрос, оказалась удачной.
Мушу не удалось сохранить маску безразличия. Его охватила нервная дрожь, предвестница предстоящего действия. Это не укрылось от внимания жандарма:
— Заболел?
Убийца пожал плечами и поморщился:
— Что-то знобит.
Чтобы успокоиться, он несколько раз медленно вдохнул и выдохнул. Скоро ему потребуется все его везение, и нельзя будет позволить себе ни малейшего промаха. Муш погасил каблуком окурок, и как раз в этот момент открылась дверь. Из нее выглянул секретарь, похожий на крысу.
— Сарте!
Рыжий жандарм встал и похлопал своего подопечного по плечу. Его коллега пристроился по другую сторону убийцы, и все трое вошли в кабинет следователя Мартена. Однако Муш застыл на пороге, увидев, с кем ему предстоит встретиться. Кроме следователя, в кабинете сидел начальник Антигангстерской бригады уголовной полиции главный комиссар Ле Гофф. Со времени их последней встречи прошло уже более трех месяцев.
— Шагай, не задерживайся! — рассердился рыжий жандарм, вталкивая Муша внутрь.
Убийца оказался перед столом следователя, но, казалось, не замечал того, кто за ним сидел. Все его внимание было сосредоточено на комиссаре, который в свое время поклялся арестовать главаря банды, прославившейся на всю Францию дерзкими ограблениями. Они совершались всегда по пятницам, когда из банков в специальных фургонах доставлялись на заводы крупные суммы денег. Именно поэтому Муш получил свое второе прозвище — Пятничный толстяк. Ле Гофф сдержал клятву, и сейчас убийца не мог отвести взгляда от того, кто взял над ним верх.
— Есть одно препятствие, Сарте, — сразу же начал Мартен. — В последнюю минуту ваш адвокат сообщил, что не сможет приехать. Так что если вы хотите перенести нашу встречу…
Муш пожал плечами:
— Как вам будет угодно, господин следователь!
— Ну что ж, — проговорил тот. — Мы подходим к концу, Сарте. Ваше дело скоро будет передано в следственную палату. Однако перед тем, как его закрыть, мы с комиссаром хотели бы узнать, что означает ваше письмо.
Мартен помахал в воздухе листком бумаги.
— Почему именно сейчас, черед год после вашего ареста, вы решили сознаться в убийстве инспектора Лармено?
— Потому что его убил именно я.
Ле Гофф сделал шаг по направлению к Мушу, потом застыл на месте, сверля его взглядом своих бледно-голубых глаз.
— Скажите лучше, что вы вдруг решили покрыть своего сообщника Жозефа Кюрвье по прозвищу Джо Костыль, — проговорил он хриплым от постоянного курения голосом. — Именно этого вы хотите, Сарте. Но ведь и мы не дураки. Нам уже давно известно, что автомат, из которого был убит Лармено — любимое оружие Кюрвье.
— Вы лучше моего знаете, что это ничего не доказывает, господин комиссар, — с ухмылкой возразил допрашиваемый. — Кюрвье до сих пор ни в чем не сознался. Даже в том, что мы с ним были знакомы. Кроме того, вы должны понимать, что любой человек может воспользоваться любым оружием. В тот день автомат взял я.
— Нет! — крикнул Ле Гофф, и следователь вздрогнул от неожиданности. — Нет! Вы не убивали Лармено. Мне неизвестна причина ваших запоздалых признаний, только вы этого не делали! Вы достаточно замазаны убийством старшего инспектора полиции Врийяра и решили взять на себя часть вины сообщника, понимая, что в вашей судьбе это уже ничего не изменит!
— Попробуйте это доказать! — прервал его Муш, — Я сознаюсь в убийстве, Кюрвье нет. Что же из этого следует?!
— Подумать только! — вмешался следователь. — Что такое, Сарте? Профессиональная солидарность?! Это отдает дешевой романтикой.
Убийца наконец посмотрел в его сторону.
— Разве моей головы вам недостаточно, господин следователь?! Вам нужна еще и голова Кюрвье?
Ле Гофф подошел к Мушу еще на шаг и теперь почти касался его. Его губы скривились от ярости, и он прорычал:
— Я победил вас, Сарте. Вас и вашу банду. И над Джо я тоже возьму верх. Я заставлю его признаться в убийстве и отправлю на гильотину!
Его палец уперся в грудь Муша.
— Вы можете признаваться, в чем угодно. Мы оба знаем, что в Лармено стрелял Джо Костыль.
— Докажите!
Не переставая вызывающе улыбаться и даже не пытаясь выглядеть убедительным, убийца цинично добавил:
— Вы хотите лишить жизни невиновного?! И это ваше хваленое правосудие?!
— Какая муха вас укусила, Сарте? — настаивал следователь. — Почему вы решили написать мне? Чего вы хотите добиться?
Секретарь перестал стучать по клавишам машинки. Сбитый с толку внезапно наступившей тишиной, Муш взглянул на него и вновь ухмыльнулся:
— Считайте, что всему причиной угрызения совести.
В руке Ле Гоффа сухо щелкнула сломанная спичка. Вновь послышался монотонный стук пишущей машинки. Следователь вздохнул:
— Почему вы не хотите нам помочь? Вы же понимаете, что ваше положение безнадежно. Но содействие нам может смягчить вердикт присяжных. Как вы полагаете, комиссар?
Ле Гофф внимательно посмотрел на свою сигарету. Он не хотел опускаться до подобной лжи. К тому же он заранее знал, что убийца не попадется в эту ловушку. Так и получилось.
— Прекратите болтовню, господин следователь, — проговорил Муш. — Всем нам прекрасно известно, что я погорел. Если среди твоих охотничьих трофеев значится полицейский, тебе уже не выпутаться. Смягчающих вину обстоятельств в таких случаях просто не бывает. Никогда. Так что как-нибудь утром вам придется встать очень рано, чтобы полюбоваться, как мне отрубят голову.
Слегка повернувшись, он добавил:
— И вам тоже, господин комиссар.
В глазах полицейского появился блеск, но голос его оставался спокойным, даже бесстрастным:
— Я приду, Сарте. Я буду там вместо Лармено, Врийяра, их жен и детей. Я приду.
Их взгляды скрестились. Следователь, взглянув на них, протянул руку к секретарю, и тот, вытащив из машинки лист, передал его своему начальнику.
— Прошу подписать ваше признание, Сарте.
Секретарь сунул Мушу ручку, а следователь протянул ему протокол, положив его на папку. Убийца поставил подпись, не читая. Мартен кивнул на него жандармам, которые все это время подпирали спинами дверь:
— Уведите!
Стальная цепочка сверкнула в свете лампы, и только в этот момент Муш заметил, что в комнате включили электричество. Стоял конец апреля, и хотя в этот еще непоздний час на улице было светло, в кабинете стало темновато. Муш пошел вслед за рыжим жандармом к двери и, пока тот ее открывал, услышал за спиной голос следователя:
— Еще не поздно вернуться к вашим так называемым признаниям, Сарте. Вам это зачтется.
Тот, кого газеты окрестили Пятничным толстяком, медленно повернулся. Он прижал локоть к карману, чтобы находившийся там предмет наверняка не был виден, и упрямо наклонил лоб.
— До свидания, господин следователь. До свидания, комиссар. Мне очень жаль, но в тот день автомат был у меня. И ни у кого другого.
Жандарм натянул цепочку, и убийца переступил порог.
— Минутку, Сарте!
Во рту у него вдруг пересохло. Он повернул голову в сторону Ле Гоффа, отдавшего приказ. Комиссар задумчиво смотрел на убийцу. Внезапно тому показалось, что наметанный глаз полицейского задержался на кармане его плаща. По спине Муша побежал холодный пот, но его губы по-прежнему были растянуты ядовитой усмешкой. Игра шла по крупной. Ставкой в ней была его жизнь. Неужели проклятый легавый все-таки догадался?! Может быть, издалека карман выглядел подозрительно?
Муш откашлялся и поинтересовался:
— Да, мсье комиссар? Что вам угодно?
Он приготовился к самому худшему: к обыску и неизбежному обнаружению свертка. Но Ле Гофф проронил всего лишь:
— Правду о Кюрвье.
Убийца с трудом подавил чувство облегчения.
— Я уже сказал вам правду, господин комиссар. Автомат был у меня…
Тот остановил его движением руки.
— Как хотите, Сарте. Но я все равно докажу вину вашего сообщника, даже если придется выделить его дело в отдельное производство. Не думайте, что все кончено.
— Никогда нельзя терять надежды, господин комиссар, — не мог не ответить ему Муш. — До свидания.
Дверь за ним и жандармами закрылась. Немного помолчав, Ле Гофф обратился к Мартену:
— Я вынужден просить вас о новой отсрочке, господин следователь. Я все же хочу выдвинуть против Джо обвинение в убийстве моего сотрудника. Завтра я отправлюсь к нему во Фрэн. Если удастся обнаружить какие-нибудь новые факты, в конце концов мне удастся загнать его в угол.
Его собеседник теребил подписанный Мушем лист.
— Вы ставите меня в затруднительное положение. Теперь в моих руках признание. А Кюрвье вот уже целый год отрицает свою вину.
— Но ведь мы с вами знаем, что в этом признании нет ни слова правды! Дайте мне еще немного времени. Прошу вас!
Мартен со вздохом уступил.
— Договорились, Ле Гофф. Только не затягивайте. Прокурор хочет, чтобы дело банды слушалось на осенней сессии суда. Сами понимаете, нужно успокоить общественное мнение!
Длинными пальцами, пожелтевшими от табака, комиссар неторопливо помассировал лоб.
— Мы устроим так, господин следователь, что все останутся довольны.
И он снял с вешалки свой плащ, в складках которого еще блестели капли дождя.
II
В двойные бронированные ворота въехал последний из тюремных фургонов. Ворота тут же были заперты, и один из охранников открыл дверь камеры, в которой подследственные, привезенные для допроса, ожидали отправки обратно в тюрьму. Для некоторых из них ожидание растянулось на несколько часов. Другой полицейский опустил лестницу фургона, направлявшегося в Сантэ. Арестованных по одному выводили во двор и заталкивали в темно-зеленый кузов, по которому гулко стучали капли дождя. С каждой стороны его было расположено по пять камер, разделенных центральным проходом. Там перевозимых встречал конвоир, который снимал с них наручники и распределял по двое в каждую камеру.
Это были узкие клетушки, лишенные какой бы то ни было обстановки. Правда, там были откидные скамьи, однако, если в камере находились двое, пользоваться ими было невозможно. Приходилось стоять, прижавшись друг к другу и повернув голову к зарешеченному вентиляционному окошку. Вожделенный приют любви для гомосексуалистов!
Стоя рядом с фургоном, рыжий жандарм пересчитывал своих арестантов. Десять камер по двое в каждой. Итого двадцать.
— Сарте!
Убийца, с которого уже сняли стальную цепочку, поднимался в кузов последним. Войдя в проход, он протянул скованные руки конвоиру.
— Ты поедешь в наручниках, — заявил тот.
— Но…
Охранник выплюнул спичку, которой ковырял в зубах.
— Таков приказ. Залезай!
И он кивнул на клетушку, где уже сидел какой-то бродяга, промышлявший, по виду, кражами кур и содержимого церковных кружек для сбора подаяния. Муш вошел. За его спиной захлопнулась дверь, и раздался голос конвоира:
— Эй, Рюпуа! Теперь давай остальных!
В глазах убийцы промелькнул огонек. Кажется, ему начинало везти. Все складывалось лучше, чем он ожидал. Когда арестованных оказывалось слишком много, тех из них, кто проходил по делам о хулиганстве, перевозили в центральном проходе. Этим желторотым ребятам было на все наплевать, и каждый раз они поднимали страшный шум. Они цеплялись к конвоирам, изводили их насмешками, изощренно ругались. Охранники, естественно, не оставались в долгу. Начинался настоящий бедлам. Именно это и нужно было Мушу. Его удивляло только одно обстоятельство. Обычно этих молокососов отправляли во Фрэн. Впрочем, у парней, которых везли в Сантэ, срок уже подходил к концу.
Рыжий жандарм затолкал в фургон четырех юнцов без наручников и сам залез последним. Снаружи за ним заперли дверь. Жандарм уселся на откидную скамью у зарешеченного окошка, позволявшего ему просматривать весь проход. Его коллега на другом конце коридора устроился подобным же образом, повернувшись спиной к кабине и стараясь разглядеть в полумраке сидевших в проходе парней. Как и следовало ожидать, это оказался всякий сброд. Едва фургон тронулся с места, они завели одну из своих дурацких песен.
— Заткнитесь, черт побери! — заорал рыжий жандарм.
— Не груби, дядя! — ответил ему чей-то голос. Охранник привстал, ища взглядом невежливого юнца, и, конечно же, никого не нашел. Он сел на место и со вздохом покачал головой:
— Ну и молодежь! Вот в наше время…
— Все вы были занудами! — прервал его издевательский голос.
Жандарм, задетый за живое, попытался придать своему добродушному лицу кровожадное выражение. Его коллега в другом конце прохода посоветовал ему не придавать происходящему серьезного значения.
— Брось, Рюпуа! Ты же знаешь, что все они чокнутые!
Чтобы успокоиться, тот достал сигарету. Шаря по карманам в поисках зажигалки, он наткнулся на стальную цепочку и посмотрел в сторону камеры, в которой был заперт Муш. Да, с такими молодцами не шутят! По счастью, ему не каждый день приходилось конвоировать врага общества номер один, как его прозвали журналисты. Лично он предпочитал иметь дело с мелкими воришками, это не так опасно. И Рюпуа повернул колесико зажигалки.
Сидя в своей клетушке, Муш старался пореже дышать. От старого бродяги несло, как из сортира. Однако это не мешало убийце действовать. Он достал из кармана сверток и протянул его соседу.
— Ну-ка разверни!
— Что это такое? — пробормотал, не понимая, тот. — Хорошо, хорошо…
Испуганными движениями босяк снял пластиковый пакет и крышку картонной коробки. Под ней обнаружилось нечто, напоминающее плоский пенал с клеймом «Сделано в Японии». В угол коробки был засунут сложенный лист бумаги. Достав его, Муш обнаружил маленький ключ. Ничего не скажешь, Альдо умел шевелить мозгами! Убийца протянул ключ бродяге и подставил ему наручники:
— Ну-ка сними с меня это!
Тот наконец понял, в чем дело. В его голове проносились сумбурные мысли. Он здорово влип! Этот бандит не оставит его в покое. И почему их посадили вместе?! Сам он хотел только одного: чтобы его не трогали. За кражу нескольких бутылок вина ему полагалось от силы шесть месяцев тюрьмы. Если же он поможет кому-то бежать, срок наверняка увеличат… И бедолага затряс головой, замахал руками, отказываясь участвовать в чем бы то ни было.
— Тебе представился прекрасный случай! — уговаривал его Муш. — Мы слиняем вместе!
Едва не плача от страха, его сосед, однако, продолжал упорствовать. Мушу пришлось несильно стукнуть его под ложечку.
— Ну же! Давай!
Глаза бродяги заблестели от слез. Он повернул голову к двери и поднял руку, как будто хотел постучать. Убийца понял, что у старика хватит ума закричать. Допускать этого было нельзя. Он схватил соседа за горло и свирепо сжал. Тот застонал, но его никто не услышал, потому что юнцы, сидевшие в проходе, затянули новую песню.
Муш еще усилил хватку и уперся правым коленом в живот своей жертвы. Тот захрипел. Муш сдавил горло бедняги изо всех сил, не обращая внимания на грязные ногти, которые впились ему в спину. Его охватила жажда убийства. Сталь, наручников врезалась в шею босяка под кадыком. Руки бродяги потеряли силу, потом безвольно опустились. Он испустил последний хрип, но и тот не проник за железную перегородку. Муш подождал, когда наступит смерть, отстранился, и безвольное тело соскользнуло на пол. В полумраке чуть видны были беловатая пена на губах и черный язык, высовывающийся из клоаки рта. Не теряя ни секунды, убийца поднял упавший во время борьбы ключ, снял наручники и развернул листок бумаги. Там было написано: «Если нужно сверлить, нажми на красную кнопку, если пилить — на желтую. Эта штука работает сама. Рукоятки выдвигаются из ее верхней части». Коротко и ясно.
Муш принялся за работу. Он опустился на колени, отодвинул тело убитого, прижал его спиной к перегородке и нажал на красную кнопку. Из нижней части пенала выдвинулось сверло. Муш воздал хвалу изобретательности японцев и попробовал проделать отверстие в полу. Сначала он опасался сильно давить на рукоятки. Но сверло вгрызалось в сталь, жужжание дрели было тихим, почти неразличимым. К тому же шум проносившихся мимо машин и пение юных хулиганов заглушали любые звуки. Убийца просверил рядом друг с другом несколько дыр, потом убрал сверло и нажал на желтую кнопку. Выдвинулась тонкая упругая пила, похожая на язык змеи. Головастые ребята эти внуки микадо![3] Но самое трудное было еще впереди. Муш принялся пилить пол. Работа шла довольно быстро, но время от времени приходилось останавливаться и прислушиваться к тому, что делается в коридоре, откуда могла угрожать опасность. Но его ушей достигали только вопли молокососов. Отталкивая время от времени труп, чтобы освободить место для работы, убийца без большого труда сделал пропилы в середине камеры и у стен. Потом, пользуясь наручниками как рычагом, он попытался поднять вырезанный кусок. Тот сначала не поддавался, но Муш дождался, когда мимо пройдет грузовик, и нажал изо всех сил. Пол с резким скрипом поднялся, и через дыру он увидел мокрый асфальт, а в его легкие ворвался холодный воздух, пропитанный парами бензина. Чтобы труп не выпал на дорогу, он подложил под него вырезанную пластину и, устремив взгляд на дверь, замер в ожидании. Из импровизированного люка, через который он надеялся выбраться на свободу, до него доносились звуки обезумевшего города, злобные крики и ругань шоферов. При каждой остановке у светофора он напрягался, готовясь к прыжку и не зная, когда фургон доедет до улицы Кассини. Все теперь зависело от женщины с собачкой. В случае, если бы она так и не объявилась, он вполне мог вдруг оказаться во дворе Сантэ.
Муш попытался определить, по какой улице они едут, и высунулся наружу, едва не поцарапав нос о трансмиссию. Однако он увидел лишь колеса, разбрызгивающие воду, и ноги прохожих, спешащих укрыться от дождя. Он ощутил во рту неприятный вкус машинного масла и немного приподнялся. Он уже все решил. Явится женщина или нет, он все равно должен рискнуть. Он не позволит снова себя поймать! Ведь речь шла о его голове! Однако он не знал, в каком месте ему следовало выпрыгнуть из машины, поэтому приходилось действовать наугад.
В дверь камеры забарабанили мощные кулаки конвоира, преисполненного сознания значимости собственной персоны. Муш мгновенно вскочил и встал у глазка, закрыв каморку своим телом.
— Эй, как дела? — крикнул жандарм. — Что вы там делаете? Наверное, онанизмом занимаетесь?
— Проваливай к черту! — злобным голосом ответил убийца, зная, чего от него ждут.
В коридоре раздался дружный гогот, и глазок закрылся. Рукавом плаща Муш вытер капли выступившего на лбу пота. В ту же секунду он услышал душераздирающий скрежет тормозов и, не удержавшись на ногах, упал на колени рядом с люком. Он замер, не понимая, что произошло: ложная тревога, или они, наконец, добрались до улицы Кассини. Из кабины фургона до него донесся злобный вопль шофера:
— Осторожнее, идиотка! Куда ты несешься?! Сначала научись водить!
Убийца высунул голову из дыры в полу и прислушался. Внезапно сквозь шум он различил женский голос.
— Мсье Сарте!
Повернув голову, он увидел пару великолепных ног в белых сапогах, а рядом с ними черно-белого фокстерьера с хитрыми бусинками глаз. Муш спустил ноги в люк и через две секунды уже стоял рядом с бортом фургона, держа в руке собачий поводок, протянутый ему женщиной. Он взял ее под руку, и они почти побежали под изумленными взглядами супружеской четы, которая никак не могла понять, откуда вынырнул этот мужчина с перемазанным машинным маслом лицом.
— Я жена Альдо, — сказала на
ходу женщина. — Он ждет нас недалеко отсюда.
Она даже не посмотрела в сторону своей золовки, хотя именно Тереза заставила фургон остановиться. Теперь она, сидя за рулем малолитражки, удалялась вверх по улице, провожаемая ворчанием шофера:
— Ох уж эти бабы! Сидели бы лучше дома и вязали приданое детям!
— Все нормально. Поехали дальше, — сказал, пожимая плечами, жандарм, едва не уснувший в кабине фургона и спросонья выхвативший пистолет. Обернувшись, он заметил вдалеке супружескую пару с собачкой, переходившую улицу, вздрогнул, а потом облегченно рассмеялся:
— Ну и болван же я! Мне на секунду показалось, что там идет Муш!
Шофер тоже посмотрел вслед сворачивающей за угол паре и хихикнул:
— Протри-ка получше глаза, старина! А то у тебя появляются видения!
— Все в порядке, ребята! Пьяная баба за рулем! — через перегородку крикнул жандарм своим коллегам внутри фургона. Он совсем успокоился и, сунув за щеку кусок жевательного табаку, задвигал челюстями, как корова на лугу.
Едва Муш в сопровождении женщины и фокстерьера влез через заднюю дверь в черную «ДС», как ждавший их, не выключая мотора, Альдо тронул машину с места. Он молча проехал две улицы и лишь потом посмотрел на Муша в зеркало заднего вида.
— Как дела, Роже?
— Превосходно! Прими мои поздравления!
Муш взял протянутую ему Жанной сигарету и, вспомнив, что во времена, когда они работали вместе, сицилиец отличался стремлением тщательно продумывать все детали операций, все же спросил:
— У тебя есть, где отсидеться?
— Можешь об этом не беспокоиться, — проговорил тот, проскакивая между автобусами. — Дай ему очки, Жанна!
Жена сицилийца достала из сумки темные очки, и убийца с облегчением их надел. Благодаря фотографиям в газетах его лицо стало слишком известным.
— Я уже почти перестал надеяться. Прошло почти три месяца с тех пор, как я попросил дочь поговорить с тобой.
— Организовать все это было очень непросто, — согласился Альдо. — К тому же необходимо было получить согласие отца.
Муш с облегчением вытянул ноги и погладил мокрую голову фокстерьера.
— За сто десять миллионов[4] я мог бы найти кого-нибудь еще. Но я не каждому верю. А вот в тебе не сомневаюсь ни на минуту.
В ответ на комплимент Альдо кивнул головой.
— Как тебе понравился Серджо?
— Он оказался на высоте. А что за блондин был вместе с ним?
— Луи Бардан, мой зять.
— А-а! — протянул Муш. Ему было известно, что семейство Маналезе многочисленно, а его члены, за редкими исключениями, предпочитают иметь дело только друг с другом. Однако он не подозревал о существовании зятя.
— Он тоже был великолепен. Чтобы в таком одеянии явиться во Дворец правосудия, нужно обладать крепкими нервами. Он мог допустить какую-нибудь оплошность!
— Это был единственный способ передать тебе пилу, — заметил сицилиец, обгоняя автобус с немецкими туристами. — Надеюсь, она работала нормально. У тебя не было с ней никаких сложностей?
— С ней-то нет, — сказал Муш, глубоко затянулся и, посмотрев на сидящую рядом с ним блондинку в белой, похожей на матросскую, шапочке на голове, неохотно признался. — Но мне пришлось пришить какого-то бродягу.
Женщина бросила на него быстрый взгляд, в котором был не страх, а какое-то болезненное любопытство.
— Мне это было очень неприятно, — продолжал убийца, — однако у меня не было выбора. Он хотел закричать.
— Понимаю… — неуверенно пробормотал Альдо.
Муш посмотрел на улицу, где зажглись фонари.
— С тех пор, как я замочил того легавого, обо мне писали всякую ерунду. Но что бы ни говорили, мне не нравится убивать. Я знаю, некоторым это доставляет удовольствие, но это не мой случай.
Он откинулся на спинку и погрузился в задумчивость, машинально гладя собаку. Однако, когда машина резко затормозила у светофора, он очнулся и спросил:
— Как ты считаешь, мне можно будет сегодня встретиться с дочерью?
— Это будет зависеть от отца, — ответил Альдо. — Думаю, впрочем, что тебе придется подождать. Ты должен будешь пересидеть несколько дней в надежном месте.
Муш с удивлением посмотрел на сицилийца. Тот говорил об отце голосом, в котором звучали почтительность и покорность. А ведь ему самому уже наверняка стукнуло тридцать пять! Странные нравы у этих итальянцев! К тому же старик едва ли участвовал в подготовке побега. Муш и не подумал бы обратиться к нему за помощью, тем более что не был с ним знаком. Как, впрочем, и с женщиной, сидящей сейчас рядом с ним, и с зятем Альдо. Он не знал никого из Маналезе, кроме двух братьев. Впрочем, в этом семействе, наверное, все всегда действовали сообща. Участие Альдо в ограблении, которое организовал Муш, можно было считать случайным. Они никогда больше не работали вместе.
— Кому пришло в голову прихватить с собой шавку?
— Мне, — улыбнулась Жанна. Я подумала, что так буду привлекать меньше внимания, если ожидание затянется. Кроме того, если бы конвоиры увидели вас с собакой на поводке, это сбило бы их с толку. Пока они разобрались бы, в чем дело, мы были бы уже далеко.
— Отличная идея! — похвалил Муш. — Твоя жена просто молодец, Альдо!
— Да, женщины у нас очень изменились.
На губах сицилийца играла улыбка, но его глаза оставались настороженными.
— Я имею в виду, у нас во Франции. Если же говорить о нашей родине, о Сицилии…
На дороге возникла небольшая пробка, и он вынужден был затормозить рядом с полицейской машиной. Убийца отодвинулся в тень. Альдо подождал, пока пробка рассосется, и только тогда продолжил:
— Отцу стоило большого труда примириться с этим изменением, но все же он сумел себя преодолеть. Правда, он последовал примеру своих американских друзей… Ты знаешь, кто остановил тюремный фургон на улице Кассини? Моя сестра Тереза!
— В самом деле?! — восхитился Муш. — Первоклассная идея! Полицейским и в голову не может прийти, что женщина способна на такое! Браво, парень!
— Поздравления не по адресу, — поправил его Альдо, обгоняя разносчика газет, изо всех сил крутившего педали велосипеда. — Можешь высказать их моему отцу. Это он все устроил.
— Я вижу, — пробормотал убийца, машинально останавливая взгляд на круглых коленях соседки и не без наслаждения втягивая в себя аромат ее духов. Она его волновала. Впрочем, едва ли существовала женщина, которая сейчас оставила бы его равнодушным. За все время пребывания в тюрьме он не видел ни одной женщины, кроме собственной дочери, которая приходила к нему на свидания. С женой он встречаться отказался и требовал, чтобы она с ним развелась, считая, что ей не следует носить имя человека, которому уготована гильотина. Муш отвернулся от Жанны и принялся разглядывать ножки дам, пытающихся остановить редкие в этот час свободные такси.
III
В церкви было сумрачно и тихо. Горело всего несколько свечей, и их пламя колебалось от сквозняка. В исповедальнях кюре тихо перешептывались с прихожанами. Редкие посетители молились, стоя на коленях или сидя на скамьях. Мария и Сальвадоре Маналезе одновременно дочитали «Отче наш» и так же одновременно перекрестились. Они столько лет вместе молились Богу, что их движения стали синхронными. Поднявшись, они пошли к центральному проходу и преклонили колени перед алтарем, сверкавшим позолотой и, казалось, призывавшим всех верующих укрепить покой и надежду в сердце своем и отринуть насилие и ненависть. На пороге церкви Сальваторе прикрыл свои густые седые волосы старомодной жемчужно-серой шляпой и обмотал шарф вокруг мощной шеи. Рядом с ним почтительно, как и положено воспитанной на Сицилии женщине, стояла Мария; она подняла воротник черного суконного пальто и открыла зонт.
— Ты не успеешь промокнуть, жена. Машина совсем рядом, — сказал он ей на сицилийском диалекте, на котором они всегда объяснялись друг с другом.
Прижимаясь к стене, которая немного прикрывала их от ливня, супруги дошли до «бьюика» Сальваторе. Как и всегда, когда ей предстояло ехать на автомобиле, Мария невольно попятилась. Она не доверяла машинам и в глубине души тосковала по украшенным разноцветными помпонами повозкам, в которые обычно впрягали мула. Именно в такой двуколке она впервые увидела своего Сальваторе. Это было на лишенном растительности склоне горы, возвышавшейся над Таорминой, там, откуда видна была Этна.[5]
Перед тем как завести мотор, Сальваторе закурил свернутую из черного табака твердую неровную сигару, едкий дым которой могли выносить лишь немногие женщины. Но старый сицилиец не боялся за свои легкие. В свои шестьдесят пять он был крепок, как скала, и только иногда жаловался на ноги.
Вскоре «бьюик» остановился на улице Ордене, рядом с ярко освещенной витриной бакалейного магазина. Супруги вошли внутрь, вдыхая знакомый сильный запах. Как и все итальянские бакалейные лавки, их магазин изобиловал аппетитной снедью, при виде которой у покупателей сразу возникало желание полезть за кошельком. Поэтому недостатка в клиентах не было. Их обслуживал целый штат продавцов и продавщиц. Все они были итальянцами и беспрекословно выполняли распоряжения сестры Сальваторе Розы.
Сейчас, едва старый сицилиец появился на пороге, его сестра, державшаяся строго и внушительно, поспешила к нему и шепнула на ухо:
— Тебя ждут.
Сальваторе кивнул, пожал несколько рук, бросил несколько слов по-итальянски клиентам, любившим звуки родного языка, и прошел за занавеску, сплетенную из разноцветных пластиковых полос. Он очутился в баре, где коротали время немногие посвященные, зажав в руке стаканы с «Чинзано» или «Кампари». Снова пожав протянутые ему руки, он прошел в следующую дверь. Мария шла за ним. Комната, где они оказались, служила столовой для персонала и одновременно кухней, где священнодействовала Мария, и сейчас была пуста. Пройдя через нее, Сальваторе Маналезе открыл дверь в зал, куда допускались только члены семьи. Он был обшит темным деревом, и каждого, кто туда входил, охватывали ароматы тушеного с овощами мяса, соррентских оливок, теста, масла и выдержанного сыра.
Потягивая аперитив, там сидели Серджо, Луи Бардан, которого по месту его рождения все называли Берлинцем, его жена Тереза, Альдо, Жанна и Муш. При появлении главы клана все встали. Опершись на дверную стройку, старый сицилиец разглядывал вновь прибывшего глазами много повидавшего человека и, наконец, проронил:
— Рад встрече.
Он снял шляпу, пальто и Шарф, отдал их торопливо подбежавшим женщинам и уселся на свое место во главе стола, откуда мог наблюдать за всеми присутствующими. Потом ткнул вонючей сигарой в сторону стоящей на столе бутылки «Мартини», и Жанна поспешила наполнить его стакан. Отпив глоток, Сальваторе повернул голову к Серджо и приказал:
— Книгу!
Тот положил перед стариком альбом в роскошном переплете.
— Как тебе пришло в голову обратиться за помощью к Альдо?
Муш поставил на стол стакан.
— Все те, на кого я мог рассчитывать, либо умерли, либо сидели в тюрьме. И тогда я вспомнил об Альдо. Когда-то мы вместе провернули хорошее дельце. В нем я был уверен.
Он протянул руку и указал на альбом.
— И речи не могло быть о том, чтобы доверить эти марки первому встречному. Ведь они стоят целое состояние. Нужно было найти человека, которому бы я доверял.
Старик кивнул, принимая похвалу своему сыну. Муш продолжал:
— Но я не знал, где его можно встретить. Ведь он не общается с блатными.
— Никто из нас с ними не общается, — уточнил Сальваторе и сделал глоток.
На сей раз кивнул убийца. Он считал оправданной подобную замкнутость.
— Знаю. К счастью, я вспомнил о баре, в котором Альдо когда-то назначил мне встречу. Дочь была с ним знакома. Я велел ей последить за баром и постараться выйти на Альдо.
— Она так и сделала, — вмешался Альдо, продолжавший стоять, как и все молодые члены семьи.
Старик еще не разрешал им садиться. Сидели только он сам и Муш, не подозревавший о заведенном здесь порядке.
— От твоего имени она предложила мне коллекцию марок стоимостью сто десять миллионов, если я помогу тебе бежать, — добавил Альдо.
— Вот она, — подтвердил убийца, вновь показывая на альбом.
— Я отнес коллекцию специалисту, — проговорил Сальваторе. — Ее оценили ровно в сто пятнадцать кусков.
— Они ваши, — с сожалением вздохнул Муш.
— Именно поэтому ты сейчас здесь, — заметил старик и пошевелился, отчего крупная жемчужина в булавке его галстука блеснула. — Без этой гарантии я не отдал бы приказа заняться твоим делом.
Взгляд Муша обежал всех присутствующих и вновь остановился на Сальваторе.
— Я хотел бы тебя поблагодарить. Без всех вас…
Он остановился. Головы членов семейства дружно повернулись в его сторону, в их глазах читалось неодобрение. Убийца нахмурился, но сразу понял причину подобного поведения и поправился:
— Я очень вам благодарен.
На сей раз его обращение относилось не ко всему клану, а только к старику. Выражение неодобрения на лицах исчезло. Сальваторе, барабаня пальцами по переплету альбома, продолжил свою мысль:
— Этой гарантии было бы недостаточно, если бы твоей дочери был известен наш адрес. Но все, что она знала — имя Альдо и название бара. Даже если бы легавые сели ей на хвост, она не могла привести их сюда…
— Если бы Мартина знала, что я здесь, она никому бы ничего не рассказала, — ощетинился Муш.
Успокаивая его, глава семейства поднял руку с золотой печаткой на мизинце.
— Она молода и может совершить неосторожный поступок. Женщины часто делают глупости.
При этих словах Тереза и Жанна отвели глаза. Серджо состроил им гримасу.
— Два месяца назад ты попросил свою дочь передать Альдо, чтобы он не продавал коллекцию. Ты сказал, что выкупишь ее сам, когда окажешься на свободе. Объясни, что ты имел в виду.
— Все так и было, — подтвердил убийца. — За время, пока я сидел в тюрьме, кое-что произошло.
— Мы можем узнать, что именно?
Муш с недоверием посмотрел на женщин.
— Они привыкли к тому, что им говорят все, — успокоил его старик. — Если нужно, они и сами участвуют в деле. Впрочем, ты и сам мог в этом убедиться. Но я тебя понимаю.
Он кивнул Терезе и Жанне, и те вышли. Муш начал свой рассказ.
— В тюрьме я познакомился с одним типом. На свободе он был ювелиром и работал на Картье. Он утверждал, что в начале июня в Нью-Йорке будет проводиться международная выставка ювелирных изделий. В ней будут участвовать такие фирмы, как «Картье», «Бушрон». Всего не менее десятка.
— Ну и что?
— Они повезут с собой побрякушек на сорок миллиардов.
Казалось, даже массивный стол прогнулся под тяжестью этой цифры. Все замолчали. В наступившей тишине отчетливо был слышен щелчок зажигалки Луи Берлинца. Сальваторе допил вермут, поставил стакан и спросил:
— Как ты себе это представляешь?.. Кстати, что было дальше с тем типом?
Муш вытащил сигарету из лежащей перед ним пачки «Житан» и принялся машинально вертеть ее в пальцах.
— Он умер.
Серджо вздрогнул. Ему явно еще не хватало закалки. Убийца улыбнулся юноше уголками губ:
— От сердечного приступа…
Он снова повернулся к старику:
— Директора фирм вылетают в Нью-Йорк шестого июня в одиннадцать часов рейсом компании «Панам».
Сальваторе наконец вынул изо рта свою вонючую сигару.
— Кто их сопровождает?
— Их по очереди подбирает бронированный фургон, охраняемый эскортом мотоциклистов. Об этом уже писали в газетах.
— Тогда дело безнадежное.
— Почему?! — удивился Муш. — Мне приходилось проделывать и не такое.
Старик снова сунул сигару в рот и в упор посмотрел на собеседника.
— Нападать на бронированные машины с эскортом?
— Нет, — сознался убийца. — Но кое с чем в этом роде я все же сталкивался.
— Слишком большой риск, — отрезал Сальваторе. — Понадобится много людей. А мы работаем только со своими.
— Сорок миллиардов, папа! — вмешался Альдо.
Отец посмотрел на него долгим взглядом и пальцем сделал знак, что все могут сесть. Трое мужчин уселись, двигая стульями, и потянулись за «Мартини». Муш наблюдал за происходящим и обдумывал свое положение. Ему нужны были эти люди, чтобы попытаться поправить дела. Когда ты в бегах, требуется много денег, чтобы выжить. Осведомители полиции устраивают на тебя настоящую охоту. Ты же сам в отличие от коньяка с годами не становишься лучше и можешь чувствовать себя уверенно только если сорвешь хороший куш. Кроме того, с деньгами можно рвануть в Южную Америку или Азию. В тех краях любой, у кого голова на месте, может чувствовать себя королем… И Муш добавил, как опытный искуситель:
— Сорок миллиардов — это действительно хорошие деньги. Не думаю, что кто-нибудь раньше замахивался на такое.
— Он говорит правду, папа! — пришел в восторг Серджо. — Только представь себе! Сорок тысяч кусков за один раз! Это будет крупнейшее ограбление всех времен!
Старый сицилиец взглянул на сына. Он мог бы одним движением бровей заставить его прикусить язык, но ограничился замечанием:
— Все это прекрасно, но неосуществимо. Если мы нападем на бронированный фургон, убитых не избежать. Не говоря уже о том, что для такой операции нас слишком мало. А о привлечении французов даже речи быть не может. Здешние ребята уже не те, что когда-то.
Он особенно подчеркнул последние слова. Внезапно его мощная рука замерла на переплете альбома.
— Если только…
— Что ты имеешь в виду, папа? — осмелился спросить Альдо. Все смотрели на Сальваторе, не отводя глаз. Но тот ничего не ответил. С задумчивым видом он кивнул на свой стакан, и Серджо поспешил его наполнить. Потом старик достал из кожаного портсигара новую сигару, закурил ее, выпустил дым, отчего все закашлялись, и повторил:
— Если только… Наверное, эскорт будет сопровождать ювелиров только до самолета?
— Конечно, — подтвердил Муш. — Но такой же эскорт будет ждать их в Нью-Йорке.
— Таким образом, в течение какого-то времени сорок миллиардов будут охраняться не так уж строго, — констатировал глава клана, обволакивая себя облаком едкого дыма.
— Да, во время полета! — догадался Серджо. Его отец согласно кивнул.
— Именно во время полета. Не исключено, что только в этот момент можно будет…
Несмотря на присущее ему хладнокровие, Муш вздрогнул:
— Надеюсь, вы не собираетесь устраивать ограбление прямо в «Боинге»? Такого еще не делал никто.
— А почему бы и нет? — вопросом ответил ему Серджо. — Я недавно смотрел фильм. Он называется «Цель — 500 миллионов». Так там один парень нападает на почтовый самолет.
Он смолк, заметив, что отец нахмурил брови. Старик поставил свой стакан на стол и уточнил:
— Я думал не о фильме. Даже если он недурен, это всего лишь кино. Мне известно о двух реальных ограблениях в открытом небе. Оба они были в Южной Америке: одно в Бразилии, другое в Мексике.
— В «Боингах», папа? — удивился Альдо.
— Нет, в «ДС-3». Сколько я помню, в первом случае речь шла о перевозке бриллиантов. Нападавшие наставили свои пушки на пилота и заставили его приземлиться…
Внезапно старик смолк, как будто пораженный открывшейся его глазам картиной.
— Не представляю себе, как это можно будет сделать, — резко сказал Муш. — Не нужно забывать, что в Нью-Йорке нас будет ждать куча полиции!
— Именно о посадке я и думаю, — бросил Сальваторе. — Возможно, нам могли бы помочь мои американские друзья. Конечно, для этого нужно, чтобы дело показалось им интересным.
Он задумчиво потер подбородок и медленно обвел взглядом сидевших перед ним мужчин.
— Сорок миллиардов… Недурной куш!
Повернувшись к Мушу, старый сицилиец улыбнулся, но глаза его смотрели как бы внутрь себя:
— Не исключено, что ты все-таки получишь назад свою коллекцию. Может быть… Во всяком случае, у нас есть еще месяц, чтобы подготовить это дело.
Его внушительный кулак опустился на красный переплет альбома. Поднявшись, причем все последовали его примеру, он толкнул дверь в соседнюю комнату. Едва он туда вошел, раздался детский крик:
— Деда! Деда!
Маленькая девочка в голубом домашнем платье обняла ногу Сальваторе. С лица сицилийца исчезло строгое выражение. Он нагнулся и, взяв внучку на руки, понес ее к столу, где сидела Тереза, безуспешно пытавшаяся накормить дочь. Вокруг них суетилась Жанна, и вся сцена сопровождалась веселым лаем Салями.
— Хочу с дедом! — решила Сесилия, отшвыривая ложку.
— С дедом так с дедом, — согласился старик.
Он поднял ложку и сел перед тарелкой, взяв девочку на колени.
— Не надо дыма, — капризно сказала та, состроив гримасу. — От него плохо пахнет.
— Ты права, милая, — согласился глава клана. — Он действительно плохо пахнет.
Он протянул сигару дочери, чтобы та ее погасила, и поднес ложку ко рту трехлетнего тирана.
IV
— Это всегда так долго, мама?
Франсуаз Ле Гофф оторвалась от портрета своего младшего сына, украшавшего первую страницу «Франс-суар». Ее темное пальто резко выделялось на фоне стены клиники. Седые волосы, гладко зачесанные назад, прикрывала серая шляпка, давно вышедшая из моды. Казалось, женщина излучает безмятежное спокойствие. Она сняла очки в железной оправе и посмотрела на сына.
— С тобой было проще. А с Жобиком действительно затянулось.
Помахав в воздухе сложенной газетой, она с гордостью спросила:
— Ты читал, какие надежды возлагаются на него в связи с лондонским чемпионатом? Здесь пишут, что во время встречи с мексиканцами он будет самым опасным нападающим.
Ален Ле Гофф, меривший коридор большими шагами, на секунду остановился и с той же гордостью подтвердил:
— Лучшего центрального нападающего в сборной Франции никогда не было, мама.
Он подошел к закрытой двери, прислушался, закурил десятую за время ожидания сигарету и воскликнул:
— Господи, как же долго! Как ты считаешь…
— Посиди немного! — прервала его мать, подняв руку в серой перчатке. — От тебя у меня начинает кружиться голова!
— Пойми же, мама! Это мой ребенок…
Не закончив фразу, он бросился к вышедшей из-за двери санитарке.
— Что там, мадам?
Та с понимающим видом отрицательно покачала головой.
— Пока ничего. Однако беспокоиться не нужно. Все идет нормально.
— Вы будете накладывать щипцы?
В голосе его слышалась тревога. Подобно всем мужчинам, он склонен был драматизировать ситуацию.
— Доктор полагает, что до этого не дойдет, — ободряюще сказала санитарка, обходя его. — Главное, не мучьте себя. Обычно все проходит прекрасно. Не правда ли, мадам?
Старая бретонка пожала плечами.
— Мужчины беспокоятся о нас только тогда, когда мы производим на свет их ребенка. В другое время они нас просто не замечают.
Она снова махнула газетой в сторону сына.
— В день, когда ты появился на свет, твой отец выпил целую бутылку коньяка. Он так накачался, что на следующий день не мог вспомнить дорогу в больницу… Когда у мужчины рождается сын, он полагает, что все кругом должно остановиться. К счастью, этого не происходит.
Она засмеялась, и санитарка последовала ее примеру. В это время дальняя дверь коридора открылась, и в ней показался старший инспектор Рондье. Плащ его блестел от дождя. Все головы повернулись к нему. Поздоровавшись с женщинами, вошедший отвел Ле Гоффа в сторону и пробормотал:
— Прошу прощения, патрон… Мне показалось, что будет лучше, если я сообщу вам об этом лично… Муш сбежал!
— Что? Сарте?! — вздрогнув, воскликнул комиссар. — Я же видел его сегодня!
— Он удрал из фургона, когда его везли в Сантэ.
— У него оказалась пушка?
— Нет. Он поднял пол. И при этом пристукнул бродягу, который был с ним в одной камере.
Лицо Ле Гоффа застыло. Он переводил взгляд с матери на своего заместителя.
— Какие приняты меры?
— Комиссар Тупир приказал, чтобы до вашего прибытия подследственных не разводили по камерам. Я послал людей на улицу Кассини, где фургон едва не попал в аварию и на какое-то время остановился.
— Что там произошло?
— Его чуть не протаранила легковушка, за рулем которой сидела женщина.
— Что еще?
— Была объявлена общая тревога. Пока это все. Я помчался сюда, чтобы сообщить вам о случившемся.
Лицо комиссара говорило о том, что он одобряет все эти шаги.
— Что вы думаете предпринять? — спросил его Рондье.
— Немедленно допросить всех, кто может иметь хоть какое-то отношение к побегу. Все перерыть. Попытаться понять, как это было. Спасибо, что приехали ко мне в клинику.
Ле Гофф сделал шаг по направлению к матери, но Рондье удержал его за рукав.
— Может быть, вам лучше присоединиться к нам позднее, патрон? Я имею в виду, когда…
Он неловко коснулся рукой стены коридора, за которой рождалась новая жизнь. Однако колебания Ле Гоффа были недолгими. Встретив вопросительный взгляд матери, он проговорил:
— У меня неприятности, мама. Большие неприятности. Боюсь, что мне придется уйти. Скажи Анжеле…
Он снял с вешалки плащ, подошел к двери в родильное отделение, задержался возле нее на минуту, опустив голову, а потом стряхнул с себя оцепенение и решительно бросил:
— В дорогу!
Голос его был неприятным, как будто он пытался скрыть овладевшее им волнение. Франсуаз Ле Гофф встала, прежде чем обратиться к сыну.
— Ты не преувеличиваешь? Тебе не кажется, что ты мог бы повременить? Этой минуты ты ждал шесть лет. Когда же, благодарение Богу, она настала, ты уходишь…
Смущенный Рондье отошел на несколько шагов. Он ругал себя за то, что пришел. Однако он понимал, что поступил правильно. Инспектор слишком хорошо знал Ле Гоффа. Тот никогда бы ему не простил, если бы даже в подобных обстоятельствах ему не сообщили о побеге. Комиссар несколько секунд смотрел на сигарету, тлевшую в его пальцах, потом поднял глаза.
— Мне очень жаль, мама. Дело действительно серьезное.
Бежал Роже Сарте. Тот самый, который убил Врийяра. Ты, наверное, помнишь…
— Я помню только об одном, Ален Ле Гофф, — отрезала его мать. — В момент, когда ты станешь отцом, тебя не будет рядом с твоей женой.
Комиссар протянул к ней руку, но не осмелился даже прикоснуться к ее одежде.
— Мне очень жаль, мама…
Лицо его выражало страдание. Он взглянул на санитарку, входившую в родильное отделение с чистыми полотенцами в руках, сделал шаг вслед за ней, потом, как будто передумав, круто повернулся и присоединился к Рондье, который ждал его в подъезде, глядя на частую сетку дождя.
V
Витрина магазина была надежно закрыта шторой, персонал давно ушел. В этом районе Парижа привыкли ложиться рано, и улицы были почти пусты. К тому же ливший без перерыва дождь не располагал к буколическим прогулкам. Мария убралась в большой зале и, устав за день, ушла в свою комнату. Тереза поставила перед мужчинами стол для игры в карты. Те изредка поглядывали на экран телевизора, установленного в стенной нише. Передача новостей завершилась сообщением о побеге Муша. Ткнув в сторону убийцы зажатой между пальцами сигарой, Сальваторе заметил:
— Тебе придется побыть здесь семь-восемь дней. Может быть, даже больше, потому что полицейские как с цепи сорвались. Потом мы перевезем тебя на мою виллу. Это недалеко от Рамбуйе.
Он подождал, пока Жанна нальет ему рому, и продолжил:
— Спать ты будешь в комнате наверху. Выходить из нее не стоит. Не нужно, чтобы продавцы знали о том, что ты здесь. Еду тебе будут приносить женщины.
Он взял карты и принялся тасовать их рукой опытного игрока.
— Отрасти усы, — посоветовал он Мушу. — Может быть, тебе стоит покрасить волосы.
— Пожалуй, — согласился убийца. — А что с моей дочерью? Сальваторе сделал Жанне знак, чтобы та уменьшила звук телевизора, и снова повернулся к столу.
— Тебе придется потерпеть. Полиция наверняка не выпускает ее из виду. Тебя могут выследить. Мы устроим вам свидание попозже.
Он еще продолжал сдавать, когда зазвонил телефон.
— Должно быть, это Нью-Йорк, — заметил Альдо, взглянув на старинные часы, всегда ходившие очень точно.
Трубку сняла Тереза. Она утвердительно кивнула пристально смотревшим на нее мужчинам и сказала по-итальянски:
— Попросите, пожалуйста, мистера Фрэнки Витторио. С ним хочет поговорить мистер Сальваторе из Парижа.
Повернувшись к отцу, она проговорила:
— Он дома. Дворецкий сейчас его позовет. Старый сицилиец посмотрел на Муша, который раскладывал свои карты.
— Ты понимаешь по-итальянски?
— И по-итальянски, и по-английски. Мне пришлось много помотаться по миру.
— Это сильно облегчит дело, если мы согласимся на твое предложение.
— Мистер Витторио? Одну минуту, — сказала Тереза в трубку и передала ее отцу. Тот сразу же заговорил веселым током:
— Алло, Фрэнки? Как твои дела? Надеюсь, все хорошо? Мне нужно с тобой повидаться. Это довольно срочно.
Он выслушал собеседника и доверительно добавил:
— Да, очень важно. Ты же знаешь, что иначе я не стал бы тебя беспокоить. Встретимся в обычном месте. Что ты скажешь относительно послезавтра? О'кей. Как твоя жена? А дети?.. Мария чувствует себя хорошо, только тоскует по родине… Твоя жена тоже?.. Чао, Фрэнки. До четверга.
Сальваторе положил трубку, затянулся и повернулся к зятю.
— Завтра тебе нужно будет купить два билета в Монреаль, Луи. Ты полетишь вместе со мной. Ты, Жанна, дай телеграмму в «Хилтон» и закажи нам двухкомнатный номер на четверг.
Он подождал, пока его невестка поставит телефон на место, и пояснил Мушу:
— Если мне нужно увидеть старого друга из Штатов, мы всегда встречаемся в Монреале. Это помогает избежать любопытных глаз и ушей. Мне не приходится показываться в Нью-Йорке, а мой друг не привлекает внимания ФБР, что неизбежно при полетах за границу. Фрэнки поедет в Канаду на машине. Американские полицейские, которые приставлены к нему, ничего не заподозрят, когда увидят, как он садится в собственный лимузин. Границу Фрэнки пересечет по фальшивому паспорту.
— Я вижу, вы не забываете об осторожности! — воскликнул Муш, восхищенно присвистнув.
— Потому-то мы и уцелели, — спокойно ответил сицилиец, снова беря карты.
— Этот Фрэнки Витторио, наверное, один из боссов мафии? Хозяин дома оставил вопрос без внимания, но не стал переводить разговор на другую тему.
— Я рассчитываю, что мне удастся заинтересовать его. Но ты уверен, что речь действительно идет о сорока миллиардах?
— Нет, конечно, — признался убийца. — Но если верить газетам, которые я читал, пока сидел на даче, это недалеко от истины.
— Да, они называли эту сумму, — вмешался Альдо. — В газетах утверждалось, что на выставку поедут представители лучших ювелирных фирм Парижа. Они наверняка постараются не ударить в грязь лицом и захватят самое дорогое, что у них есть.
— Все равно скупщики не дадут эту цену, — вставил Луи. — Украшения понадобится переделать, а некоторые камни, возможно, перегранить, иначе их не перепродашь. На этом всегда очень много теряешь.
Его тесть разложил свои карты и тихо засмеялся.
— Несмотря на все убытки, у нас останется немало миллиардов. Почти тридцать… Я никогда не видел такой кучи денег, а ведь через мои руки прошло немало монет. Я даже не мечтал о подобной операции…
Он посмотрел на карту, которую сбросил Луи, и пояснил специально для Муша:
— Насколько я себе представляю, мы можем провернуть это дело только при поддержке из Нью-Йорка. В противном случае у нас не будет ни малейших шансов, и ты окончательно лишишься своих марок.
Муш, искоса разглядывавший Жанну, которая сидела в кресле, держа фокстерьера на коленях, улыбнулся:
— Если ваш друг Фрэнки действительно тот человек, который нам нужен, я смогу выкупить коллекцию… Более того, я прикуплю еще марок.
— Глядя на тебя, никогда не подумаешь, что ты любишь марки, — заметил Альдо.
Убийца поправил свои карты и невесело засмеялся.
— Я увлекся ими, когда был мальчишкой, но тогда у меня не было денег. Позднее, когда они у меня появились, я начал собирать марки всерьез…
Краем глаза он заметил, как Жанна положила ногу на ногу, и невольно умолк. Давал себя знать год, проведенный в одиночке, без женщин. Он взял себя в руки, поднял голову и, заметив, что Сальваторе хмуро смотрит в его сторону, закончил мысль:
— Я понял, что это прекрасный способ вкладывать деньги. С тех пор я стал настоящим знатоком в этой области. Когда полицейские взяли меня за жабры, они, наверное, не меньше тысячи раз спросили, что я сделал со своей добычей. Если бы они только знали, что вся она здесь!
И он показал на альбом, лежавший на сервировочном столике.
— Недурная мысль! — похвалил Сальваторе и знаком приказал Терезе налить ему еще рому.
VI
Последний этаж здания уголовной полиции, где располагалась Антигангстерская бригада, находился на осадном положении. Все выходы охранялись автоматчиками. В нарушение установленных правил, по специальному разрешению, сюда из Сантэ были доставлены для допроса все подследственные, ехавшие в одном фургоне с Мушем. Здесь же были и сопровождавшие их жандармы. Внизу, во дворе, разделявшем уголовную полицию и Дворец правосудия, как толстое зеленое насекомое, застыл тюремный фургон, и сотрудники службы криминалистической экспертизы фотографировали его со всех сторон. Труп бродяги уже был доставлен в морг и попал в предупредительные руки прозекторов. Что ж, бедняга сделал доброе дело уже тем, что избавил общество от своего присутствия.
На арестантов посыпался град вопросов, но они мало чем могли помочь следствию. В том, что Пятничный толстяк удрал, их вины не было. Единственное, о чем они мечтали — это вернуться в любимые камеры и завалиться на тощие тюфяки, где их, должно быть, уже заждались верные клопы. Вместо этого они вынуждены были выслушивать глупые предположения подонков из полиции, которые даже не сняли с них наручники.
Сидя в своем кабинете, Ле Гофф просматривал отчеты подчиненных. Все попытки напасть на какой-нибудь след пока заканчивались неудачей. В сотый за вечер раз зазвонил телефон. Трубку снял Рондье.
— Да? «Нис-матэн»? Вам нужны новости о побеге Муша? Никаких новостей пока нет, старина. Мне очень жаль.
Усталым жестом он нажал на рычаги аппарата, который немедленно зазвонил снова. Инспектор раздраженно поднес трубку к уху.
— Алло!.. Ах, это клиника? Мадам Ле Гофф?.. Да, он здесь. Угрюмое выражение исчезло с его лица, во взгляде появилась искренняя симпатия. Ле Гофф поднял голову от очередного отчета, нетерпеливо протянул руку и почти прокричал своей невидимой собеседнице:
— Мама? Ну как там?
Сериски, Рондье и Мерлю, расположившиеся вокруг своего начальника, затаили дыхание. Какое-то время комиссар молча слушал, уставившись на стену, где висели траурные портреты Врийяра и Лармено, потом разочарованно пробормотал:
— Все еще ничего? Доктор считает, что ждать осталось недолго? Анжела хочет, чтобы я приехал?.. У меня много работы, мама…
Посмотрев вокруг, он заметил на лицах своих сотрудников скрытое неодобрение. Смущенный их немым укором, он заколебался.
— Я постараюсь сделать все, что возможно, мама!
Сидевшие в комнате отвернулись. Только Рондье, закурив, чтобы придать себе смелости, решил вмешаться.
— Вы вполне могли бы подскочить туда, патрон. Это никак не скажется на следствии. Мы уже раскрутили маховик. Район улицы Кассини прочешут и без нас. Если будет что-нибудь новое, мы немедленно вам сообщим.
— Черт побери, я бы в подобном случае… — буркнул Сериски. Ле Гофф снова обвел их взглядом и решительно проговорил:
— Хорошо, мама. Я еду. Скажи Анжеле. Он положил трубку и встал.
— Рондье, вы поедете со мной. Будете сидеть на телефоне в машине. Тупир!
На пороге кабинета возник заместитель комиссара.
— Тупир, вы обобщите всю информацию. Проследите за отправкой подследственных в тюрьму. Думаю, мы извлекли из них все, что было можно, то есть ничего. Теперь нам нужно выяснить, кто мог подойти к Мушу и передать ему инструменты, которыми он вскрыл пол.
Он повернулся к своим помощникам.
— Вы, Сериски и Мерлю, завтра возьмете людей и пройдете весь путь Сарте с той минуты, когда он вышел из камеры, до момента, когда его заперли в фургоне. Вам нужно будет найти всех, кто к нему приближался. Их придется хорошенько потрясти. Может быть, они вспомнят какую-нибудь деталь… Кроме того, проверьте расходы всех охранников, которые с ним соприкасались, в том числе жандармов.
Ле Гофф поднял руку, предупреждая возможные возражения.
— Это всего лишь формальность. Конечно, я доверяю этим парням… До завтра, господа. Если только ночью не будет ничего нового.
— Надеемся, патрон, что у вас родится сын, будущий полицейский. Бутуз весом в десять фунтов.
Комиссар обернулся в дверях, кивнул всем на прощание и вышел в сопровождении Рондье. Между тем Тупир бросился к снова зазвонившему телефону и после короткой паузы рявкнул в трубку:
— «Телеграм де Брест»? Нет, о Муше ничего нового. Позвоните завтра.
Он упал в кресло своего начальника и придвинул к себе отчеты.
* * *
Ливень смыл с парижских улиц последних прохожих. На приборной панели «ДС», за рулем которой сидел Рондье, зажглась красная лампочка. Ле Гофф снял трубку радиотелефона, и кабина наполнилась треском, в котором, впрочем, отчетливо слышался голос.
— Белый вызывает Красного. Вы меня слышите? Комиссар нажал пальцем кнопку, расположенную на трубке.
— Я Красный. Слышу вас хорошо. Что у вас?
Он отпустил кнопку, приготовившись к докладу Барани.
— Жена и дочь Сарте только что вернулись домой из кино. С беглецом в контакт не вступали. Ждем инструкций.
— Красный Белому. Пусть вас сменят. За женой и дочерью Сарте нужно следить день и ночь.
— Понял вас, Красный. — Голос Барани заметно повеселел. — Конец связи.
Не кладя трубку, Ле Гофф позвонил дежурному префектуры полиции.
— Дежурный префектуры слушает вас, Красный, — ответили ему.
— Тревоги не отменять. Оставить усиленный контроль на вокзалах, в аэропортах и на границе. Проверить, чтобы во всех отделениях полиции и жандармерии была фотография Роже Сарте по кличке Муш, бежавшего сегодня из тюремного фургона. Подтвердите прием. Конец связи.
Комиссар задумчиво закурил, потом спросил:
— Кажется, у вас есть дети, Рондье?
— Двое, патрон. Мальчик и девочка.
— Как вы себя чувствовали, когда они появились на свет?
— Ну… — замялся инспектор. — Честно говоря, довольно странно. Дурак-дураком.
— Примерно как и я сейчас, — улыбнулся Ле Гофф.
Он ткнул рукой в ветровое стекло.
— Сейчас направо. Клиника здесь рядом.
Едва они остановились, снова загорелась лампочка на панели. Ле Гофф поднял трубку и услышал:
— Желтый вызывает Красного. Красный, вы меня слышите?
Комиссар узнал голос инспектора Жибо.
— Слышу вас, Желтый. Что у вас?
— Мы только что нашли супружескую пару, живущую на улице Кассини. Они видели блондинку, которая помогла бежать Сарте. Она была с собакой. Сами они недавно вернулись домой и готовы к допросу. Ждем ваших указаний.
— Красный Желтому. Вызовите эту пару на допрос. Завтра же. Немедленно возвращайтесь в бригаду и сообщите полученную информацию. Подтвердите прием.
— Вас понял, Красный. Конец связи.
Ле Гофф торопливо вышел из машины. Едва он подошел к двери клиники, как та открылась. В проеме стояла его мать, спокойная, как всегда. Долгие часы ожидания внешне никак не сказались на ней. Увидев ее, Ле Гофф замер, несмотря на заливавшие его голову и плечи струи дождя. Его охватило дурное предчувствие.
Рондье выключил мотор и подошел к своему начальнику. Но его поддержка не понадобилась. Мать комиссара тихо, счастливо засмеялась.
— Я ждала тебя здесь только для того, чтобы первой сообщить радостную новость.
— Он уже родился?! — крикнул Ле Гофф.
— Кто тебе сказал, что это мальчик? — улыбаясь, спросила старая бретонка.
Ее сын повернулся к товарищу, стоявшему рядом с ним под дождем.
— Другого просто не может быть, правда, Рондье?
— Конечно, патрон! — ответил тот, как будто это разумелось само собой. — Мы все желали вам сына. А сколько он весит, мадам Ле Гофф?
— Девять фунтов.
— Девять фунтов! — восхитился комиссар. — Боже мой! Это же настоящий гигант!
— Сериски ошибся на фунт, — констатировал инспектор.
— Как Анжела? — обеспокоенно спросил Ле Гофф.
— Она чувствует себя хорошо. Правда, все прошло тяжелее, чем мы надеялись, и ей пришлось сделать укол. Сейчас она спит.
— Что-нибудь серьезное?
— Нет. Все как обычно.
Комиссар обнял свою мать, прижимая ее к мокрому плащу.
— Вы слышали, Рондье? Рождение будущего начальника Антигангстерской бригады прошло, как обычно.
— Ну уж нет! — старая бретонка попыталась оттолкнуть сына. — Даже и речи не заводи о том, чтобы мой внук стал полицейским! Одного нам вполне хватает. Вам не остается времени ни на что, кроме этой проклятой профессии!
— Да что ты, мама! — со смехом воскликнул Ле Гофф. — Это же лучшая профессия на свете! Как вы считаете, Рондье?
Но инспектор уже стоял у машины, склонившись к открытому багажнику. Когда же он выпрямился, в руках его оказался огромный букет роз.
— Передайте это мадам Ле Гофф от всей бригады, патрон.
— Большое спасибо, Рондье, — улыбнулся его начальник. — Теперь остается только взглянуть на виновника торжества. Пойдемте, старина.
Но тот, заметив, как на панели зажегся сигнал вызова, вернулся к автомобилю и снял трубку.
— Из бригады сообщают, что им только что позвонили. Неизвестный мужчина сказал, что Сарте сейчас ужинает в ресторане «Термометр», — громко сказал он, стараясь, чтобы его слова не заглушались шумом дождя.
— Пусть туда немедленно едут группы Мерлю и Сериски, — крикнул комиссар. — Мы их скоро догоним.
Повернувшись к матери, с лица которой сразу исчезла улыбка, он передал ей розы и торопливо пробормотал:
— Извинись за меня перед Анжелой, когда она проснется…
— Может быть, и поцеловать за тебя твоего сына? Ты хочешь, чтобы он тоже стал полицейским? Да я лучше задушу его своими руками!
Садясь рядом с Рондье, Ле Гофф улыбнулся.
— В
сущности она права. Работенка у нас не из приятных. К тому же тревога почти наверняка окажется ложной!
— Увы! — вздохнул, заводя мотор, инспектор. — И все же мы должны все проверять. Даже явную чушь.
Франсуаз Ле Гофф, с трудом удерживая букет, смотрела вслед автомобилю, пока он не скрылся за поворотом.
VII
В дверь постучали. Муш открыл и увидел Жанну с корзинкой в руках. Вот уже пятый день, как загнанный лис в своей норе, он отсиживался в комнате, где когда-то жила служанка. Пол был завален газетами с его фотографией. Тому, кто выдаст его полиции, была обещана премия, пять кусков.[6] Конечно, не Бог весть что, но ведь Иуда дремлет во всех, и часто довольно малого, чтобы его пробудить. Мушу в его положении равно были опасны и блатные, и фрайера.
Убийца пропустил жену Альдо в комнату, и запах ее духов защекотал его ноздри. Золотистые волосы, длинные ноги, кокетливая улыбка и прищуренные порочные глаза этой женщины рождали в нем желание. Но Муш ничего не мог себе позволить. Это была жена Альдо. Святыня. Табу. Он не смел даже погладить ее по призывно двигавшемуся при ходьбе заду, едва прикрытому мини-юбкой, или прикоснуться к груди, натягивавшей ткань блузки.
Жанна и Тереза приносили ему еду. Две красавицы, блондинка и брюнетка. Обе были подобны запретному плоду. Мушу стоило большого труда сдерживаться. В его крови горел огонь, и он все время думал о женщинах. Это продолжалось уже пять дней и пять ночей.
Жанна поставила корзину на стол, вынула из нее прикрытые сверху тарелки, вилку и нож, потом поинтересовалась:
— Вы любите оссо-букко?[7] Мама его готовит, как никто другой.
Она улыбалась. Убийца кашлянул, прежде чем улыбнуться ей в ответ.
— Пойдет. От Сальваторе и Луи по-прежнему нет новостей?
Она потрясла головой, и волосы, притягивая его взгляд, рассыпались по ее плечам.
— Пока нет. Они вернутся без предупреждения. Мы ждем их со дня на день… Видно, время тянется для вас медленно.
Она сняла крышку с красной чугунной кастрюльки. — Муш выпрямил спину, и халат, одолженный Альдо, соскользнул с его похудевшей шеи.
— В этом нет ничего смешного. Только не подумайте, что я жалуюсь. Там, откуда я явился, было похуже. И все же мне очень не хватает…
Он не закончил фразу и стал смотреть, как она накладывает еду на тарелку. Она наверняка догадалась, что он имел в виду, но то ли от кокетства, свойственного всем женщинам, то ли из-за смущения оттого, что осталась наедине с убийцей, переспросила:
— Очень не хватает? Чего?
В ее глазах плясали странные огоньки. В какую игру она с ним играла? Неужели ей было невдомек, какие усилия он прилагал, чтобы не думать о ней? Что-то проворчав, Муш провел пальцем по начавшим отрастать усам и угрюмо бросил:
— Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Альдо дома? Не мог бы он ко мне подняться?
— Он в городе. У него свидание. Это связано с нашим делом.
— А Серджо?
— Серджо? — засмеялась Жанна. — Он бегает за девчонками!
— Счастливчик! — не смог удержаться от восклицания Муш.
— Вы бы очень хотели оказаться на его месте, правда? Но нужно быть благоразумным. Вы ведь помните, папа не рекомендовал вам выходить.
Ее собеседник внимательно посмотрел ей в глаза, перевел их на слишком короткую юбку, втянул в себя запах ее духов. Но он все же сумел удержать себя в руках и разломив кусок хлеба, опустил голову к тарелке.
— Не заставляйте меня забывать о том, кто вы такая. В моих глазах вы всегда останетесь женой Альдо.
Нож в его руке дрожал.
— А теперь оставьте меня. Спасибо, что принесли мне поесть.
— Вы не хотите, чтобы я немного побыла здесь? — настаивала она.
— Перестаньте играть со мной, Жанна. Это опасно. Не заставляйте меня забывать, что именно вы помогли мне бежать. Я ваш должник — ваш и Альдо, и долг мой очень велик.
Он снова поднял голову, и в его волосах, перекрашенных в каштановый цвет, отразился свет лампы. Глаза убийцы оставались спокойными, хотя в их глубине, казалось, готов был зажечься дикий огонь. Женщина поняла, что в любом случае он сумеет сохранить самообладание и отказаться от ее игры. Внезапно ей стало страшно, и она вздрогнула.
— Спокойной ночи, Роже. До завтра.
Ей, наконец, открылось, что под его улыбающейся маской добродушного человека действительно скрывается убийца, Пятничный толстяк. Ей хотелось немного развлечься, а теперь ее все больше сковывал холодный ужас. Она сама не знала, хочется ли ей бежать или остаться с ним.
— До завтра, — повторила она.
— До свидания, — сказал Муш и встал, чтобы закрыть за ней дверь.
Он не мог не любоваться ее стройными ногами, тонкими лодыжками, призывно покачивающимися бедрами, волосами, которые так хорошо пахли, и куда он хотел бы зарыться лицом… И все же он старался смотреть поверх ее головы. Он не мог позволить себе слабости. На него была объявлена охота. Фотографии его были напечатаны во всех газетах. Их все время показывали по телевидению. Их носил в кармане каждый полицейский… Муш остался один на один со своей судьбой и своими желаниями. Больше года у него не было женщин… Больше года…
Он вернулся к столу, где в тарелке дымилось оссо-букко, но не притронулся к еде. Залпом выпив рюмку водки, он подошел к выходившему на покатую крышу окну и вдохнул влажный запах ночи… В этот час тысячи парижанок спешили на свидания. Их походка, которую невозможно спутать ни с какой другой, делала их еще более желанными. Они торопились к мужчинам, к объятиям, к забвению… Многие из них были сговорчивы. А он вынужден был торчать на чердаке… Муш закурил «Пэлл-Мэлл», которые предпочитал другим сигаретам, и отошел от окна.
Прошло два часа. Все это время он ходил от кровати к окну и обратно, курил и пил водку, обжигавшую ему горло. Город понемногу затихал. На соборе Сакре-Кёр пробило одиннадцать. Звуки колоколов разнеслись по всему Монмартру. Муш вздрогнул и взглянул на свою койку. Спать ему не хотелось. Он задумчиво подошел к столу, освещенному светом лампы, машинально закрыл кастрюлю и вдруг ощутил слабый запах духов Жанны. Он замер, потом решительно снял халат. Терпение его истощилось. Ему нужна была женщина. Он переоделся, водрузил на нос темные очки, прикрыл голову беретом, положил в карман сто тысяч франков, которые одолжил ему Альдо, погасил свет и закрыл за собой дверь. В доме было тихо. У Маналезе, должно быть, уже спали. Он спустился по лестнице и вышел в ночь.
На улице было сыро. Погода была весенней, хотя уже начался май. Муш свернул направо и пошел по улице Ордене. Проходя мимо переулка, где располагался полицейский комиссариат XVIII округа, он даже не повернул головы. Все же краем глаза он разглядел полицейских, сидевших в машинах и готовых немедленно выехать по вызову. На площади Жюля Жоффрэна агенты в штатском из автомобиля внимательно разглядывали прохожих. Убийца поднял воротник плаща и спокойно дошел до улицы Барбес. Там он в нерешительности остановился. Конечно, он мог дотащиться до улицы Шарбон. Все окрестные переулки были полны девок, хотя проституция запрещалась законом. Но кто обращает внимание на законы, кроме дураков?! Муш вспомнил, однако, что этот район посещается преимущественно арабами, и женщины там, как правило, старые и некрасивые. У него было достаточно денег, чтобы найти что-нибудь получше. Чтобы потом не задаваться вопросом, как мог он пасть так низко.
Убийца остановил проезжавшее мимо такси и попросил отвезти себя на угол улиц Сен-Дени и Блондель. Здесь тоже было немало девок. Он прошелся по мокрому асфальту, рассматривая стоявших в полутьме женщин, но не заметил ничего такого, что привлекло бы его внимание. Ему все же хотелось чего-то особенного. Он пошел вверх по улице Блондель, заглядывая в окна кафе. Дамы, поджидавшие клиентов, сидя за рюмкой аперитива, были явно привлекательнее своих подруг, слонявшихся под открытым небом. Увидев через окно блондинку, которая немного напомнила ему Жанну, Муш вошел в кафе. К нему сразу же повернулась, оторвавшись от газеты, хозяйка. Ее мощная грудь вздымалась над кассой, накрашенные губы растянулись в привычной улыбке.
— Что желаете, мсье?
— Кофе, — коротко бросил Муш, глядя на блондинку в зеркало за стойкой.
Та что-то оживленно обсуждала с подругой. Она заметила его взгляд и вопросительно подняла голову. Убийца утвердительно прикрыл глаза. Он допил кофе, расплатился и вышел на улицу, где его уже ждали.
— На время или на ночь, милый?
— На время.
— Сколько заплатишь?
— Сколько хочешь.
Женщина вздрогнула, недоумевая. Может быть, судьба свела ее с дедом Морозом или с дядюшкой Ротшильдом? Что ж, она потребует у него Америку и Канаду в придачу!
— Десять тысяч тебя устроит?
— Сколько хочешь, — повторил он.
Она молча посмотрела на него. Может быть, это кассир, укравший всю наличность своей фирмы? Или служащий, взломавший кассу социального страхования? Впрочем, ей это было безразлично. Главное, чтобы он заплатил… Она уже жалела, что не запросила больше.
Когда хозяин гостиницы проводил их до комнаты и оставил одних, она заметила, начиная раздеваться:
— Кажется, я тебя уже где-то видела. Во всяком случае, твое лицо мне знакомо.
Муш покачал головой.
— Это было бы странно. Я вернулся после долгой поездки. Он восхищенно уставился на красивое тело, показавшееся из-под сброшенного платья.
* * *
Хозяйка быстро, убрав чашку Муша и выпив рюмку, вновь водрузила свой бюст на кассу и углубилась в газету. Она прочла хронику происшествий, потом перевернула страницу и застыла, нахмурившись.
— Но ведь это же…
Голос ее пресекся. Она оставила без присмотра подругу блондинки, поджидавшую клиентов, и, трясясь от возбуждения, пронеслась в кухню, где ее помешанный на порядке муж расставлял посуду.
— Гектор!
Тот закрыл дверцу буфета и выпрямился.
— Посмотри-ка! — сказала она ему. — Этот тип только что вышел отсюда с Элианой. Тому, кто сообщит о нем полиции, заплатят пять кусков!
И толстуха сунула под нос мужу газету с портретом Муша. Но Гектор недоверчиво проворчал:
— Ты так думаешь? Я видел его несколько минут назад, и мне совсем не показалось, что он похож!
Хозяйка пририсовала Мушу усы и обвела глаза кругами, изображающими очки.
— А что ты скажешь на это?
— Ну, если так… И все же таких, как он, тысячи!
Он потер нос и мечтательно добавил:
— Может, ты и права. Я не знаю.
— Чем мы рискуем, если вызовем полицию? Если мы правы, получим пять миллионов. Если нет, нам ничего не будет. По крайней мере, когда полиция нравов устроит здесь облаву, мы сможем потихоньку шепнуть, что пытались ей помочь. Ну как?
Аргумент оказался весомым. Хозяева кафе сильно нуждались в снисходительности полиции, это помогало им наполнять кассу. Гектор капитулировал.
— Хорошо. К кому обратиться? В ближайший участок?
— Ни в коем случае! — возмутилась его жена. — Они наверняка его упустят. Здесь есть телефон, по которому нужно звонить в срочных случаях.
И она медленно, с удовольствием прочла:
— Антигангстерская бригада. Телефон Тюрбиго-9200. Добавочный 142. Комиссар Ле Гофф.
— Поосторожнее, чтобы никто здесь не узнал, что это мы звонили, — предупредил ее предусмотрительный Гектор.
Он не прочь был получить обещанный куш, но не хотел, чтобы ему плевали в лицо.
VIII
Ле Гофф склонился над раскрытым досье. С того дня, когда у него родился сын, а Муш бежал из тюремного фургона, комиссар спал очень мало. Все его время проходило либо в служебном кабинете, либо в клинике, откуда скоро должны были выписать Анжелу.
Шум, поднятый прессой по поводу бегства Роже Сарте, тем временем не стихал. В высших кругах начались разговоры об отставке Ле Гоффа, слухи о которой с удовольствием разносили коллеги комиссара, мечтавшие занять его место. Конечно, в том, что Муш бежал, не было вины начальника Антигангстерской бригады, однако умным головам из министерства внутренних дел и префектуры полиции для того, чтобы удовлетворить общественное мнение, мог понадобиться козел отпущения. На стороне комиссара был только начальник уголовной полиции, но ему приходилось заботиться прежде всего о собственной шкуре.
Ле Гофф в сотый раз перелистывал доклады своих сотрудников, надеясь отыскать в них какую-нибудь пустячную на вид зацепку, которая могла бы вывести на убийцу. Поиски его, однако, были безрезультатными. На следующий после бегства день он лично допросил супружескую чету, которая видела, как Муш вылез из-под фургона. Сначала они не поняли, что же происходит, и только потом, узнав о побеге из выпуска новостей, догадались о роли женщины с собакой.
В их рассказе Ле Гоффа заинтересовала одна деталь. Мужчина вспомнил, как блондинка сказала фокстерьеру: «Сидеть, Салями!» Странная кличка для пса! Комиссар рассказал об этом начальнику уголовной полиции. Если объявить кличку через газеты, это могло бы вывести на след. Однако результат мог быть и прямо противоположным. Муш, если он не покинул Францию, прочитав газету, наверняка бежал бы за границу. Поэтому пока нужно было работать терпеливо и настойчиво, не поднимая лишнего, шума. Что ж, терпения и настойчивости полицейским было не занимать. Пожалуй, в этом им не было равных.
Вошел Рондье и протянул комиссару лист бумаги. Это был отчет главной инспекции полицейских служб о результатах проверки охранников, так или иначе сталкивавшихся с Мушем. Все они характеризовались положительно и не вызывали никаких подозрений. Никто из них не имел долгов, не играл в азартные игры и не пил. Ле Гофф отдал документ инспектору и вошел в Кабинет Тупира, где тот при содействии Сериски и Мерлю с самого утра допрашивал банду молодых преступников, арестованных в момент, когда они собирались совершить налет на заводскую кассу.
— Итак, вы настаиваете, что оказались утром в Левалуа, чтобы подышать воздухом? — удрученно спрашивал Тупир.
Он задавал этот вопрос по крайней мере в сотый раз.
— Ну конечно! — в сотый раз повторил старший из задержанных, двадцатипятилетний лоботряс, заросший волосами до самых бровей. — Мы любим ранние прогулки. По утрам воздух более здоровый.
— В украденной машине? — поинтересовался Сериски.
— И кроме того, вы хотели проветрить автоматы, которые были обнаружены в вашей тачке, — заметил Мерлю, с трудом удерживаясь, чтобы не отвесить налетчику оплеуху. — Им ведь тоже нравится утренний воздух, правда?
За спиной Ле Гоффа зазвонил телефон. Рондье снял трубку и почти сразу же позвал комиссара:
— Патрон! Это по поводу Сарте! Сообщают, что он сейчас в гостинице на улице Блондель с какой-то женщиной.
Все головы повернулись в сторону говорившего. На лицах полицейских читалась надежда, на лицах бандитов — восхищение.
— Еще одна тревога, — вздохнул Ле Гофф.
— Это, наверное, пятидесятый выезд за пять дней, — с пониманием сказал Тупир.
Сериски развел руками, как бы говоря, что такова их работа. К телефону подошел Ле Гофф.
— Как вы говорите? Гостиница «Прэнтаниа»? Он поднялся в номер с женщиной! Вы уверены, что это он? Хорошо, мы сейчас будем.
Он собирался положить трубку, но звонивший что-то спросил.
— Можете не беспокоиться. Если это действительно Роже Сарте, премии вас никто не лишит.
Закончив разговор, комиссар приказал:
— Сериски, Мерлю, поедете со мной! Тупир, вы остаетесь здесь!
Рондье, проходя по коридору и открывая двери, за которыми сидели сотрудники бригады, выкрикивал:
— Шевелитесь, парни! Нам сообщили о местонахождении Муша!
Бандиты, с которых так и не сняли наручников, с любопытством следили за тем, как Сериски натягивает пальто поверх пуленепробиваемого жилета.
— Удачи! — пожелал Тупир, передавая Мерлю американский автомат — единственное нетабельное оружие бригады, которое он хранил у себя с молчаливого согласия Ле Гоффа.
Группа захвата уехала, и Тупир сразу же продолжил допрос.
— Ну что, невинные овечки, так и не хотите расколоться?
— Мы же не орехи, — пробурчал один из задержанных.
— Ничего, расколетесь, — недобро засмеялся помощник комиссара, поглаживая себя по плечу, куда когда-то попала пуля Муша. — Вы всегда раскалываетесь. Это вопрос времени.
Он зажег сигарету и мягко, но настойчиво спросил:
— Итак, что вы делали сегодня утром рядом с заводом в краденой машине и с оружием?
— Мы же вам уже говорили… — начал налетчик, похожий на обезьяну.
Он замолк, потому что на пороге кабинета возник Жибо, вернувшийся с задания.
— Патрон уехал в клинику?
— Нет, — покачал головой Тупир. — Он отправился брать Муша. Еще одна наводка.
— Будем надеяться, что на этот раз им не придется прокатиться впустую, — вздохнул Жибо, стряхивая с плаща капли дождя.
— Будем надеяться, — повторил Тупир и стряхнул пепел сигареты на руку юному питекантропу.
IX
Удовольствие Муша было коротким, как бы стыдливым. Его желание угасло. Каждый раз, когда ему предстояло заплатить проститутке, он ощущал привкус горечи. Его приводила в уныние не необходимость расстаться с деньгами, а то, что объятия продажных женщин, в сущности, были даровыми, хотя и платными. На первый взгляд это могло показаться бессмыслицей. Для Муша ничто не могло сравниться с женщиной, завоеванной ценой больших усилий и длительной борьбы, даже если в конечном итоге ему приходилось потратить на нее в тысячу раз больше, чем на шлюху. Но для того, чтобы играть в такие игры, нужно было время, а у него времени не было.
Одеваясь, он услышал звук останавливающейся машины. Тихо хлопнули дверцы. Убийцу это не насторожило. Их комната была на втором этаже, и в ней были слышны все уличные шумы.
Его случайная спутница, сидя перед треснувшим зеркалом, пудрила нос.
— Ты придешь еще? — спросила она по заведенному обычаю.
— Может быть, — улыбнулся он, надевая берет. — Ты мне понравилась.
— Правда?
Его ответ нисколько ей не польстил. Слова мужчин, с которыми ей приходилось иметь дело, были ей безразличны. Важно было только то, что говорил ее Любовник-алжирец, красивый, как бог.
На лестнице раздались приглушенные шаги. Рука Элианы замерла в воздухе. До них долетел тихий голос хозяина гостиницы:
— Они здесь.
Муш встревоженно обернулся. Женщина наблюдала за ним, глядя в зеркало. Он инстинктивно сунул руку в карман, где обычно носил пистолет, и этот жест не ускользнул от ее внимания. Она была воспитана на улице и понимала, что он означает. Поэтому она спросила, хотя заранее знала ответ:
— Ты в бегах?
Убийца утвердительно кивнул.
— Что-нибудь серьезное?
Он решил раскрыть карты. Впрочем, что ему еще оставалось?
— Я — Муш.
Она едва не вскрикнула от изумления, потом вгляделась в его лицо. Она даже не подозревала, что этот толстячок с незначительной внешностью и знаменитый убийца могут иметь что-то общее… Впрочем, если снять с него очки, сбрить усы, перекрасить волосы и к тому же знать, кто это такой, можно было увидеть сходство с портретом, напечатанным в газетах…
Элиана прислушалась. Ей показалось, что она слышит дыхание полицейских по ту сторону двери. Она встала и вплотную подошла к убийце.
— Я как-то познакомилась на танцах с Джо Костылем. Это было давно, я была совсем девчонкой. Кажется, он один из твоих ребят?.. У тебя есть оружие?
Муш показал ей пустые ладони.
— Это хорошо! — искренне сказала она. — Если бы они увидели у тебя пушку, они бы просто тебя пристрелили.
— Они сделают это так или иначе, — спокойно заметил он. — По крайней мере, некоторые из них.
Она тряхнула головой, и волосы рассыпались по плечам, как у Жанны два часа назад. Ему показалось, что с тех пор прошло сто лет. Если бы он только мог вернуться в свою каморку!
— Не обязательно, — прошептала женщина. — У тебя еще есть шанс!
Она отодвинула занавеску в глубине комнаты. За ней оказалась узкая дверь.
— Ты пройдешь здесь. Мы пользуемся этой дверью каждый раз, когда помогаем друг другу облапошивать мужчин.
Муш понял, как это происходило. Пока самая соблазнительная из девушек занималась клиентом, заставляя его забыть обо всем на свете, ее подруга, потихоньку открыв дверь, обшаривала его карманы.
— Там есть окно. Оно выходит во двор, — продолжала блондинка. — Ты спустишься вниз по трубе, пройдешь через подворотню и окажешься на улице Сен-Дени.
Убийца достал пачку денег, но она оттолкнула его руку.
— Не оскорбляй меня.
— У тебя будут неприятности?
— Я не обязана знать, кто ты такой. Ты можешь за меня не беспокоиться. Я устрою им настоящее представление. Поверь, Бардо[8] мне и в подметки не годится.
— Спасибо, — просто сказал он, положив ей руку на плечо.
Через минуту Муш уже был на улице Сен-Дени и садился в такси.
Женщина подождала, чтобы позволить ему выиграть время. Потом занавес поднялся, и представление началось… Она открыла кран биде, сняла трусики и, оставшись в чем мать родила, удивленно воскликнула, чтобы стоящие за дверью могли ее услышать:
— Где ты ходишь? Эй? Ты что, ненормальный?!
Она хлопнула дверью, через которую прошел убийца, и закричала в окно соседней комнаты:
— Эй! Да ты действительно спятил! Куда ты лезешь?! Вернувшись назад, она закрыла воду и запричитала:
— Только этого не хватало! Опять попался псих! Ну и пройдоха! Странные у него, однако, заскоки!
Раздался нетерпеливый стук.
— Элиана! Открой, Элиана! Это мсье Поль!
Женщина повернула ключ, увидела стоящих в коридоре и в притворном смущении отступила.
— Это вы, мсье Поль!
Хозяин гостиницы, по бокам которого стояли с суровым видом Ле Гофф и Рондье, обеспокоенно спросил:
— Куда делся тип, с которым ты здесь была? И что ты сейчас кричала?
Ле Гофф прошел в соседнюю комнату и вгляделся в ночную тьму.
— Он нас провел, — констатировал, стоя рядом с ним, Рондье.
Сериски вышел в коридор и прокричал полицейским, стоявшим на лестнице:
— Быстро оцепить квартал! У всех проверять документы! Подозреваемый скрылся.
— Что же все-таки произошло? — не унимался мсье Поль.
Элиана ткнула пальцем в сторону биде, рядом с которым висело мокрое полотенце.
— Я пошла помыться, а он…
— Что он? — настаивал подошедший Рондье.
Девушка повернулась в сторону полицейских и посмотрела на них с невинным видом. По выражению ее лица можно было подумать, что она пришла на исповедь. Действительно, Бардо никогда бы так не сыграла! Элиана развела руками, как это сделала бы Сара Бернар.[9]
— Я так ничего и не поняла. Этот тип исчез, не сказав мне ни слова. Вылез через окно… Наверное, немного тронутый. Впрочем, все мужчины таковы.
— Вы никогда его раньше не видели?
— Никогда, — подтвердила женщина, искренне глядя на полицейских. — Что вам от него нужно?
— Действительно, кто это? — вежливо осведомился мсье Поль, демонстрируя готовность оказать любую услугу своим неустрашимым собеседникам, тем более что те в любую минуту могли бы прикрыть его заведение.
— Кончай трепаться! — взялся за Элиану сбросивший маску любезности Рондье. — Тебе прекрасно известно, кто это такой! Куда он мог скрыться? Как он был одет? Каковы его привычки? Как он говорил? Что курил? Выкладывай!
— Отвернитесь, мне нужно одеться! — капризно сказала та, прижимая к груди розовые трусики, отделанные кружевами.
— Ничего, мы привыкли, — пожал плечами инспектор.
— Да, но я не привыкла одеваться перед полицейскими!
— Что за сигареты? — спросил Ле Гофф у Рондье, рассматривавшего взятый из пепельницы окурок.
— «Пэлл-Мэлл».
— Его любимые. Возможно, что это был действительно он… Что ж, мадемуазель, — добавил комиссар, повернувшись к женщине, — вам придется пойти с нами. Вы все нам расскажете об этом человеке.
— Я ничего о нем не знаю!
— Может быть, вам известно о нем больше, чем вы подозреваете, — бросил Ле Гофф, выходя в коридор.
— Вперед, чаровница! — щелкнул пальцами Рондье.
Та потрясла в воздухе трусиками.
— А как же это?! Я могу простудиться!
— Ладно, прикройся, — хмуро проговорил инспектор. — Я, так и быть, на секунду отвернусь.
И, толкая перед собой хозяина гостиницы, он направился к двери.
X
Муш доехал на такси до станции метро, спустился под землю, вышел через пять остановок, снова поймал такси и отпустил его за несколько кварталов от дома Сальваторе. Рисковать он не стал. Ему хотелось отправиться в Сент-Уан и побродить вокруг ресторана, с которым в его жизни было столько связано, но в конце концов он решил, что делать этого не следует. Его там наверняка ждала полиция. К тому же что бы он увидел? В этот час и его жена, и дочь обычно спали.
В свое время ему хватило ума, чтобы закрепить в брачном контракте право раздельного владения имуществом. Ресторан был записан на имя его жены, и это помешало полиции наложить на него лапу. Что ж, по крайней мере он оставил тем, кого любил, кусок хлеба с маслом. Чтобы соседи и клиенты не делали его жене скользких намеков, она выписала из провинции брата, который и управлял теперь рестораном. Дела шли не хуже, чем при Муше, разве что теперь никто не вел за стойкой страстных споров о тонкостях ловли форели и об искусстве забрасывать блесну или мушку.
Подгоняемый порывами ветра, который дул ему в спину, убийца быстро прошел последние метры до дома Сальваторе. Он открыл дверь и прокрался в прихожую, стряхивая с себя капли дождя и щурясь на свет. Однако, едва он достиг подножия лестницы, дверь, ведущая в магазин, открылась. За ней стоял Альдо. Муш, застигнутый врасплох, застыл на месте.
— Заходи! — тихо сказал сицилиец, уступая дорогу.
Муш шагнул в полутьму магазина, с трудом различая полки, заставленные консервными банками. Альдо закрыл дверь на засов.
— Приехал отец. Два часа назад.
Он провел убийцу в зал. Там горели все лампы. Сальваторе, сидя в кресле, держал на коленях спящую Сесилию и говорил по-английски с человеком, которого Муш видел впервые. Все семейство было в сборе, даже Мария, которой, наверное, пришлось встать, чтобы покормить мужа. Из-под ее платья виднелся край ночной рубашки. Ловкими движениями она убирала со стола грязную посуду.
Убийца сосредоточил внимание на незнакомце. Тот сидел рядом с низким столиком. Его бледно-рыжие волосы были коротко подстрижены, на круглых щеках играл румянец. Он бы мог показаться здоровяком, если бы не легкое дрожание рук и не затуманенный взор, выдававшие пьяницу. Едва Муш вошел, старый сицилиец сурово на него посмотрел.
— Тебе не следовало выходить, — сказал он вместо приветствия. — Ты не должен был этого делать. Мы ведь договорились.
Тон старика, такой же строгий, как и его лицо, не понравился убийце. Он уже давно никому не позволял так с собой говорить. Но в этом случае он действительно был виноват. Поэтому он сдержал уже готовый сорваться с языка резкий ответ и миролюбиво кивнул, признавая свою ошибку.
— Я ничего не мог с собой поделать. Я целый год не видел женщин. Вы должны понять.
Из угла, где устроился Серджо, раздался смешок, нервно подхваченный Жанной. Глава семейства бросил в их сторону уничтожающий взгляд и снова повернулся к Мушу.
— А если бы за тобой следили, и ты вывел полицию на нас?! Ты подвергал нас опасности. Из-за тебя мы сильно рискуем.
— За сто десять миллионов, — сухо ответил ему убийца.
— За сто пятнадцать, — поправил его сицилиец, и его загорелая рука, гладившая кудрявую голову внучки, застыла. — Но ты заплатил за то, чтобы тебе помогли бежать, а не укрыться после побега. Нас ничто не вынуждало везти тебя сюда.
Муш открыл было рот, но Сальваторе не дал ему ответить. Он говорил резко и повелительно, не теряя, однако, контроля над собой:
— Ты не вправе ожидать от нас подарков. Ты не из наших. Мы выполнили соглашение и сдержали свои обещания. Держи свои или убирайся. Альдо даст тебе денег. Я возражать не стану. Если человек попал в трудное положение, ему нужно помочь.
Он поднялся, и Сесилия, сосавшая во сне палец, захныкала. Прежде чем передать внучку Терезе, старик пальцем начертил крест на влажном от пота лбу девочки. Он подождал, пока ее унесут, и лишь тогда снова повернулся к своему беспокойному постояльцу.
— Либо да, либо нет. Ты еще можешь уехать. В этом случае считай, что мы ни о чем не договаривались. Но если ты согласишься, ты будешь делать то, что скажу я. Здесь все делают то, что я говорю. Итак?
Муш глубоко вздохнул. Он не привык к подобным выволочкам, но она была заслуженной. К тому же он зависел от сицилийца. Возможно, позднее, если представится случай, он выскажет ему все, что думает о тех, кто изображает из себя патриархов. Он снял плащ, показывая, что не ищет ссоры.
— Прошу прощения. Я знаю, что был не прав. Но мне нужна была женщина во что бы то ни стало.
Морщины на лице старика немного разгладились. Он принял извинения.
— Надеюсь, неприятностей не было?
— Были, — поколебавшись, признался убийца. — Меня едва не взяли в гостинице. Я пока не знаю, что именно там произошло.
— Наверное, тебя узнали, — предположил Сальваторе. — Впрочем, это могла быть и обычная облава. Ты ведь зависишь от любой случайности.
— Все же я склонен полагать, что искали именно меня. Думаю, что, несмотря на усы и прочее, я еще похож на себя.
— Лишний довод в пользу того, чтобы никуда не выходить, — заметил старый сицилиец, сел за большой стол и жестом предложил остальным последовать своему примеру.
Он помолчал, пока Жанна наливала всем граппу, кивнул Марии, отправившейся спать, закурил одну из своих вонючих сигар и указал ею на незнакомца, сидевшего справа от него.
— Это Джек. Он из Бруклина и не говорит по-французски.
Муш кивнул американцу. Сальваторе продолжал:
— Это пилот «Боинга». Его нашел мой друг Фрэнки.
— Значит, он считает операцию осуществимой?! — воскликнул убийца, пораженный тем, с какой скоростью решаются проблемы по ту сторону Атлантики.
— Конечно. Все дело в ее организации. Она потребует большого труда. Короче, Фрэнки хочет половину.
— Это чересчур много.
— Его работа того стоит, — отрезал старик. — Ему понадобится много людей. К тому же Фрэнки не разменивается по пустякам.
— Пятнадцать миллиардов вы называете пустяками? Надеюсь, вы шутите?
Сицилиец залпом осушил рюмку, которую до этого грел в ладони, и неприязненно бросил:
— Фрэнки согласился отчасти для того, чтобы сделать мне приятное, отчасти потому, что он никогда не отказывается от крупного дела. Денег у него хватает, и ему не прожить достаточно долго, чтобы истратить их все. Луи!
Берлинец открыл портфель, достал оттуда карту и разложил ее перед тестем. Тот перешел на английский:
— Вот как Фрэнки представляет наше дело. Это карта окрестностей Нью-Йорка. Здесь, — палец старика уткнулся в карту, — недавно построенный участок автомагистрали, который введут в эксплуатацию не раньше начала августа. До города отсюда тридцать пять километров. Место пустынное. Приземляться в аэропорту Нью-Йорка или в Ла-Гуардии для нас было бы равносильно самоубийству. Поэтому мы решили, что посадка будет на этом участке.
— И для этого вам понадобился летчик? — спросил Муш, показывая на американца, кивавшего при каждом слове Сальваторе.
— Да, для этого нам нужен Джек, — согласился старый сицилиец. — В свое время он был асом «Панам».
— В свое время?
— Его уволили, — по-французски пояснил Луи. — Он стал слишком сильно закладывать за воротник, и у него ухудшилась реакция.
— Сюда Джек и посадит самолет, — продолжил его тесть. — Длина участка составляет три километра. Это соответствует длине посадочной полосы.
— Но ведь будет темно! — возразил убийца. — Если мы вылетим отсюда в полночь, то из-за разницы во времени на месте будем в час ночи!
Старик поднял голову и сказал, глядя на него:
— Правильно. Поэтому люди Фрэнки разметят полосу и встретят нас.
— А как быть с пассажирами? Их ведь придется нейтрализовать.
Голос Муша был бесстрастным, но у многих из присутствующих мороз прошел по коже. Все, за исключением Джека, не понимавшего ни слова, смотрели на убийцу с отвращением.
— Надеюсь, ты не собираешься прикончить больше сотни человек? — резко спросил Сальваторе. — Я никогда не пойду на это. Да и никто не пойдет.
— Разумеется, я не собирался их убивать, — заверил его собеседник. — Хотя, я слышал, кое-кто подкладывал в самолет взрывчатку, чтобы получить страховку…
Сальваторе поднял руку, и он замолчал.
— Мы продумаем, как это сделать получше. У меня уже есть идея. Точнее, это идея Фрэнки и его штаба. Теперь вернемся к тебе. Здесь ты нам не нужен. Скорее наоборот. Поэтому через два-три дня вас с Джеком перевезут на мою виллу. Никто не должен догадываться, что вы там. С вами поедут женщины. Мы же займемся организацией операции. Луи достанет фальшивые паспорта и справки о прививках. Серджо и Альдо займутся ювелирами. Пока в их задачу входят только наблюдение и сбор информации. Кроме того, нужно будет достать оружие и кое-какое снаряжение.
— А как быть с моей дочерью? — спросил Муш. — Я хотел бы повидаться с ней, прежде чем окончательно отчалить.
Все головы снова повернулись в его сторону. Сальваторе смотрел на него, покусывая губы.
— Я подумаю над этим и постараюсь, чтобы ты с ней встретился, — наконец пообещал он. — Но нужно соблюдать осторожность!
— А что будет с добычей? — забеспокоился убийца. — Ты ничего об этом не сказал.
На этот раз на него посмотрели с неодобрением. Поэтому он закашлялся и поправился, внутренне презирая себя за то, что снисходит к обычаям клана:
— Извините. Я имел в виду, вы забыли обсудить этот вопрос.
— Фрэнки сказал, что после экспертизы он сам займется своей долей.
— А нашей?
— Он готов ее у нас купить.
— Да, но кто ее сможет оценить?
Старый сицилиец усмехнулся.
— За океаном тоже есть специалисты. Причем не хуже, чем в Европе.
— Но ведь мы их не знаем!
— Фрэнки все время работает с ними.
— Но не я!
В возгласе Муша сквозило недоверие. Ноздри Сальваторе раздулись от сдерживаемого гнева.
— Фрэнки мой друг!
— Но не мой!
Головы присутствующих поочередно поворачивались к каждому из собеседников, и только Джек спокойно наливал себе рюмку за рюмкой.
— Хорошо, если ты знаешь в Европе скупщика краденого, готового выложить за наши драгоценности десять или пятнадцать миллиардов наличными, я согласен, — проворчал глава клана, делая вид, что уступает. — Тогда нашу долю привезут сюда.
При слове «наличные», произнесенном по-английски, пилот поднял голову.
— Да, ни у какого скупщика не может быть столько денег, — пробормотал убийца. — Впрочем, если обратиться сразу к нескольким…
— Чем больше людей будет в курсе событий, тем выше риск утечки информации. А Фрэнки может все устроить самым лучшим образом. Честно говоря, во всем мире только он и способен на подобное дело. Я и члены моей семьи ему доверяем. Ты же можешь делать со своей долей все, что хочешь.
— Я настаиваю на том, чтобы в оценке участвовал человек, которого я знаю, — заупрямился Муш.
— Это невозможно, — отрезал Сальваторе. — Фрэнки обидится.
— Я сам ему все объясню…
— Ты ничего не сможешь ему объяснить. Ты его не увидишь. Его не увидит никто из нас, за исключением меня. Фрэнки никогда не показывается на людях. Он только финансирует операции и отдает приказы.
— Да, но… — ощетинился убийца.
— Либо ты соглашаешься, либо нет. — Старый сицилиец был неумолим. — Если ты хочешь выйти из дела — пожалуйста. Тем более что я пока не очень хорошо представляю себе, как ты попадешь в самолет, ведь тебя повсюду разыскивают.
Вы что же, собираетесь обойтись без меня? После того, как я дал вам наводку?!
— А почему бы и нет? — холодно спросил старик. — Ведь ты же сам не согласен на наши условия.
Муш встал. Он был в ярости.
— Черт побери! Никто еще никогда…
Повинуясь приобретенному рефлексу, его рука скользнула в карман, но оружия там не оказалось. Все посмотрели на него с осуждением.
— В твоем положении едва ли стоит ругаться, — спокойно проговорил Сальваторе. — К тому же я не люблю, когда в моем доме богохульствуют. Тем более угрожают мне.
Убийца посмотрел вокруг. На всех лицах застыло суровое выражение, и только в глазах Жанны не было враждебности. Он сдался и снова опустился на стул.
— О'кей. Пусть все будет так, как вы решили. Сальваторе глубоко затянулся и посмотрел на него сквозь облако едкого дыма.
— Это другое дело. Нужно будет также, чтобы ты доверился мне в вопросе выплаты денег.
— Что вы имеете в виду?
— На то, чтобы собрать необходимую сумму, потребуется время.
— Ну так что?
Вопреки собственному желанию, Муш почти кричал. Глава клана долго смотрел на него и, наконец, произнес:
— Я не смогу рассчитаться с тобой лично. Меня не будет в Америке. Никого из нас там не будет. Сразу же после посадки все мы, за исключением Джека, вернемся во Францию, причем разными путями. Каждый из нас получит новый паспорт и билет на самолет. Кто-то полетит через Рим, кто-то через Мадрид или Женеву. Только мы с Терезой отправимся прямым рейсом до Орли, но тоже не вместе.
— Как, ваша дочь тоже участвует в операции?!
— И она, и Жанна, — сказал старик. — У нас найдется для них работа. Мы с Фрэнки хорошо все продумали и решили, что лучшей гарантией безопасности будет для нас немедленное возвращение. После ограбления полицейские в Штатах перевернут все вверх дном. За любую информацию будет назначена огромная премия. Под подозрением окажутся все вновь прибывшие. Контроль в аэропортах будет ужесточен. Но не сразу. Они просто не успеют отреагировать. Кроме того, им и в голову не придет, что мы покинем Америку, едва ступив на ее землю. Логика их мышления не допустит подобного предположения.
Муш, который с полным основанием мог считаться первым среди французских грабителей, почувствовал себя раздавленным. Дело в мафии было поставлено серьезно. В сравнении с этим преступным синдикатом европейские бандиты выглядели просто мелкими воришками.
— А что будет со мной? — с беспокойством спросил он. Сальваторе стряхнул пепел в блюдце.
— Думаю, что ты захочешь отправиться в Мексику или в Южную Америку. По крайней мере, так бы сделал на твоем месте я сам. Мы с Фрэнки обсудили и это. У него есть свои люди в нью-йоркских доках. Они найдут для тебя судно, на котором ты доберешься до Веракруса. С этим проблем не будет.
— А с моей долей?
— Ты получишь ее, как только окажешься на месте.
— Какие у меня гарантии?
— Мое слово.
— Этого недостаточно.
Кровь отхлынула от лица старого сицилийца. Альдо, стиснув от бешенства зубы, потянулся к Мушу. Но тут вмешался Луи Берлинец.
— Тебе не следует так говорить, — произнес он ледяным тоном.
Его тесть хотел что-то сказать, но Муш его опередил. Понимая, что он слишком перегнул палку, убийца повернулся к Альдо.
— Извини!
Потом, посмотрев на Сальваторе, державшего в руке сломанную сигару, он неловко улыбнулся.
— Мне очень жаль, мсье Маналезе. Действительно очень жаль. Но вы должны меня понять. За мной идет охота. Если я попадусь, моя жизнь не будет стоить и гроша. Я все время на взводе и поэтому несу всякую чушь. Я вам доверяю. Во всем.
В комнате повисла тишина. Никто не решался прервать тяжелое молчание. Американец, поняв, что происходит нечто серьезное, выжидал, потягивая граппу. Он уже хорошо набрался, но это было едва заметно, разве что сильнее обычного дрожали руки. Наконец Сальваторе, не спускавший с Муша глаз, глубоко вздохнул.
— У тебя нет другого выхода! — бросил он ему через стол. — Тереза!
Пока старик закуривал новую сигару, дочь подошла и остановилась перед ним, ожидая приказаний.
— Покажешь американцу комнату на втором этаже, — сказал он ей и поднялся. — Всем желаю спокойной ночи.
Все почтительно встали. Салями спрыгнул с кресла, где дремал все это время, и побежал за хозяином. Перед тем, как выйти, Сальваторе обернулся.
— Жанна! Чтобы я никогда больше не видел тебя в своем доме в этих непристойных платьях! Не понимаю, как ты это терпишь, Альдо!
После этого он поднялся в свою комнату. Там на огромной кровати под золотым распятием, приписываемым Бенвенуто Челлини,[10] его ждала Мария.
XI
Элиане, девушке с улицы Блондель, хозяину гостиницы мсье Полю и владельцам кафе, позвонившим Ле Гоффу, эта ночь запомнилась надолго. Им пришлось до самого утра отвечать на коварные вопросы полицейских. От них потребовали описать внешний вид убийцы, его одежду, все, что они заметили. Особенно досталось Элиане. Еще бы, ведь она переспала с самим Мушем! Рондье, Сериски, Ле Гофф, Мерлю и даже Тупир, который все еще не расколол банду юных налетчиков, не оставляли ее в покое ни на минуту, но она продолжала упорствовать. Она и не подозревала, с кем имеет дело. В том, что убийца бежал, тоже не было ее вины, ведь не она установила эту дверь. Мсье Поля, не предупредившего полицейских о существовании другого выхода, они чуть не разорвали на куски. При одной мысли, что они едва не схватили Муша, сотрудники бригады, казалось, дымились от злости. Теперь у них не было никаких сомнений. Отпечатки пальцев на окурке, пепельнице и умывальнике окончательно подтвердили их подозрения. Было от чего прийти в отчаяние. Срочно вызванный художник нарисовал новый портрет убийцы, и в девять утра Ле Гофф решил всех отпустить.
— А как же премия, господин комиссар? — вопрошала хозяйка кафе, которую Сериски вежливо, но настойчиво подталкивал к выходу.
— Пока еще мы никого не арестовали, — с утомленным вздохом отвечал ей Ле Гофф.
Чтобы сразу отделаться от настойчивой женщины, он добавил:
— Сериски, проводите этих господ. Постарайтесь, чтобы они не столкнулись с Элианой или владельцем гостиницы. Никто не должен знать, откуда к нам поступил сигнал.
Его слова попали в цель. Гектор, с ожесточением чесавший отросшую за ночь на подбородке щетину, повернулся к своей подруге:
— Хватит попрошайничать. Пойдем. Господин комиссар прав. Если Элиана или Поль узнают, что это ты позвонила в полицию, мы можем сразу закрывать наше заведение.
Едва несчастные
создания скрылись за дверью, Ле Гофф открыл окно, чтобы избавиться от табачного дыма, густой пеленой висевшего в комнате. В его лицо подул свежий весенний ветерок. Как часто бывает в это время года, погода внезапно переменилась, и на смену тучам пришло голубое небо. Комиссар полной грудью вдохнул чистый воздух и, вернувшись к столу, включил электробритву. Потом он уселся перед картиной, изображавшей Дон Кихота — подарком матери, которая часто говорила, что он воюет с ветряными мельницами — и задумался.
За стеной раздавались голоса Тупира и пришедшего ему на подмогу Жибо, наседавших на задержанных налетчиков и до сих пор не преуспевших в своих попытках склонить их к откровенности. Конечно, в прежние времена эти паршивцы давно бы во всем признались. Тогда полицейские работали грубо. Теперь методы изменились. Сыщики новой формации, подобные Ле Гоффу, для раскрытия преступлений использовали преимущественно собственные мозги, а не кованую обувь, как их предшественники. В уголовной полиции все было поставлено по-новому, и, если верить статистике, результаты были даже лучше, чем прежде.
Комиссар нажал на кнопку аппарата внутренней связи.
— Рондье, мне нужно, чтобы через десять минут все сотрудники бригады собрались в конференц-зале. И те, кто дежурили ночью, и те, кто только что пришли. Сообщите начальникам служб, что я приглашаю их тоже. Пусть пока никто не выезжает на задание.
Он закурил и бросил спичку в пепельницу, на которой был выгравирован его девиз: «Тот, кто сомневается в успехе, уже проиграл». Потом, в очередной раз пролистав дела и позвонив домой, чтобы узнать о самочувствии малыша, вместе с Тупиром отправился в конференц-зал.
Несмотря на утренний час, большая часть кресел оказалась занята. Комиссар пожал руки своим коллегам из полиции нравов и поднялся на эстраду, где стояла черная доска с прикрепленными к ней двумя увеличенными портретами Муша. На одном из них, сделанном сразу после снятия отпечатков пальцев, он выглядел свирепым, как всегда бывает с людьми на фотографиях из уголовных дел. Второй портрет был нарисован художником со слов свидетелей с улицы Блондель. Убийца был изображен в очках, в баскском берете и с усами. Казалось очевидным, что это один человек. Однако тот, кто столкнулся бы с Мушем на улице, мог его и не узнать. Ле Гофф с трудом сдержал зевок, взял указку и, прикоснувшись ею к первому портрету, начал:
— Вот Сарте, каким мы знаем его все. Именно таким благодаря газетам он стал известен публике.
Указка переместилась.
— А вот каким его видели вчера вечером. Сейчас наши службы занимаются размножением…
Он замолк, потому что в зал вошел начальник уголовной полиции и остановился, прислонившись к дверной раме. Некоторые из сидевших встали, но он жестом попросил их не беспокоиться и одновременно сделал Ле Гоффу знак, чтобы тот продолжал сообщение. Комиссар кивнул и возобновил прерванную речь:
— Таким образом, каждый из нас получит новый портрет убийцы. Мне хотелось бы, чтобы поиски велись в тайне. Поясню, что я имею в виду…
Он положил указку на стол и оперся на него рукой.
— Если мы передадим это изображение прессе, в случае удачи нам могут сообщить, где скрывается Сарте. Однако уверенности в этом нет. Можно, однако, ручаться за то, что, увидев в газетах свой портрет, составленный по описанию, он снова изменит внешность, и наши шансы поймать его уменьшатся. Я задаю себе вопрос…
Комиссар остановился, в нерешительности кусая губы.
— Какой вопрос, Ле Гофф? — подбодрил его начальник полиции.
— Я спрашиваю себя, видел ли его вообще кто-нибудь, кроме наших вчерашних свидетелей. Теперь мы знаем точно: кто-то помог Сарте бежать. И эти же сообщники вполне могут сейчас его укрывать, так что ему не нужно напрасно показываться на улице. Именно поэтому нам и следует затаиться. Не будем ничего сообщать прессе. Пусть у Муша возникнет ощущение относительной безопасности. Я рад был удостовериться, что он еще не покинул Францию. Пусть он и дальше остается в стране, и в конце концов мы его возьмем. Мы будем действовать втихомолку. Территориальная полиция будет прочесывать дом за домом каждую улицу, жандармы — каждую деревню. Не забудем при этом, что Сарте помешан на рыбалке.
Ле Гофф кивком ответил на одобрительный жест своего начальника и продолжил:
— Кроме того, мы выяснили, что у тех, кто помог ему бежать, есть фокстерьер по кличке Салями.
В зале раздались смешки, но комиссар и не думал шутить.
— Я повторяю, мы должны работать тихо. Если пресса сообщит об этом, мы, возможно, выйдем на сообщников, но сам Сарте немедленно скроется, причем на этот раз навсегда.
— Очень редкая кличка для собаки, — вмешался начальник полиции нравов. — Это может помочь нам выйти на преступников. Подумать только, назвать пса Салями!
— Почему-то это наводит меня на мысль об итальянцах, — прервал его Рондье. — Я и сам не знаю почему…
— Я тоже об этом подумал, — поддержал Ле Гофф, пожимая плечами. — Однако все это слишком неопределенно, а Париж велик. Каждый из вас, господа, получит новый портрет Сарте и краткий отчет о результатах расследования. Благодарю вас, я закончил. Впрочем, возможно, у вас есть вопросы…
Вопросов не было. Комиссар спустился с эстрады, и к нему сразу же подошел начальник полиции нравов.
— Ну как твой наследник, Ален? Когда ты запишешь его в Божон?[11]
— Ему еще предстоит выпить немало молока, прежде чем до этого дойдет дело, — вздохнул начальник уголовной полиции.
Ле Гофф улыбнулся. На эту тему он мог бы беседовать долго, но его ждала работа. Он извинился и подозвал Тупира.
— Возвращаемся назад, старина. Нужно, чтобы до вечера эта банда юных налетчиков во всем призналась. Иначе мы будем вынуждены их отпустить, потому что истечет срок задержания.
Он закурил свои любимые «Житан» и пошел в кабинет. Следом за ним потащились сотрудники бригады, многие из которых мечтали о сне.
XII
Мартина Сарте позавтракала вместе с матерью, и теперь направлялась к площади Плейель. Солнечные лучи ласкали ее лицо. Но девушка не позволяла себе расслабляться. Она сознавала, что за ней все время следят. Иначе и быть не могло. С тех пор, как ее отец умудрился удрать, полицейские не спускали глаз с тех, кто мог вывести на его след.
Она ждала автобуса, чтобы доехать до вокзала Сен-Лазар, вблизи которого Собиралась купить пару новых туфель. Тереза остановилась неподалеку и вошла в автобус вслед за ней. Больше никто на этой остановке не сел. В это время пассажиров бывало немного, все были в конторах или на заводах. Дочь Сальваторе села впереди Мартины. Кондуктор прокомпостировал билеты и отошел. Глаза Терезы, скрытые темными очками, поймали взгляд Мартины, и она прошептала, почти не двигая губами:
— Вас хочет видеть отец. Выходите на остановке Ги-Моке и идите за мной.
Мартина вздрогнула, но тут же овладела собой. Она умела держать себя в руках. Она кивнула Терезе в знак согласия и, покосившись на пассажиров, стала смотреть на улицу и на обгонявшие автобус машины. От ее взгляда, однако, ускользнул скрытый грузовиком фургон, откуда за ней следил Барани. Он сообщал теперь по рации:
— 142-й! Говорит Белый. Мартина Сарте едет в автобусе к вокзалу Сен-Лазар. Будем держать связь.
На остановке Ги-Моке Тереза вышла первой. Мартина последовала за ней, смешавшись с некоторыми пассажирами. Подмигнув ей, Тереза двинулась по улице Жонкьер, иногда останавливаясь у витрин. Мартина медленно шла вслед, не упуская ее из виду. На углу улицы Жан-Леклер Серджо, стоявший с транзистором в руке и видевший, как приближается фургон с антенной, не шевельнувшись, сказал сестре сквозь зубы:
— Иди дальше и не возвращайся сюда. Я сам займусь малышкой.
Тереза продолжала свой путь. Ее стройные ножки и волнующая походка приводили в восхищение всех попадавшихся навстречу мужчин. Когда с Серджо поравнялась Мартина, подмигнул ей и, улыбаясь, пристроился рядом. Делая вид, что пытается познакомиться, он пробормотал:
— Не волнуйтесь. Идите вперед. Потом задержитесь у лавки. Когда увидите в стекле витрины, что серый фургон проехал мимо, вернитесь назад, как будто передумали. Я буду ждать вас здесь в зеленой «МГ».
Мартина даже бровью не повела. Серджо проследил взглядом за фургоном и добавил, притворясь, что отпускает какую-то шутку:
— Изображайте особу, не желающую, чтобы к ней приставали на улице. Потребуйте, чтобы я отцепился.
Мартина нахмурилась и сделала вид, что дает отпор этому уличному Ромео. Продолжая смеяться, тот беззаботно вернулся на свое место, как человек, которого отшили, а ему на это наплевать. Через две минуты Мартина влезла в его машину.
— Шпики? — бросил ей Серджо, трогаясь с места.
— Если это они, то, конечно, постараются вернуться, — сказала девушка. — Но это будет им не так легко, потому что они проехали слишком далеко.
— Мы от них уйдем, — заверил ее молодой сицилиец.
Мартина взглянула на него с любопытством.
— Вы — брат Альдо? Вы на него похожи.
Серджо уклонился от ответа.
— Я высажу вас на углу улицы Мария-Дерем. Войдите в сквер Эпинетт. Пройдитесь там и выберите скамейку, где поменьше народа.
— Там будет отец?
Серджо доехал до верхней части улицы Жан-Леклер и резко свернул направо.
— Делайте, что вам сказано, — сухо посоветовал он, останавливаясь.
Девушка искоса разглядывала его. Красивый малый, но не очень-то приветливый.
— Спасибо, — сказала она, выходя из машины.
Но тот сразу умчался, даже не попрощавшись. Тем временем Барани поднял тревогу.
— Я ее потерял. Мне нужно подкрепление, чтобы прочесать весь район.
— Вас понял, Белый, — ответил ему мрачный голос. — Сделаем все необходимое.
Вернувшись на площадь Ги-Моке, Барани приказал полицейскому, сидевшему за рулем:
— Проедем по маленьким улицам. Может быть, повезет и наткнемся на девчонку.
— Ты думаешь, она попытается встретиться здесь с отцом?
Барани пожал плечами.
— Здесь или где-нибудь еще — как знать? Наше дело — день и ночь следить за ней и ее матерью. А она от нас ушла. Поезжай по улице Жан-Леклер, а там посмотрим.
Шофер повиновался, а Барани, опустив стекло, высматривал среди прохожих Мартину. Но никого похожего не было! А она уже прогуливалась по скверу, как велел ей Серджо.
Светило солнце, и почти все скамейки и стулья были заняты. Мамаши следили за детьми, лепившими пирожки из песка. Некоторые вязали или пришивали метки к белью. Старики, расположившиеся на стульях, сражалась в карты. Неподалеку от них Мартина заметила уединенную скамейку и села на нее. Отца не было видно. Она закурила «Лаки Страйк», но тут же с недовольной гримаской вынула сигарету изо рта, так как рядом с ней устроился какой-то бродяга. Этот грязный тип чесался! Недоставало еще заполучить от него вшей! Она сделала движение, чтобы встать, но остановилась, услышав хорошо знакомый голос.
— …Здравствуй, дочка. Ты куришь?
Девушка поперхнулась дымом и закашлялась. Голос, будивший в ней столько воспоминаний, продолжал:
— Не поворачивайся ко мне. Смотри на девочку с лопаткой.
Мартина послушалась, но не могла хоть искоса не поглядывать на отца.
— Как мама? — прошептал тот.
— Ничего, папа. Конечно, не так, как раньше, но…
— Понимаю, — сказал Муш сквозь зубы, глядя прямо перед собой.
На нем был старый костюм, некогда синий, но совершенно выцветший. Туфли были подвязаны бечевками. Голову покрывала потрепанная фуражка, а брови с помощью краски стали совсем черными. На плече висела сумка, откуда выглядывало горлышко бутылки красного вина. Густая борода скрывала его лицо.
Он принялся вытаскивать из кармана окурки, продолжая внимательно следить из-под опущенных век за происходящим вокруг.
— Мне нужно было повидаться с тобой до отъезда.
— Ты уезжаешь?
— Навсегда.
Сердце девушки сжалось. Ведь это был ее отец. Да, он бандит… Но к ней он всегда был добр.
— Мы больше не увидимся?
Сторож, дежуривший в сквере, прошел мимо них, бросив подозрительный взгляд на бродягу. Тот еще ниже опустил голову.
— Твоя мать вряд ли хочет видеть меня. И я ее понимаю.
— Не думай так, папа! Конечно, она потрясена всем этим, но по-прежнему тебя любит.
Муш вынул листок папиросной бумаги и высыпал на него табак из окурков.
— Ты должна убедить ее развестить со мной. Ей нужно снова выйти замуж. Я настаиваю на этом. Ей теперь еще хуже, чем если бы я умер. Убеди ее забыть меня. И прошу тебя, не говори ей, что мы сегодня виделись. Ни в коем случае. Она слишком слаба.
Он свернул сигарету, провел по краю бумаги языком и глухо прибавил:
— Хочу поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала.
— Ты мой отец.
— Да, конечно… Но ты все же действовала великолепно. Без тебя я но смог бы связаться с Альдо и не был бы здесь.
Сигарета Мартины догорела уже до пальцев, прежде чем девушка решилась спросить:
— Папа… Это правда, что ты убил кого-то во время побега? Муш ответил не сразу. Он чиркнул спичкой по заду, поднес пламя к сигарете и, наконец, сказал:
— Я хотел, чтобы этот тип сбежал со мной. А он собрался поднять тревогу… И тогда…
Не было нужды кончать эту фразу, Мартина поняла. Дрожь пробежала по ее телу. Сигарета выскользнула из рук, и она машинально наступила на нее, чтобы погасить.
Ее отец продолжал хриплым голосом:
— Я знаю, какое зло вам причинил. Особенно тебе. Но, к несчастью, прошлое изменить нельзя. Что сделано, то сделано.
Он слегка повернулся к дочери и, не отрываясь, смотрел на нее. Ему хотелось вобрать в себя ее облик, живую память о ней.
— Ты красивее, чем когда-либо. И необыкновенно смела. Знаешь, моя дорогая…
Теперь он снова смотрел только на девочку, копавшуюся в песке.
— …знаешь, если захочешь, ты сможешь потом приехать ко мне. Я скоро буду богат. Очень богат. Очень, очень богат.
— Я не хочу расставаться с мамой.
Он понимающе кивнул, а потом, увидев, что на него смотрит идущая мимо пара, притворился, будто чешет под мышкой.
— Я понимаю. Но мне так хотелось бы помочь тебе!
— Но не так, папа! Я думаю, что ты ничего не можешь больше сделать для нас.
Муш задумчиво пожевал свой окурок.
— Это правда. Но позже я дам знать, где меня найти. Нельзя знать заранее… Может быть, в один прекрасный день ты снова захочешь меня видеть.
Он замолчал, внезапно пожалев, что затеял эту встречу. Муш чувствовал, что причинил Мартине боль. Не говоря уж о себе самом… Одна святыня оставалась у него в мире: дочь. После долгого молчания он почти стыдливо попросил:
— Прежде чем расстаться, хочу попросить у тебя… какой-нибудь пустяк… Может быть, фотографию… Или…
Она уже открыла свою сумочку и достала карточку, где была снята с матерью перед их рестораном в то счастливое время, когда ее отец был еще известным и уважаемыми ресторатором, которого все называли не иначе, как мсье Сарте.
— Положи ее на скамейку, — сказал он.
Она повиновалась, а он протянул руку. Их пальцы встретились. Он почувствовал, как они дрожат. Один миг — и фотография была уже в его кармане.
— Уходи первой. Будь счастлива, моя дорогая. Иди, иди и не оборачивайся.
И так как она поднесла руку к глазам, он прибавил:
— Не плачь. Стисни зубы и иди. Иди.
Он шевельнулся, будто желая дотронуться до нее, почувствовать ее, будто надеясь сохранить что-то от нее в кончиках пальцев. Но он не вправе был привлекать к себе внимание. Прохожие могли удивиться: юная, красивая, хорошо одетая девушка и грязный, убогий бродяга…
— Иди, — прошептал он. — И не оборачивайся. Мартина встала. Он пробормотал дрогнувшим голосом:
— Будь счастлива!
Она ушла в слезах, провожаемая заинтригованным взглядом какого-то прохожего. Опустив голову, чтобы не видеть ее, Муш смотрел в землю. Он подождал с минуту, потом тоже встал. Прежде чем уйти, он нагнулся и поднял с земли брошенный Мартиной окурок. Потом вышел из сквера на улицу, противоположную той, куда пошла его дочь. Погруженный в свои мысли, он даже не заметил фургон Барани, медленно проезжавший мимо сквера. Сыщик бросил на него быстрый, профессиональный взгляд. Ничего особенного… Бродяга… На улице Жан-Леклер Барани увидел Мартину, с покрасневшими веками идущую в сторону авеню Сент-Уан. Инспектор подскочил. Она могла идти только из сквера! Он толкнул локтем шофера.
— Выпусти меня. Хочу поглядеть, что в этом сквере. Там может быть Муш!
— Ты думаешь, они там встретились? — взволновался его товарищ.
— Не знаю. Но все возможно. Она идет оттуда и плачет. Скорее, сообщи всем машинам, чтобы они оцепили этот сквер. Быстро!
И пока его коллега поднимал тревогу, Барани выпрыгнул из фургона. Но Муш в это время шел уже к улице Лансье размеренным шагом человека, который ничего не ждет и никуда не спешит. Потом, оглядевшись, он забрался в прицеп черной «ДС», стоявшей в безлюдном месте. Альдо, только этого и ждавший, взялся за руль и тронулся с места.
XIII
Полиция останавливала все машины, направлявшиеся к восточной автостраде, и проверяла документы у их водителей. Этот цирк продолжался со времени побега Муша. Проверяли даже ночью.
Не доезжая до поста, Альдо подал сигнал двумя короткими гудками. Полицейские нахмурились, ища нарушителя. Но они, как всегда, ничего не увидели. По повелительному знаку бригадира Альдо остановился в правом ряду, предъявил права и все прочее. Другие полицейские, с автоматами на груди, наблюдали за происходящим, готовые стрелять в любого подозрительного. Бежать нечего было и думать. Автоматная очередь все равно догнала бы ослушника. Полицейский вернул Альдо документы, заглянул в машину, указал пальцем на прицеп.
— Можно посмотреть?
Сицилиец пошел вместе с ним и постучал в дверь фургона. Открыла Жанна, изобразив удивление, а Салями залаял.
— Что такое?
Бригадир мягко отодвинул ее в сторону и заглянул внутрь.
— Простой осмотр, — сказал он.
Затем, взглянув на Терезу, сидевшую на длинном сундуке перед откидным столом и учившую Сесилию рисовать, он отечески улыбнулся.
— О, простите!
Он отошел, поднял руку и сказал Альдо, вернувшемуся в кабину:
— В порядке.
Сицилиец кивнул и поехал. Полицейские занялись следующей машиной. Чем только им приходится заниматься! Конечно, это их профессия! Но все же становится невыносимым задавать одни и те же вопросы: «Ваши права? Что у вас внутри? Откройте чемодан!». Счастье еще, что им не нужно заставлять водителей показывать задницу! Правда, если бы такой приказ касался девчонок, сидящих за рулем…
Второй раз Альдо пришлось остановиться пород Рамбуйе. Снова проверка! И снова жандармы разрешили ему ехать, как только увидели в фургоне Жанну и Терезу, распевавших вместе с Сесилией. Прелестная картина, достойная кисти Милле.[12]
Через десять минут Адьдо окончательно скрылся из глаз слуг закона и начал спускаться к имению своего отца близ Пуаньи-ля-Форе. Оно называлось Таормина. Пять гектаров земли и лесок, в глубине которого возвышалась прочная, построенная из ноздреватого камня вилла под синей шиферной крышей. Перед домом уже стояла зеленая «симка» Серджо, который привез американского летчика. Их тоже досматривали по дороге. Но они были в порядке и ничем не напоминали объект охоты. Вслед за Альдо из машины вышли женщины и Муш, выбравшийся из сундука. Оказавшись на земле, убийца потянулся и полной грудью вдохнул воздух наконец-то наступившей весны. Он любил природу, и здесь ему все было по душе. Место было спокойное, скрытое со всех сторон стенами. Вокруг стояли прекрасные деревья, а справа, в конце дороги, поблескивала водная гладь.
— Здесь можно ловить на удочку? — спросил он. При виде спокойных вод в нем опять пробудилась страсть рыболова.
— Есть кое-какая рыбешка, — откликнулся Серджо, вышедший из дома с Джеком Американцем. — Но так, мелочь. Удочки в сарае.
Он указал на стоявшее метрах в ста и почти не видное за зеленью старых дубов деревянное строение. Муш кивнул, и глаза его заблестели. Если бы он мог половить рыбу, то был бы счастливейшим из беглецов. В камере его часто терзало воспоминание о днях, проведенных на берегу реки с удочкой в руке. Рыбная ловля была страстью Муша, и прозвище-то свое получившего за умение забрасывать удочку и успехи на берегах рек. Какая радость видеть, как форель бьется на конце лески, пока мягко крутится катушка!
— Я бы не прочь сбросить с себя это барахло, — сказал он, указывая на свои лохмотья.
— Жанна покажет тебе твое жилье, — ответил Альдо. — Возьми свой чемодан. И помоги выгрузить продукты.
— Вы останетесь здесь? — осведомился бандит.
— Только сегодня вечером, — сказал Альдо. — А потом мы с Серджо уедем. Нас ждет отец. Надо встретиться с одним парнем насчет фальшивых паспортов. Он приедет из Италии сегодня ночью.
И, снова влезая в фургон, он добавил:
— Следи, чтобы американец не слишком напивался.
— Положись на меня, — улыбнулся Муш. — Я буду следить за виски.
Альдо выглянул из фургона и протянул ему маленький чемодан.
— Здесь твоя одежда. Жанна тебе все покажет.
Поднимаясь по ступенькам, Муш невольно глядел на ноги Жанны, шедшей впереди. Ей-Богу, она была недурно сложена! А как крутила задом! Обтянутый тканью зеленого платья, он просто манил к себе. Бандит вздохнул и перевел взгляд на натертую лестницу, ведущую в дом. Он не должен поддаваться искушению даже мысленно. Но какая женщина!
— Ваша комната на втором этаже, — обратилась к нему Жанна. — Окна выходят в лес. Думаю, что вам понравится.
Их глаза встретились, и Муш вновь почувствовал, как дрожь желания пробежала по телу. Он попытался улыбнуться.
— Мне понравится любая комната, — сказал он. — Мне здесь все понравится.
Она быстро отвернулась и продолжала взбираться по лестнице, привлекая взгляд убийцы соблазнительно раскачивающимися бедрами.
* * *
С утра Ле Гофф возобновил допросы подследственных, которые соприкасались с Сарте в день его побега. Но ничего не вырисовывалось. По-видимому, никто из этих преступников не помогал убийце. Никто не передавал ему инструменты, при помощи которых он вскрыл пол фургона. К тому же перед отправкой из тюрьмы Сантэ во Дворец правосудия преступников тщательно обыскивала охрана. Откуда же взялись эти проклятые инструменты? Сыщики просто выходили из себя.
В пять часов, когда заключенных уже повезли обратно в тюрьму, к Ле Гоффу ворвался Рондье, толкая перед собой рыжего жандарма, одного из тех, кто в день побега был приставлен к Мушу.
— Патрон! — крикнул он. — Я целый час допрашиваю этого жандарма, и он говорит все то же, что прошлый раз. Но сейчас он, кажется, вспомнил одну деталь, ускользнувшую при первом допросе.
Ле Гофф указал жандарму на стул и спросил:
— Да? Так что же это? Тот кашлянул.
— Ваш инспектор спросил меня, не заметил ли я чего-нибудь особенного, когда ждал с заключенным Сарте у кабинета следователя Мартена. Первый раз я ничего не вспомнил, но сегодня… когда ваш инспектор меня спросил, мне показалось…
— Показалось?
Рыжий почесал затылок. Ле Гофф терпеливо ждал. Он умел не торопить события.
— Ну хорошо, — внезапно решился жандарм. — Я вспомнил, что один человек все же мог приблизиться к заключенному Сарте.
— И кто же это?
— Мой коллега, — уточнил рыжий. — Жандарм, как и я.
Ле Гофф поднял брови. Рыжему это не понравилось, он подумал, что сомневаются в его памяти.
— Да, возле Сарте сел какой-то жандарм. Он сопровождал заключенного к следователю… Теперь я ясно вспомнил…
Ле Гофф взглянул на Рондье, который клокотал от нетерпения.
— Ну и что?
— Как что? — воскликнул рыжий. — Если у кого-нибудь и была возможность незаметно передать Сарте инструменты, то только у этого типа! Он добрых десять минут сидел рядом с ним!
— Почему вы думаете, что он мог это сделать? — спросил глава Антигангстерской бригады. — Надеюсь, вы понимаете всю серьезность ваших обвинений?
Рыжий посмотрел на Рондье, и тот подбодрил его энергичным кивком.
— Так вот, — продолжал жандарм. — По зрелом размышлении я вспомнил одну деталь, которая меня тогда удивила. У него на куртке не было бляхи, как у нас всех.
Брови Ле Гоффа поднялись еще выше. Он плохо понимал, о чем идет речь. Рондье поторопился объяснить:
— Он имеет в виду вот это, патрон.
Он ткнул пальцем в грудь рыжего, где под нагрудным карманом была прикреплена медная бляха. На ней был изображен шлем с перьями, как на щите рыцаря Баярда,[13] а ниже — герб города Парижа.
Рука Ле Гоффа замерла на папке. Его светлые глаза блеснули. Он задумчиво смотрел на жандарма.
— Значит, вы полагаете, что это был не настоящий жандарм, так как иначе у него была бы бляха? Так?
— Именно так, — подтвердил осмелевший страж, гордый тем, что разговаривает с самим шефом Антигангстерской бригады. — Настоящий жандарм не может выйти без бляхи. На него наложили бы взыскание.
Потом он прибавил, как бы в оправдание себе:
— Мне это только сейчас вспомнилось, и то лишь потому, что ваш инспектор так настойчиво спрашивал, не заметил ли я в тот день чего-нибудь странного.
Ле Гофф с минуту размышлял. Потом встал.
— Рондье! Нужно обойти всех старьевщиков города. Все пункты проката одежды и мундиров. Не забыть костюмеров и бутафоров в театрах. Короче, задача вам ясна. Если это был не настоящий жандарм, он должен был где-нибудь взять напрокат или купить мундир. Берите всю бригаду. Может быть, след у нас в руках.
— Может быть, — согласился Рондье. — Но это потребует чертовой уймы времени!
— У нас с вами еще много лет до отставки, — возразил его начальник, знаком попросив проводить рыжего. Тому он сказал:
— Спасибо за содействие. Думаю, не нужно напоминать вам о секретности. Я не хотел бы, чтобы газеты раззвонили о сообщенном вами факте.
Явно польщенный жандарм обернулся, пыжась от гордости.
— Я знаю цену молчанию, господин комиссар. Вы можете положиться на меня. Я буду нем как рыба.
И, надвинув кепи, он молодецки отдал честь, прежде чем выйти вслед за Рондье.
XIV
Солнце палило немилосердно. Воздух был насыщен электричеством, и нервы у всех были натянуты. Лето не стало ждать 21-го июня, чтоб войти в свои права. Было только начало месяца, но стояла тяжкая жара, благословляемая только продавцами пива и мороженого. В тапочках на босу ногу, расстегнутой рубашке, джинсах и парусиновой шляпе Муш гулял вокруг пруда с удочкой в руке. Рыбалка не доставляла ему обычной радости. С тех пор, как он попал сюда, этот пруд успел ему надоесть. Он сразу же нашел рыбные места и теперь уженье было ему не в удовольствие. Ведь он не мог ждать большого улова: в пруду у Сальваторе была только мелкая рыбешка! Ах, если бы он мог бродить вокруг большого озера, вдыхать его запахи, наблюдать, предвкушать, что в камышах или под кувшинками прячется крупная рыба…
Вытерев пот с лица, бандит занес свои снасти в сарай. За время, проведенное здесь, он поздоровел и загорел. Но им уже овладело нетерпение. Он торопился начать действовать и наконец-то получить деньги. Огромный куш, который позволит ему делать все, что угодно, если захочется, раскатывать в «роллс-ройсе». Поставив удочку у мотоцикла, на котором Серджо иногда мотался по окрестностям, Муш открыл пачку «Пэлл-Мэлл» и вдруг ухмыльнулся. «Роллс-ройс»? А почем бы и нет? В конце концов, в таких тачках разъезжает куча болванов-певцов и киношных девчонок, весь талант которых заключен в соблазнительной попке! Нечего и говорить о мошенниках-фабрикантах, жуликах-банкирах и тому подобных. Всех этих не знающих жалости кретинах, которые рыскают по всему свету, защищенные черными мраморными табличками, привинченными у дверей их богатых особняков. Он по крайней мере рисковал своей шкурой! И свою монету зарабатывал с оружием в руке. Конечно, в этом нет ничего хорошего, но то, что делают эти финансовые флибустьеры, ничем не лучше.
Муш пошел к дому по дорожке, заросшей мхом, защищенной от палящего солнца листвой деревьев. Он издалека заметил Джека, сидевшего в кресле на террасе. И, конечно, на столе было чем утолить жажду. Американский летчик, казалось, не слишком страдал от пребывания здесь. Вначале он часто вспоминал веселый Париж, девочек в черных чулках, праздничный Монмартр. В общем все это кино, о котором болтают там, в Штатах. Но Сальваторе быстро охладил его пыл, заявив, что он отсюда никуда не выйдет. Старик был прав. Такой пропойца, как Джек, моментально привлек бы к себе внимание. Лучше было не рисковать. Тем более, что Джек приехал во Францию с фальшивыми документами, а в Штатах никто не должен был даже заподозрить, что он покинул мать-родину.
Муш развалился в кресле и протянул руку к бутылке.
— Пить хочу, — сказал он.
— Пить, — произнес Джек единственное французское слово, которое он усвоил.
Муш налил себе виски, но, увидев, что ведерко для льда пусто, крикнул:
— Жанна!
На пороге виллы появилась жена Альдо. Сразу видно было, как она загорела и поправилась. Белые шорты оттеняли ее бронзовую кожу, а грудь прикрывал кусочек полосатой материи.
— Льда! — бросил Муш, с восхищением глядя на нее. Она исчезла и тут же вернулась танцующим шагом, вся в солнечных бликах. Желание волной пробежало по телу беглого бандита. Уже больше трех недель они жили бок о бок, и ему нужно было немало сил, чтобы держать себя в узде. Он чувствовал, что она согласилась бы, несмотря на страх, который он ей внушал. А может быть, именно вследствие этого страха. Убийца необыкновенно привлекал невестку Сальваторе. Он был любезен, очарователен в общении, всегда улыбался. Но под этой обаятельной маской ощущалась разрушительная сила, скрытая жестокость. Кроме того, он был для нее человеком, который убил, и неизбежно когда-нибудь сам будет убит. Ему не суждено было кончить жизнь в чистой постели с чашкой отвара вербены на ночном столике. Именно такие мужчины часто нравятся женщинам определенного сорта. Жанна бросила в его стакан два кусочка льда и спросила:
— Поймали что-нибудь?
Муш поболтал льдинками в стакане, и сделал глоток.
— Трех окуньков. Я бросил их обратно.
Она засмеялась, остановив на нем свои порочные фиалковые глаза.
— Правильно сделали. Мы уже сыты вашей рыбой.
— Потому что здесь нет ничего, кроме окуней, — сказал он. — Вот если бы я принес вам хорошую щуку на три-четыре фунта, чтобы приготовить ее под белым соусом…
Он щелкнул языком.
— С доброй бутылочкой охлажденного мюскаде.
Она снова засмеялась, и ее грудь дрогнула под тонкой майкой.
— Мюскаде у нас есть. Что же касается щуки…
Муш сделал большой глоток и поставил стакан.
— Кажется, в пяти километрах от Пуаньи есть пруд, где водятся настоящие чудовища. Мне сказали, что в таверне «Четыре липы» можно купить разрешение ловить на один день.
— Но вы же не должны выходить отсюда, — сказала она, садясь в низкое кресло. Он не мог оторвать глаз от грациозных движений ее длинных бронзовых ног.
— Если папа узнает, что вы выходили, будет скандал. Было достаточно неразумно ходить в эту таверну. Вас могли узнать!
Он провел рукой по усам и квадратной бороде.
— Теперь даже жена не узнала бы меня.
— Вы часто о ней думаете?
Он усмехнулся, не отвечая:
— Если бы вы знали, о какой женщине я думаю…
— Ах, так? О ком же?
Жанна наслаждалась. Сверкнувшие глаза убийцы сказали ей все. Но она знала, что он не поддастся искушению. Из-за Альдо. А сама она разве уступила бы, если бы он зашел еще дальше? Пожалуй, нет. Но возможно… Она не могла определенно ответить самой себе. Временами ей хотелось, чтобы он бросился на нее и овладел ею. В другие минуты она изо всех сил противилась этому чувству. Но когда они сталкивались в парке, оба сознавали, что достаточно искры…. Если они не стиснут зубы…
Муш опустошил свой стакан. Жанна настаивала:
— Вы не хотите мне ответить?
Она нарочно разжигала его! Не то, чтоб она была на все готова. Но ей радостно было видеть волнение в глазах мужчины. Муш, смотревший на нее с грубой, откровенной улыбкой, понимал это.
— То, что я сказал вам тогда в комнате служанки, остается в силе. Не заставляйте меня забыть, чем я обязан вашему мужу.
И вставая, он внезапно решился.
— Пока!
— Куда вы идете? — спросила Жанна, тоже поднимаясь.
Улыбка вернулась на круглое, бородатое лицо.
— Можете готовить белый соус!
Она подумала, что он шутит.
— На рынок? В Париж?
— Нет, всего за пять километров…
— Вы с ума сошли! Если отцу станет известно…
Муш пошел к сараю, но по дороге обернулся.
— Не переживайте. Никто меня не узнает. Я вернусь к ужину. А завтра приедет Альдо, и вы приготовите ему белый соус, о'кей?
Она подняла руку, пытаясь его удержать, но он пошел дальше.
— Это несерьезно! — закричала она.
Он пожал плечами и скрылся в сарае. Он привязал спиннинг к Мотоциклу Серджо, надел холщовую блузу, положил в карман полученный от Альдо револьвер и вывел мотоцикл на жаркий воздух, чуть не наткнувшись на наблюдавшую за ним снаружи Жанну.
— Вы не должны этого делать, — настаивала она. — Отец придет в ярость!
— Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Я спрячу машину, возьму разрешение и назову какой-нибудь адрес в Париже.
Садясь на мотоцикл, Муш задумчиво прибавил:
— Мне будет полезно сменить обстановку. Иначе я наверняка сделаю какую-нибудь глупость.
Жанна хотела возразить, но он уже умчался. Она вернулась назад, прошла мимо летчика, который снова взялся за рюмку, и вошла дом, где сверху слышался голос Терезы, убаюкивавшей Сесилию сицилийской колыбельной.
* * *
Вот это был настоящий пруд! Сколько хватало взора, повсюду была вода. Присмотревшись, можно было различить окаймлявшие ее камыши и зубчатую линию леса вдали. Муш почувствовал, что оживает. На природе, со спиннингом в руке он был спокоен. Место тихое, пустынное. Правда, сегодня пятница, и все на работе. Только один фанатик-рыболов, трудно различимый на расстоянии, так же, как и Муш, охотился за щукой.
Но пока Мушу удалось вытащить только окуня в фунт весом. А он жаждал большего. Ему нужна была хорошая щука, чтобы принести ее Жанне. Поразить ее. Он подтягивал к берегу блесну, когда за его спиной хрустнула ветка. Муш спокойно обернулся. На него смотрел инспектор рыбоохраны в мундире бутылочного цвета. Муш продолжал сматывать леску. Инспектор подождал, пока он подтянул блесну, а потом спросил:
— У вас есть разрешение на ловлю?
Муш приподнял спиннинг, на котором блестели капли воды; посеребренная блесна отражала солнечные лучи.
— Пожалуйста, — сказал он, улыбаясь и, изображая законопослушность, протянул купленную им в таверне бумагу. Инспектор взглянул на нее, кивнул и вернул обратно.
— Спасибо, — проговорил он, тоже улыбаясь. — Что-нибудь поймали?
Муш через плечо показал на окуня, еще трепыхавшегося у подножия березы, к которой был прислонен мотоцикл.
— Окунька, но недурного. Больше фунта на вид.
Он рассмеялся. Инспектор не пошел к березе. Он тоже засмеялся.
— Удачи вам! — пожелал он, уходя.
— До свидания, — ответил Муш, снова принимаясь за дело, как человек с чистой совестью.
Он бросал далеко. Блесна опускалась в пятидесяти метрах от берега, именно там, где он хотел. Там, где он мог поймать большую хищную рыбу. Инспектор остановился, восхищаясь точностью броска Муша. Этот тип — настоящий мастер! Рыбак в полном смысле слова! Какая ловкость… Вдруг инспектор нахмурил брови. Ведь в документе, разосланном по всей Франции и недавно переданному ему жандармерией Рамбуйе, предписывалось бдительно следить за рыбаками. Среди них мог оказаться Роже Сарте по прозвищу Муш, фанатик и мастер рыбной ловли. Конечно, убийца будет неузнаваем. Но в полицейской ориентировке подчеркивалась его особая манера забрасывать блесну. Инспектор задрожал от возбуждения. Он застыл, ожидая нового броска. И снова ему вспомнилась жандармская ориентировка: под описание подходило не только движение, которым человек забрасывал блесну — совпадали и рост, и телосложение. Что если это и есть тот самый преступник? Так можно мгновенно стать героем дня! Не говоря уже о повышении в чине! Он колебался, ожидая еще одного броска. Да, этот парень родился со спиннингом в руке! Подозрение инспектора крепло. О, Боже! Будет чем гордиться всю остальную жизнь! Он расстегнул кобуру пистолета, но сразу же убрал с нее руку, придав себе миролюбивый вид, потому что Муш, удивленный тем, что тот еще здесь, обернулся к нему. Пока не решившись окончательно, инспектор изобразил на лице улыбку. Муш ответил тем же и снова поднял спиннинг. Инспектор сделал шаг вперед. Может, стоило бы все-таки известить жандармов? Ведь там говорилось: «очень опасен». Но за это время он может смотаться! Упустить такой случай! Жажда славы одержала победу.
— Я хотел бы еще раз взглянуть на ваше разрешение, — сказал инспектор, подойдя к Мушу.
Рука его лежала на рукоятке пистолета. Муш обернулся и мгновенно уловил происшедшую перемену.
— Да вот оно, — лучась улыбкой, сказал он и снова вынул бумагу. Инспектор взял ее свободной рукой и положил в карман.
— У вас есть другие документы?
— Конечно, — кивнул Муш.
Он вытащил фальшивое удостоверение личности, привезенное Альдо. Он медлил, задаваясь вопросом, как далеко зайдет охранник в своих подозрениях.
— Пройдемте со мной для проверки, — решился наконец тот, пряча в карман удостоверение. — До дороги пешком. А там стоит моя машина.
— А как же мой мотоцикл? — осведомился Муш, указывая на него спиннингом.
— Возьмете его, когда вернетесь, — успокоил его инспектор. — Пойдемте!
Муш продолжал улыбаться.
— Вы не находите, что это слишком? Нельзя уж спокойно половить рыбу… И вообще, что вам от меня нужно, хотел бы я знать?
Инспектор вытащил пистолет и стволом указал на дорогу.
— Вперед!
Но вдруг в голову ему пришла другая мысль.
— Подождите. Поднимите руки, чтобы я вас мог обыскать.
Сердце Муша заколотилось. Кровь, казалось, отлила из жил. Но он продолжал улыбаться. Итак, избежать этого не удалось. Он взял спиннинг в другую руку, повернулся к тропинке и разыграл удивление:
— Еще один из ваших? Сколько же вас, скажите на милость?
Инспектор был недостаточно опытен. Он не сталкивался обычно с настоящей опасностью. Ему приходилось иметь дело с мелкими жуликами, бродягами и браконьерами, но не с серьезными преступниками. Он автоматически проследил за взглядом Муша, а когда понял ловушку, в его голове уже сидели две пули. Муш выпустил их в десятую долю секунды. Привычка. Инспектор уже рухнул на землю, когда звуки выстрелов только начали разноситься под кронами деревьев, пронизанными лучами палящего солнца. Подняв спиннинг и взяв с трупа свои бумаги, убийца направился к мотоциклу. Рыбак вдалеке замер, как будто заинтересовавшись происходящим. Но недолго. Ничего не увидев и успокоившись, он снова принялся за свое дело.
* * *
Еще не было двух, когда Муш подкатил к вилле и остановился у затененной террасы. Как хотелось пить! И какой тяжелый воздух! Эта чертова гроза никак не могла разразиться. В блузе и расстегнутой рубашке, так что видна была покрытая потом грудь, он подошел к Терезе, оравшей на американца, который сидел со смущенным видом, положив ноги на стол.
— Скажи ему, что если он еще раз попробует, я его убью! — вопила прекрасная сицилийка, у которой под легким летним платьем ничего не было.
Муш, не совсем еще овладевший собой после убийства, посмотрел на Жанну.
— Какая муха ее укусила?
Жена Альдо пожала своими обнаженными, гладкими от загара плечами. Она уже сняла шорты и надела халатик, такой легкий, что он мог бы поместиться в спичечной коробке. Под ним, казалось, ничего не было. Об этом можно было догадаться по колыханию грудей, поднимавших прозрачную ткань.
— Джек дотронулся до ее задницы, — пояснила она.
— Дотронулся?! Нет, он меня лапал! — рычала дочь Сальваторе. — Негодяй! Стоит мне рассказать мужчинам…
Муш посмотрел на американца. Было видно, что тот как следует надрался. Да еще в такую духоту… Он спросил по-английски:
— Зачем ты это сделал? Ты что, спятил?
Летчик поднял на него мутные глаза.
— Она шла мимо… Не знаю, что на меня нашло.
Тереза, не понимавшая по-английски, набросилась на Муша.
— Если он еще раз так сделает, я его убью. А я еще приносила лед этому мерзавцу…
Муш в душе оправдывал американца. Пьянчуга не смог сдержаться, увидев так близко от себя эту обольстительную девушку. Но он сказал падшему пилоту по-английски:
— Никогда больше так не делай. Если старик узнает, он способен на все. Ты просто спятил! Хочешь сорвать все дело, да? Из-за пары женских ног? Мог бы знать, что с женами сицилийцев заигрывать не стоит!
Он взял стакан, залпом опорожнил его и посоветовал:
— Попроси, по крайней мере, прощения. Может быть, она смягчится.
Американец потер щеку, на которой отпечаталась ладонь разъяренной Терезы, и сказал по-английски:
— Извините, мадам.
Но жена Берлинца не умела прощать. Она бросила на летчика яростный взгляд и, уходя, напомнила с угрозой:
— Начнешь снова — убью!
Ее волнующая походка вполне объясняла поступок американца. А тот, проводив ее глазами, не удержался от возгласа:
— Какая девушка!
— Выкинь ее из головы, — посоветовал убийца, неверной рукой наливая себе виски. — Не осложняй дело. Скоро ты сможешь распечатать всех девушек Манхеттена.
Он с жадностью поднес стакан ко рту, все еще глядя на неудачливого Казанову. Пальцы Терезы четко видны были на розовой физиономии Джека. Эти американцы! Они привыкли получать пощечины от баб… Он налил себе еще и так же жадно выпил. Жанна заметила:
— Я вижу, у вас дьявольская жажда.
Муш кивнул и зажег сигарету. Руки у него все еще дрожали. Убивать легко только в книжках и в кино, где жертвы валятся одна за другой, стрелки выпускают тысячу пуль, не перезаряжая свои пушки… А в жизни… Когда на тебя смотрит человек, чувствуя, что не увидит больше дневного света… красоты мира… цветов и женщин… солнца и моря… дождя и листвы… Убив впервые, Муш перешагнул этот рубеж. Назад хода не было. А когда полиция начала охотиться за ним, он мог
избежать своей судьбы, только убивая снова и снова. Выбора не было.
Жанна, заметившая его волнение, сказала:
— С вами что-то не так. Какая-то передряга?
Муш покосился на американца, поколебался, но вспомнил, что тот не понимает по-французски.
— Да.
Не говоря больше не слова, он спустился с террасы и повел мотоцикл в сарай. Заинтригованная Жанна последовала за ним.
— Вы не принесли рыбы?
Убийца чертыхнулся. Господи Боже, ведь он забыл там окуня! Потом он успокоился. Отпечатки пальцев на рыбе не остаются. Во всяком случае, есть шанс, что пройдет немало времени, прежде чем обнаружат труп инспектора. Но и тогда полиция не свяжет это с ним. Подумают, что это дело рук какого-нибудь браконьера, который убежал уже черт знает куда.
Он вошел в сарай, где были сложены старые игрушки, садовые инструменты, рыболовные снасти, а в углу стояла раскладушка, на которой любил спать Серджо, когда был мальчишкой. Муш поставил мотоцикл на обычное место и вытер пот. Не надо делать из мухи слона. Но когда же наконец пойдет дождь и станет немного прохладнее?
— Вы не хотите сказать, что с вами случилось? — настаивала Жанна, стоя в дверях.
Он поднял глаза, увидев ее всю, ее ноги, просвечивающие сквозь тонкую ткань, струйку пота, стекающую между почти ничем не прикрытых грудей. С внезапной яростью он вытащил из кармана револьвер.
— Я только что отправил одного парня на тот свет.
— Опять!
Она не могла скрыть изумления, в котором ужас смешивался с восхищением. Ее все сильнее тянуло к этому человеку. Она спросила с любопытством:
— Кто это был?
— Инспектор рыбоохраны. Он хотел меня арестовать, и мне пришлось…
Она вошла внутрь, и он почувствовал возбуждающий аромат ее молодого тела.
— Вас никто не видел?
Он отрицательно покачал головой и снова жадно вдохнул запах ее кожи.
— Если мой свекор узнает об этом, будет драма, — сказала она. — Он же запретил вам выходить.
Муш сдвинул в сторону барабан револьвера и буркнул:
— Что уж теперь говорить!
Пока он вставлял в барабан патроны, прежде чем вдвинуть его на место, она подошла еще ближе.
— Вам нравится убивать, да?
Ее открытое тело, на все согласная плоть, пылающий безумием взгляд были всего в двух шагах от него. Он поднял руку с оружием, будто пытаясь оттолкнуть искушение.
— Не думайте так! Убивать нелегко.
Она положила свою горячую руку на его кулак, в котором был зажат тяжелый револьвер.
— Что вы чувствуете, когда стреляете?
Его взгляд утонул в ее обезумевших глазах. Ее алые, приоткрытые губы, готовые уступить мужчине, проронили:
— Когда вы убиваете… Когда вы видите, как человек падает…
Он понял, что мысль об убийстве ее возбуждает, действует на нее как допинг. На свете немало женщин, которых возбуждает только опасность. Эти сорви-головы в тысячу раз смелее любого мужчины.
Муш снова попытался ее оттолкнуть.
— Убирайтесь.
Она ногтями вцепилась в его руку и настаивала, уступая своему порочному любопытству:
— Сначала скажите, что вы чувствуете, когда…
Резко, без размышлений, он ударил ее по щеке свободной рукой. И, не дав ей опомниться и поднять шум, он прижал ее к себе и впился ртом в ее губы, пылающие от изнурявшей ее бури. Он забыл об Альдо, забыл обо всем. Толкая ее на кровать, он прорычал:
— Я тебе говорил, чтоб ты не лезла! Ты слишком много хочешь знать. Вот сейчас узнаешь… Тварь!
Он бросил револьвер и грубо, нетерпеливо, задрал подол ее платья. Прохладные, нежные руки обвились вокруг его шеи. Он овладел ею с хриплым, звериным криком, как человек, который привык ставить жизнь на карту и еще не остыл от убийства. Ему откликнулся покорный стон жены сицилийца. А над ними раздался долгий раскат грома, заглушивший звуки их любовной схватки. Текли секунды, минуты. Гром удалялся. Еще не освободившись из объятий мужчины, Жанна открыла воспаленные глаза и вздрогнула.
— В чем дело, малышка?
Муш, приводивший себя в порядок, резко выпрямился. В дверях, которые они и не подумали запереть, с полуоткрытым ртом стояла Сесилия. Чувствуя, как у нее горят щеки, Жанна бросилась к племяннице, и платье само закрыло ее красивые загорелые ноги.
— Что ты здесь делаешь, тетя Жанну? — спросила девочка, широко раскрыв глаза.
Жена Альдо наклонилась к ней и закашлялась, ища слов.
— Я потеряла кольцо, моя маленькая. — Мсье помогал мне его искать.
Она чувствовала себя идиоткой. Но что делать? Прежде всего, нужно было сделать вид, что ничего особенного не произошло. Она встала на колени перед кроватью и достала оттуда кольцо, которое потихоньку сняла с пальца.
— Вот оно! — воскликнула она, вставая. — А что тебе здесь надо, милая?
Девочка нахмурила брови так, что на лбу появилась морщинка, но так и не поняв, что здесь делала ее тетка, ответила, показывая на мяч:
— Мой желтый мяч. Играть с Салями.
Фокстерьер с бумажным колпаком на голове сидел на земле в двух шагах от сарая.
— Ах, вот в чем дело, — воскликнула Жанна. Сердце ее просто выскакивало из груди. — Ну, иди, играй, милая…
Она улыбнулась девочке.
— И никому не говори, что я потеряла кольцо. А то твоя мама скажет, что я растеряха.
Сесилия поднесла пальчик к губам.
— Ты слишком большая, чтобы быть растеряхой. Правда, тетя Жанну?
Та погладила ее кудрявые, как у всех Маналезе, волосы.
— Да, милая. Слишком большая. Ничего не говори, а я куплю тебе то красивое платье, которое мы видели в магазине на площади Клиши. Помнишь, розовое?
— Ты мне его купишь? — изумилась девочка. — Правда, тетя Жанну?
— Обещаю, — сказала жена Альдо. — А теперь иди играть. А мы с мамой будем готовить ужин.
С мячом под мышкой Сесилия в сопровождении Салями побежала к ближайшей рощице. Побледневший Муш пристально смотрел на Жанну.
— Ты не думаешь, что она…
— Нет, нет, — прервала его женщина. — Сесилия не болтлива. Да она ничего и не поняла. А в крайнем случае можно сказать, что она лжет. Выдумывает…
Бандит поднял с пола револьвер и задумчиво, искренне сказал:
— Я хотел бы, чтоб это случилось. Я себе противен.
Он поднял голову, и она отступила под его мрачным взглядом, лепеча:
— Да что с тобой? Не упрекай себя. Так вышло. Погода. Гроза.
— Нет. Виноваты мы. Больше никто.
Теперь он снова подошел к ней, и голос его дрожал от сдерживаемого бешенства.
— Никто ничего не должен знать. Особенно Альдо. Я отвратителен себе. И ты мне противна! Теперь проваливай!
Она побежала к двери, но он схватил ее за руку.
— Помни: никто не должен узнать!
Пока Жанна поднималась на террасу, где все еще продолжал пить американец, Муш не переставал себя проклинать. Через три дня он должен будет рисковать шкурой вместе с человеком, которому только что наставил рога. Как последний мерзавец… Он сплюнул. Но больше всего ему хотелось плюнуть себе в лицо.
Через два часа, когда Муш, сидя на террасе, наливал себе виски, по широкой аллее, обсаженной прекрасными деревьями, к вилле подъехал «бьюик» Сальваторе. За рулем был Луи Берлинец. Сзади сидела Мария, как всегда в чем-то темном. Она редко бывала здесь. Ей хватало дела в магазине, и, кроме того, она не любила оставлять его на других.
Не успела машина остановиться, как Сесилия уже прыгала возле нее, визжа от восторга:
— Деда! Деда!
Муш побледнел и нащупал в кармане куртки успокаивающую рукоятку револьвера. Если малышка проболтается, Сальваторе вряд ли поверит байке про потерянное кольцо. Но девочка, должно быть, уже забыла не интересный ей эпизод. Повиснув на шее деда, со смехом поднявшего ее, она возила по его элегантному жемчужно-серому костюму своими белыми кедами.
— Ты привез такого мишку, как в телевизоре?
— Конечно, моя девочка, — успокоил ее старый сицилиец. — Но тебе придется взять его с собой, потому что ты возвращаешься с бабушкой в Париж.
— И Салями?
— И Салями.
Держа девочку на руках, он остановился перед столом, затененным листвой огромного дуба, посмотрел на американца и сказал:
— Его пора остановить. Не забывайте, что осталось всего три дня. Счастье, что я приехал.
И, отдавая девочку дочери, прибавил:
— Одень ее. Они с бабушкой сейчас же уедут. Я не хочу, чтоб она путалась у нас под ногами.
Потом он обратился к Мушу:
— Луи привез план «Боинга» и все документы, необходимые для полета. Завтра утром Альдо доставит в фургоне оборудование. Для репетиций у нас есть три дня. Ты в форме?
— Да, — ответил тот, скрывая волнение. — И готов действовать.
Луи вытащил из машины тяжелый портфель и вслед за женщинами вошел в дом. Крупный, породистый Сальваторе, выглядевший в своем сером костюме элегантным, как дипломат, мрачно взглянул на Муша.
— Больше ничего не хочешь мне сказать?
— Право… — заколебался тот.
— Ты не выезжал сегодня на мотоцикле?
Муш не стал отрицать.
— Ну, раз вы уже знаете…
Лицо сицилийца окаменело.
— В пятнадцати километрах отсюда на дороге выставлен пост. Жандармы ищут человека на мотоцикле. Ты знаешь причину?
Убийца беспомощно развел руками.
— Я не мог поступить иначе. Даю слово. Инспектор опознал меня и…
— С тобой опасно связываться, — констатировал Сальваторе. — Ты меченый. Я жалею, что разрешил Альдо помочь твоему побегу.
— А если наше дело выгорит, вы все равно будете об этом жалеть?
Убийца говорил сухо, даже вызывающе. Старый сицилиец, друг главарей «Коза Ностра», ответил не сразу. Он не мигая смотрел на Муша, потом проронил:
— Может, я и тогда буду жалеть. На тебе клеймо.
Быстро подойдя к американцу, он тыльной стороной руки резко отодвинул от него стакан, сказав по-английски:
— Хватит! На будущей неделе будешь пить, сколько захочешь.
Удивленный летчик привстал. Может, он и возразил бы, но его остановили слова сицилийца:
— Интересно, как будет реагировать Фрэнки, когда узнает, что ты не просыхал все это время.
Фрэнки, очевидно, представлял серьезную угрозу, потому что летчик кротко сел.
— Не сердитесь. Я в здравом уме и готов обсуждать операцию.
— Надеюсь, что это так, — отрезал Сальваторе, уходя в дом. — С этой минуты — строгий режим. И работа. Подходите, мы начинаем.
Муш щелкнул пальцами, делая летчику знак встать, и оба послушно пошли за стариком.
XV
Рондье притронулся к спине шофера.
— Остановись. Это здесь.
Он, Ле Гофф и художник из группы документации вошли в жалкую на вид лавчонку, расположенную в конце улицы Лепик.
Владелица, старая шлюха с густо накрашенным по привычке лицом, любезно приветствовала их, показав фальшивые зубы.
— Что угодно господам?
— Комиссар Ле Гофф. Служба уголовного розыска. Вы сказали одному из моих людей, что два месяца назад давали напрокат жандармский мундир?
Выглядывая из-под возвышавшейся на ее голове прически, похожей на ромовую бабу, старуха подтвердила:
— Точно. Какой-то господин брал у меня такой мундир.
— И не вернул его?
Она беззаботно махнула рукой.
— Это не важно. Залог был больше цены мундира.
— Часто вам не возвращают вещи?
— Бывает. Некоторые оставляют их себе, чтобы переодеваться. Она засмеялась, и ее глаза под слишком длинными накладными ресницами цинично блеснули.
— Некоторые психи, извращенцы, любят переодеваться и никогда не возвращают одежду. Они воображают себя кто Людовиком XV, кто Нероном, кто мушкетером, кто балериной… Какое мне дело?! В интимные минуты они чувствуют себя как бы другими людьми, и это их возбуждает.
— Но вы же даете костюмы не только чокнутым! — воскликнул Рондье. — Многие переодеваются для забавы!
Старая сводня показала рукой в кольцах на набитые шкафы.
— Конечно, нет. Среди моих клиентов есть артисты и те, кто берут костюмы для маскарадов.
— А человек, о котором речь? Из какой он среды? Артист? Псих? Как вы думаете?
На этот раз вопросы задавал Ле Гофф. Старуха наморщила лоб.
— Сколько помню, он был нормальным. Красивый парень.
— Блондин?
У Ле Гоффа было описание, сделанное рыжим жандармом, который сопровождал Муша в тот день.
— Да. Теперь я ясно его вспоминаю. Блондин, голубые глаза, красивый рот.
— А возраст? От тридцати до сорока?
— Лет тридцать пять.
— Челюсти?
— Довольно тяжелые. Упрямый мужчина.
Старуха отвечала, не задумываясь.
— Рост?
На этот раз она заколебалась, боясь ошибиться.
— Ну… Может быть, метр восемьдесят. Красивый мужик, ничего не скажешь. Я видела его почти в чем мама родила. Он примерял костюм.
Она вульгарно, двусмысленно захохотала.
— Лицо?
— Удлиненное.
— Особые приметы?
— Ну…
По мере того, как она говорила, художник карандашом набрасывал в блокноте рисунок.
— Ну, — неуверенно повторила она. — Теперь, когда я поразмыслила, мне показалось, что у него был шрам в углу рта. С левой стороны.
Она подняла руку, как будто пытаясь остановить художника.
— Почти незаметный. И вообще я не уверена. И все же…
— Похож он на этого типа?
Рондье показал ей карточку. Старуха отрицательно покачала головой, и ромовая баба заколыхалась.
— А на этого?
Прежде чем она успела ответить, Ле Гофф пояснил:
— Если между вашим клиентом и портретами, которые мы вам показываем, есть сходство в деталях, скажите. Это может быть подбородок, нос, ухо, рот. Короче, любая деталь, которая напомнит вам этого типа.
Новенький зубной протез сверкал на наштукатуренном лице старухи.
— Я поняла. Вы называете это фотороботом?
— Именно, — подтвердил Рондье. — Сядем и начнем. И имейте в виду — кто поможет в его поимке, получит пять кусков.
— Пять кусков? Без обмана? Господи Боже, да садитесь же поудобнее!
Она засеменила к стоявшему посреди комнаты столу и принялась убирать с него посуду и пустые бутылки.
XVI
«Радуйся, Мария благодатная, Господь с тобой. Благословенна ты между женами, благословен и Иисус, плод чрева твоего».
Вечерняя служба подходила к концу, и в церкви царила величественная тишина. Священник, перед которым юный служка нес крест, благословил немногочисленных молящихся и исчез, будто растворившись в стене.
Стоя на коленях, Сальваторе Маналезе перебирал сильными пальцами бусины четок. Время от времени до него долетал нежный голос Марии. Она так и не научилась молиться молча. Что-то заставляло ее выражать благочестивые чувства вполголоса. Может быть, она надеялась, что так ее мольба об избавлении семьи Маналезе от горестей лучше дойдет до Господа.
Справа от сицилийца кто-то пошевелился. Тишину святого места нарушил едва слышный звук. Сесилия, стоявшая между дедом и матерью, увидела издали, как служительница гасит свечи, и не смогла удержаться от восклицания. Тереза подняла карающую длань, но задела старика. Тот всегда был снисходителен к малышке. Властным жестом он остановил руку дочери. Сесилия опустила голову, как будто сгорая от стыда, но это было чистой воды притворством. В присутствии деда у нее не могло быть никаких неприятностей, скорее наоборот.
Стоявшая слева от Сальваторе Мария призвала членов своей семьи к порядку. Все повторили за ней: «Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, бедных грешников, и ныне, и в час нашей кончины. Да будет так», — и перекрестились. То же сделала и малышка, не отводя взгляда от служительницы и давясь от смеха. Затем все направились к выходу вслед за главой семьи.
Вскоре старый авантюрист, которого окружающие считали уважаемым коммерсантом, остановил «бьюик» перед своим магазином. Он проводил женщин до дверей, но сам не вошел. Наклонившись, он поднял девочку, торопливо прижал ее к себе, перекрестил и с улыбкой пробормотал:
— Будь умницей, бамбина.
Потом отдал ребенка матери и сказал ей:
— Ты знаешь, где меня найти. До отъезда мне еще нужно кое-что сделать.
Гордо кивнув, Тереза увела дочь. Старики посмотрели друг на друга, не произнося ни слова. Перед тем, как повернуться, глава клана Маналезе сказал:
— До скорого, жена.
— Храни тебя Господь, Сальваторе.
Прежде чем войти в дом, она подождала, пока он отъедет. Мария никогда не задавала вопросов. Ей никогда ни о чем не говорили. Она все знала и так. Интуиция… Сколько раз за их долгую жизнь она прощалась с мужем, не зная, вернется ли он? Как правило, ей было неизвестно, куда он отправляется. Только однажды, когда его ранили, он приказал ей приехать в Колумбию, в Боготу. Но это было уже давно, еще до рождения детей. Теперь к тревоге за Сальваторе прибавилась новая: сыновья пошли по его пути. Она не смогла воспротивиться этому. У нее было только одно право: подчиняться и страдать. Она ведь была Маналезе, а ее Сальваторе — главой клана.
* * *
Набитая полицейскими черная «ДС» с длинной антенной затормозила у дверей магазина «Картье». За ней остановился бронированный фургон, за ним — еще одна «ДС». Справа пристроились шесть мотоциклистов-полицейских в шлемах и высоких сапогах. Они оставались в седле, поставив ногу на землю и не включая работавшие на малом газу двигатели. Время было рассчитано точно, потому что всего через три секунды из дверей вышел директор знаменитой фирмы с чемоданчиком в руке. Пока он шел по тротуару, полицейские провожали его взглядом, одновременно следя за происходящим вокруг. Задняя дверь фургона приоткрылась, пропуская директора и его драгоценную ношу. Потом дверь захлопнулась, сухо щелкнула внутренняя задвижка, и конвой тронулся с места.
Серджо быстро вышел из бистро, откуда он наблюдал за происходящим, и вскочил в свою «симку».
* * *
Несмотря на довольно поздний час, аэропорт Орли продолжал извергать из своих недр пассажиров, прибывавших со всех концов земли. Сальваторе предъявил посадочный талон и прошел через ограждение. Впереди него шел Джек. Недоверчивый старик не решился кому-нибудь доверить заботу о пилоте, ведь в задуманном деле тот был его главным козырем. Нельзя было позволять ему напиваться, бегать по девкам или пасть духом. Вот уже несколько дней Сальваторе не спускал с него глаз. Он постоянно был начеку, и от его присутствия у бывшего летчика возникало ощущение неотвратимой опасности. Ведь Сальваторе представлял здесь Фрэнки Витторио. От Витторио же зависело, будет ли ввязавшийся в темную историю американец жив или умрет, получит солидный куш или окажется за решеткой.
Поднявшись наверх, в огромный застекленный зал, откуда можно было наблюдать за приземлением и взлетом самолетов. Сальваторе подошел к окошку почты и сделал вид, что листает справочник. Проходя мимо, Серджо задел отца и вместо извинений прошептал:
— О'кей. Погрузка началась.
Сальваторе даже не посмотрел в его сторону. Склонившись над справочником, он выписал из него какой-то номер и вернулся в зал. При взгляде на него никто не смог бы догадаться, кто он такой. В перчатках из кожи пекари, иденовской шляпе, блестящих черных ботинках, темно-сером костюме и отлично сшитом габардиновом пальто, с дорогим чемоданчиком в руке, он казался воплощением строгого достоинства.
Вокруг огромного «Боинга-707», под чудовищной тяжестью которого прогибалась земля, суетились служащие и грузчики. В теплом воздухе, вызывая тошноту, стоял запах авиационного топлива. В небе мигали огни, а на земле, ревели двигатели готовых к взлету «Каравелл».
У трапа, ведущего в салон первого класса, выстроились в ряд вооруженные полицейские, готовые дать отпор налетчикам. Но кто бы осмелился… Командир дал знак охране фургона, задняя дверь его открылась, и из нее друг за другом вышли восемь ювелиров. Это были представители лучших ювелирных фирм: «Клерк», «Бушрон», «Картье», «Шоме», «Альбукерк», «Ван Клифф и Арпельс», «Мобуссен» и «Хэрри Уинстон», — магазины которых располагаются на Вандомской площади, на Рю-де-ля-Пэ и в прочих местах, где мало дешевых доходных домов. В руках каждого из сошедших на бетон аэродрома был маленький чемодан, для безопасности прикрепленный цепочкой к поясу. Тому, кто решил бы лишить их драгоценного груза, пришлось бы не сладко! Ювелиры поднялись по трапу в салон. Их шествие замыкали два полицейских из специального подразделения, которые должны были лететь вместе с ними. Жрецы золота и драгоценных камней настояли на дополнительных мерах предосторожности, хотя в сущности это было простой формальностью. Ведь в Нью-Йорке их должен был ожидать крупный отряд полицейских, чтобы доставить в надежное место. Как только ювелиры расселись по уже давно заказанным для них местам, мотоциклисты сопровождения под восхищенными взглядами потеющих в своих синих халатах грузчиков развернулись, оглушив окружающих треском моторов.
* * *
Луи Берлинец и Тереза, даже под фальшивыми паспортами остававшиеся супружеской четой, не сводили глаз с аэродромного медпункта. Матовое стекло не позволяло им видеть происходящее внутри, но они знали, что Муш уже там. В соответствии с планом, как только они прибыли в Орли, Жанна отвезла его туда. Без труда изображая влюбленных, Луи и Тереза казались со стороны элегантной беззаботной парой, на деле же были крайне напряжены. Они прогуливались взад и вперед и не замедлили шага, когда в медпункт вошли сотрудник службы безопасности и инспектор аэропорта. Все в порядке или… Они знали, что убийца не сдастся живым. В случае провала они должны были выручить Жанну, пока Муш с оружием в руках попытается воспользоваться своим последним шансом. При таком повороте событий предполагалось, что все встретятся у старика. Едва оба фараона исчезли в дверях, супруги остановились неподалеку от маленькой китаянки в длинном черном платье классического покроя, готовые к действию, как и Альдо, ожидавший развития событий, стоя снаружи.
Войдя в медпункт, полицейские вежливо поздоровались. Из-за своего стола врач кивнул на сидевшего перед ним Муша:
— Если вас это не слишком затруднит, пожалуйста, выполните предполетные формальности здесь. Этому господину сделал операцию сам профессор Маргутье. Будет лучше, если мы не станем утомлять его ожиданием в общем зале.
— Ваш паспорт, мсье! — потребовал сотрудник службы безопасности, вежливый, как все его лихие коллеги.
Муш не шевельнулся. Он стал неузнаваем. Его руки, затянутые в серые перчатки, лежали на набалдашнике зажатой между ног белой трости слепого, усы были подстрижены щеточкой, глаза скрывала черная повязка. И ткань, и покрой его одежды ясно свидетельствовали о ее американском происхождении. Жанна была одета, как медсестра, но не без претензии на роскошь. На ней были туфли на низком каблуке, светло-синий английский костюм из габардина, демисезонное пальто и голубая косынка, окаймлявшая хорошенькое личико. Она сразу же вмешалась в происходящее:
— Он не говорит по-французски. Все его документы у меня. Мне же поручено доставить его домой, в Америку.
И Жанна достала американский паспорт. Он был сработан на совесть и выглядел лучше, чем настоящий. Итальянцы, изготовившие его, были настоящими мастерами своего дела и, вероятно, могли бы сделать себе карьеру в живописи, если бы предпочли богемный образ жизни. Повертев его в руках, инспектор вопросительно посмотрел на врача. Тот с увлечением изучал документы, на которых стояла печать известной клиники.
— Он приезжал сюда, чтобы сделать операцию у нашего лучшего специалиста, и теперь возвращается домой. Повязку можно будет снять не раньше, чем через месяц. Профессор Маргутье — настоящий волшебник!
В голосе врача звучали нотки восхищения. Полицейский, который, как и всякий добрый француз, был немного шовинистом, кивнул в знак одобрения и снова повернулся к Жанне:
— Вы тоже гражданка США? Но ваш акцент…
Она одарила его улыбкой, заставившей дрогнуть черствое сердце стража порядка.
— Нет, я парижанка. Вот мой паспорт. Я бегло говорю по-английски, и мне поручили сопровождать больного.
— Вижу, — пробормотал чиновник, быстро пролистывая бумаги. — Что ж, нам остается только пожелать вам счастливого пути. Наверное, его лучше подвезти на машине прямо к трапу…
Врач уже возвращал жене Альдо фальшивые документы больного.
— Я распорядился, — сказал он. — Извините за беспокойство и спасибо за понимание, господа.
Полицейские отдали честь. Прежде, чем исчезнуть, инспектор подошел к Мушу и обратился к нему по-английски:
— До свидания, сэр! Доброго вам здоровья!
— До свидания, — ответил тот, причем нижняя половина его лица ни на секунду не выдала страшного нервного напряжения. — Спасибо за ваши пожелания.
Выйдя из медпункта, полицейские прошли мимо Берлинца и Терезы, которые едва сдержали вздох облегчения. Идея Сальваторе сработала! Старый авантюрист еще раз доказал, что по части выдумок с ним никому не сравниться. Дойдя до двери, супруги условным сигналом дали знать о происходящем Альдо, после чего поднялись на эскалаторе и присоединились к главе клана. Тем временем санитары помогали Жанне подвезти Муша к «Боингу».
* * *
После получения виз пассажиры ожидали посадки в специально отведенном зале. Посторонним вход туда был запрещен. Всякий, кто проходил предполетные формальности, становился неприкосновенным. Одни пассажиры готовились погрузиться в сон. Другие явно боялись предстоящего полета, и это было видно по озабоченному выражению их лиц. Сидевшая в углу молодая мать кормила грудью своего младенца. Юный араб, похожий в своем черно-белом одеянии на Валентино в «Сыне шейха»,[14] молчаливо курил. Его несколько заносчивый вид сочетался с непередаваемой грациозностью движений. Расположившийся напротив него толстяк жаловался по-голландски, что его заставили заплатить за багаж дополнительную пошлину. Члены семейства Маналезе делали вид, что незнакомы друг с другом. Старик держался рядом с Джеком. Тереза надела модные очки, чтобы ее сходство с отцом не бросалось в глаза, и продолжала ворковать с Берлинцем. Очки, правда, черепаховые, были и на Альдо. Воплощение корректности, он погрузился в решение кроссворда.
В другом конце зала Серджо пытался заигрывать с похожей на английского пупса юной красоткой, скучавшей под охраной цербера женского пола с пронзительным взглядом. Однако юного денди это нисколько не смущало. Стоя рядом с симпатичной малышкой, он щекотал ей шею газетой. Девушка в почти ничего не скрывавшей мини-юбке хихикала, а цербер бросал на Серджо убийственные взоры, на которые тот, впрочем, не обращал ни малейшего внимания. Чтобы призвать своего отпрыска к порядку, Сальваторе пришлось несколько раз кашлянуть. Время явно не подходило для того, чтобы устраивать скандал из-за девчонки. Ох уж эти юнцы! Вечно они куда-то лезут. На них обязательно нужно прикрикнуть. Серджо покосился на отца и послушно ретировался. Впрочем, недалеко. Он все время держал английского пупса под прицелом своих блестящих глаз.
У дверей аэропорта затормозили два автобуса, и стюардесса из «Панамерикэн» объявила по-английски:
— Пассажиры, отправляющиеся в Нью-Йорк! С красными билетами, пожалуйста, проходите здесь. С зелеными — с другой стороны.
Пока она повторяла приглашение по-французски, Сальваторе и Джек подошли к указанной двери. Остальные пассажиры направились к выходу туристического класса.
Короткая поездка в автобусе — и Сальваторе с Джеком вошли в салон первого класса. Сицилиец отдал стюардессе шляпу и пальто, но остался в перчатках и с чемоданчиком. Американец последовал его примеру. Старику хватило одного взгляда, чтобы уяснить себе и внутреннее устройство самолета, и расположение пассажиров. Муш и Жанна сидели справа в первом ряду. За ними виднелась тесная группа обсуждавших свои проблемы ювелиров. Одинокий и все такой же надменный нефтяной принц курил рядом с недовольным голландцем. Сальваторе позволил проводить себя в конец салона. По пути он засек двух полицейских в штатском, хотя ничем особым они не выделялись. Однако переодевание не помогло им скрыть характерных физиономий и грубых подбородков.
После нового ожидания, объявлений стюардессы и приветствия командира корабля пассажиры пристегнули ремни, погасили сигареты и принялись сосать леденцы, предложенные им щедрой авиакомпанией. Турбореактивные двигатели наполнили воздух диким ревом, и чудовище медленно поползло к взлетной полосе. Четверть часа спустя все 140 тонн его веса, в том числе 180 пассажиров, уже плыли в испещренном звездами бледно-синем небе. Жанна отстегивала ремень Муша, когда к ним подошла стюардесса, хорошенькая зеленоглазая блондинка.
— Может быть, принести ему что-нибудь выпить?
— Спасибо, не надо, — отказалась Жанна. — Главное для него — покой. Но я не отказалась бы от виски.
Блондинка удалилась. Муш, чувствовавший телом тепло затянутого в нейлон бедра жены Альдо, проворчал:
— Кто вам позволил решать за меня, хочу я пить или нет?
Она склонилась над ним и, делая вид, что усаживает его поудобнее, прошептала:
— Это моя месть. Я все еще вас хочу.
— Прекратите. Мы больше не увидимся. Вы вернетесь во Францию, я нет.
Он говорил сухо и по-французски, так что ей пришлось напомнить:
— Не забывайте, вы знаете только английский.
Он чувствовал дразнящий запах ее духов и близость ее рта.
— Берегитесь, чтобы ваш свекор ничего не заметил, — процедил он сквозь зубы. — Да отодвиньтесь же, Бога ради. Вы что, с ума сошли?
Не обращая внимания на слова Муша, она продолжала прижиматься и откровенно поглаживать его ляжку.
— Вы разожгли во мне огонь!
Он вцепился в трость. По телу Жанны пробежала дрожь удовольствия.
— Я буду часто вспоминать вас, — проговорила она. — И наш сарай, и грозу… А вы?
— Дерьмо!
Рокот двигателей, работавших на полную мощность, заглушил ее смешок. Муш повернулся к ней, но повязка на глазах лишала его лицо всякого выражения. Она снова засмеялась, на этот раз над его временной беспомощностью.
— Вам хотелось бы сделать мне больно, правда?
Он открыл рот. Его короткие усы топорщились от гнева.
— Заткнитесь же, черт побери!
Она ногтями вцепилась ему в руку сквозь ткань пиджака.
— Мне нравится твоя ярость.
— Дьявол!
Он едва не сорвался на крик. Ее возбуждение находило выход в смехе. Однако ей пришлось успокоиться, когда подошедшая стюардесса раздвинула перед ней столик, на который стюард в белоснежной куртке водрузил рюмку «Лонг Джон». Подождав, пока он уйдет, Жанна прошептала:
— Твое здоровье!
Он отвернулся, так что виден был только его профиль, перечеркнутый повязкой. Отпив глоток, она заметила, что Сальваторе в обществе Джека направляется к бару для пассажиров первого класса. Ее удивило, что бар располагался в передней части салона, а не в задней, как обычно. Старик держался превосходно. То, что он даже в самолете не снял перчаток, как это делают некоторые богачи, придавало ему особый шик. Впрочем, на то были свои причины. Отпечатки его пальцев имелись в картотеке Интерпола… Перчатки были только на старике и Муше. Остальные были неизвестны полиции, и ничем не рисковали даже в том случае, если после операции американской службе идентификации удалось бы обнаружить их отпечатки пальцев. Сквозь повязку Муш разглядел спину итальянца и спросил:
— Куда он?
— Я думаю, хочет осмотреться.
— Держитесь на расстоянии. Он может засечь нас из бара.
Прикусив край рюмки, Жанна тихонько засмеялась:
— Вы его боитесь?
Муш запрокинул голову, чтобы следить за действиями старика, не слишком сдвигая повязку.
— Глупышка! Я боюсь только за вас. Вы ведь лучше моего знаете сицилийцев, раз замужем за одним из них…
Она отодвинула от него ногу и уселась поглубже в свое кресло. И в самом деле, этот народ не шутит с супружеской изменой. Вновь по ее телу пробежала дрожь, но теперь причиной ее был вернувшийся страх. Однако она ни о чем не жалела. Убийца с самого начала поразил ее, и, может быть, именно поэтому в тот памятный день, в сарае, ему удалось сделать ее счастливой. Украдкой Жанна поглядывала в сторону бара, который не был отгорожен ширмой. Ее свекор стоял со стаканом в руке и о чем-то беседовал с Джеком, не переставая внимательно следить за окружающими.
Муш неожиданно сказал:
— Время рассчитано по минутам, и мне больше не удастся с ним поговорить. Я забыл кое о чем его попросить.
— О чем?
— Это касается моей коллекции марок. Пожалуйста, скажите ему, чтобы он отдал ее моей дочери.
Жанна повернула голову к своему соседу. Решительно, он сбивал ее с толку. Он думал о дочери в тот самый момент, когда они готовились к ограблению века. И все же она пообещала:
— Не беспокойтесь, я не забуду.
— Спасибо. Пусть он с ней свяжется, когда сочтет нужным.
Она допила виски и искренне сказала:
— Вы странный человек!
— Могу я на вас рассчитывать?
— Я ничего не забуду…
— Спасибо, — повторил он, вытягивая ноги и откидывая спинку кресла. — Не могли бы вы попросить для меня плед? Я хочу немного вздремнуть. Разбудите меня, когда будет нужно.
Фиалковые глаза Жанны широко раскрылись.
— Вы сумеете заснуть перед тем, что нас ждет?
Из-под щеточки усов, придававших Мушу немного смешной вид, блеснули зубы.
— Я могу спать где угодно. Думаю, что сумел бы вздремнуть даже накануне собственной казни, если бы мне не удалось смыться.
И снова Жанна почувствовала дрожь, но ничего не ответила, потому что стоявший у бара свекор бросил на нее внимательный взгляд, прежде чем обратить его на готовившихся отойти ко сну ювелиров.
— Нельзя ли принести плед для больного? — спросила она у стюардессы, которая танцующей походкой шла по проходу, приводя в восхищение следивших за ней мужчин.
— Сию минуту, мадемуазель, — ответила, удаляясь, блондинка. — Вам тоже?
— Будьте добры, — согласилась Жанна и вытянула ноги.
* * *
Одна за другой в самолете гасли сигары и трубки, смолкала болтовня. Пассажиров «Боинга», приближавшегося к Соединенным Штатам со скоростью 950 километров в час, сморила усталость. И в первом, и в туристическом классе почти все спали. Часы, висевшие над входом в салон первого класса, показывали двенадцать сорок. Альдо, сидевший в середине правого ряда, в синем свете ночника разглядел стрелки своих часов. На них было столько же. Запустив руку в саквояж, он достал спрятанную там «беретту». Предполагалось, что «Боинг» приземлится ровно в час. Разумеется, по нью-йоркскому времени. Чтобы избежать путаницы, Сальваторе приказал всем членам их группы поставить часы по Нью-Йорку. Вылетев из Орли ровно в 11 вечера, они должны были оказаться на месте в час ночи, с учетом временного разрыва. Альдо потянулся и закурил. Он закашлялся от дыма и встал, попросив прощения у дремавшего соседа, который что-то проворчал в ответ. В самолете царил голубоватый полумрак. Пассажиры туристического класса, сняв обувь и накрывшись пледами, мирно дремали. Некоторым что-то снилось, и они вертелись во сне. Другие читали при свете индивидуальных ламп, но таких было немного. Альдо направился в хвост самолета, пытаясь разглядеть Серджо. Однако там, где он должен был находиться, того не было, и Альдо нахмурился. Вскоре он успокоился, обнаружив младшего брата в предпоследнем ряду справа. Парень не скучал и не терял времени впустую. Растянувшись, насколько хватало места, он прижимал к себе английского пупса, и оба спали, как добродетельные супруги, уже отпраздновавшие золотую свадьбу. Альдо поискал глазами цербера в юбке, призванного оберегать невинность, и увидел ее рядом с пустым креслом. Из ее широко открытого рта исходил богатырский храп. Должно быть, Серджо дождался момента, когда усталость сомкнула очи бдительной стражницы, и при помощи красноречия увлек за собой сговорчивую малышку. Что ж, многие прелестные младенцы были зачаты лишь по счастливой случайности и без всякого комфорта. Именно они выступают в конкурсах и берут все призы. Как бы то ни было, пришла пора навести порядок, чтобы при виде прелестной пары старуха не развопилась, как извозчик. Альдо нагнулся к брату и потряс его за плечо.
— Что такое? — промычал сонный Серджо. — В чем дело?
Покоренное создание глубоко вздохнуло на его груди и обняло его за шею. В полумраке Серджо разглядел лицо брата, измененное черепаховыми очками.
— Приготовься, — прошептал тот.
Серджо поцеловал английского пупса в лоб, мягко освободился от объятий и вернулся на свое место. Достав из-под сидения сумку с надписью «Эр Франс», он вытащил оттуда свое снаряжение. Успокоенный Альдо отправился в переднюю часть салона. Проходя мимо своего кресла, он захватил саквояж. Места Луи и Терезы были в первом ряду. Альдо дотронулся до плеча зятя пальцем, чтобы узнать, спит ли он, и по движению его тела понял, что нет. У мужчин их ремесла, пока кровь их еще не загустела от обжорства и мягких кроватей, быстрая реакция. Взглянув на электрические часы над дверью салона, Берлинец разбудил застонавшую со сна Терезу. Альдо сделал вид, что отправился в туалет, но остановился в узком коридоре, ведущем в салон первого класса. Луи отбросил с ног покрывало, вытащил из-под сиденья кожаный чемодан, достал оттуда тяжелый пистолет и прикрепил к нему съемный приклад. Тем временем Тереза рылась в своей сумке.
В носовой части самолета Сальваторе между тем растолкал Джека, и в слабом синеватом свете они направились к бару. Проходя мимо ювелиров, старик отметил, что они спят, как и сопровождающие их полицейские. Вот что значит чистая совесть в сочетании с самоуверенностью! Глядя на этих сонь, никто бы не подумал, что находившихся при них драгоценностей вполне бы хватило для финансирования войны во Вьетнаме в течение нескольких дней. Перед тем, как отодвинуть скрывавшую бар драпировку, сицилиец остановился, сунул в рот черную сигару и зажег ее. Жанна тотчас же наступила на ногу немедленно проснувшегося Муша. Пока Жанна вставала и непринужденной походкой приближалась к свекру, убийца снял с глаз повязку, в мгновение ока вынул из портфеля их главное оружие — автомат — и тихим движением дослал патрон. Лязг стали был отчетливо слышен в привычном гуле самолетных двигателей, и Муш насторожился. Но необычный звук не привлек внимания соседей, они по-прежнему спали. Положив прикрытый пледом автомат на колени, прислушиваясь к движениям пассажиров и устремив взор в сторону бара, убийца ждал.
В баре же операция набирала обороты. Две стюардессы и бармен коротали последние часы полета, потягивая виски. Однако их передышка была прервана самым неожиданным образом. При виде Сальваторе и Жанны, которые, не заметив их, шли к кабине пилотов, бармен попытался им помешать:
— Но…
Он осекся, увидев направленный в его сторону пистолет Жанны.
— Оставайтесь на месте! — приказала та. — Речь идет о вашей жизни.
Девушки чуть пошевелились, и ствол пистолета немедленно переместился.
— Это относится и к вам!
Американки в крайнем изумлении смотрели на медсестру. Подобный способ ухода за больными казался им очень странным. Происходящее представлялось невероятным. Может быть, это нападение — не более, чем розыгрыш, неудачная шутка? Блондинка заупрямилась и попыталась обойти вокруг стойки.
— Вы что, не хотите встретить прекрасного принца и завести кучу детей? — рявкнула Жанна по-английски. — Я же сказала, не двигаться!
Ноздри жены Альдо рездувались, глаза сверкали. Она упивалась опасностью, это было у нее в крови. Она не была рождена для того, чтобы участвовать в семейных викторинах и получать из рук Длинного Шарля[15] медали за многодетность. Что ж, каждый идет своим путем. Не все женщины годятся на роль наседки.
Сальваторе отодвинул дверь кабины и оказался перед бортрадистом. Тот сидел без пиджака, курил «Кэмел» и время от времени смахивал со лба капли пота.
— Кругом! — приказал итальянец.
Даже если бы перед бортрадистом вдруг возникло привидение, его глаза едва ли открылись бы шире. Они стали размером с летающую тарелку.
— Ну же, кругом! — повторил Сальваторе, подталкивая парня внутрь кабины стволом полицейского револьвера 38 калибра. Дыхание бедняги пресеклось, и он отступил. Вошедший вслед за итальянцем Джек сказал своему коллеге, сидевшему за штурвалом:
— Будь послушным, делай, что тебе скажут. Выбора у тебя нет.
Второй пилот, дремавший в правом кресле, вскочил, как будто его кольнули сзади шилом.
— Что? Что? — пролепетал он.
— Заткнись и сиди! — рявкнул Джек.
Сальваторе, решивший на всякий случай проверить карманы висевших на крючках курток пилотов, восхитился. Джек совсем неплохо взялся за дело. Главным теперь было не позволить ему залить слишком много виски в собственный мотор.
Второй пилот потерял самообладание и закричал. Джеку пришлось ударить его рукояткой револьвера по основанию черепа. Пилот затих. Сальваторе присел рядом с командиром корабля, который сразу после прихода неожиданных гостей включил автопилот.
— У вас нет выбора. Делайте, что вам скажут.
— А если я откажусь?
Летчик был атлетического сложения, — а мужественное лицо наверняка обеспечивало ему успех у дам во всех аэропортах. Сальваторе показал ему свой револьвер:
— В таком случае…
Тот только усмехнулся, не переставая следить за светящимися циферблатами приборов.
— Кто поведет самолет, если вы меня прикончите? Сицилиец повел стволом револьвера в сторону Джека, который, наставив оружие на бортрадиста, приказал ему сесть на место.
— Он. С «Боингом» он знаком не хуже вашего.
В слабом освещении кабины командир попытался разглядеть лицо Джека. Однако оно ни о чем ему не говорило, никого не напоминало. Если то был товарищ по профессии, то откуда он взялся? Как бы то ни было, он был соотечественником, о чем свидетельствовала его речь. Слова пилота прозвучали скорее утверждением, чем вопросом:
— Вы здесь из-за бриллиантов? Ясное дело…
— Ясное дело, — повторил Сальваторе.
— Пока еще вы их не получили! В Нью-Йоркском международном полиция возьмет вас, как младенцев. Ваша операция заранее обречена. Вы безумцы, что пошли на нее.
Свободной рукой сицилиец вынул карту и поднес ее к лампе.
— Садимся не в международном, а здесь.
Стволом револьвера он показал точку на карте. Командир подскочил:
— Вы рехнулись! Здесь же нет полосы!
— Садимся на пока не открытом участке автотрассы между Вэли и главной
магистралью. В нем три с половиной километра. Это больше, чем нужно.
Командир задумчиво посмотрел на дым неровной черной сигары, зажатой в тонких губах сицилийца.
— Вы итальянец? По крайней мере, вы курите итальянские сигары.
— Не задавайте вопросов. Подумайте пока, как нам лучше сесть.
В глазах летчика появился металлический блеск.
— Я отказываюсь помогать грабителям.
Старик был готов к такому ответу. Сначала он угрожающе повел револьвером, потом улыбнулся и показал на Джека, который, связав второму пилоту руки за спиной, устроился в его кресле и надел наушники.
— Как угодно. Вашей работой займется Билл. Но в этом случае я буду вынужден вас отключить.
Старик продумал все детали. Джек стал Биллом, чтобы навести полицию на ложный след. Выпрямившись, Сальваторе сказал бортрадисту:
— Если вы сообщите на землю хоть что-то о происходящем здесь, можете считать себя покойником. Билл будет за вами следить. Мой совет — продолжайте заниматься своим делом. Так будет лучше для всех.
Радист вопросительно смотрел на командира. Тот молча кусал губы. Сальваторе прервал его колебания.
— Попрошу встать. Этот господин сейчас займется вами. Он кивнул на вошедшего Альдо. В одной руке тот сжимал рукоятку «беретты», держа ее у пояса, в другой у него был саквояж.
— Кажется, вы все предусмотрели, — констатировал командир, доставая трубку из кармана рубашки.
— Все, — подтвердил старый сицилиец. — И сигналы на посадочной полосе, и все прочее. На вашем месте я помог бы машине приземлиться. Нам некуда отступать, и поэтому мы можем стать опасными. Вы хозяин этого «Боинга» и несете ответственность за людей. От вас зависит жизнь ста восьмидесяти человек. По крайней мере, зависела. Поверьте, мы вполне можем обойтись без вашей помощи, но…
Рукой в перчатке старик поднес к губам сигару. Он затянулся и вместе со словами выпустил изо рта струю едкого дыма:
— …но, если вы согласитесь, мне будет спокойнее… за ваших пассажиров…
Он коротко, невесело засмеялся.
— С вашей помощью или без нее, эти побрякушки будут моими. Я явился сюда за ними, а я не имею привычки шутить.
Командир корабля начинал сознавать, что этот преступник с манерами джентльмена действительно не собирается шутить. Вопреки собственному желанию он попадал под влияние незаурядной личности Сальваторе. И в самом деле, что он мог сделать? Попытаться сопротивляться? В полете? При том, что от него, как справедливо заметил седой пират, зависит жизнь ста восьмидесяти человек? Итальянец безошибочно попал в его уязвимое место, сделав ставку на чувство ответственности командира корабля, которому каждый год доверяют свою жизнь тысячи людей. И он сдался.
— Ладно. Я остаюсь у штурвала. Ваш сообщник сможет контролировать мои действия. Бортрадист будет заниматься своим делом. Но могу я вас попросить, чтобы пассажирам не причиняли зла?
Старик раздавил окурок сигары о дно пепельницы, вделанной в ручку кресла.
— Если только никто не будет сопротивляться. Мне нужны драгоценности, предназначенные для выставки, и ничего более. Я не трону драгоценностей и денег пассажиров. Даю слово.
Командир с изумлением вгляделся в лицо Сальваторе. На подобное он даже не надеялся. Кто же были эти странные бандиты? Современные Робин Гуды?
— О'кей, — наконец сказал он. — Я вам верю. Не знаю, почему, но верю.
Глава клана Маналезе принял комплимент, не моргнув глазом.
— Тогда посоветуйте, пожалуйста, стюардессам и бармену не противиться моим распоряжениям.
— О'кей, — повторил командир. — Боюсь, однако, что может возникнуть паника, как при вынужденной посадке. Не надо забывать, что мы летим со скоростью тысяча километров в час, а до земли далековато. Увидев ваше оружие, люди могут перепугаться и поднять крик. Это крайне осложнит дело.
Старик поднял руку.
— Пусть вас это не беспокоит. В туристическом классе мои ребята действуют достаточно деликатно, чтобы никого не потревожить. Все предусмотрено. Пока же я прошу вас зажечь свет в салоне первого класса.
Он щелкнул пальцами, и Альдо вышел. Через две секунды он появился вновь, толкая перед собой девушек и бармена. Их удивление прошло, и они смирились с происходящим. И в самом деле, в их профессии приходится быть готовым ко всему! Командир указал на Сальваторе:
— Делайте, что он скажет. Ему нужны только ювелиры. Зажгите свет в первом классе. Если будет нужно, успокойте пассажиров. Прежде всего мы должны думать о них.
Длинноногие красавицы направились к выходу, но Альдо «береттой» дал им знак остановиться.
— Сначала свет. А ты останешься со мной. Садись на пол рядом со вторым пилотом!
Бармен повиновался без слов. Парень был не настолько глуп, чтобы дать продырявить себе брюхо. Девушка нажала на кнопку выключателя. Швырнув свой саквояж в угол, Альдо встал за спиной пилотов. Он не выпускал пистолет из руки. Предводительствуемый стюардессами, старик вернулся в салон первого класса, где его уже ждала Жанна. Она стояла в середине прохода, а нефтяной принц пожирал ее глазами. Разбуженные резким светом пассажиры зевали, моргали, потягивались. Один из них, тот, что представлял «Картье», посмотрел на свои часы — конечно же, от «Картье» — и удивился.
— Как, уже? Мы идем с опережением! Не может быть, чтоб мы уже прилетели!
Стоя у бара в окружении стюардесс и держа в руке револьвер, Сальваторе объяснил так спокойно, как будто это его не касалось:
— Господа, это ограбление. Что касается дам, их просят не беспокоиться.
Последнее относилось к четырем еще не вполне проснувшимся девицам, которые, едва услышав об ограблении, привстали в креслах. Что и говорить, бывают и более приятные пробуждения, например, в объятиях аргентинского танцора. Впрочем, зашевелились не только девицы. Трое из ювелиров тоже вскочили, алчно вцепившись в свои чемоданчики. Лишь они и полицейские не потеряли головы… Муш молнией вскочил с кресла и направил автомат на тех, кто был ближе к нему. Не нужная уже повязка висела у него на шее.
— Черт побери! — выругался один из агентов в штатском, пытаясь достать свою артиллерию.
Его товарищ, явно старавшийся походить на Джеймса Бонда, уже держал наизготовку табельный пистолет.
— Осторожно! — произнес за его спиной приглушенный голос. Отважный воин обернулся, и все последовали его примеру. Из узкого коридора, ведущего в салон туристического класса, незаметно появился Луи Берлинец. Он тихо прикрыл дверь и теперь стоял, прислонившись к ней, с автоматическим пистолетом в руках. Он внушал страх, но не столько оружием, сколько противогазом, скрывавшим его черты.
— Всем поднять руки и сесть! — коротко приказал Сальваторе. Принц попытался изобразить, что он не подчиняется угрозам.
Однако Жанна сразу же приставила ствол пистолета к его бурнусу.
— Вас это не касается! — сказала она. — Садитесь. На ваши сбережения никто не покушается.
Она говорила по-английски, и он ответил ей на том же языке. Его черные глаза блестели.
— Такая красивая и такая опасная! Мне это нравится. Если бы вы согласились погостить в моем кувейтском дворце…
Жанна улыбнулась, но пистолет не убрала, пока ее собеседник не опустился в кресло.
— Договорились, как-нибудь я заскочу. А пока садись.
Потом она направилась к рыцарю в штатском, послушно державшему свой пистолет в поднятых вверх руках. Обыскав и разоружив и его, и другого агента, она повернулась к старику, который занимался ювелирами.
— Нам нужны только ваши чемоданы. Цепочки можете оставить на память. После этого вы пристегнетесь ремнями и не встанете с места, что бы ни случилось. Не вынуждайте нас стрелять. Вы должны понять, что отступать нам некуда.
Сальваторе обвел взглядом остальных пассажиров.
— С вами не случится абсолютно ничего. Нам нужны только эти господа.
Он повел револьвером в сторону ювелиров.
— Или, скорее, то, что у них с собой. Прошу вас, господа, побыстрее.
И его взгляд снова обратился на них.
— А если мы откажемся? — спросил один из ювелиров, который, должно быть, когда-то читал «Три мушкетера» или романы о Джеймсе Бонде.
В голосе его слышалась злоба, однако хватило его ненадолго. Ювелир не учел, что Муш стоял совсем близко. Свою ошибку он понял только тогда, когда убийца двинул его прикладом. Его коллеги, ободренные выходкой товарища, затеяли скандал.
— Почему мы должны уступить? — заорал один.
— Да, — почему… — начал было другой.
На этом все закончилось. Их отважный собрат уткнулся носом в спинку кресла, потом соскользнул вниз и исчез из виду. Должно быть, в его глазах сверкали все бриллианты короны. Прочие сразу же притихли. Вновь заговорил Сальваторе.
— Давайте сюда чемоданы. А вы, мадемуазель, относите их к выходу. Выполняйте. Потом вы наденете маски и отправитесь в туристический класс. Там для вас найдется работа.
Он протянул стюардессам два противогаза, только что принесенные Жанной, и те послушно взяли их. Старик повернулся к Мушу.
— Не надо бесполезных жестокостей. Только если не будут подчиняться.
Сломленные, напуганные неожиданным натиском, ювелиры по очереди выполнили приказ. Теперь их богатства были свалены в кучу у выхода, а им остались бесполезные цепочки, прикрепленные к поясам.
Когда последний из ювелиров расстался со своим чемоданчиком, стюардессы в сопровождении Жанны вышли, а старик подал Мушу знак. Убийца тотчас же вынул из сумки металлический цилиндр, напоминающий маленький огнетушитель. Он снял колпачок, открыл вентиль, потом поставил цилиндр у своих ног, и салон наполнился свистящим звуком.
— Что же это… — испуганно прошептала одна из пассажирок.
Прежде, чем ответить, Сальваторе покосился на Луи, устанавливающего в конце салона еще одно такое же устройство. Свистящий звук усилился.
— Ничего особенного, — пояснил сицилиец. — Просто мера предосторожности. Этот газ безвреден. Но мне нужно, чтобы вы несколько часов поспали. Я не хочу, чтобы после приземления вы путались у нас под ногами и раньше времени сообщили полиции наши приметы.
Один из переодетых полицейских, сидевший в конце салона, отстегнул ремень и попытался встать, не желая засыпать. Он выбрал неудачный момент, чтобы показать дурной пример. Берлинцу пришлось стукнуть его по затылку, без злобы, но и без снисхождения. Парень повалился в кресло, которое ему не следовало бы покидать. Старик сам пристегнул его ремнем и успокоил других.
— Больно вам не будет. Если бы мы хотели причинить вам вред, то уже давно сделали бы это. Так что доверьтесь нам и не опасайтесь за свои личные вещи.
Увидев, что Муш отвинчивает вентиль третьего балона, старик решил надеть противогаз и достал его из чемоданчика. В это время в салон вошла Тереза с младенцем на руках. Она на секунду сдвинула противогаз и сказала по-итальянски:
— Все идет хорошо. Стюардессы поднимают спинки кресел и пристегивают ремни. Но я подумала, что малыш…
— Других детей нет? — прервал ее старик, тоже на родном языке.
— Нет, кроме ребят от десяти до пятнадцати лет. Но с ними никаких проблем.
— Все уже спят?
— Да.
— Были такие, кто заартачился?
Тереза показала через плечо на мужа, наблюдавшего за ювелирами.
— Он о них позаботился.
— Хорошо, — решил старик. — Иди с малышом вперед и жди меня.
Он смотрел вслед дочери, пока она не скрылась за баром. Завернутый в розовое одеяло младенец мирно посапывал, не подозревая, что стал свидетелем ограбления века, о котором никогда не сможет рассказать. Сицилиец наконец надел противогаз. Его примеру последовал Муш, с угрожающим видом стоявший в проходе, держа автомат у пояса, в ожидании, пока газ подействует. Тем же был занят и Луи Берлинец. Пассажиры, будучи зажаты между ними, вынуждены были покориться. Впрочем, у них оставалось немного времени для колебаний. В одно мгновение они перенеслись в мир небесных грез и ангельских песнопений.
Отяжелевшие головы пассажиров склонялись одна за другой, а их подбородки скрывались в складках курток и платьев.
* * *
Вдали показались огни Нью-Йорка. Пассажиры «Боинга» спали в принудительном порядке. В синем свете ночников едва были видны расслабленные тела спящих, изредка раздавался храп. За исключением Луи и Серджо, ходивших вперед и назад по проходам салонов на случай, если кто-нибудь вздумает проснуться, вся группа собралась в кабине. У каждого из участников нападения к плащу или пальто был прикреплен номер.
Бортрадист передал на контрольно-диспетчерский пункт международного аэропорта, где внезапное изменение курса самолета вызвало беспокойство:
— Все в порядке. Небольшой инцидент, ничего серьезного. Посадка максимум через сорок пять минут.
Джек, внимательно следивший через стекла противогаза за действиями командира корабля, одобрительно кивнул Сальваторе, который стоял позади них. Рядом с ним был Альдо. В углу кабины, как счастливейшие из смертных, спали стюардессы и стюард, снявшие свои противогазы. Тереза, держа младенца на коленях, прижимала к его лицу маску, чтобы облегчить дыхание.
Командир корабля, тоже в противогазе, пытался возможно точнее вывести самолет к размеченному факелами отрезку шоссе. Да, грабителям нельзя было отказать в смелости. А какая организация! Правда, все газеты писали, что драгоценности потянут не меньше, чем на 80 миллионов долларов. Это могло пронять и гения, и болвана, и сорви-голову, и труса. Джеку он сказал по бортовой связи:
— Это будет довольно рискованно. Автотрасса не рассчитана на нагрузку в сто сорок тонн.
Любитель виски ответил ему с трезвой и решительной улыбкой:
— Мы с тобой сядем, как надо. Ты отвечаешь за пассажиров, я — за своих друзей. Конечно, в момент удара что-то может сломаться, но не думаю, что повреждения будут значительными. Вдвоем мы как-нибудь справимся.
Командир молча посмотрел на него. И все же перед самым приземлением не удержался:
— Что с тобой произошло? Мне кажется, ты хорошо знаешь свое дело.
Джек отвернулся и выключил все огни «Боинга». Его улыбка погасла вместе с ними.
— Не задавай вопросов. Внимание!
Их опытный взгляд уже различал незнакомый и, быть может, опасный участок бетонки. Самолет несся ему навстречу. Командир пробормотал:
— Можешь оставить при себе свою тайну. Но…
Он весь сосредоточился на управлении. Потом наконец закончил фразу:
— Я никому не сообщу твоих примет. Никогда…
Джек был поглощен трудным маневром и не сразу понял. Но когда летающая громадина побежала по длинной полосе, освещенной людьми Фрэнки Витторио, он ответил глухим голосом:
— Спасибо, старина.
Вцепившись в стойки, Альдо и Муш пытались коленями придержать тела бывших все еще без сознания стюардесс, бармена и второго пилота. Бетон выл под страшной тяжестью, из-под огромных колес сыпались искры. Малое колесо под кабиной пилотов начало дымиться; по счастью, оно охлаждалось потоком воздуха. Чудовищный корабль едва не клюнул носом, какое-то время его раскачивало, потом он едва не сошел с бетонной полосы, но пилоты мастерски выправили и укротили его. Лоб каждого из них покрылся холодным потом. Они боялись не за себя, а за беззащитных спящих людей, жизнь которых оказалась в их сильных руках. Четким движением командир переключил на реверс все четыре двигателя, и самолет, смиренный их чудовищной мощью, прежде чем остановиться с леденящим душу скрежетом, на секунду потерял управление. Как будто закрученный гигантской рукой, он развернулся на четверть оборота и застыл. Под тяжестью просел бетон, колеса глубоко ушли в него. Пот заливал лоб командира и струился по его щекам, как слезы. И он, и Джек, стиснув зубы, некоторое время приходили в себя. Командир первым снял маску и заговорил.
— Хорошая работа, старина, — лаконично одобрил он. Джек тоже освободился от противогаза и встал, не осмеливаясь протянуть руку:
— До свидания.
К ним уже подходил Муш, держа в руке пропитанный хлороформом тампон. Альдо в это время решительно прижимал такой же тампон к лицу только что содравшего с себя маску бортрадиста. Джек встал перед убийцей с криком:
— Нет! Только не его!
Муш хотел ударить его прикладом, однако Сальваторе схватил его за запястье. Джек Снова хотел вмешаться, и командиру пришлось самому сдерживать его:
— Оставь. Я все понимаю.
— Мне очень жаль, — проговорил Сальваторе и добавил, глядя на Джека. — Я тоже все понимаю. Но из соображений безопасности…
Из этого разговора Муш понял лишь одно: ему дали зеленый свет. Он мгновенно приложил тампон к лицу пилота и держал его, пока тот не рухнул в кресло. Тереза уложила младенца на сидение, заботливо его укрыла и отошла. В это время в кабине появились Луи и Серджо. На губе итальянца было заметно пятно помады. Альдо пытался открыть входную дверь.
Вокруг «Боинга» царила ночь. Все факелы были погашены. Слышался шум автомобильных двигателей. Казалось, некоторые машины стоят прямо под самолетом. Снизу подали раздвижную алюминиевую лестницу, и тьму кабины прорезал луч фонаря. Все по очереди спустились с самолета, держа в руках чемоданчики с драгоценностями и собственные вещи. Как только прибывшие оказывались на земле, незнакомая рука помогала им избавиться от бриллиантов, фонарь освещал номер, прикрепленный к одежде, и некто безымянный уводил назначенного ему пассажира к немедленно срывавшемуся с места быстроходному автомобилю.
Когда луч высветил единицу на отвороте пальто Сальваторе, почтительный голос произнес:
— Прошу сюда.
Через минуту за итальянцем с мягким, еле слышным стуком захлопнулась дверь «роллс-ройса».
— Ну что, Сальваторе? Как дела?
— Хорошо, — ответил старик. — А у тебя, Фрэнки?
В мягком свете, лившемся с потолка машины, он ясно видел улыбку главы американского клана. Лимузин увозил их от «Боинга», вокруг которого скоро стало пусто, как после холеры.
— Поздравляю, — сказал Фрэнки. — Вы хорошо поработали. Фрэнки Витторио был ровестником Сальваторе. Он был довольно полным, низкорослым, приветливым, скромным как в одежде, так и в манерах. Если Лакки Лучиано[16] при жизни называли Хозяином, Луи Бачелтера,[17] больше известного как Лепке, — Судьей Луи, Фрэнка Костелло[18] — премьер-министром, то Фрэнки Витторио был для своих Ученым. Самоучка, он выделялся среди окружающих умом, любил искусство, старинные книги в роскошных переплетах, хорошие картины, спокойную жизнь и уже давно ушел в тень. Но эта тень была поистине золотой, потому что он был дьявольски богат и владел акциями многих предприятий, разбросанных по всему миру и действовавших вполне законно: Сальваторе был одним из его ближайших друзей. В двадцатые годы, в благословенные времена «сухого закона», они нелегально перебрались в Соединенные Штаты. Их связывала общность происхождения, принадлежность к клану, наконец, просто дружба. Тридцать лет назад в результате кровавой междоусобицы Сальваторе вынужден был уехать из Америки, а Фрэнки остался и сумел обеспечить себе кусок хлеба с очень толстым слоем масла.
Ученый нажал на кнопку, и перед ним опустился столик, открыв встроенный бар и телевизор, над которыми, за толстым стеклом, виднелись головы шофера и телохранителя.
— Я знаю, у тебя всегда была слабость к «Казанове», — сказал он и достал бутылку шампанского с выгравированным на ней годом урожая. — Выпьем за наш успех и за наши воспоминания.
Пробка выстрелила, и в хрустальные фужеры полилась божественная жидкость.
— За здоровье Марии, — сказал Ученый.
— И за здоровье Флоренсии, — отозвался Сальваторе. — А в самом деле, как она? Что дети?
— Хорошо, — ответил главарь американского рэкета. — Хорошо. Конечно, жена немного скучает по старой родине, как и твоя Мария. Но дети нет. Они американцы. Американцы окончательно и бесповоротно. Как, впрочем, и я. Наконец-то получили гражданство.
Произнося последние слова, он невольно выпрямил спину.
— Я вижу, ты любишь Америку, — произнес Сальваторе.
— Да, люблю, — признал Ученый. — Это великая страна. Сильная и мужественная. Лучшая страна в мире.
Он предложил соседу гавану, длинную, как крик о помощи, но тот предпочел одну из своих черных, кривых сигар.
— Я люблю Америку, за то, что каждый может здесь найти место под солнцем, — продолжал Фрэнки. — Этому не мешают ни происхождение, ни предрассудки, ни недостаток образования. От тебя требуется одно: доказать на деле свои способности.
Он зажег сигару от длинной спички и задумчиво прибавил:
— Когда-то я начинал с контрабанды алкоголя, а потом продолжал в том же духе. И что бы я ни делал, я навсегда останусь для всех Фрэнки Витторио. Но это на мне и закончится. Детей это уже не касается. Мой старший стал известным адвокатом. Второй — директор фирмы. Младший, если верить его профессорам, будет неплохим хирургом. Обе девочки замужем, их мужья — из самых уважаемых здесь семей.
— Ты стал настоящим американцем, — признал Сальваторе, отпивая глоток шампанского.
— И еще каким! — согласился его друг, внезапно разразившись смехом. — Как знать, может, кто-нибудь из моих внуков станет президентом Соединенных Штатов!
Сальваторе тоже расхохотался.
— Почему бы и нет? — сказал он. — Во всяком случае, ты загадываешь далеко.
Его друг снял телефонную трубку, потому что на панели зажглась лампочка. — Да?
Он надолго замолчал, слушая невидимого собеседника, потом приказал:
— Пусть повешевеливаются. Постарайся уточнить цифру в течение получаса.
Фрэнки положил трубку и повернулся к другу.
— Это Цезарь. Помнишь его?
— Конечно. С удовольствием встретился бы с ним.
— Он и не подозревает, что это ты взял бриллианты. Сейчас он проводит их экспертизу в специально оборудованной машине, которая катит в Нью-Йорк.
— Я вижу, ты ничего не упустил. Что же он тебе сказал?
— На первый взгляд эксперты оценили все в пятьдесят миллионов долларов. Это просто колоссально!
— Думаю, они набавят, — проговорил Сальваторе.
— Я тоже так считаю, — поддержал его Ученый. — Не бойся, нас никто не обманет. Цезарь — один из тех редких людей, которым можно доверять полностью.
Он чокнулся с гостем.
— За успех крупнейшего предприятия нашего времени! Что ты собираешься делать с деньгами?
— Куплю побольше земли вокруг Таормины. Там, где мои родители гнули спину на других.
Он одним глотком допил шампанское и поставил фужер.
Фрэнки сделал то же самое и протянул соседу плоский сверток:
— Вот твой новый паспорт и билет на самолет. Вылет через час из Ньюарка. Все рассчитано по минутам, как мы договаривались.
В полдень ты будешь дома. Дай мне паспорт, с которым ты прилетел.
— А остальные? — спросил Сальваторе, отдавая документ.
— Тереза и Жанна вылетают из Нью-Йоркского международного. Луи летит из Титенборо через Монреаль. Альдо и Серджо — из Ла-Гуардиа. Завтра или, точнее, сегодня вечером вы все будете на месте. Муш едет в доки. Через четыре дня мы отправим его на нашем судне в Веракрус. Там я с ним расплачусь.
— А что твой пилот?
— Сегодня утром он отправляется в долгое кругосветное путешествие с девушкой, в которую влюблен и которая не может ни в чем отказать Цезарю. Простая предосторожность.
— Твоя идея немедленно отправить нас назад просто гениальна! — сказал Сальваторе. — Ни одному полицейскому не придет в голову, что, едва высадившись из «Боинга», мы сразу же покинем Штаты. Как только им сообщат наши приметы, они начнут охоту на нас здесь.
— Думаю, это было идеальное решение, — заметил Ученый. — Это был лучший выход: сразу же по прибытии разбежаться в разные стороны и вернуться во Францию по другим документам. Кстати…
Он не договорил, потому что снова зажглась лампочка.
— Да? — проговорил он в трубку. — Сколько? Вероятно, более шестидесяти миллионов? Что-то потрясающее! Лучшие драгоценности, какие они когда-либо видели? Что ж, ты молодец. Пусть они продолжают оценку, Цезарь. Встретимся у тебя.
Он отключился, затянулся сигарой и спросил:
— Ты слышал? Это просто невероятно. Прими мои поздравления. Теперь простимся. Ты извинишь меня за то, что я не провожаю тебя до самолета? Не стоит, чтобы нас видели вместе. Через пять минут ты пересядешь в другую машину. Она отвезет тебя в аэропорт.
Он засмеялся, сунул руку под сиденье и достал оттуда пакет.
— Отдай это малышке. Так, пустяк. Мишка, который сам ходит, поет и разговаривает. Очень забавный.
Он отдернул занавеску и, помолчав, сказал:
— Подъезжаем. Оставь здесь сумку и оружие. Тебе дадут другой саквояж, чтоб ты не шел с пустыми руками.
Скоро «роллс-ройс» мягко затормозил возле темного «ягуара», стоявшего с погашенными огнями. Старые сицилийцы обнялись.
— Чао, Сальваторе.
— Чао, Фрэнки.
Сальваторе с пакетом под мышкой поднял руку, в последний раз приветствуя друга, и вышел из тотчас же тронувшейся машины. Через две секунды «ягуар» уже мчался в аэропорт.
XVII
Рано утром напротив бакалейного магазина остановился десятитонный фургон. На его желтом кузове с обеих сторон виднелись черные надписи: «Булье. Перевозка мебели». Барани и Мерлю, одетые в синие комбинезоны грузчиков, сняли колесо, видное из магазина, и поставили фургон на домкрат, что объясняло его присутствие здесь и должно было успокоить дорожную полицию. Сидевшие внутри Ле Гофф, Рондье и Сериски не сводили глаз с магазина. Они терпеливо ждали, наблюдая за жизнью улицы. Сюда их привела наводка. В сущности, ерунда, но Ле Гофф на нее рассчитывал. Такие пустяки иной раз очень помогают полиции. Жена одного инспектора полиции сказала мужу, что у владельца магазина, где она покупает итальянскую ветчину и маслины, есть фокстерьер по кличке Салями. С начала расследования в Париже удалось найти только одну собаку с такой кличкой. Но его хозяйкой была несомненно честная русская вдова. Сыщики уже бросили было это направление поисков, переключившись на другие, когда возник новый след. Он как будто заслуживал внимания. В фургоне, на столе, освещенном бледным светом лампы, лежало досье Сальваторе Маналезе, полученное от Интерпола. Он уже имел дело с полицией. И то, что это было сорок лет назад, и не во Франции, а в Штатах, ничего не меняло. Пусть сицилиец и казался здесь достойным, респектабельным человеком, но там он засветился, по крайнем мере, один раз. И оказался причастен не к пустякам, а к убийству. Кроме того, он присутствовал на встрече главарей гангстерских кланов в Апалачине. И хотя все они утверждали потом, что просто были приглашены на огромное барбекю,[19] агенты ФБР, конечно, не поверили. Но так как им нечего было предъявить ни Маналезе, ни другим сицилийцам, то…
Все это вдохновляло Ле Гоффа. Оттого-то комиссар и вздрагивал от нетерпения, сидя в фургоне. Через невидимые снаружи отверстия на магазин Маналезе были наведены фотоаппараты, телеобъектив и бинокль. Ле Гофф в бинокль наблюдал за Марией, которая, стоя на пороге, залитом солнцем, распекала молодую служанку. Время от времени их закрывали машины или прохожие. Прихрамывающий нищий с окурком во рту остановился возле Марии и приподнял заскорузлую от грязи кепку. Должно быть, они были знакомы, потому что старуха улыбнулась. Она пошарила в кармане своего черного фартука и достала монету, тут же исчезнувшую в руках нищего. Тот поклонился ей, как Сирано,[20] и поковылял за стаканчиком красненького. Он отошел уже шагов на двадцать, когда позади стоявшего у магазина «бьюика» затормозила «симка». Из нее, зевая, вышел Серджо. Молодой итальянец, должно быть, провел веселую ночь! Он потягивался, подходя к матери, которая, вместо приветствия, встретила его бранью. По движениям ее рта было ясно видно, в каком она гневе. Она явно не желала мириться с тем, что он не ночевал дома, что он такой же, как и большинство юнцов. Она втолкнула сына в дом, но тот успел по пути шлепнуть стоявшую перед крыльцом девицу по заду.
— Самый младший Маналезе, — прокомментировал Ле Гофф, заглянув в свои заметки. — Без определенных занятий. Живет с родителями.
— А вот и отец, — объявил Рондье, сидевший перед телеобъективом.
Ле Гофф быстро взялся за бинокль, а Сериски за фотоаппарат, чтобы снять старика, который в спортивном костюме вышел из дома. За ним шла Тереза с Сесилией, державшей своего мишку. За девочкой бежал Салями. Процессию замыкали две продавщицы, нагруженные провизией, которую они сложили в «бьюик».
— Похоже, они едут на дачу! — заметил Рондье.
Пока Сериски снимал кадр за кадром, Ле Гофф взялся за трубку радиотелефона.
— Красный вызывает Белого. Красный вызывает Белого. Белый, вы меня слышите?
Раздалось потрескивание, потом послышался голос Тупира:
— Белый слушает.
— Сейчас в вашем направлении пойдет «бьюик» 4777 РЖ 75. Не упустите его. Подтвердите прием. Конец.
— Вас понял, Красный, — ответил помощник комиссара.
Не опуская бинокля, Ле Гофф соединился с другой машиной.
— Красный вызывает Синего. Красный вызывает Синего. Свяжитесь с Белым и следуйте за «бьюиком» 4777 РЖ 75. Подтвердите прием. Конец.
— Вас понял, Красный, — ответил хриплый голос.
Ле Гофф положил трубку. В конце улицы Ордене был виден удалявшийся «бьюик» с Терезой и Сесилией, за рулем которого был Сальваторе.
— Больше всего нам нужно фото зятя, — заявил Ле Гофф, закурив сигарету и закашлявшись. — Только к нему подходят приметы фальшивого жандарма.
— Будем надеяться, что он все же появится, — вздохнул Сериски. — Мне это уже начинает надоедать. Мы торчим здесь уже четыре часа.
— Может быть, до вечера просидим, — отозвался Ле Гофф. — А если не добудем того, что нам надо, то и до завтра.
Он посмотрел на Рондье, открывшего термос с кофе, взял у него кружку, отпил глоток, крякнул от удовольствия и протянул кружку Сериски. Тот выпил и щелкнул языком.
— Неплохо! Еще бы рогалик или два…
— Почему бы еще не масло и джем? — усмехнулся Рондье, наливая и себе, — Вообще лучше было бы дома с женой и ребятами… Кстати, патрон, как ваш новорожденный?
Ле Гофф, взявшийся было за бинокль, с улыбкой обернулся.
— Отлично. Просто гигант. Я никогда не думал, что молоко так полезно. Мы, бретонцы, больше налегаем на красное вино. Но надо полагать, у молока есть свои достоинства. Этот негодник уже прибавил полкило с тех пор, как родился. Интересно, на чем он остановится?!
Он покачал головой и вернулся к своему наблюдательному пункту.
— Внимание! Невестка!
Из магазина вышла Жанна. Она была с джинсах, с волосами, собранными в «конский хвост». Набрав газет в ближайшем киоске, жена Альдо вернулась назад. Ле Гофф заметил Барани, сидевшего в бистро и не сводившего с нее глаз. Комиссар повернулся к Сериски, который успел сделать несколько снимков.
— Фотографии надо срочно напечатать и показать их той чете, которая видела блондинку неподалеку от места побега Муша.
Тот кивнул и направился в темный отсек фургона. Через десять минут Ле Гофф снова взялся за трубку.
— Красный вызывает Зеленого. Красный вызывает Зеленого. Пришлите Мерлю. Подтвердите прием. Конец.
— Понял вас, Красный, — ответили ему.
Недолгое ожидание Ле Гофф использовал для своих заметок. Потом Мерлю в синем комбинезоне обошел вокруг фургона, наклонился над домкратом, что-то сказал стоявшему вблизи полицейскому, заинтересовавшемуся поломкой, и постучал в кабину. Ле Гофф тотчас же просунул ему конверт с негативами и объяснил:
— Инструкции внутри. Это срочно. Я буду здесь.
— Ясно, патрон, — шепнул Мерлю, кладя в карман большой конверт.
Он отошел от кабины и исчез в толпе. Через два часа он сообщил ответ. Свидетели побега не сказали ничего определенного. Прошло слишком много времени. Кроме того, тогда они не обратили на нее особенного внимания. К тому же та девушка была тогда в белых кожаных сапогах и куртке. Могла быть и она, и другая. Короче говоря, расследование не продвинулось.
В момент, когда Ле Гофф кончал свои записи, Рондье воскликнул:
— Внимание! Невестка с мужем!
Комиссар припал к биноклю. Жанна и Альдо вышли из магазина и направились к находившемуся рядом гаражу. Телеобъектив, бинокль и фотоаппарат нацелились на его ворота. Вскоре супруги выехали в черной «ДС» с прицепом. Ле Гофф быстро записал ее номер и, связавшись в Желтым и Зеленым, поручил следить за ней. И снова началось монотонное, изнуряющее ожидание. Час шел за часом. Изнемогая от усталости, сыщики сменяли друг друга у телеобъектива. Между тем сообщили, что «бьюик» Сальваторе Маналезе въехал в его имение в Пуаньи-ля-Форе, и туда же подъехала машина его сына. Все это ничего не давало комиссару. Ему нужна была фотография зятя, чтобы показать ее рыжему жандарму и владелице костюмерной лавки. Но нужный ему человек не появлялся. На то были причины: он еще не вернулся из-за океана. В Монреале, откуда он должен был лететь в Орли, его самолет попал в серьезную аварию; было повреждено маленькое центральное колесо. Поэтому Луи немного опоздал. Он, конечно, дал телеграмму домой, успокоил родных и предупредил, что будет к концу дня. Но Ле Гофф всего этого не знал.
* * *
Альдо проверил колеса прицепа и залез под капот, готовясь к дороге. На следующий день он вместе с Жанной должен был отправиться отдыхать на Сицилию. Было у него там и дело: ему предстояло прозондировать почву для покупки обширных земельных владений там, где поколения Маналезе когда-то гнули спину на помещиков. Альдо издалека услышал треск машины Серджо. Младший брат пронесся мимо него, чуть не задев крылом, круто развернулся и остановился в тени перед крыльцом. Серджо выпрыгнул из машины и ворвался в гостиную. Царившие в ней спокойствие и прохлада сразу вытеснили из его головы воспоминание об опасной операции в «Боинге». Это был другой мир. Альдо, вытирая руки, поднялся по лестнице вслед за братом.
Тереза, ставившая на стол рядом с отцом рюмку анисового ликера, подскочила при вторжении Серджо.
— Тише! — сказала она, обернувшись. — Салями, место!
Однако фокстерьер бросился навстречу младшему Маналезе, и тот, поймав его на лету, прижал к себе. Сальваторе, сидевший перед телевизором, не пошевельнулся. Расположившаяся рядом с ним Жанна обернулась и улыбнулась Серджо. Тот спустил песика на пол. Салями залаял, и движение плеч отца показало, что он недоволен. Глава семьи не любил, чтобы ему мешали, когда он смотрит телевизор. Особенно если показывали вестерн, как на этот раз. Он любил перестрелки, горы трупов, победоносных шерифов. Он находил справедливым, что преступников в конце концов разрезали на куски, линчевали, сжигали или как-нибудь иначе отправляли в ад. Он любил счастливые финалы, когда герою достается поцелуй, а бандиту — пеньковый галстук.
Тереза подошла к младшему брату, чтобы немного унять его, и вопросительно поглядела на него. Тот подмигнул и вздохнул, следя за спиной отца:
— Я решил переночевать здесь. В Париже слишком жарко.
— Ты хочешь сказать, что собираешься переспать с официанткой из «Четырех лип»!
Серджо ущипнул ее руку, пропустил Альдо, вошедшего с отверткой в руках, и спросил:
— Чего бы поесть? Я голоден.
Отцовские плечи в кресле медленно, угрожающе поднялись. Тереза набросилась на брата:
— Тише… Не говори еще о еде. Сейчас только шесть часов.
Серджо погладил Салями. Довольный песик уселся у ног старика, губы которого уже кривились, предвещая окрик. Сесилия, оккупировавшая колени дела, положив под голову медведя, присланного Фрэнки Витторио, тихонько забормотала. Она уже спала, но внезапный приход дяди ее разбудил. Она подняла веки и забормотала сильнее. Сальваторе ласково погладил внучку по голове.
— Спи, моя крошка, — сказал он. — Спи.
Но девочка высунула носик из-под куртки, где свила себе гнездышко, и уставилась в телевизор. И тут же закричала:
— О! Совсем как тетя Жанну и мсье Муш на кровати в сарае!
Кровь бросилась в лицо старика. Нахмурившись, он внимательно посмотрел на то, что вызвало восклицание девочки. Другие последовали его примеру. Жанна побледнела как полотно. На экране пара любовников только что забралась в койку, и герой, не сняв сапог и патронташа, целовал свою красотку. Смуглые лица всех Маналезе побледнели. Ошеломленная Тереза набросилась на дочь:
— Что ты плетешь, дурочка?
Но девочка, обиженная тем, что ее заподозрили во лжи, упорно показывала пальцем на экран:
— Да, тетя Жанну делала вот так! Когда мсье Муш искал ее кольцо!
Тереза попыталась взять девочку у деда.
— Я тебя отшлепаю, чтоб ты не врала!
Но отец отстранил ее, а еще более обиженная Сесилия продолжала настаивать тоном, не оставлявшим сомнений:
— Да, да, они были в сарае и искали кольцо!
Старик поднял ее на вытянутых руках и нежно, успокаивающе сказал, как если бы все это не имело значения:
— Тетя Жанну и мсье были в сарае? Искали кольцо на кровати? Так это было, моя маленькая?
Малышка обняла шею деда и прошептала:
— Тетя даже обещала мне новое платье, если я ничего не скажу. Она боялась, что ее станут ругать из-за кольца…
Сицилийцы окаменели. Во внезапно наступившей тишине раздался короткий звук, похожий на выстрел. Это Альдо резким движением сломал ручку отвертки. Жанна, теряя самообладание, отскочила и попыталась защититься:
— Она просто сошла с ума! Что она выдумывает?!
Она остановилась. Все глаза были устремлены на нее, и она вся похолодела от того, что прочла в них. Особенно в глазах старика. Они источали жестокость сильнее, чем глаза Альдо.
— Но вы же не можете верить ребенку!
Старик отдал девочку матери и кивком головы указал ей на дверь. Он подождал, пока они выйдут, и властной рукой отстранил Альдо, надвигавшегося на жену с обломком отвертки в кулаке. Тот так привык к повиновению, что замер, дрожа и согнувшись, как будто готовый к прыжку.
— Серджо, вызови Нью-Йорк. Фрэнки Витторио, ЮН 37–894, — коротко приказал старик.
И пока юноша выполнял приказ отца, тот сказал, обращаясь ко всем:
— Мерзавец! Он посмел!.. Под моим кровом!.. И она… жена Маналезе…
Жанна сделала шаг к главе клана, но на нее даже не взглянули. Сальваторе смотрел на экран. Вестерн заканчивался наградой герою, как того требовала любимая традиция.
— Негодяи! — пробормотал он сквозь зубы. — Здесь, в моем доме!..
Сомнений у него не было. Сесилия не могла это выдумать. Он слишком хорошо ее знал. К тому же она только что проснулась, и это была спонтанная реакция на увиденное в фильме. Подонки! Альдо, по-прежнему дрожавший от с трудом сдерживаемого гнева, решился спросить:
— Что ты собираешься делать?
Старик не ответил. Он твердой рукой зажег одну из своих уродливых сигар и приказал Серджо, уже заказавшему разговор с Нью-Йорком:
— Позвони домой. Пока ничего не говори матери. Когда вернется Луи, пусть она велит ему ехать сюда и сама едет с ним. Это дело надо уладить в семье. Тереза с дочкой завтра вернется в Париж, девочке не следует здесь быть.
Все молча ждали. Даже Тереза, возвратившаяся из парка, откуда доносились радостные крики Сесилии и бешеный лай Салями. И все, кроме старика, совершенно не замечавшего Жанну, бросали на нее испепеляющие взгляды. Несмотря на свою склонность к риску и болезненное пристрастие к опасности, жена Альдо была охвачена страхом. Она понимала, что все они заодно, что никто, даже Тереза, не станет на ее сторону. Старику достаточно пошевелить пальцем, и за ее жизнь нельзя будет дать и гроша. Она, француженка, осмелилась обмануть Маналезе! Их охватила такая ненависть, такая жажда мщения, что даже воздух в комнате, казалось, наполнился бушующей в них вендеттой. У Жанны подкосились ноги, и она упала в кресло. У нее не было сил разубеждать их. Их жестокие глаза, в которых она читала свое будущее, бросали ее то в жар, то в холод… Даже Серджо, всегда такой добрый, которого она считала просто гулякой, думающим только о девочках… Даже он… Она сжалась в комочек, чтобы согреться. Если бы можно было хоть заорать, чтобы унять свой страх! Но это было бы еще хуже. Ведь эти люди, с их цивилизованными манерами, в сущности, оставались дикарями… Может быть, если она будет все отрицать до конца, старик ей поверит? Ведь слова девочки еще не доказательство. Если она не признается, у нее еще будет шанс выпутаться из этой истории. Но что задумал старый дьявол? Она поняла это, как только их соединили с Нью-Йорком, потому что знала их сицилийский жаргон. Попросив дворецкого позвать к телефону Фрэнки Витторио, Серджо передал трубку отцу, который сразу приступил к делу:
— Фрэнки, я насчет посылки. Кое-что изменилось. Не отправляй ее в Веракрус. Она срочно нужна мне здесь. Меня обманули. Подло обманули.
Он внимательно слушал, потом прервал:
— Нет, сам ничего не делай. Пришли ее мне. Это дело чести. Как? Завтра? Да, это возможно. Ты говоришь, что самолет «Эр Франс» прилетает в Орли в 5 часов? О'кей, Фрэнки.
Сигара дымилась в губах Сальваторе.
— Да, дело чести. Я рассчитываю на тебя, Фрэнки. Заранее благодарю. Чао!
Старик отдал трубку Серджо и медленно встал. Не удостоив невестку взглядом, он объяснил:
— Завтра Муш будет здесь.
— Ты думаешь, он рискнет вернуться? — вмешался Альдо.
Отец повернулся к нему.
— При прилете полицейские обращают мало внимания на паспорта. Опасаться следует только таможенников. А у Муша ничего не будет, только саквояж…
Он затянулся сигарой и выпустил желтоватый дым.
— Не забывай, что полицейские думают, будто он скрывается все это время где-то во Франции. Им и в голову не придет, что он успел уже улететь, а теперь возвращается по доброй воле.
Старик усмехнулся, отмахиваясь от Дыма.
— Впрочем, не совсем по доброй воле…
Он обвел детей взглядом серых глаз.
— Здесь он заговорит. И расскажет нам, что он делал с твоей женой в сарае, Альдо.
Все снова угрожающе посмотрели на Жанну. Та встала, прижав руки к горлу. Она знала, что ждет ее и Муша. Их заставят все выложить. Любыми средствами. Если бы только Муш не приехал, если бы ему удалось бежать…
Она попыталась привлечь внимание Сальваторе, игнорировавшего ее еще более, чем раньше:
— Я вас уверяю…
— Альдо, — прервал старик, поворачиваясь к ней спиной. — Пусть она уйдет в свою комнату.
Альдо сделал шаг вперед. В его руке был все еще зажат обломок отвертки, опасный, как кинжал.
— Ты слышала? — сказал
он жене сдавленным от ярости голосом.
— Но, Альдо… — пролепетала Жанна.
Старик резко обернулся. Его рука с силой рассекла воздух. Пощечины сбили Жанну с ног, и, падая, она увлекла за собой стол и стаканы. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Потом она медленно поднялась. Никто не помог ей. Все бесстрастно смотрели на нее, а старик вышел в парк, где Сесилия встретила его криком:
— Иди сюда, деда! Салями нашел бельчонка!
И глава семейства послушно пошел за девочкой в порванном платье, с пылающими щеками и растрепанными волосами. Салями бежал за ними.
* * *
Внутри фургона для перевозки мебели все пропахло пивом, табачным дымом и сухарями. Асы сыскной службы, томившиеся, там с раннего утра, изнемогли от ожидания. Не говоря уже о солнце, накалившем крышу и сделавшем невыносимым пребывание в этой замаскированной лаборатории. Ле Гофф, Сериски и Рондье сбросили куртки, рубашки, ботинки и сидели, как в бане, поминутно утирая пот.
— А ведь моя жена воображает, что я развлекаюсь, — вздохнул Сериски.
— Ты же новобрачный, и она ревнует! — поддразнил его Рондье, чья очередь пришла стоять у телеобъектива. — Потом она будет молить Бога, чтоб ты подольше не возвращался.
Он засмеялся, и его веселье, казалось, освежило воздух в фургоне.
— Так всегда говорил Лармено, — сказал он, вдруг помрачнев.
Сыщики стыдливо избегали упоминаний о своем товарище, погибшем от руки Муша. Прошел уже целый год… А мерзкий убийца сбежал, когда его уже ждал палач…
— Внимание! — вдруг сказал Рондье. — Сериски, давай! Думаю, что это наша дичь!
Ле Гофф приник к биноклю. В двух шагах от них из машины выходил Луи Берлинец. Он подъехал с противоположной стороны И поэтому остановился не у магазина, а напротив. Он был без шляпы и очков. Сериски нажал на кнопку фотоаппарата. Пока блондин шел к магазину, его беспрерывно снимали. Он был как на ладони, и снимки должны были получиться удачными.
— Думаете, это наш парень? — тихо спросил Сериски у Ле Гоффа.
Тот кивнул, не отрываясь от бинокля.
— По описанию подходит. Как снимки?
— Должны быть хорошие, — заверил Сериски.
Все трое с надеждой смотрели, как блондин переходит улицу, и легко вздохнули, когда он вошел в магазин. Ле Гофф сразу снял трубку радиотелефона:
— Красный вызывает Зеленого. Красный вызывает Зеленого. Срочно пришлите Мерлю и Барани поставить на место колесо. Подтвердите прием. Конец связи.
Ле Гофф положил трубку и одобрительно кивнул, увидев, что Сериски пошел проявлять пленку. Прошло пять минут, и одетые в рабочие комбинезоны полицейские принялись крепить колесо. Еще немного спустя Барани и его товарищ устроились в кабине и завели мотор, а их коллеги внутри одевались, готовые снова приступить к допросу свидетелей.
XVIII
В кабинетах бригады Ле Гоффа чувствовалось приближение решающей битвы. Было два часа ночи, но все были здесь, кроме групп, наблюдавших за магазином и за имением в Пуаньи. Ле Гофф и его ребята сработали быстро. Теперь они были на верном пути. Несмотря на поздний час, они разыскали не только рыжего жандарма, но и владелицу костюмерной, еще не ушедшую из своей лавки. И оба опознали блондина. Именно он брал напрокат мундир и сидел рядом с Мушем в коридоре Дворца правосудия. Жандарм по фотографии узнал Серджо, изображавшего тогда арестованного. Все сошлось. Остальное было уже делом техники. Опасным, но все же рутинным. Теперь нужно было только аккуратно и терпеливо следить за семейством Маналезе, и убийца, все откладывавшийся арест которого начинал волновать общество, будет пойман. Ле Гофф уже не чувствовал усталости. На этот раз бандит, который прикончил Лармено, Врийяра и ограбил дюжины банков и почтовых отделений, не ускользнет! Если только… Ле Гофф потянулся за сигаретой. Если только негодяй не успел удрать на другой край света…
Каждые полчаса ему докладывали по рации или телефону об обстановке. Но в окнах и магазина, и виллы было темно. Все казалось спокойным. Луи Берлинец поужинал в магазине, сел в машину и отправился в Пуаньи. Ле Гофф чиркнул спичкой, когда в дверь заглянул Рондье.
— Патрон, вас к телефону. Говорят, что-то очень важное!
— Еще один звонок, — вздохнул Сериски, сравнивавший свои снимки с фотороботом Берлинца, сделанным раньше.
Рондье пожал плечами.
— Как знать!
Оба замолчали, потому что Ле Гофф, прижимавший трубку к уху, казалось, был ошеломлен услышанным.
— Что?! — говорил он. — Что за басни? Сарте, он же Муш, прилетает завтра из Нью-Йорка в Орли? В пять часов дня?
Он изумленно посмотрел на своих подчиненных.
— Вы клянетесь?! Говорите, что нам остается только схватить его? Он будет переодет? Это что — ваше предположение?
Ле Гофф явно не доверял услышанному. Он раздавил окурок в пепельнице и еще более скептически повторил:
— Значит, завтра, в Орли? Из Нью-Йорка? Как ваше имя, мадам? Алло! Алло!
В трубке раздался резкий щелчок. На том конце провода отключились. Комиссар бросил на своих сотрудников недоверчивый взгляд.
— Женщина. Утверждает, что Муш завтра прилетит в Орли из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка…
Он медленно выпрямился, и из его светлых глаз начало исчезать сомнение.
— Дурацкая шутка, — предположил Сериски.
— Еще одна, — ухмыльнулся Рондье. — Муш в Нью-Йорке. И возвращается… чтобы просто поздороваться с нами!
Он захохотал. Его веселье передалось Сериски.
— Кто-то славно развлекается… Муш смылся в Штаты и возвращается, чтобы его здесь пристукнули! Ничего не скажешь, первоклассная новость!
Но Ле Гофф не слушал их. Он поднялся, подошел к столу, заваленному газетами, которые редакции, по обычаю, доставляли полиции, развернул одну и нашел нужный заголовок.
— А если это был он?
Полицейские склонились над листом, где огромными буквами было напечатано: «Ограбление века в «Боинге» Париж — Нью-Йорк. Похищено около 40 миллиардов старых франков».
В комнате, полной дыма, воцарилось долгое молчание, прерываемое только звуками телефонных переговоров в соседних кабинетах. Сериски поднял голову.
— Вы думаете, патрон, что это…
— Я ничего не думаю, — отрезал Ле Гофф. — Но мы знаем, что это один из немногих типов, у кого хватит духа на такое. Ваше мнение, Рондье?
И, не ожидая ответа, продолжил:
— Я не знаю, что заставило эту женщину позвонить мне, но начинаю спрашивать себя… Попробуйте узнать, откуда звонили! Рондье бросился к телефону.
* * *
Сдерживая дыхание, жена Альдо тихонько поднималась по ступенькам. Жребий был брошен. Она позвонила в полицию. Это было не трудно: телефон после побега Муша был напечатан во всех газетах. Это был ее последний шанс. Когда Муша схватят, он не будет знать, откуда пришел удар. Меньше всего он заподозрит кого-нибудь из семьи Маналезе. Он подумает о несчастливой случайности, о каком-то сыщике, более ловком, чем другие, и узнавшем его! Ему в голову не придет, что это сделала Жанна для своего спасения. Если Муша схватят, сицилийцы никогда не смогут заставить ее признаться в измене. Они будут ее подозревать, но не смогут ничего доказать. А ей нужно только выиграть время. Если же Муш приедет сюда, они от него всего добьются, вынудят его расколоться. А потом они их прикончат. Это им так же просто, как воткнуть дольку чеснока в баранью ногу.
Главное — избежать очной ставки. Потом найдется выход. Когда они немного успокоятся, она удерет и прихватит с собой часть денег. Если удастся, конечно…
Жанна поднялась на последнюю ступеньку и погладила щеку, по которой ударил старик. Когда-нибудь она отомстит! Придерживая свой шелковый халат, чтобы он не шуршал, она, как призрак, проскользнула в комнату, где ее запер Альдо. Сам он ночевал где-то в другом месте. Не могло быть и речи, чтобы спать с зачумленной. Она ловко заперлась при помощи длинной шпильки. Умники! Они воображали, что она не сможет открыть дверь! Чувство блаженства овладело ею, едва она скользнула под простыню. В конце концов, неплохо поспать одной. Ведь это временно! Мужчины всегда найдутся. А может быть, и Альдо… Если ей удастся оправдаться. Мужчины — такие дураки! Но прежде всего нужно, чтобы Муш не вернулся.
Она положила голову на подушку и улыбнулась, укрывая голые плечи, которые Альдо так любил покусывать во время любовных игр.
XIX
Штаб-квартира Ле Гоффа располагалась в кабинете его коллеги из аэропорта. Отсюда он мог связаться по радиотелефону со всеми своими машинами. Большая их часть при поддержке жандармов скрытно окружила виллу Маналезе в Пуаньи. Другие, рассредоточенные по стоянкам в Орли, ждали начала операции. Капканы были расставлены. Оставалось ждать дичь.
Ле Гофф и его сотрудники не спали всю ночь, портреты всех Маналезе были отправлены фототелеграфом в нью-йоркскую полицию, которая вела следствие об ограблении в самолете. Та подтвердила получение и разыскивала теперь свидетелей из «Боинга». Сидя за письменным столом, Ле Гофф листал газетные сообщения об ограблении, когда Сериски подал ему бланк.
— Телеграмма, патрон!
Ле Гофф жадно прочел:
«Под описание Роже Сарте подходят несколько пассажиров. Один летит в первом классе под именем американского гражданина Эрика Веллюма. Одет в светлый твидовый костюм. Демисезонное пальто, тирольская шляпа. У него квадратная борода и дымчатые очки. Его, вероятно, сопровождают два человека. Их имена по списку пассажиров — Луиджи Бриако и Том Марлинг. Еще двое, отвечающих приметам Сарте, летят в туристическом классе. Мы связались с командиром борта для получения более подробных данных. Сообщим дополнительно».
Ле Гофф бросил телеграмму на стол и взглянул на часы. 16.45. Значит, еще четверть часа.
— Кофе, патрон? — предложил Рондье, протягивая чашку.
Ле Гофф подул на обжигающую черную жидкость и отпил глоток. Сериски, сняв трубку зазвонившего телефона, чуть не выронил ее из рук.
— Что там еще? — встревожился комиссар.
Жестом руки инспектор попросил его подождать. Он был изумлен, но в восторге:
— Знаете, в чем дело? Барани сообщает, что здесь Серджо, младший сын Маналезе.
Пальцы Ле Гоффа крепко сжали чашку.
— На какой машине он приехал? — спросил он у Сериски.
— На отцовском «бьюике».
Глаза комиссара блеснули. В этот момент зазвонил второй телефон.
— Алло! — нетерпеливо откликнулся Рондье.
Он долго слушал, потом положил трубку и пояснил:
— Это комиссар из Пуаньи. Тереза Бардан с дочерью полчаса назад покинула виллу. Она едет к Парижу. За машиной следят.
Ле Гофф кивнул и допил кофе. Когда он ставил чашку, Сериски протянул ему еще одну телеграмму из Нью-Йорка: «Луиджи Бриако и Том Марлинг значатся в нашей картотеке. Подозреваются в принадлежности к банде Чезаре Каталани, который, в свою очередь, подчинен Фрэнки Витторио. Пассажиры туристического класса, отвечающие приметам Роже Сарте, — Ганс Балауэр, германский гражданин, и француз Рауль Бутен. Следствие ведется активно. Будем поддерживать связь с вами».
Ле Гофф вздохнул. Если Муш действительно летит в этом самолете, а жертвы ограбления опознают членов семьи Маналезе, это будет лучшая операция за всю его карьеру! Из тех, что превращают полицейского чиновника с жалкой зарплатой в героя дня! Но Ле Гофф стремился не к славе. Ему нужен был Сарте, убивший двух его товарищей. Он потратил целый год на поиски и поимку убийцы. Это стало его личным делом… Он взял трубку, чтобы поговорить с Барани.
— Красный вызывает Желтого. Сообщите Черному, Синему и Зеленому номер «бьюика» Сальваторе Маналезе. Не спускайте с него глаз. Подтвердите прием. Конец.
— Понял вас, Красный, — заверил певучий голос Барани.
Стрелки часов показывали 16.50. Ле Гофф встал, надел шляпу.
— Господа!
Все трое вышли из кабинета. Рондье и Сериски направились в разные стороны, время от времени обмениваясь знаками с другими членами группы. Ле Гофф прошел в холл второго этажа. Ровно в 17 часов «Боинг» компании «Эр Франс» остановился на полосе, и два автобуса начали перевозить прибывших в аэропорт для обычных формальностей. Затерявшись в толпе, Ле Гофф внимательно рассматривал проходящих пассажиров. Вдруг он почувствовал, как у него перехватило дыхание. Все могли обмануться, только не он. Комиссар сразу узнал Муша. Он мысленно снял с него тирольскую шляпу и темные очки, сбрил бороду. Значит, телефонный сигнал был верным: Муш был здесь, он действительно прилетел из Нью-Йорка. Значит, он принимал участие в дерзком ограблении! Но зачем же он вернулся, да еще в сопровождении вооруженных людей? Он быстро распознал двух типов, которые следовали за убийцей.
Пройдя таможню, Муш беззаботным шагом двинулся вперед и столкнулся с Серджо. Тот указал ему на «бьюик», стоящий у кромки тротуара, и прошептал:
— Сюда, мсье Сарте.
Муш узнал его и не пытался скрыться. Да он бы и не смог. Он знал, что за его спиной двое громил. Они были при нем с самого отлета из Штатов. И в карманах у них были отнюдь не леденцы.
— Хорошо, — сухо сказал он. — Как видно, твой отец хочет меня видеть.
— Кажется, так, — коротко бросил Серджо, открывая перед ним заднюю дверь.
Муш влез в машину. Но в момент, когда его ангелы-хранители хотели последовать его примеру, их окружили четыре носильщика.
— Вам не в эту машину, — сказал один из них по-английски. — Вот сюда.
Те не успели даже понять, что произошло. Четыре невидимых револьвера были приставлены к их спинам и животам. Муш рванулся, но было поздно. Ле Гофф и Сериски уже сидели рядом с ним. Рондье, подтолкнув Серджо вперед, занял его место за рулем, а Барани залез через другую дверь и уселся справа от сицилийца.
— В Пуаньи, — приказал комиссар.
За ними следовала красная «ДС» Ле Гоффа и еще две полицейские машины. На этот раз убийца не мог убежать. Тем более, что Сериски надел ему наручники.
— Рад вас видеть снова, мсье Сарте, — сказал Ле Гофф. — Примите мои поздравления. Вы хорошо поработали. Как ваше мнение, Сериски?
— Замечательно, патрон, — ответил полицейский обследуя саквояж убийцы. — Жаль, что ему не удастся воспользоваться добычей!
— Я не знаю, что вы имеете в виду, — рявкнул убийца, с которого Сериски снял тирольскую шляпу и очки.
— Таким он мне больше нравится, — заметил, обернувшись, Барани. — По крайней мере, его можно узнать. А когда цирюльник сбреет его бородку и усы, это снова будет наш красавчик Муш. Правда, патрон?
Он обыскал Серджо и вытащил пистолет с длинным дулом. Потом и ему надел наручники. Рондье, только что обогнавший автобус и следивший за дорогой, добавил:
— Я уже почти потерял надежду вновь свидеться с тобой, Муш. Боялся, что не удастся отомстить за наших друзей, которых ты убил. Даже спать не мог.
Он обогнал еще одну машину и процедил сквозь зубы, глядя в зеркало заднего вида:
— Дерьмо!
Муш молчал. Он упорно пытался понять, кто его выдал. Ясно, что Ле Гофф и его ребята приехали специально за ним. Не их дело следить за прибытием самолетов! Но кто же мог предупредить полицию! Кто, кроме Маналезе, знал, что он прилетит в Орли? Убийца покосился на Ле Гоффа и спросил:
— Могу я закурить?
Он заранее знал ответ. Так уже было во время их первой встречи.
— Нет, — бесстрастно ответил Ле Гофф и тут же спросил: — Где бриллианты из «Боинга»?
Убийца пожал плечами:
— Не знаю о чем вы говорите.
— Конечно, не знаешь, — откликнулся Сериски. — Ты никогда ничего не знаешь. А ты, впереди, тоже понятия не имеешь?
Серджо обернулся с удивленным видом.
— Что вы сказали?
— Ничего, — проворчал Ле Гофф. — Есть свидетели, они все расскажут.
И приказал Рондье:
— Остановитесь на секунду, я перейду в свою машину. Вскоре колонна свернула к Пуаньи, и Ле Гофф снял трубку радиотелефона.
— Говорит Красный. Внимание всем машинам. Приближаемся к объекту. Приготовьтесь действовать по плану.
Спустя полчаса «бьюик» Сальваторе въехал на аллею, ведущую к крыльцу виллы. Все Маналезе, кроме уехавшей с дочерью Терезы и Жанны, оставшейся в доме, сидели на террасе и, как один, повернули головы к машине. На их лицах отразилось изумление, потому что вслед за «бьюиком» подъехало еще шесть машин, не предусмотренных программой. Из них выскочили полицейские и жандармы с автоматами. Издалека доносились звуки автомобильных моторов, свидетельствующие о том, что окружение завершено. Сальваторе встал. Он побледнел, но не потерял присутствия духа. Увидев Муша и Серджо в наручниках, он сразу понял, что случилось. Эта была катастрофа.
— В чем дело? — начал он тем не менее. Мария, его верная подруга, печально смотрела на мужа. Она поняла, что произошла одна из тех глупых случайностей, которые она всегда предвидела в глубине души. Из красной машины вышел полицейский и представился, показывая свой жетон:
— Главный комиссар Ле Гофф. Сыскная полиция. Старый сицилиец двинулся к нему. Ле Гофф объявил:
— Сальваторе Маналезе, вы и ваша семья арестованы по обвинению в ограблении в самолете Париж — Нью-Йорк.
Луи Берлинец незаметно сунул руку под куртку за револьвером, но в бок уперся ствол пистолета.
— Полегче, — посоветовал Мерлю, выуживая револьвер у него из под куртки.
— Руки вверх! — крикнул Сериски, толкая перед собой Муша.
Маналезе медленно выполнили приказ. Даже старая сицилийка, вся красная от стыда.
— Это к вам не относится, мадам, — сказал Ле Гофф.
Голос его был почтителен. Он знал, с кем имеет дело. Опыт… За спиной Альдо послышались шаги Жанны, выходившей из дома. Он быстро повернулся, потом перевел взгляд на убийцу и накинулся на него:
— Подлец! Ты наставил мне рога! Мне! А ведь я тебя спас…
Он обошел следившего за ним полицейского, сделал два быстрых шага и плюнул в лицо не успевшему увернуться Мушу.
— Я поклялся свернуть тебе шею, дерьмо!
— Альдо! — вмешался старик. Его старший сын медленно отступил, подталкиваемый автоматом охранника. Сальваторе вернулся к комиссару. Необходимо было что-нибудь сказать.
— Объясните мне…
Но Муш, тыльной стороной рукава пытавшийся стереть со щеки плевок, резко прервал его:
— Нечего объяснять! Все и так ясно. Кто-то из вашей семейки выдал меня. Может быть, вы! Но я не знаю, почему!
Темная кожа старика стала серой, а Муш продолжал, кипя от бешенства:
— Никто не знал, что я прилечу в Орли! Никто! Кроме вас и ваших дружков из Нью-Йорка, которые заставили меня вернуться!
В эту минуту из машины Ле Гоффа раздался громкий голос Барани:
— Патрон! Вас вызывает штаб! Срочная телеграмма из Нью-Йорка.
Все повернулись к красной машине. Ле Гофф махнул рукой:
— Пусть передают. А вы читайте нам.
И Барани своим сильным, певучим голосом стал читать:
«Разыскали экипаж «Боинга» и часть пассажиров, в том числе жертв ограбления. Все опознали в присланных фотографиях его участников. Теперь ищем пилота. Благодарим главного комиссара Ле Гоффа за помощь нашему следствию. Джулио Мазари, начальник полиции штата Нью-Йорк».
Слова эти, разносившиеся в теплом весеннем воздухе, не требовали пояснений. Они прозвучали как приговор. Сальваторе Маналезе смолк и отступил, как будто его ударили по лицу. В тяжелой тишине послышался долгий вздох, смешанный с рыданием. Это была Жанна. Такого она не предвидела. Она думала всех перехитрить, а получила стальные браслеты!
Муша, который все это время, казалось, слушал песню далекой птицы на ветке, не понимая причины своего поражения, вдруг осенило. Гримаса исказила его лицо. Дрожа от ярости, он обрушился на старика:
— Вы умники! Хотели силой заставить меня вернуться? Зачем же? Что вам нужно было узнать?
Повернувшись кругом, он уставился на Альдо, ловя его взгляд.
— Узнать, наставила ли тебе рога твоя баба, ведь так? А потом отомстить? Ну, отвечай! Признайтесь, что у вас хватило глупости не совладать со своей сицилийской гордыней, рискуя отправить всех нас в тюрьму! Отвечай же!
Альдо, вне себя, пытался броситься на обидчика, но в него вцепились два полицейских. А Муш, которому нечего было терять, все бередил рану.
— Ну так вот, раз мы все, по вашей вине, на одной галере, то я вас успокою. Тебя успокою, Сальваторе!
Он снова повернулся, чтобы взглянуть на старика, которому впервые презрительно «тыкал».
— Раз кто-то из твоей шайки меня выдал, я хочу, чтоб вы не сомневались. Да, я переспал с женой твоего сына. Это правда. Спроси у нее.
Он обвел взглядом всех Маналезе и яростно добавил:
— И если бы я мог, то сделал бы это снова. Без сожалений! С доносчиками не церемонятся!
Безумные глаза всех Маналезе обратились на Жанну, стоявшую на последней ступеньке и отгороженную спинами полицейских. Ле Гофф начинал понимать. Значит, Муш посягнул на честь сицилийцев, поправ святые законы гостеприимства. Он осмелился притронуться к жене одного из них. Дело прояснялось. Но комиссар не желал вмешиваться. Напротив. Именно в такие минуты истина часто выходит наружу. Вместо того, чтобы погасить ссору, он подлил масла в огонь:
— Ты ошибаешься, Сарте. Тебя выдали не они. Это была женщина, не назвавшая себя. Она по телефону сообщила мне о твоем прибытии.
Убийца изумился:
— Женщина? Но какая женщина могла знать… Сальваторе вздрогнул. Он нахмурился и задумчиво пробормотал:
— Женщина…
Потом поднял искаженное гневом лицо. Он все понял и прорычал в лицо невестке:
— Так это ты? Ты не хотела очной ставки? Боялась нашей мести?
Он отодвинул жандарма, сделал шаг и бросил ей:
— Дрянь!
Жанна не пошевельнулась. Она невидящим взором смотрела на Серджо, с ненавистью уставившегося на нее, на ругавшегося по-итальянски Альдо в наручниках, на гордого Луи, бросавшего на старика сочувственные взгляды, на опустившую голову и сцепившую руки Марию. Нарушил тишину Муш:
— Самое время оскорблять ее, старый дурак!
Его яростный голос заставил Сальваторе очнуться от кошмара. Он тряхнул головой и обратил лицо к убийце.
— Это все ты! Ты! Это моя вина! Я знал, что ты меченый. Я должен был сказать своим, чтобы тебя избегали. Ты принес мне только горе. Но…
Теперь все глаза были обращены на старика.
— …Но ты больше никому его не принесешь. Никогда!
Никто не мог предвидеть того, что произошло дальше. Старик двумя руками схватил кисть ближайшего к нему жандарма и заставил его палец нажать на спусковой крючок автомата. Все длилось от силы пять секунд. Этого было достаточно, чтобы пять пуль попали Мушу в живот. Их разделяли всего два метра, и старик не мог промахнуться. Полицейские схватили Сальваторе. Поднялся чей-то приклад, но Ле Гофф крикнул:
— Нет!
Приклад все-таки опустился, но задел только плечо старика, тот слегка пошатнулся. Рондье и Сериски поддерживали Муша, который прижимал к животу скованные руки. Кровь струилась по его пальцам, окрашивая их в красный цвет. По лбу тек пот. Он посмотрел на пальцы, через которые утекала его жизнь, взглянул на того, кто осмелился убить его на глазах у своры полицейских, губя себя навеки, и, сжав зубы от боли и страха, позволил посадить себя в машину, помчавшуюся в ближайшую больницу.
— В путь! — приказал Ле Гофф своим людям, едва машина скрылась за поворотом.
Потом он повернулся к Сальваторе, которому надевали наручники.
— Вы себе навредили. Ограбление было без кровопролития. Наверное, оно обошлось бы вам не так дорого. А теперь…
Старик выпрямился. Голос его был резок.
— Я ни о чем не жалею!
В глазах членов его клана читалось восхищение. Объявленная месть свершилась, неважно, какой ценой. Лучше, умереть, чем не выполнить завет: «Око за око, зуб за зуб».
— В путь, — повторил Ле Гофф.
Он, Мария, Сальваторе и Сериски поднялись в красную «ДС», а Рондье сел за руль. Остальные машины следовали за ними.
Перед выездом на магистраль, когда они все еще ехали по красивой дороге, усаженной тенистыми деревьями, Сальваторе повернул голову к сидевшему рядом с ним комиссару.
— Нельзя ли остановиться на пять минут? Это единственное, о чем я когда-либо вас попрошу.
Скованными руками он показал на видневшуюся сквозь зелень колокольню деревенской церкви. Ле Гофф посмотрел в указанном направлении. Он задумался, потом дотронулся до спины Рондье.
— Остановитесь возле этой церкви.
Несмотря на удивление, полицейский повиновался, а Ле Гофф предупредил:
— Не больше пяти минут.
— Не больше, господин комиссар, — заверил его Сальваторе. — Мария!
Другие машины тоже остановились. На лицах полицейских читалось крайнее изумление, когда Ле Гофф и Сериски прошли вместе с супружеской четой к порталу церкви, сложенному из больших, поросших мхом камней. Старая, изъеденная червями дверь была открыта. Сальваторе собирался войти, но Ле Гофф тронул его за локоть. Он немного поколебался, прежде чем пробормотал, освобождая его от наручников:
— Вы могли бы помолиться и в тюрьме. Там месса каждое воскресенье!
— Я знаю, — возразил старик. — Но здесь Бог свободен. А там он будет, как я, за решеткой.
Они обменялись короткими взглядами. Мистическая кельтская душа комиссара все понимала. Ле Гофф прислонился к каменной колонне, поддерживающей переживший много веков стрельчатый свод, и смотрел, как чета сицилийцев медленными шагами направлялась к алтарю, где горели свечи и на крест падал разноцветный, умиротворяющий отблеск витражей.
Перевод с французского А. В. Купцова
Шарль Эксбрайя
Предисловие
Лекарство от хандры
Александр Грин как-то заметил, что у него невозможно украсть сюжет никто другой просто не сумеет им воспользоваться. По-моему, Шарль Эксбрайя с полным основанием мог бы повторить слова «волшебника из Гель-Гью», хотя, казалось бы, для автора детективных романов подобное утверждение совершенно невозможно, ибо сам жанр требует неизменной, очень жесткой схемы: преступление — расследование — наказание. И тем не менее среди бесконечного множества детективов каждая книга Эксбрайя узнается мгновенно, буквально с первых строк, а это есть бесспорное свидетельство яркой индивидуальности автора. Не случайно Эксбрайя — один из немногих авторов легкого жанра удостоился чести попасть на страницы престижного «Ларусса», а его романы огромными тиражами расходятся по всему свету. Пора наконец и нашим читателям всерьез познакомиться с творчеством этого талантливого и очень своеобразного писателя.
Шарль Эксбрайя (Шарль Дюриво) родился в 1906 г. в небольшом городке Сент-Этьен (департамент Луара). Юность его прошла на юге — колледж будущий писатель закончил в Ницце, где в то время жила его семья, а продолжил образование в Марселе, на медицинском факультете. Марсель, говорят, что-то вроде французской Одессы, поэтому вряд ли стоит особенно удивляться, откуда у Эксбрайя такой могучий заряд жизнерадостности, юмора и умение никогда не упускать из виду комическую сторону жизни.
Итак, Эксбрайя готовился стать врачом. Однако учеба не слишком занимала непоседливого и жаждущего приключений молодого человека, а потому, после очередной шумной проделки, ему пришлось оставить храм науки и перебраться в Лион, подальше от соблазнов крупного портового города.
Покончив с учебой и выдержав конкурсный экзамен, Эксбрайя отправился в Париж преподавать естественные науки. Казалось, его ждала вполне благополучная карьера на ниве просвещения, но… кому суждено быть писателем, тот за кафедрой не усидит.
Любопытно, что начинал Эксбрайя как драматург, однако, увы, сенсацией его пьесы не стали. Ни поставленная в Женеве «Без возврата», ни «Кристобаль и Аннет, или Охота на бабочек», появившаяся на парижской сцене, не принесли славы начинающему писателю. Впрочем, опыт работы в драматургии не прошел даром, в чем легко убедиться по замечательно бойким и остроумным диалогам в книгах зрелого Эксбрайя.
Что касается первых прозаических опытов писателя, еще не имевших отношения к детективному жанру («Жюль Матра», «Те, что из леса»), то они, как и пьесы, прошли почти не замеченными публикой. Другой бы с отвращением зашвырнул ручку и поклялся никогда не писать больше ни строки, но жизнерадостный южанин и не думал отступать.
После второй мировой войны Эксбрайя занимался журналистикой, а кроме того, не без успеха сочинял сценарии (по ним снято около полутора десятков фильмов, в том числе и такой известный, как «Очаровательная идиотка» с Брижит Бардо в главной роли).
Наконец в 1957 г. Эксбрайя написал свой первый детективный роман — «У нее была слишком хорошая память». А уже вторая его работа в этом жанре довольно жуткая история с отрубленной головой молодого красавца («Вы помните Пако?») — получила Гран При авантюрного романа за 1958 г. Несмотря на то что Эксбрайя в это время уже перевалило за пятьдесят, он продолжал творить с огромным воодушевлением и до 1988 г., года своей смерти, создал около сотни повестей и романов. Большинство из них, даже те, что написаны в начале 60-х годов и, казалось бы, устарели, продолжают пользоваться огромной популярностью. Я думаю, это связано прежде всего с тем, что детективы Эксбрайя на редкость теплы и человечны, способны глубоко тронуть каждого из нас.
Помимо чисто литературной работы Эксбрайя ухитрялся массу времени и сил отдавать изданию великолепной детективной серии «Клуб масок», куда вошли лучшие романы и повести мастеров криминального жанра всего мира. И сколько же радости принесла эта серия тем из наших любителей детективов, кто лет десять-двадцать назад мог почитать (увы, только на языке оригинала), скажем, Агату Кристи, Ф.Дидло, Рекса Стаута, Джона Кризи или Картера Брауна! За эту радость тоже огромное спасибо Шарлю Эксбрайя.
Один из романов этого писателя случайно попал мне в руки как раз в те времена, когда здравомыслящему человеку даже в голову не пришло бы явиться в какое-нибудь издательство с предложением издать детектив, и тем не менее я немедленно начала переводить его, как говорится, «в стол». Слишком чудовищной несправедливостью казалось лишить хотя бы ближайших друзей такого удовольствия, как знакомство с веселым и добрым писателем.
Впрочем, я погрешила бы против истины, говоря об Эксбрайя как о писателе сугубо комического склада, авторе веселых комедий и пародий. Эксбрайя удивительно многогранен, и это вполне естественно. Богатый и разнообразный жизненный опыт, многолетняя работа в журналистике и кинематографе не могли не сказаться на его творчестве.
Среди его романов есть и глубоко трагичные истории, такие, например, как уже упоминавшийся роман «Вы помните Пако?», или повести, вошедшие в сборник «Заупокойная по цыгану». Есть традиционная для французской литературы психологическая драма: «Оле, тореро!», «Ну и наломали вы дров, инспектор!», «Покойся с миром, Катрин!», «Счастливого Рождества, Тони!», «Инспектор умрет одиноким», «Этот дурень Людовик», «Ее все любили», «Последняя сволочь», «Ночь Святого Креста» и многие другие. Но об этих романах мы поговорим позже.
И все же, думается, в историю детективного романа Эксбрайя навсегда войдет в первую очередь благодаря тем его книгам, которые, за неимением лучшего термина, я бы окрестила криминально-авантюрными комедиями. К ним относятся и циклы романов, объединенных фигурой главного героя (наиболее значительны двое из них: романтичный комиссар веронской полиции Ромео Тарчинини и доблестная защитница шотландских вольностей Иможен Мак-Картри), и самостоятельные, не связанные с другими произведениями. В числе последних наиболее значительны «Овернские влюбленные», «Семейный позор», «Девушки из Фолинаццаро», «Вы любите пиццу?», «Блондинки и папа», «Зачем убивать дедулю?», «Синяки и шишки», впрочем, всех не перечислишь — их, к счастью для читателя, очень много.
Криминально-авантюрную комедию — это бесспорное изобретение Эксбрайя довольно трудно уложить в рамки какой бы то ни было литературной традиции, но попытаюсь все же, не утомляя никого блужданиями в литературоведческих дебрях, наметить некоторые наиболее характерные ее черты.
На первый взгляд комические романы Эксбрайя выглядят пародиями слишком в них все заострено, преувеличено, порой доведено до гротеска, слишком сильна здесь, говоря словами М.М.Бахтина, «карнавальная смеховая стихия». Но если это пародии, то на что? На детективный жанр? Не похоже. Чисто детективная линия как раз вполне серьезна, причем даже в тех случаях, когда следователи выглядят неисправимыми чудаками (например, в «Овернских влюбленных»). Нет, если здесь и есть изрядная доля пародийности, то главное заключается отнюдь не в ней, иначе это был бы уже не детектив, а нечто сатирическое. У Эксбрайя же сочетание комического и трагического отнюдь не оборачивается сатирой и герои, при всей их преувеличенной наивности и романтизме, настолько симпатичны, что не только не напоминают карикатуры, а, напротив, вызывают живейшее сочувствие. Писатель подтрунивает, забавляется, но вовсе не думает язвить и бичевать легкомысленный детективный жанр. Смех Эксбрайя весел и легок, и пытаться отыскать за ним «невидимые миру слезы» занятие совершенно бессмысленное.
На мой взгляд, в романах Эксбрайя значительно больше комедийного, чем пародийного, — герои, как правило, попадают в непривычную, чуждую им среду и вынуждены действовать в совершенно непонятном им мире. В том же ключе решены и типажи, и описание быта, и диалог. Это и позволяет взглянуть на обыденную ситуацию в необычном, веселом ракурсе.
Однако уместно ли столь легкомысленное веселье в истории о «преступлении и наказании», каковой, бесспорно, является любой детектив? Оказывается — да, и уместно, и возможно! Как уже говорилось, в основе комедий Эксбрайя всегда лежит гротескная ситуация, писатель как бы дразнит нас, втягивая в абсолютно невероятную, дикую, с точки зрения любого нормального человека, авантюру. Ну, к чему, например, может привести столкновение банды прожженных дельцов, торговцев наркотиками с простодушным овцеводом, только что спустившимся с родных гор (роман «Мы еще увидимся, детка…»)? Или чем кончится секретная миссия, доверенная не в меру романтичной и самоуверенной, да к тому же на редкость болтливой старой деве («Не сердитесь, Иможен!»)? А во что выльется конфликт между ригористски настроенными пуританами и комиссаром веронской полиции, свято верующим, что в основе всех человеческих поступков — только любовь («Кьянти и кока-кола»)?
Абсурдность ситуации, полное несоответствие героев обстоятельствам, в которых им приходится действовать по воле случая, естественно, порождают массу недоразумений и до колик смешных сцен. Меж тем где-то рядом льется кровь и затаились убийцы… Так что же это, глумление над смертью? Попытка превратить жизненную драму в фарс? Ничуть не бывало. Смерть остается смертью, расследование — расследованием, а жизнь идет своим чередом, и в ней, слава Богу, есть не только страшное, но и смешное. И пусть инспектор Лакоссад из «Овернских влюбленных» к месту и не к месту сыплет афоризмами, а его шеф-гурман в присутствии жертвы неудавшегося покушения битый час рассуждает, какой соус больше подходит в телячьей отбивной — из сморчков или из лисичек, чудачества не лишают обоих полицейских ни проницательности, ни чувства профессионального долга. Зато оба неисправимых чудака выглядят очень жизненно и по-человечески привлекательно. Почти водевильная история любовных приключений неотразимого клерка без всяких натяжек, легко и естественно сочетается с расследованием непонятных убийств и покушений в доме респектабельного нотариуса.
Точно так же дело обстоит и в другой криминально-авантюрной комедии Эксбрайя — «Мы еще увидимся, детка…». Начинается роман без тени юмора двойное убийство сразу же создает мрачный, трагический колорит, но стоит появиться герою — раблезианскому богатырю Малькольму Мак-Намаре, и тональность совершенно меняется. Шотландский овцевод наивен, простодушен и естествен, как сама жизнь. По сути дела, это стихия. Ничего удивительного, что в столкновениях с ним ошарашенные убийцы то и дело попадают в крайне забавные и нелепые положения. Однако как бы наивен и неотесан ни был явившийся из никому не ведомого Томинтула горец, смех вызывает отнюдь не он, а «цивилизованные» бандиты, мнившие себя тонкими стратегами и тем не менее вынужденные все время подчиняться навязанным им правилам игры.
В романе «Вы любите пиццу?» чисто комедийный сюжет о приключениях влюбленных тоже разворачивается на фоне весьма зловещих событий. Но обе линии идут почти параллельно, создавая довольно любопытный эффект контраста. Попытка легкомысленного главы клана Гарофани оказать услугу мафии и таким образом без особых хлопот быстренько разбогатеть обрушивает на семью множество бед, а главное — едва не убивает атмосферу всеобщей любви и доверия — единственное, благодаря чему эти сентиментальные и несусветно безалаберные неаполитанцы ухитрялись весело сносить в сущности кошмарно тяжелую жизнь.
Почетное место среди криминально-авантюрных комедий Эксбрайя занимает цикл романов о комиссаре веронской полиции Ромео Тарчинини («Жевательная резинка и спагетти», «Самый красивый из берсальеров», «Квинтет из Бергамо», «Ох уж эти флорентинки!», «Надень-ка тапочки, Ромео», «Кьянти и кока-кола» и др.). Комиссар Тарчинини принадлежит к излюбленному писателем типу неисправимых чудаков. Ромео, с его эксцентричной манерой одеваться, наивным хвастовством, невероятной экспансивностью и фантастической самоуверенностью, редко кто принимает всерьез… до тех пор, впрочем, пока этот нелепый человек на деле не доказывает превосходство собственных способов расследования над чисто научными методами своих протагонистов.
На первый взгляд комиссар Тарчинини — персонаж сугубо комический, но, как и большинство подобных героев Эксбрайя, он наделен и очень привлекательными чертами характера. Это и его искренняя привязанность к своей Джульетте, нарожавшей кучу детей и давно превратившейся в грузную и довольно-таки скандальную матрону (чего Ромео вовсе не замечает — для него жена навсегда осталась прежней красавицей). Это и неподдельная сердечность комиссара, его любовь к людям, проявляющаяся порой даже в сочувствии к преступникам. Вероятно, именно поэтому, несмотря на все смешные недостатки Ромео, он в конце концов всегда оказывается прав, а те, кто спорил с ним и даже возмущался его поведением, постепенно проникаются любовью и уважением к маленькому итальянцу. Ромео не только смешон, он обладает и несомненными достоинствами — умением (и, главное, желанием!) разобраться в человеческой психологии, стремлением восстановить справедливость и добиться торжества истины. Комиссар Тарчинини добр и порядочен, а потому не может не вызвать симпатии читателя.
И где бы ни появлялся Ромео — в Турине ли, куда он приехал делиться с коллегами опытом («Самый красивый из берсальеров»), в Бергамо, где ему поручено положить конец торговле наркотиками («Квинтет из Бергамо»), во Флоренции, куда он везет на каникулы младшего сына («Ох уж эти флорентинки!»), или даже в Америке («Кьянти и кока-кола»), все его окружение буквально захлестывает дух романтизма, который исходит от этого истинного сына «города влюбленных».
В конечном счете победа комиссара Тарчинини над маловерами всегда оказывается торжеством романтизма над скепсисом, открытости и раскованности над искусственными догмами, сердечности над рационализмом. Наиболее наглядно это проявляется в одном из лучших романов цикла — «Кьянти и кока-кола». Прилетев в Бостон навестить дочь, вышедшую замуж за американца, Ромео сталкивается с совершенно чуждым ему гиперрационализированным миром, миром с иной системой ценностей, и, естественно, тут же вступает в конфликт с этим обществом. Неистребимое добродушие, непривычная прямота и открытость итальянца мало-помалу опрокидывают все устои и условности, и в результате именно он, а не местная полиция блестяще проводит расследование, в очередной раз доказывая свою излюбленную теорию, что «все движется любовью». И после отъезда Ромео чопорный Бостон как бы немного оттаивает и становится чуточку человечнее…
Героиня другого крупного цикла романов — Иможен Мак-Картри («Не сердитесь, Иможен!», «Обручение Иможен», «Наша Иможен», «Возвращение Иможен», «Иможен, вы несносны!» и др.) в отличие от комиссара Тарчинини скорее мешает следствию. И тем не менее большая часть горожан ее родного Каллендера приписывает все победы именно ей. И это вполне объяснимо. Дело в том, что для многих своих земляков Иможен олицетворяет прежнюю шотландскую вольницу, прямоту, силу и несгибаемость характера. Эта нескладная огненно-рыжая старая дева, с ее фанатичным национализмом, замашками отставного военного и неумеренным пристрастием к виски, смешна и нелепа, но она же — как личность незаурядная, как своего рода символ национальной гордости и неукротимости духа — просто великолепна и восхитительна. «Золотое сердце и невыносимый характер», — говорит об Иможен один из ее ближайших друзей. Немудрено, что половина Каллендера готова носить мисс Мак-Картри на руках, в то время как другая половина спит и видит, чтобы она наконец оказалась на шесть футов под землей.
Иможен нередко ошибается, изрядно отравляет существование блюстителям порядка да и многим обывателям Каллендера, но одного у нее никак не отнимешь — мисс Мак-Картри всегда искренне стремится восстановить справедливость и покарать виновных. Так, в романе «Наша Иможен» она помогает влюбленным, которым ставит всяческие препоны отец невесты, и спасает от ложного обвинения жениха. В пародии на «шпионские страсти» «Не сердитесь, Иможен!» она, невзирая на все свои нелепые ошибки и ложные подозрения, помогает раскрыть опасный заговор. А в романе «Возвращение Иможен» без ее вмешательства серьезное преступление наверняка осталось бы безнаказанным. Иможен, конечно, не следователь, хотя и считает себя непревзойденным специалистом по расследованию преступлений, скорее, она играет роль некоего катализатора, ускоряющего события и наводящего на след преступников настоящих инспекторов полиции. И постепенно их раздражение против не в меру активной старой девы переходит в истинную благодарность, порой граничащую с восхищением.
Так или иначе, то, что Иможен вызывает жгучую ненависть одних и безграничную, доходящую до преклонения любовь других, — явное свидетельство незаурядности
шотландской героини. Во всяком случае, читать о ее приключениях и любопытно, и весело.
Недавно по нашему телевидению показали несколько фильмов из серии «Иможен». Правда, действие перенесено из Шотландии в Бретань, и авторы сценария изменили фамилию героини. Однако, хотя, на мой взгляд, киноверсия не обошлась без некоторых потерь, зритель получил возможность познакомиться с мисс Мак-Картри и, надеюсь, это знакомство доставило ему большое удовольствие.
С не меньшим интересом читаются и другие криминально-авантюрные комедии Эксбрайя, такие, например, как «Девушки из Фолинаццаро», «Зачем убивать дедулю?», «Блондинки и папа» и пр.
Даже из того немногого, что уже сказано о комедиях Эксбрайя, видно, как сильно в них смещен детективный акцент. Если в классическом детективном романе нас в основном занимает решение загадки «кто же все-таки убийца?», то здесь, как и в приключенческом романе, увлекают и сами сюжетные перипетии. Мы продолжаем с любопытством следить за всеми поворотами сюжета даже в тех редких случаях, когда личность преступника угадывается раньше времени, тем более что писатель, как правило, готовит под конец какой-нибудь сюрприз.
Так, в «Овернских влюбленных», например, интригует не столько вопрос о том, кто и почему решил одного за другим изничтожить всех членов добропорядочного семейства Парнак, но и чем кончатся любовные приключения несчастного Франсуа — добьется ли он благосклонности кокетливой Сони, загонит ли его оплеухами в мэрию пылкая Мишель или возьмет-таки в оборот предприимчивая пожилая вдова. В романе «Вы любите пиццу?» те же две линии: детективная, с волнующим нас вопросом, кто пырнул ножом Рокко, а потом отправил на тот свет и его убийц, и лирическая история любви богатой благовоспитанной английской барышни и прекрасного, как античное божество, неаполитанского бездельника.
В романе «Девушки из Фолинаццаро» ход следствия едва ли интересен больше, чем та изобретательность, с которой юные жительницы деревни морочат голову слишком самонадеянному следователю и ухитряются сбить с него спесь.
Несмотря на детективную основу, комедии Эксбрайя удивительно светлы. Как любой веселый и по-настоящему добрый человек, писатель остро чувствует противоестественность зла, воспринимает его как болезнь. А раз это зло болезнь, то оно обречено и никаким его проискам не устоять перед простыми человеческими чувствами и радостями бытия. Поэтому-то криминально-авантюрные комедии Эксбрайя всегда оставляют ощущение необыкновенного праздника жизни. Любые трагические и страшные события преходящи, главное — не утратить способность любить и радоваться жизни. Героям Эксбрайя это удается в полной мере.
Близки к криминально-авантюрным комедиям Эксбрайя и его пародии на «шпионские страсти», такие, например, как «Очаровательная идиотка», «Болонская кадриль», «Над Закопане сгущаются тучи», «И пусть все летит к чертям!», «Ау, шпион, ты где?», «Ведите себя прилично, Арчибальд!», «Уютный уголок, где так приятно умереть», «Мандолины и шпионы» и др.
Писатель пародирует традиционные приемы «шпионского» жанра, но при этом многие из его главных героев описаны с большой симпатией, в том числе и шпионы, которым по законам жанра полагается быть этакими «роботами», натренированными на убийство ближних, «суперменами», далекими от чисто человеческих слабостей. Но вот что говорит о своих коллегах Хосе Моралес, главный герой «Ночи Святого Креста», классического «шпионского» романа (есть у Эксбрайя и такие): «Любители гангстерских фильмов воображают, будто мы, агенты ФБР, составляем что-то вроде батальона «суперменов», не ведающих страха, презирающих страдания и наделенных умственными способностями, явно превышающими средний уровень. Это не совсем так. Конечно, если нужно защищаться, я стреляю точно и быстро, и, когда схватка идет один на один, у меня есть шанс выпутаться. Вот только я терпеть не могу пускать в ход кулаки, а уж тем более оружие. Мы, агенты ФБР, — люди, скорее, спокойные и серьезные, и надо приложить немало усилий, чтобы заставить нас утратить хладнокровие».
Итак, герои «шпионских» романов Эксбрайя совсем не похожи на тех, кого мы привыкли видеть на страницах детективов. Особенно же это касается его пародий. В сущности, большинство этих персонажей, как это ни покажется странным, занимает не столько работа, сколько их собственные любовные переживания. Так, Жака Субрэя («Болонская кадриль») несравнимо больше волнует мнимая измена невесты, чем пропажа сверхсекретных документов — нужды нет, что за последними охотится не только итальянская разведка, но и американская, английская и даже советская.
Кстати, этой последней в пародиях Эксбрайя отводится особенно незавидная роль, что вполне понятно. Большинство романов этой серии писались во времена «железного занавеса», и в представлении западного человека «русские» (а именно так называли всех жителей бывшего Советского Союза) казались либо опасными сумасшедшими, либо исчадиями ада. Очевидно, и Эксбрайя, судя по его книгам, ни разу не бывавший в нашей стране, свято веровал, будто все мы искренне помешаны на марксизме-ленинизме и готовы отравить этой идеологией весь мир. Что ж, тем забавнее сейчас воспринимаются такие пародии, как «Очаровательная идиотка», «Ведите себя прилично, Арчибальд!», «Над Закопане сгущаются тучи» или «Уютный уголок, где так приятно умереть».
Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что «крепко достается» не только нашим чекистам, но и их противникам (в той же «Болонской кадрили», например). В любом случае пародии Эксбрайя всегда очень смешны и увлекательны и читаются «на одном дыхании».
Однако, как уже говорилось, есть у писателя и вполне серьезные «шпионские» романы. Лучшие из них, пожалуй, «Ночь Святого Креста», «Счастливого Рождества, Тони!», «Ради ее прекрасных глаз». На мой взгляд, самое ценное в этих романах то, что писатель «гуманизирует» своих героев, не прибегая к искусственным средствам (таким, как разного рода чудачества, особые мании и проч.), он просто дает нам понять, что полицейский (или агент ФБР) — самый обычный человек со своими достоинствами и слабостями. Его можно обмануть, посмеяться над его чувствами, нельзя лишь одного — заставить его изменить долгу, даже если выполнить этот долг нечеловечески трудно — скажем, застрелить лучшего друга, оказавшегося предателем.
Психологические драмы и трагедии Эксбрайя решаются, естественно, в совершенно ином ключе, нежели криминально-авантюрные комедии или пародии. Я уже говорила, что романы этого ряда гораздо ближе к привычному для нас типу детективов. Повествование, не теряя эмоционального накала, становится слегка замедленным, что, разумеется, вполне оправданно, поскольку внимание сосредоточено в основном на душевной жизни героев и надо разобраться в их мыслях и побуждениях.
В основе психологической драмы Эксбрайя чаще всего лежит конфликт между чувством и долгом (тема, не иссякающая во французской литературе со времен корнелевского «Сида»), причем здесь в отличие от комедий писателя именно любовь чаще всего ведет героев к катастрофе. Например, в романах «Ну и наломали вы дров, инспектор!», «Ради ее прекрасных глаз», «Счастливого Рождества, Тони!», «Ради Белинды» страсть, ослепляя излишне доверчивых следователей, мешает им понять страшную правду, и, хотя преступники все же получают по заслугам, обманутые влюбленные переживают тяжелейший шок.
Но и тем, для кого долг превыше любви, приходится несладко. В таком положении оказывается инспектор Гельмут Шванке. Он вынужден отправить в тюрьму единственного сына, а в результате теряет жену и вместе с ней надежду избежать одинокой смерти, единственного, что внушает страх отважному полицейскому, с тех пор как он лежал среди мертвых однополчан в снегах под Воронежем. Впрочем, и в этом романе именно любовь и излишняя доверчивость становятся причиной гибели молодой и красивой девушки.
Отчаянная жажда любить и быть любимым приводит в тюрьму героя другого романа Эксбрайя («Этот дурень Людовик»). Недоразумение, конечно, разъяснилось, но стал ли от этого Людовик счастливее?
Героиня еще одной драмы, Эллен Ардкур («Придется платить, Изабелль!»), настолько уходит в созданный ею романтический мир, что даже выбирает для себя более «изысканное» имя — Изабелль, что, однако, не спасает ее от столкновения с самой мрачной стороной действительности. Стоит, пожалуй, отметить, что быт и жители Сент-Этьена, где разворачиваются события, описаны Эксбрайя с особой теплотой и даже нежностью — ведь это родной город писателя.
Не менее трогательна и трагична история редакционного расследования, которое ведет опустившийся журналист Тони Ордэн, решивший во что бы то ни стало докопаться до истинной причины гибели под колесами автомобиля четырехлетного мальчугана (роман «Дамы из Крёзо» — на мой взгляд, один из лучших у Эксбрайя). Ордэн, до автокатастрофы, унесшей у него любимую жену и сына, считавшийся «золотым пером» газеты, докопался-таки до истины, но принесло ли ему это душевный покой?
Романы «Клан Морамбер», «Дельфтские «Господа» и «Покойся с миром, Катрин!» в какой-то мере составляют трилогию, хотя сюжетно никак не связаны между собой. И здесь тоже речь идет о любви, но любви, понимаемой каждым по-разному. Если для семейства Морамбер важнее всего интересы клана, то для Карела Клундерта («Дельфтские «Господа») возможность взять на воспитание чужую девочку — единственный способ выжить, вернуть себе человеческое достоинство.
Глубоко потрясает роман «Последняя сволочь», повествующий о начальнике полиции, пошедшем в услужение к гангстерам, терроризирующим весь город. После того как его любимую дочь сбила машина (причем отцу прекрасно известно, что «несчастный случай» подстроила именно банда его нового патрона Войддинга), капитана словно подменили. В недавнем прошлом честный и неподкупный человек, он теперь пьянствует, выполняет самые грязные поручения главаря банды и даже не брезгует брать от него деньги. Все порядочные люди отвернулись от капитана Мелфорда, и жизнь его семьи стала невыносимой. Но почему же тогда этот спившийся и продажный полицейский так спокоен, словно готов противостоять всему городу? Ведь сам же часто говорит, что всех, кто связался с Войддингом, ждет в лучшем случае тюрьма, а в худшем электрический стул… Как он ухитряется сохранять чувство собственного достоинства и в любом споре с лейтенантом О'Мэхори (признанным борцом с городскими рэкетирами) всегда одерживать верх? И наконец, каким образом один за другим при совершенно неясных обстоятельствах погибают все подручные главаря гангстеров? На все эти вопросы можно получить ответ, прочитав эту блестящую книгу. Одно могу сказать точно: здесь, как и в прочих романах Эксбрайя, в тесный клубок сплелись любовь и ненависть.
Наиболее трагичны, пожалуй, романы и повести, действие которых развивается в Испании. Это, прежде всего, «Вы помните Пако?», «Оле, тореро!» и сборник «Заупокойная по цыгану». Однако, несмотря на то что первый из этих романов получил Гран При, лучшим из них мне представляется «Оле, тореро!».
Как и другие «испанские» романы Эксбрайя, «Оле, тореро!» — история сильных страстей. Правда, здесь сталкиваются не только, вернее, не столько любовь и долг, сколько верность и измена. Последняя становится источником целой серии на первый взгляд немотивированных убийств. Атмосфера иссушающего зноя, безжалостная четкость контуров, с большой художественной силой переданные автором, рождают предчувствие трагедии, готовя нас к восприятию мира, где с одинаковым исступлением любят и ненавидят, сражаются с быком и мстят.
Особый, напряженный драматизм придает рассказу то, что он ведется от первого лица — как исповедь перед неизбежной, неотвратимой смертью. Эстебан Рохилла, как и большинство любимых героев Эксбрайя, — человек наивный и простодушный, а потому надеется, что, покончив с ним, убийца непременно прочтет рукопись и, быть может, образумится, пожалеет о содеянном. Отсюда необычайная страстность, убедительность интонации. Предательство любимой девушки помешало дону Эстебану добиться успеха на арене и стать великим матадором. В сущности, он тореро-неудачник, но все же не привык отступать перед смертью, и эта исповедь — его последний бой.
Несколько особняком в творчестве Эксбрайя стоят криминальные романы, т. е. те, где личность преступника известна заранее. Это в первую очередь «Лгуньи» и «Гнев Бартолеми». В обоих романах герои, разочаровавшись в официальном правосудии и не надеясь на поддержку властей, решили воздать преступникам по заслугам, не прибегая к посторонней помощи. В романе «Лгуньи» мы с неослабевающим интересом наблюдаем за развитием корсиканской вендетты, объявленной пятью немощными старухами шайке убийц.
В «Гневе Бартолеми» оскорбленные неправедным решением суда рыбаки ополчаются против одного из самых опасных каидов города, его подручного (непосредственного виновника трагедии) и продажного адвоката, подкупившего лжесвидетелей, которые и ввели в заблуждение присяжных. Особенно потрясает в романе то, что, мстя за гибель молодой женщины, убитой пьяным бандитом в день свадьбы, и за поруганную честь всей деревни, рыбаки ни разу не нарушают закона.
Оба романа — одни из самых ярких книг Эксбрайя.
Страшные и бесконечно грустные психологические драмы представляют собой своего рода контраст криминально-авантюрным комедиям и пародиям, но контраст этот довольно обманчив. Просто Эксбрайя в разных ракурсах решает одну и ту же проблему, доказывая, что любая попытка сыграть на человеческих чувствах, использовать во зло лучшее, что есть в человеке, не может в конечном счете не обернуться жизненным крушением.
Действие романов и повестей Эксбрайя разворачивается едва ли не во всех уголках света: в Англии («Мы еще увидимся, детка…», «Очаровательная идиотка»), в Шотландии (весь цикл о приключениях Иможен Мак-Картри), в Ирландии («Синяки и шишки»), в Италии («Вы любите пиццу?», «Девушки из Фолинаццаро», романы о «подвигах» Ромео Тарчинини), во Франции («Овернские влюбленные», «Лгуньи», «Дамы из Крёзо» и др.), в Испании («Вы помните Пако?», «Оле, тореро!»), в Америке («Последняя сволочь», «Кьянти и кока-кола» и др.), в Польше («Над Закопане сгущаются тучи»), в Швейцарии («Этот дурень Людовик»), в Австрии («Ведите себя прилично, Арчибальд!») и даже в России («Ленинградские влюбленные»), причем очень часто место действия меняется и герои весьма непринужденно путешествуют из страны в страну.
Человеку, никогда не бывавшему за границей, довольно сложно судить, насколько точно писатель воссоздает атмосферу и реалии городов, где разворачиваются события его романов. Но впечатление от его книг остается, как от настоящих путешествий. Где бы ни оказывались герои, писателю всякий раз удается «втянуть» нас в свой мир, сделать не только читателями, но и зрителями. Тут, я думаю, сказывается глубинная связь Эксбрайя с кинематографом. Сюжет развивается на редкость динамично, «кадры» сменяют друг друга очень естественно, а «камера» умело чередует крупные и средние планы.
Описаний у Эксбрайя мало, но все же достаточно, чтобы создать потрясающий «эффект присутствия». Острый глаз опытного журналиста и киношника мгновенно подмечает множество то смешных, то трогательных, то просто характерных бытовых подробностей, и — о чудо! — книги оживают, унося нас в чужие, незнакомые края. Западный читатель, наверное, испытывает радость узнавания, а мы, конечно же, не можем не почувствовать особой благодарности к человеку, без всякой визы подарившему нам увлекательное турне за пределы взбаламученного кипением политических страстей Отечества.
Так, в романе «Вы любите пиццу?» Эксбрайя дарит нам Неаполь, показывая его глазами влюбленной девушки — очаровательной мисс Одри Фаррингтон, специалиста по итальянскому Возрождению. Вместе с ней мы открываем для себя своеобразие старого города, яркие краски и неумолчный гомон южной толпы, множество уютных маленьких кабачков, где подают легкое и вкусное виноградное вино, красоту Неаполитанского залива и чарующую прелесть острова Капри, где так замечательно жилось изобретателю метода социалистического реализма (о чем, впрочем, в романе нет ни слова)… Как и Одри, мы знакомимся с приветливыми улыбчивыми людьми и невольно проникаемся мыслью, что, может быть, в жизни действительно нет ничего важнее любви, причем не только романтической, возвышенной, но и самой обыкновенной, чисто бытовой симпатии к ближнему просто потому, что он наш сосед и частенько мучается теми же проблемами… Любовь, вне всякого сомнения, — главная тема романов Эксбрайя, и не только потому, что важнейшее место в них занимает любовная интрига, но и на внетекстовом уровне — как отношение писателя к жизни, к каждому человеческому существу, к нам с вами, читатель.
Итак, в «Собрание» вошли очень разные произведения Эксбрайя: и криминально-авантюрные комедии, и пародии на «шпионские страсти», и психологические драмы и трагедии. И это не случайно. Мы постарались дать как можно более полное представление о творчестве одного из самых талантливых и своеобразных мастеров детективного жанра во Франции и надеемся, что читатель получит немалое удовольствие.
Не скрою, что основной акцент мы делали на криминально-авантюрных комедиях и пародиях, поскольку именно веселого, жизнерадостного смеха больше всего не хватает в нашей нынешней жизни. А ведь не зря же в случае хандры мудрый Александр Сергеевич Пушкин советовал: «…откупори шампанского бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро». Я, конечно, не дерзаю сравнивать даже самый лучший детектив с комедией Бомарше, но нисколько не сомневаюсь, что изрядная порция галльского остроумия целительна в любой форме.
М. Малькова
БОЛОНСКАЯ КАДРИЛЬ

Глава I
Неожиданно в коридоре вагона загрохотали тяжелые сапоги, и в сердце каждого пассажира эта чеканная поступь отозвалась смутным предощущением беды, отвратить которую может разве что немая молитва. Международный экспресс из Будапешта уже битый час стоял на пограничном вокзале Хегьесхольма. Придирчивые и не в меру подозрительные венгерские таможенники обыскивали чемоданы, залезали в каждый пакет и сверток. Что до пограничников, то они собрали паспорта и ушли.
Сначала обитатели купе воспринимали все формальности с благодушной насмешкой, но мало-помалу иронические замечания произносились все реже, и каждый — с большим или меньшим основанием — начал опасаться, что его не выпустят отсюда на Запад. Даже высокий симпатичный брюнет, который с самого Будапешта ухаживал за молодой женщиной, сидевшей в углу у окна, смущенно умолк — его дерзкие и остроумные колкости больше не вызывали улыбок на губах его спутников.
Звук шагов пограничника нарушил тревожную тишину. Теперь они узнают. Пассажиры напряженно прислушивались к стуку дверей первых купе и к гортанному голосу, выкрикивавшему фамилии. По мере того как солдат приближался к купе, стальной обруч все крепче сдавливал грудь, мешая дышать, и, когда пограничник наконец распахнул дверь, несколько человек чуть не вскрикнули. Бесстрастный и подтянутый венгр настолько могучего сложения, что дверной проем ему, казалось, был тесен, ледяным взглядом смотрел на пассажиров. Все они принадлежали к чуждому ему миру. Держа стопку паспортов в левой руке, пограничник медленно открыл первый.
— Фрау Тэа Нейтер?
Молодая женщина, за которой ухаживал красивый брюнет, протянула чуть дрожащую руку и получила обратно свой паспорт. Тихий вздох облегчения не ускользнул от ближайших соседей. Одного за другим пограничник назвал Альфонса Прюггера, инженера; Райнера Клинге, коммерсанта; Нэнни Майер, пожилую даму, явно злоупотребляющую косметикой; Вольфганга Хаммерера, профессора Венского университета. Последним получил паспорт темноволосый молодой человек.
— Альфонсо Сантуччи, viaggiatore di commercio, — выкрикнул венгр.
Пограничник отдал честь и вышел, но никто из пассажиров еще не осмеливался шевельнуться. И только когда поезд тронулся, все радостно перевели дух. И счастливее всех был Альфонсо Сантуччи, коммивояжер, поскольку он именовался вовсе не Альфонсо Сантуччи и не имел ни малейшего отношения к торговле.
На самом деле Альфонсо Сантуччи звали Жак Субрэй. Родился он тридцать лет назад в Болонье, где его родители, эмигранты во втором поколении, сохранившие французское гражданство держали ювелирный магазин на виа д'эл Индепенденца. Вместе с ними в тысяча девятьсот тридцать девятом году Жак уехал во Францию и вернулся в родной город в сорок шестом. После смерти родителей молодой Субрэй остался в Болонье — все его прошлое было накрепко связано со столицей Эмилии-Романьи. Доверив вести дела унаследованной им фирмы директрисе, Жак окунулся в удовольствия «vita dolce» высших слоев болонского общества, куда благодаря семейной репутации его допустили весьма благосклонно. Старинные аристократические кварталы Болоньи полнились слухами о сумасбродствах молодого француза, но о самом экстравагантном его поступке никто не догадывался. Большой любитель рискованных приключений и самых разнообразных видов спорта, Жак скорее забавы ради, чем всерьез, поступил в разведывательную службу Итальянской республики. Довольно скоро тамошнее начальство решило, что Субрэй — прекрасный агент, когда не влюблен, но это, увы, случается с ним слишком часто. Необычная профессия уже не раз втягивала Жака в самые невероятные истории, но до сих пор он блестяще справлялся со своими обязанностями. Субрэй ни о чем не жалел и считал жизнь на редкость увлекательной штукой. Репутация легкомысленного бонвивана лучше, чем какая-нибудь выдуманная профессия, скрывала тайную деятельность Жака. Все считали его человеком состоятельным, но знали, что время от времени, чтобы поправить свое финансовое положение или покрыть долги, он соглашается съездить за границу для крупной фирмы макаронных изделий Пастори.
Субрэй не был в Болонье три месяца. Поиски рынков сбыта для спагетти, лазаньи и тальятеллы[21] Пастори на сей раз привели его сначала в Югославию, затем в Венгрию и Чехословакию. На самом деле начальство отправило Жака в погоню за похитителями чертежей нового мотора на твердом топливе, который профессор Фальеро вместе со своим племянником Санто разрабатывал в мастерской на Кроче дель Бьяччио. Планы исчезли, несмотря на то что итальянское правительство, возлагавшее на труды сеньора Фальеро серьезные надежды, денно и нощно охраняло ученого. Все сотрудники профессора, вплоть до рядовых лаборантов, подвергались тщательнейшей проверке, и судьба открытия не вызывала особого беспокойства, потому что главные расчеты Фальеро проводил вдвоем с Санто, сыном его брата, погибшего на войне. Мать мальчика лишь ненадолго пережила мужа и умерла с горя, оставив сына на попечение дяди. Именно Санто сразу же сообщил об исчезновении бумаг, и благодаря этому секретные службы не упустили драгоценного времени. Однако перекрывать границы было уже поздно, и начальнику болонской контрразведки пришлось послать Жака Субрэя вдогонку за похитителями, которые, по сведениям, скрывались в Югославии. Эти последние уже считали себя в полной безопасности и решили немного передохнуть, а потому Жаку не составило особого труда догнать их в Мариборе. В результате охотники за чужим добром умерли насильственной смертью, а Субрэй, чтобы обмануть возможных преследователей, отважился на довольно необычный ход. Вместо того чтобы сразу скрыться в Австрии, он поехал в Белград, потом в Будапешт, оттуда в Прагу и снова вернулся в Будапешт, и все это время неутомимо трудился на благо фирмы Пастори. Таким образом, целых три месяца Жак разгуливал под носом у венгерской, чешской и русской контрразведок, перевозя знаменитые чертежи в подкладке кейса, искусно подшитой итальянским сапожником из Загреба. Субрэя поджидали в Австрии и Италии, но никому даже в голову не пришло, что у него хватит наглости болтаться на вражеской территории. Это-то его и спасло.
А теперь поезд уносил Жака в Вену. Дальше его путь лежал в Мюнхен, и оттуда наконец он направится в свою любимую Италию. Впервые за последние двенадцать недель Субрэй мог расслабиться.
Однако молодой человек не чувствовал бы себя так спокойно, если бы знал, что приказ о его аресте пришел в Хегьесхольм меньше чем через десять минут после отхода поезда. Виной тому была измена Джиоконды Бертоло. Эта ревностная коммунистка, работая у Джорджо Луппо, непосредственного шефа Субрэя, узнала, чем на самом деле занимается мнимый представитель фирмы Пастори, и сразу же сообщила об этом в советское консульство. Но и русские не застрахованы от измены. Несмотря на членство в коммунистической партии, переводчик Амедео Форлини предпочитал рублям фунты стерлингов, а потому не преминул известить британское консульство о возвращении Субрэя вместе с чертежами Фальеро. Однако доллар гораздо лучше гарантирован от всяких катаклизмов, поэтому не стоит долго искать причины, почему Карло Домачи, работающий переводчиком у англичан, позвонил в американское консульство и рассказал, кто такой Жак Субрэй и какие ценные бумаги он везет в Болонью. К счастью, огонь патриотизма еще не угас в сердцах большинства итальянцев, и в частности в сердце Джизеллы Мора — одной из секретарш консула Соединенных Штатов, и она немедленно предупредила Джорджо Луппо. Таким образом, последний узнал об утечке информации в своем окружении. Круг замкнулся. И теперь четыре тайных службы принимали все возможные меры, чтобы или помочь Жаку Субрэю, или помешать ему доставить Джорджо Луппо чертежи мотора, изобретенного профессором Фальеро.
А ничего не подозревающий Субрэй, мирно проспав всю ночь в Мюнхене, наутро отправился в Италию. Сидя в удобном купе, он чувствовал себя вполне счастливым. Помимо удовлетворения от удачно завершившейся героической эпопеи Жака грела мысль о скором свидании с Тоской. Он был не на шутку влюблен, собирался снова просить ее руки и верил, что на сей раз девушка не откажет.
Тоска была единственной дочерью графа и графини Матуцци, чье огромное состояние, инвестированное в основном в Америке, избежало финансового хаоса военных и послевоенных лет. Граф Лудовико Матуцци, заинтересованный в промышленной реализации планов профессора Фальеро, финансировал работы ученого.
Впрочем, одно неприятное воспоминание все же омрачало радость Субрэя: три месяца назад они с Тоской поссорились из-за дурацкого недоразумения. Хуже всего было то, что Жаку запрещалось во время миссии сообщать о себе кому-либо, кроме мнимых работодателей из фирмы Пастори, которые тут же передавали его донесения, составленные на торговом жаргоне, в соответствующий отдел разведки. Поэтому Субрэй не мог даже написать Тоске письма.
Тоска Матуцци напоминала тех очаровательных, бойких и жизнерадостных итальянок, чей идеальный образ создало и распространило по всему миру кино. Ее считали одной из самых красивых девушек Болоньи, и воздыхатели толпами валили на каждый прием, который ее родители устраивали в прекрасном особняке пятнадцатого века на виа Сан-Витале. Графиня Доменика Матуцци, знаменитая красавица, блиставшая в сороковые годы, принимала гостей с изысканным изяществом прежних времен. Брат Доменики, Дино Ваччи, часто покидал свою виллу Ча Капуцци, где занимался живописью (ни единого образчика которой, правда, никто никогда не видел), и переселялся к младшей сестре. Дино без зазрения совести жил за ее счет, зятя, высокомерного Лудовико, не жаловал, но зато великолепно ладил с не менее чинным Эмилем Лаубом, австрийским дворецким особняка Матуцци, чье пристрастие к сигарам и виски графа вполне разделял.
Тоска любила Жака, но совсем не одобряла его образа жизни, не понимая, чего ради Субрэю, при его-то богатстве, вздумалось разыгрывать из себя коммивояжера. Ей вовсе не улыбалось стать женой человека, который большую часть своего времени проводит неизвестно где и почти не бывает дома. Несмотря на огромное приданое и открывающиеся в связи с этим возможности, а быть может, пресытившись удовольствиями, которые дают деньги, Тоска мечтала о спокойной жизни, к несчастью, совсем не соответствовавшей склонностям Субрэя. В последний раз, когда они встретились в садах Регина Маргерита, синьорина Матуцци поставила Жака перед жестким выбором.
— Да поймите же меня, Жак! Я не хочу ничего, кроме мирного существования рядом с любимым и любящим меня человеком. Клянусь святой Репаратой, это вполне естественно! Разве не так? Нам с вами крупно повезло — мы можем не беспокоиться о будущем хотя бы с материальной точки зрения. Так почему бы не воспользоваться этим, а? Вы говорите, что любите меня…
— Я запрещаю вам сомневаться в этом!
— Я поверю в вашу любовь только в тот день, когда вы откажетесь ради меня от своей смехотворной работы!
— И чем же я тогда займусь?
— Мной и нашими детьми!
— Но разве этого достаточно, Тоска миа?
— У вас еще есть ювелирный магазин…
— Зато ни малейшего призвания к коммерции.
— Мой отец может взять вас в свое дело.
— Я не хочу быть обязанным человеку, который меня презирает!
— Это потому, что он считает вас лентяем! Впрочем, именно благодаря вашей репутации к вам испытывает живейшие симпатии дядя Дино, а мама уверяет, будто вы один из последних представителей общества, в котором она когда-то царила.
Свидание длилось более двух часов, но ни одному из спорщиков не удалось убедить другого. Ближе к вечеру, когда от деревьев потянуло предательским холодком, Тоска окончательно рассердилась.
— Довольно! Господь тому свидетель, что я люблю вас, Жак, и что я никогда не буду до конца счастлива, если выйду замуж за другого, но я требую, чтобы мне дали возможность жить так, как я хочу! Поэтому выбирайте: или вы станете моим мужем и отцом моих детей, отказавшись от своего дурацкого сумасбродства, или распрощайтесь со мной и по-прежнему ищите мелких удовольствий в кругу вульгарных людишек!
Субрэй по воспитанию был истинным итальянцем и никак не мог допустить, чтобы с ним разговаривали в приказном тоне, даже если приказ исходил от любимой девушки.
— Уж не думаете ли вы, что миллионы вашего родителя дают вам право так разговаривать со мной? Или, может, вы воображаете, будто меня можно купить?
— Святая мадонна! Да как вы смеете?
Тоска не договорила — ее душили слезы, и взволнованный Жак тут же заключил девушку в объятия.
— Тоска миа, — нежно проговорил он, — ты ведь отлично знаешь, что я тебя люблю и никогда не полюблю другую…
— Может быть, тебе это только кажется? Иначе ты не предпочел бы жизнь со мной своим идиотским капризам…
— Клянусь тебе, mi alma[22], я и не думаю класть на одни весы нашу любовь и…
Но Тоска вдруг вырвалась.
— Но вам придется это сделать! — сердито крикнула она. — Я буду ждать ответа ровно до двадцати трех часов! Позвоните и сообщите о своем решении. Если вы скажете, что завтра мы встречаемся на этом же месте, это будет означать, что вы согласны удовлетвориться ролью моего мужа. Если же вы не позвоните мне до этого времени, я сделаю вывод, что вы предпочли свободу…
Но именно в тот вечер украли чертежи профессора Пьетро Фальеро, и Жак, только лишь оказавшись в Югославии, вспомнил, что забыл позвонить Тоске.
Тяжкие испытания, выпавшие на долю Субрэя за последние три месяца, позволили ему осознать, что в конечном счете гораздо лучше смириться с перспективой безоблачного существования подле Тоски, чем то и дело рисковать жизнью при все более усложняющихся обстоятельствах. Рано или поздно его работа в разведке завершится, и тот конец карьеры, который предлагает синьорина Матуцци, ей-богу, самый желательный из всех возможных.
Однако до этого было еще далеко. Опыт подсказывал Жаку, что, пока он не передал чертежи Фальеро своему непосредственному начальнику Джорджо Луппо или его представителю, миссия не окончена, а стало быть, он не имеет права мечтать о будущем. Тем более что противники могут в любой момент поставить на этом будущем крест.
Француз часто думал о Джорджо Луппо, которого ни разу не видел. Жак слышал и знал только его голос, если это и в самом деле Луппо поднимал трубку, когда он набирал засекреченный и выученный наизусть номер телефона. Именно таким образом Субрэй поддерживал отношения со своим таинственным шефом или, что случалось гораздо чаще, поручение передавал посредник. Интересно, встретится ли с ним Джорджо Луппо теперь, когда ему придется либо принять отставку Жака, либо отказать ему?
Более чем когда бы то ни было исполненный решимости принять все возможные меры, дабы сохранить жизнь отца будущих детей Тоски, Жак, выйдя из поезда на болонском вокзале, затесался в самую гущу пассажиров, спешивших к выходу. В тот же миг из-за расписания поездов вынырнул Роналд Хантер, агент британского M1-5, Майк Мортон из американского ЦРУ отошел от газетного киоска, а Наташа Андреева из советского ГРУ поспешно поставила на стол чашечку с кофе. Все трое бросились к выходу вслед за Жаком, и три пары глаз не отрываясь сверлили кейс, крепко зажатый в его руке. Знаменитое шестое чувство, присущее всем шпионам, предупредило Субрэя о грозящей опасности. Он быстро огляделся, но не заметил противников, хотя и чувствовал, что они где-то рядом. Еще не зная ни того, кто на него нападет, ни откуда последует удар, Жак с бьющимся сердцем ожидал развития событий. Однако он совершенно беспрепятственно добрался до контрольного пункта на выходе и предъявил служащему билет. Немного успокоившись, он прошел по коридору среди ожидающих и поднял руку, подзывая такси. Но тут откуда-то справа неожиданно выскочила молодая женщина и кинулась к нему. Инстинкт профессионала заставил Субрэя еще крепче сжать ручку кейса, но лучше бы он позаботился о том, чтобы закрыть лицо, поскольку незнакомка с ходу влепила ему такую звонкую пощечину, что сразу привлекла внимание всех болонцев обоего пола, наблюдавших эту волнующую сцену. А он-то мечтал попасть в родной город как можно незаметнее, — и вот нате вам пожалуйста! Ни Мортон, ни Хантер, ни Андреева не ожидали подобного скандала и остановились в полной растерянности. Они выглядели не менее удивленными, чем Жак, которого очаровательная воительница так громко осыпала проклятиями, что слушатели не упустили ни единого звука.
— Во имя всех святых! Ты все-таки решил вернуться, чудовище? Уж не угрызения ли совести тебя сюда привели? Подумать только, я порчу себе кровь, истекаю слезами, а ты и минуты не нашел, чтобы меня предупредить! Ну, признавайся, ты ездил к женщине? Я гроблю на тебя свою молодость, и вот как ты со мной обращаешься?! И что только Господь Бог дал тебе вместо сердца, мерзавец ты этакий!
По окружившей их толпе пробежал одобрительный шепот. Да, у этой девушки есть и класс, и темперамент, но никакой вульгарности! Итальянцы — величайшие мастера во всем, что касается криков, приступов отчаяния, проклятий и упреков и в то же время истинные ценители подобных эмоциональных всплесков, несравненные их знатоки. Зрители в первом ряду сочувственно кивали. Что до Субрэя, то он испытывал легкое головокружение и мучительно пытался отогнать дурной сон. Лихорадочно роясь в памяти, Жак вспоминал, видел ли он когда-нибудь эту женщину. О да, конечно, он очень многим клялся в вечной любви, но этой, невзирая на все свои старания, честное слово, припомнить никак не мог… А незнакомка тут же воспользовалась молчанием француза.
— И даже то, что наша малютка, которую ты бросил, умирает с голоду, нисколько тебя не трогает, да? Слышал бы ты, как она зовет своего папу, наша маленькая Пия…
Узнав, что он неведомо для себя стал еще и отцом, Субрэй на мгновение остолбенел. Толпа немедленно встала на сторону обиженной. Женщины выражали сочувствие брошенной матери причитаниями, а мужчины громко рассуждали о том, какие отъявленные негодяи встречаются порой в этой юдоли скорби. Какая-то девушка во всеуслышание заявила, что, случись такое с ней самой, она бы прикончила того, кто обманул ее доверие, и скорее дважды, чем один раз. Ее горячо поддержали. Тем временем незнакомка, вцепившись в Жака, продолжала кричать, но теперь в ее голосе слышались рыдания, а по щекам текли слезы.
— Скажи, мой Джакомо… неужели ты меня больше не любишь? Ты навсегда оставил свою Ренату?
На сей раз она явно переборщила, и Субрэй понял, что все это — часть хорошо продуманного плана. Впрочем, смысл происходящего от него пока ускользал. Вновь обретя хладнокровие и хорошее настроение, Жак решил сделать вид, будто поддерживает игру.
— Прости меня, Рената… Это угрызения совести заставили меня вернуться к тебе… Каким безумием было тебя покинуть!.. Оставить тебя и нашу Пию… Я пришел просить прощения… Если ты меня оттолкнешь, я возьму такси, попрошу отвезти меня к Рено и брошусь в реку!
Шепоток понимания снова пробежал по толпе. Да, вот что значит хорошо говорить! Несколько женщин заплакали — они уже ясно видели, как несчастный молодой человек тонет в волнах реки, а те, кто умирает от любви, на земле Данте и Петрарки немедленно возводятся в ранг святых.
— Как красиво! — не удержался кто-то.
— Да здравствует Италия! — воскликнул другой.
Та, что приписала Субрэю несуществующее отцовство, колебалась, а Жак, радуясь первой победе, продолжал настаивать:
— Ну, сокровище моей души, так ты хочешь, чтобы этот день стал для меня последним?
Со свойственной им добродушной бесцеремонностью, вечно заставляющей их вмешиваться в чужие дела, болонцы плотным кольцом окружили пару, которая, как им казалось, переживает любовную драму, и принялись давать советы:
— Ma gue.[23] Да обними же ее!
— Ты должна простить его, бедняжка…
Идиллию нарушил карабинер.
— Эй вы, двое, что это на вас нашло? — сурово осведомился он. — Вы что, не видите, что перегородили проход?
Однако, узнав о разыгравшейся тут небольшой драме, карабинер забыл об уставе и тоже принял живейшее участие в дебатах.
— Ессо! Парень любит вас, синьорина… Он раскаялся. Вы не можете лишить его ребенка, иначе всю жизнь будете мучиться угрызениями совести. Конечно, ваш милый поступил плохо, с этим никто не спорит…
— Позвольте, синьор карабинер… — вмешался Субрэй, которого эта сцена теперь изрядно веселила.
— А вы помалкивайте, иначе отвезу в участок, ясно?.. Так вот я говорил, что он поступил плохо, синьорина… Ма gue! Зато сейчас ему стыдно… Ну, так поцелуйте же его!
Незнакомка, по всей видимости, совершенно утратила первоначальный запал, но решила смириться с неизбежным.
— Только из уважения к вам, синьор карабинер…
И она быстро чмокнула Жака в обе щеки, но молодой человек сжал ее в объятиях и, держа железной хваткой, впился в губы долгим поцелуем. Толпа в полном восторге зааплодировала. Субрэй чувствовал, что все тело незнакомки напряглось в отчаянном усилии вырваться. Да, уж чего-чего, а такого поворота событий милая крошка явно не ожидала! Отпустив ее, Жак пылко воскликнул:
— Как ты могла подумать, будто я способен забыть и Пию, и тебя? Да ведь в вас — вся моя жизнь!
Какой-то благообразный господин вышел из толпы зрителей и протянул Субрэю руку:
— Позвольте мне сказать вам, синьор, вы на редкость порядочный молодой человек!
— Я очень… очень счастлива… — пробормотала вконец растерявшаяся Рената.
— Оно и видно, моя дорогая…
«Дорогая» покраснела до ушей, но, очевидно решив испить чашу до дна, взяла Жака под руку.
— Ты, наверное, устал, мой хороший? Если хочешь, мы можем зайти к Орландо и чего-нибудь выпить, а уж потом поедем домой…
Так вот где расставлена ловушка… Субрэй хотел было сразу послать неловкую интриганку куда подальше, но, с одной стороны, он хорошо знал Орландо и считал его славным малым, не способным стакнуться с преступниками, а с другой — французу было ужасно любопытно, как далеко зайдет эта Рената. Поэтому он не стал возражать.
— Что ж, пойдем к Орландо, amata mia[24]… Ты мне расскажешь, чем тут занималась без меня и на кого теперь работаешь.
Незнакомка косо взглянула на Жака, но промолчала. И они, нежно взявшись за руки, удалились под умиленными взглядами зрителей и карабинера, удовлетворенных тем, что эта трогательная любовная сцена закончилась так благополучно.
Субрэй и прижавшаяся к нему Рената шли через пьяцца делле Медалье д'Оро, а за ними на почтительном расстоянии следовали Мортон, Хантер и Наташа. Субрэй мысленно обратился к Небу с горячей мольбой избавить его сейчас от столкновения с Тоской Матуцци.
Орландо Ластери держал симпатичный старомодный кабачок на Вьяле Рьетрамеллара — внешнем бульваре, достаточно удаленном от центра, чтобы болонские влюбленные, не опасаясь нескромных глаз, приходили туда изливать свою многословную нежность. Рената сразу же повела молодого человека к дальнему столику, на три четверти скрытому винтовой лестницей. Орландо подошел взять заказ и, признав давнего клиента, дружески приветствовал Субрэя. Как только кабатчик принес все необходимое и оставил их наедине, Жак взял молодую женщину за руку и влюбленно заворковал:
— Дорогая Рената… а была ли ты верна мне все это время?
Но «дорогая Рената» быстро вырвала руку.
— Prego, синьор, комедия окончена! К тому же меня зовут не Рената, а Мафальда.
— Обидно… мне так нравилась Рената…
— Почему? Говорят, у вашей милой куча денег.
— Ого! Уже ревнуете?
Но молодая женщина явно не собиралась поддерживать шутливый тон.
— По-моему, я вам уже сказала, что комедия окончена. Разве не так?
— Очень жаль. Она так хорошо начиналась… Не правда ли?
— Вы злоупотребили положением!
— Чего-чего, а нахальства у вас не отнимешь, любезнейшая Мафальда! Не вы ли сами бросились мне на шею? А наша маленькая Пия? Я уже начинал так любить ее…
— Прошу вас, синьор Субрэй, не будем больше об этом. Ладно?
— А о чем же тогда вы хотите поговорить, изменчивая Мафальда?
— О чертежах Фальеро, которые у вас в кейсе.
Жак тихонько рассмеялся.
— По крайней мере на сей раз вы вполне откровенны…
— Меня послал Джорджо Луппо.
Не зная, как быть, Субрэй заколебался.
— Вам не кажется, что леска толстовата? — насмешливо заметил он, решив оттянуть время и пораскинуть мозгами.
— Так позвоните. Джорджо Луппо ждет вашего звонка.
Жак с любопытством взглянул на Мафальду. Сейчас в ее суровом лице уже ничего не напоминало о влюбленной дурочке, устроившей ему
скандал на вокзале. Друг или недруг, но эта женщина явно знает, чего хочет. Жак встал:
— Я пошел звонить.
Но Мафальда вдруг кинулась ему на грудь и, повиснув на шее, заставила снова сесть.
— Нет, нет, Джакомо, ты не можешь так поступить! — стонала она, положив голову на плечо совершенно сбитого с толку Субрэя. — Ты не можешь бросить свою дочь и меня! Если ты это сделаешь, я покончу с собой!
Полупридушенный молодой человек поднял голову, намереваясь глотнуть воздуха, и тут заметил двух мужчин, стоящих у входа. Они так нарочито старались не смотреть в его сторону, что Жак понял игру своей спутницы и ответил ей в тон:
— Умоляю тебя, Рената, не устраивай истерик! Люди на тебя смотрят!
— Я уверена, что, если бы ты только услышал голосок Пии, у тебя бы не хватило жестокости нас бросить! Позвони моей маме, девочка там. Она поговорит с тобой… Джакомо, молю тебя, позвони моей маме… Пожалуйста!
Субрэй с наигранным раздражением пожал плечами:
— Ну, если тебя это успокоит… Но предупреждаю: мое решение непоколебимо!
— Пойдем!
Мафальда взяла его за руку и потащила к туалетным комнатам, где стояла телефонная будка. Незнакомцы продолжали пить вино и не сдвинулись с места, но оба настороженно прислушивались.
Жак вошел в будку и набрал секретный номер Луппо. Джорджо сразу снял трубку, заверил, что Мафальда выполняет его распоряжение, и велел подчиняться указаниям молодой женщины.
— Но… как же быть с… тем, что я привез? Тоже передать ей?
— Делайте то, что вам скажут. По-моему, ясно. Или нет?
Немного задетый, Субрэй повернулся к своей спутнице:
— Я в вашем распоряжении, синьора.
— Давайте кейс! Живо!
Жак выполнил приказ. Молодая женщина схватила кейс и передала вошедшему в это время Орландо. К величайшему удивлению Субрэя, тот, не говоря ни слова, схватил драгоценный чемоданчик и исчез на кухне. Но спросить, что это значит, Жак не успел.
— Осторожно! — шепнула Мафальда. — Вот один из них! Говорите же с моей матерью!
Жак быстро снял трубку.
— Я прекрасно понимаю вас, синьора, — с чувством произнес он, — но ваша дочь слишком любит драматизировать. Что? Ну, разумеется, я не собираюсь отказываться от родной дочери!
Мужчина прошел мимо, не глядя в их сторону, и скрылся в туалете. А Субрэй продолжал игру:
— Я обещаю вам попробовать еще раз, но и вы должны сказать Ренате, что так вести себя нельзя! Эта бесконечная ревность меня убивает! Слышите? У-би-ва-ет! И если все будет продолжаться в том же духе, я просто рехнусь!.. Да… Конечно… Но, будь вы ее мужем, рассуждали бы совершенно иначе! Согласен, я ей не муж, но невелика разница, так ведь?.. Договорились, даю вам слово… Расцелуйте от меня Пию, скажите, что я скоро к ней приду и принесу куклу…
Незнакомец вышел из туалета. Мафальда тут же вырвала у Субрэя трубку.
— Это ты, мама? О, знаешь, я так счастлива! Джакомо остается с нами! Да… Что? Само собой, попытаюсь… До скорого, mama mia…
Как только противник удалился, Орландо выскользнул из кухни и незаметно передал Жаку кейс. Француз недоуменно воззрился на совершенно невредимые швы.
— Ессо… это другой, — шепнула Мафальда.
Они вернулись в зал. Улыбающаяся молодая женщина нежно прижималась к своему мнимому возлюбленному. Но едва они успели сесть за столик, как двое мужчин, до сих пор ограничивавшиеся ролью наблюдателей, перешли к действиям. Они вдвоем приблизились к «влюбленным», и один из них нагнулся, опираясь на мраморную крышку стола.
— Нам нужен ваш кейс, синьор Субрэй! У моего спутника в кармане револьвер, и при первом же вашем неосторожном движении он выстрелит. Мы не хотим лишнего шума. Так что давайте!
Мафальда, изображая крайний испуг, хотела крикнуть, но более решительный из нападавших закрыл ей рот рукой.
— Спокойно! Не стоит вынуждать нас к насилию…
Поколебавшись ровно столько, сколько нужно было для убедительности, Субрэй сдался.
— Ладно… ваша взяла… Но проиграть, почти достигнув цели…
— Мы понимаем ваши чувства, и нам очень жаль вас, синьор…
Они схватили кейс, но, обернувшись, увидели вооруженного обрезом Орландо. Кабатчик явно приготовился стрелять.
— Эй! У моих клиентов еще никогда ничего не крали, и не вам начинать! Ну, отдайте синьору его кейс и проваливайте!
Один из налетчиков хотел было сунуть руку в карман, но Орландо предупредил:
— Осторожно, синьор! Хоть я и немолод, но реакция у меня что надо!
Незнакомцы удалились, бормоча угрозы на непонятном языке. Субрэю показалось, что один из них был русский. Значит, советская разведка первой потеряла терпение…
Жак поблагодарил Орландо, не скрывая, что очень удивился, узнав в нем коллегу, потом повернулся к Мафальде.
— Синьора… Теперь, когда кейс у Орландо, он, я думаю, вполне справится сам. Надеюсь, вы позволите мне уехать домой и отдохнуть от пережитых волнений?
— Пока не время, синьор Субрэй.
— Почему же?
— Чертежи Фальеро благодаря вам возвращены, и дело закрыто. Вы еще услышите поздравления, но позже и не от меня. А сейчас вас ждет другое задание.
— Я отказываюсь. Не хочу больше уезжать из Болоньи.
— А кто вам сказал, что надо куда-то ехать? Синьор Субрэй, небрежность и измена привели к тому, что ваше инкогнито раскрыто и о задании известно всем конкурирующим фирмам. По правде говоря, вы лишь чудом вернулись домой…
— Гм… приятно слышать.
— В свою очередь мы хотим узнать, кто первый украл чертежи Фальеро. Иными словами, надо найти советского агента, которого они использовали, и в этом мы рассчитываем на вас.
— Вы очень добры. Но почему я?
— Потому что, получив обратно кейс, вы ошиблись, приняв его за свой. Следовательно, другие и подавно не заметят подмены.
— Какие другие?
— Те, кто хочет получить чертежи Фальеро, прежде чем вы передадите их синьору Луппо, и, стало быть, любыми средствами попытаются помешать вам добраться до Палаццо дель Дженио Сивиле.
— Ах вот как, любыми средствами?
— Несомненно. Уж не боитесь ли вы, синьор Субрэй?
— Представьте себе, да, синьорина.
— Что ж, тем лучше!
— Не понял.
— Главное — чтобы вы не попали в Палаццо дель Дженио Сивиле. И у тех, кто будет за вами следить, непременно должно сложиться впечатление, будто вы насмерть перепуганы.
— Похоже, мне не придется особенно усердствовать!
— Отлично, тем более естественным будет ваше поведение. И потом, это займет всего несколько часов. Нашим противникам придется действовать очень быстро: они прекрасно понимают, что не смогут до бесконечности не пускать вас в Палаццо дель Дженио Сивиле. Так что сейчас можете ехать куда угодно… Например, домой…
— А потом?
— Подождете, пока появится первый противник, и сразу сообщите нам.
— А если я буду не в состоянии этого сделать?
— Ну, коль скоро чертежи у вас фальшивые, беда относительно невелика…
— Для вас — согласен, но для меня-то как?
— О, с этой точки зрения — разумеется. Но признайте все же, что это вторично!
— Ни за что! Я хочу видеть Луппо, уж его-то я наверняка сумею уговорить!
— Не сомневаюсь… Но как вам удастся убедить наших противников, что вы больше не имеете отношения к секретным службам?
Жаку пришлось признать, что его загнали в угол, но он поклялся себе никогда больше не связываться с Луппо. И вообще, говоря по совести, лучше бы он сразу послушал Тоску!
— Возможно, у входа вас уже ждут. Я сейчас уйду, горько рыдая и продолжая изображать несчастную дурочку, покинутую подлым соблазнителем. А вы еще немного посидите здесь.
— О, я вовсе не тороплюсь!
Мафальда протянула ему руку.
— До свидания и… желаю вам удачи!
— Благодарю.
Минут через пятнадцать после того, как ушла Мафальда, Субрэй направился к двери. Оглядывая бульвар через прозрачное стекло, он не заметил ничего подозрительного. Жак обернулся и встретил полный сочувствия взгляд Орландо.
— Вы в курсе?
— Да.
— Как вы думаете, есть у меня хоть один шанс?
— Человек может узнать, насколько ему везет, только попытав счастья, синьор.
— Орландо, если вы узнаете, что они меня…
Старик поднял руку и сделал пальцами «рожки», отвращая дурную судьбу.
— …так вот, позвоните тогда Тоске Матуцци… дочери графа Матуцци, на виа Сан-Витале… и скажите, что я ее любил…
— Положитесь на меня, синьор, я вложу в это всю душу, и она о вас пожалеет.
— Спасибо.
Субрэй сам себя не узнавал. С тех пор как он решил оставить службу и жениться на Тоске, все его силы и энергия как будто улетучились. Жак открыл дверь с воодушевлением приговоренного к смерти, идущего на казнь, вышел на тротуар, но и там он чувствовал себя так, словно прогуливался нагишом среди одетых людей. Субрэй привык держать воображение в узде, но сейчас оно отыгрывалось сразу за все. С опаской поглядывая на машины, прохожих и ожидая нападения из-за каждого угла, Жак медленно брел к пьяцца делле Медалье д'Оро. Но время шло, а на Субрэя никто и не думал набрасываться, и понемногу он стал чувствовать себя увереннее. Впрочем, спокойствие снова покинуло его, после того как, свернув на шоссе, пересекавшее виа Амендола Джованни, Жак чудом увернулся от мчавшейся на бешеной скорости машины. Водитель и не подумал затормозить, а, наоборот, еще поддал газу и исчез за поворотом на виа Милаццо. Прижавшись к стене дома, Субрэй перевел дух. Да, похоже, Мафальда нисколько не сгущала краски — за ним и в самом деле охотятся.
Ни один индеец на тропе войны не вел себя осторожнее, чем Жак, пробиравшийся на площадь VIII Агосто, где возвышается Палаццо дель Дженио Сивиле, скрывающий в своих недрах секретную службу, возглавляемую Джорджо Луппо. Теперь Субрэй отваживался переходить улицу лишь в толпе других пешеходов и старался держаться как можно ближе к соседям, полагая, что деликатный характер миссии помешает преследователям отправить на тот свет ни в чем не повинных людей.
Таким образом Жак миновал виа Милаццо и направился к лестнице, ведущей к подвесным садам Монтаньола. С южной стороны другая широкая лестница спускается из садов на площадь, и, если он доберется туда, то первый этап пути будет преодолен. Но Субрэй понимал, что наибольшая опасность грозит ему как раз в аллеях Монтаньола. Прежде чем шагнуть на первую ступеньку, француз инстинктивно обернулся и оказался нос к носу с плюгавым рыжеволосым человечком, в котором сразу признал собрата по ремеслу. Желая показать, что никого и ничего не боится, Жак собрал все свои познания в русском языке:
— Чево ви на мэнья сэрдитэс?
Незнакомец вздрогнул и ошарашенно вытаращил глаза.
— Goddam! I don't understand, what you say[25], — буркнул он и, повернувшись спиной к Субрэю, пошел прочь.
Жак сначала очень удивился, что советский шпион решил изъясняться по-английски, но очень быстро сообразил, что изобретение профессора Фальеро может интересовать не только русских. А потому нечего особенно удивляться, что око Лондона мигает неподалеку от ока Москвы, да и вашингтонское наверняка где-то поблизости… А это уже почти толпа!.. Жак не сомневался, что опасность угрожает со всех сторон, и ему страстно захотелось со всех ног броситься бежать, оставив злополучный кейс на первой попавшейся скамейке. Но, по совести, он не мог завершить свою карьеру такой жалкой уверткой. До сих пор Жаку потрясающе везло. Теперь надо расплачиваться… за все разом! Субрэй глубоко вздохнул и спортивным шагом стал взбираться по бесконечно длинной лестнице, всякую минуту ожидая, что его приключения закончатся пулей в спину. Однако ничего подобного не произошло, и Жак, оказавшись наконец в садах Монтаньола, с облегчением перевел дух. Но не успел он как следует расслабиться, как послышался знакомый хлопок и, несмотря на полное отсутствие ветра, шляпа Жака, к огромному удовольствию глупых зевак, покатилась по земле. Субрэю не пришлось долго ломать голову, что бы это значило, — в него стреляли из револьвера с глушителем. По позвоночнику заструился отвратительный холодный пот, и Жак с бьющимся сердцем спрятался за стволом дерева. Люди продолжали спокойно прогуливаться по аллеям — значит, никто ничего не заметил. Субрэй обратил внимание на какого-то старика, не внушавшего особого доверия, — в шпионском мире, как это всем известно, старики очень быстро превращаются в юных атлетов. Да и вон та женщина в платке может запросто оказаться мужчиной… Только девчушка, игравшая в классики, не вызвала у Жака беспокойства. Как любой мужчина в смертельной опасности призывает возлюбленную и негодует, что она не спешит ему на помощь, Субрэй вспомнил о нежнейшей Тоске и подумал, что если она и вправду так любит его, то должна почувствовать грозящую ему беду и примчаться. Но, увы, со времен Тристана и Изольды любовь успела стать гораздо прозаичнее.
Жак превратился в сплошной комок нервов. Он шел, подпрыгивая, озираясь и судорожно вцепившись в ручку кейса. Переход через Монтаньола занял всего несколько минут, но Субрэю они показались часами, как в страшном сне, когда бежишь куда-то и не в силах сдвинуться с места. Он уже добрался до лестницы, спускавшейся на площадь VIII Агосто, как вдруг увидел внизу медленно едущее вдоль тротуара такси и угадал, что мужчина за спущенным стеклом целится в него. Жак плюхнулся на землю в ту же минуту, когда послышался предательский хлопок. Решив, что убийца не может знать, ранен он или нет, Субрэй замер и стал не без любопытства ждать неизбежной развязки. Старик, внушавший Жаку столь сильные подозрения, первым опустился рядом с ним на колени. Одной рукой он начал ощупывать грудь француза, а другой старался вырвать у него кейс. Почтенный предок так низко склонился над Субрэем, что тот вполне мог бы укусить его за нос, но ограничился лишь насмешливым замечанием:
— Парик тэрьяэшь, товариш!
Старик отшатнулся и, подскочив как ужаленный, исчез в толпе любопытных, уже собравшихся около Жака. Субрэй встал и, уверив всех, что это всего-навсего легкое недомогание, пошел к ближайшей скамейке. Зеваки, удовлетворив любопытство, в конце концов разошлись. Очень скоро Жак снова увидел своих преследователей, или, во всяком случае, тех, кого считал таковыми. У одного, по его мнению, был слишком вороватый вид, другой, наоборот, был излишне развязен, у третьего — слишком молодой взгляд на искусно «состаренном» лице и сгорбленная спина при юношески пружинистой походке. И вся эта компания готовилась к новому нападению. Продолжая играть роль человека, все еще не оправившегося от сильного потрясения, Жак с трудом встал и начал спускаться на площадь VIII Агосто. Краем глаза он заметил, что погоня приближается. Наконец, уже у самой площади, его окружили. Но перехватив инициативу, Жак толкнул мнимого кондуктора, оказавшегося ближе прочих врагов, и, воспользовавшись минутным замешательством — никто из преследователей явно не ожидал нападения, — сделал вид, будто направляется в сторону Палаццо делле Дженио Сивиле, но тут же вильнул вправо, подозвал такси и громко приказал шоферу ехать на вокзал. Радуясь, что оказался на высоте, Субрэй расслабился и закурил, потом оглянулся. Машина, едва не сбившая его полчаса назад, ехала сзади. Жак усмехнулся: итак, преследователи не отставали. Значит, все идет по плану.
На вокзале Субрэй выскочил из такси с поспешностью господина, опаздывающего на поезд. Подождав, пока машина преследователей остановится около его такси, и убедившись, что из нее вышли двое мужчин, нападавших на него в Монтаньола, Жак схватил другое такси и велел отвезти его на виа Сан-Витале в особняк графа Матуцци.
На крыльце дома графа Субрэю снова пришлось пережить несколько неприятных минут, моля Небо, чтобы дворецкий поскорее открыл дверь… К счастью, движение было довольно оживленным и машина преследователей немного отстала и затормозила у противоположного тротуара, когда Эмиль Лауб, исполненный, как обычно, величайшей торжественности, уже встретил гостя. Оказавшись в холле, Жак наконец-то почувствовал себя в полной безопасности.
— Если бы вы только знали, Эмиль, как я рад вас видеть! — сказал он.
Лауб принадлежал к уже вымирающей ныне породе дворецких, которые настолько отождествляют себя с хозяином, что начинают обращаться ко всем исключительно от первого лица во множественном числе. Он слегка поклонился.
— Мы и сами чрезвычайно рады видеть месье после столь долгого отсутствия.
В разговоре с Субрэем Эмиль считал делом чести изъясняться только на французском языке.
— Боюсь, что я ужасно плохо воспитан, Эмиль, но уж тут ничего не поделаешь. Скажите, я вас не очень шокирую, если попрошу дать мне выпить чего-нибудь покрепче, прежде чем я увижусь с кем бы то ни было? Мне просто необходимо прийти в себя…
Лауб полагал, что со стороны слуги выказать хоть малейшие признаки удивления было бы серьезным профессиональным проступком и демонстрацией дурного тона.
— Пусть месье соблаговолит следовать за нами в малую гостиную, и мы немедленно принесем ему виски.
В маленькой гостиной, поджидая Эмиля, Субрэй чувствовал, как к нему со всех сторон подступает прошлое. Именно сюда они с Тоской убегали от скуки родительских приемов, а дворецкий не без удовольствия оберегал их покой. Лауб обожал Тоску и питал особые симпатии к Субрэю, чья беззаботность напоминала ему о прежних хозяевах, которым он служил в те времена, когда люди еще не утратили вкус к жизни и умели наслаждаться ею, а не только зарабатывать деньги.
— Можем ли мы позволить себе спросить месье, доволен ли он путешествием? — спросил Эмиль, ставя на столик поднос и наливая Жаку виски.
— Вполне, Эмиль. Лазань пользуется огромным спросом.
На глазах у невозмутимого Эмиля Субрэй один за другим выпил два бокала виски.
— Месье мучила жажда… — только и заметил дворецкий.
Жак знал Эмиля уже много лет, но так и не мог решить, то ли этот шестидесятилетний старик окончательно закоснел и все его умственные способности ограничены десятком стереотипных формул, то ли, напротив, под внешней торжественностью скрывается на редкость острый и ироничный ум. В глубине души Субрэй склонялся ко второму варианту, и порой ему даже казалось, что Лауб все знает о его истинной деятельности.
— Месье очень повезло, что он может путешествовать… Это расширяет кругозор… а иногда и дает утешение…
— Что вы, Эмиль, я вовсе не нуждаюсь в утешениях!
— Кто может знать, месье, когда они понадобятся?
Субрэй очень ценил сентенции дворецкого, и разговор с ним всегда был для него большим развлечением.
— Уж не стали ли вы философом за время моего отсутствия, Эмиль?
— Пожалуй, мы к этому склонялись всегда, месье. Мы немало повидали в жизни и, смеем надеяться, многое запомнили.
— Как-нибудь на днях надо будет попросить вас дать мне несколько уроков, Эмиль… а пока, будьте любезны, доложите обо мне Тоске.
— Нам очень грустно, месье, но мадемуазель Тоски нет дома.
— Вот как? А вы не знаете, она скоро вернется?
— Ее скорое возвращение нас бы очень удивило, месье… Во всяком случае, не раньше половины первого — часа.
— Она присутствует на какой-нибудь церемонии?
— Даже на двух, месье. Сначала — гражданский брак в мэрии, а через двадцать минут после этого, в одиннадцать тридцать, венчание в церкви Сан-Петронио.
При этом известии воспоминание вновь погрузило Жака в светскую жизнь Болоньи, и он почувствовал себя удивительно счастливым. Впредь свадьбы, крестины и похороны станут самыми значительными происшествиями его мирного существования подле Тоски.
— Должно быть, женятся очень важные персоны, раз Тоска встала в такую рань, а, Эмиль? — с улыбкой спросил Субрэй.
— Это она, месье.
— Она? Кто «она»?
— Мадемуазель Тоска, месье. Налить вам еще немного виски?
Жак был так ошеломлен, что смог лишь кивнуть. Все вокруг рушилось — и прошлое, и настоящее. Тоска… Его Тоска выходит замуж за другого! Но как это может быть? В полной растерянности Субрэй залпом выпил бокал виски.
— Но в конце-то концов, Эмиль, ведь она любит меня! — возмущенно воскликнул он.
— К несчастью, месье, опыт говорит нам, что мы далеко не всегда соединяемся священными узами с теми, кого любим.
— Но она клялась мне…
— О, клятвы, месье… — скептически заметил дворецкий, и в его голосе Жак почувствовал братскую симпатию.
— Она уверяла, будто любит меня…
— С разрешения месье, мы позволим себе утверждать, что мадемуазель Тоска говорила искреннее… но ведь месье ни разу не дал о себе знать?
— Я не мог!
— Разве там, где находился месье, не было почты?
— Почты? Ах, да… Была, конечно… но мне запретили писать.
— Вот уж мы никогда бы не подумали, что торговля макаронными изделиями требует подобных предосторожностей… Век живи — век учись.
Субрэй не сомневался, что, несмотря на свой невозмутимый вид, Лауб издевается над ним. Он чуть не вспылил, но вдруг вспомнил, что перед отъездом Тоска предъявила ему ультиматум. Жак не позвонил ей, и девушка наверняка решила, что он ее бросил.
И Жак возненавидел Джорджо Луппо.
— Если это хоть немного утешит месье, мы можем сообщить ему, что мадемуазель Тоска пролила немало слез, прежде чем согласилась отдать руку синьору Санто Фальеро.
— Санто? Она вышла за Санто?
— Нет еще, но это случится всего через четверть часа…
— Но, ради Бога, что она нашла в этой мокрой курице?
— Разочарование часто толкает нас на самые необъяснимые поступки, месье. А кроме того, синьор Фальеро постоянно работает с господином графом и стал своим человеком в доме. Месье не может не знать, что синьор Фальеро — замечательный инженер и его, как и дядю, ждет самое блестящее будущее.
— Я уверен, что она его не любит, Эмиль!
— Мы также убеждены в этом, месье, но теперь это уже не имеет особого значения…
— Ну, это мы еще посмотрим! Сколько осталось до церемонии в мэрии?
— Теперь уже всего тринадцать минут, месье.
— Я еду туда!
— Мы желаем месье удачи и рискнем заметить, что, на месте месье, мы бы уже были там.
Не ответив, Субрэй бросился к двери, но Эмиль все же успел первым открыть дверь, как и положено хорошему слуге. Жак уже собирался переступить порог, как вдруг наткнулся на ногу Эмиля и упал. Автоматная очередь прошила дверную раму, не причинив вреда людям. Лауб захлопнул дверь и помог ошарашенному Субрэю подняться на ноги.
— Должно быть, у месье есть конкуренты, которым не нравятся его спагетти… — пробормотал он. — Но месье может выйти отсюда через черный ход, и дорога до мэрии не займет более пяти минут.
Жак как ошпаренный выскочил на виа Кальдареза с намерением мчаться к Тоске, но его снова задержал Лауб.
— Месье забыл свой кейс!..
Субрэю было глубоко наплевать и на кейс, и на ловушки, расставленные Джорджо Луппо для русского шпиона. У него пытаются отнять Тоску! И Жак уже подумал было попросить Лауба оставить пока кейс у себя, но решил, что не имеет права подвергать жизнь доброго Эмиля смертельному риску, и вернулся. Крепко сжимая в руке свой обременительный багаж, он со всех ног бросился к мэрии, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих и твердо надеясь, что успеет прибежать прежде, чем Тоска произнесет роковое «да», которое разлучит их навеки.
Глава II
Все жители Болоньи, считавшие себя друзьями графа Матуцци или льстившие себя такой надеждой, теплились в мэрии. Накануне все газеты пели дифирамбы этому браку, призванному соединить богатство с наукой. Консерваторы воспевали восприимчивость к духу нового времени тех, кого еще совсем недавно считали реакционерами, а либералы видели здесь залог будущего, основанного на взаимопонимании.
Конференц-зал мэрии, открытый ради такого выдающегося события, был набит битком. В первом ряду возвышалась долговязая фигура графа Лудовико. И манерами, и костюмом седовласый гигант напоминал скорее американца. Рядом стояла его жена Доменика, все еще очень красивая и настолько элегантная дама, что сердца гостей прекрасного пола наполняла жгучая зависть. Брат Доменики Дино Ваччи, несмотря на то что ему уже перевалило за пятьдесят, оставался верен стилю завсегдатаев литературных кафе образца 1935 года. Но, поскольку Дино был родственником Матуцци, в этом находили особый шик.
Стоявший по другую сторону прохода профессор Фальеро походил на медведя, с превеликим трудом наряженного в человеческую одежду. Он не умел носить смокинг и явно не знал, куда девать цилиндр. Его жена Лидия вызывала всеобщие симпатии своим восторженным видом. Даром что ее муж — ученый с мировым именем, все понимали, что этот день для Лидии — своего рода посвящение. Сегодня она твердо вступала в высшей свет болонского общества. Вся фигура синьоры Фальеро излучала радость, а потому никто не заметил, как она вульгарна.
И, наконец, бок о бок у еще пустующего стола мэра стояли Тоска в белом платье и фате и Санто в роскошном, сшитом по фигуре смокинге. Они казались выше всякой критики. Хрупкая изящная Тоска, несмотря на то что была дочерью графа Лудовико Матуцци, волновалась не меньше, чем любая другая девушка в такой момент, и тем подкупала даже самых завистливых. Правда, наиболее проницательные гости все же заметили в ее глазах легкую печаль. Санто, скорее тощий, нежели стройный молодой человек с чуть рыжеватыми светлыми волосами, вполне отвечал расхожему представлению о служителе науки, и, пожалуй, никто бы особенно не удивился, узнав, что он провел первую брачную ночь у себя в лаборатории. Подруги Тоски тщетно ломали голову, что могло ее привлечь в мужчине с такой невыразительной внешностью (они достаточно хорошо знали дочь графа Матуцци и не считали ее способной увлечься интеллектуальным блеском кавалера). Однако предстоящий брак, казалось, опровергал такое мнение.
Как только из боковой двери вышли мэр и его помощники, все встали. Глава городской администрации — иль Коммандоторе — Феличано Граттипола поклонился присутствующим (причем графу Лудовико — особенно низко) и предложил всем сесть. А дальше все пошло согласно обычному ритуалу.
Тем временем Жак с трудом продирался сквозь толпу на подступах к мэрии. Но даже проникнув в здание, он не мог предъявить пригласительного билета, а потому столкнулся с многочисленными препятствиями. Ценой бешеных усилий и разных уловок он преодолел все барьеры, но потерял немало драгоценных минут. Когда Субрэй наконец проник в почетный зал, мэр как раз задавал сакраментальный вопрос:
— Тоска Матуции, согласны ли вы взять в мужья присутствующего здесь Санто Фальеро?
Недолго думая, Жак что было мочи завопил:
— Нет!!!
Это было так неожиданно, что присутствующие замерли и даже стражники, пораженные событием, выходящим за рамки понимания, не решились немедленно принять меры. Субрэй не преминул воспользоваться замешательством и ринулся по центральному проходу к столу оцепеневшего от изумления мэра. И только когда Жак оказался за спиной у будущих супругов, городской голова возопил дрожащим от ужаса и негодования голосом:
— Ma Signore, это профанация!
При виде Субрэя Тоска не могла сдержать волнения.
— Жак! — вскрикнула она.
А француз уже схватил девушку за руки и принялся умолять не бросать его. Казалось, он не видит и не слышит, что творится вокруг. Стряхнув оцепенение, Санто Фальеро бросился на Жака с явным намерением оттеснить его от Тоски.
— По какому праву? Ma gue! Да за кого вы себя принимаете?
Ничего так и не добившись, он накинулся на парализованных недоумением стражников:
— Уберите его отсюда или я его убью!
Но стражникам никак не удавалось пробраться сквозь охочую до скандала толпу, и жениху пришлось воззвать к гостям:
— Ну? Никто не пытается меня удержать? Вы хотите, чтобы тут лежало его бездыханное тело?
Меж тем Субрэй не желал отпускать девушку.
— Ты не можешь так поступить со мной, о моя Тоска! Ты ведь знаешь, что я люблю тебя и ты меня любишь!
— Вы меня любите? Да если бы вы меня любили, то позвонили бы три месяца назад, как я просила, а не пропали неизвестно где! Сколько времени о вас не было ни слуху ни духу!
Возможно, им и удалось бы прояснить недоразумение поссорившее их, если бы не вмешались другие. На помощь Санто, подпрыгивающему на месте от возмущения, поспешила его тетка — появление Жака ставило под угрозу осуществление ее заветной мечты.
— Вы невоспитанный человек, синьор Субрэй! — заявила Лидия и, призвав в свидетели всех присутствующих, добавила: — Эти северяне воображают, будто все еще живут во времена Барбароссы, и чувствуют себя завоевателями!
Исторический намек произвел благоприятное впечатление, но никто не сдвинулся с места. В кои-то веки на подобной церемонии можно еще получить столько удовольствия! Лидия встряхнула мужа.
— А ты что молчишь? Твоему племяннику не дают жениться на избраннице, а ты как воды в рот набрал?
Профессор как будто пробудился от глубокого сна — должно быть, душой он блуждал в неведомых нам межзвездных пространствах — и недоуменно посмотрел на жену.
— В чем дело, Лидия? И что мы здесь делаем?
— Женим твоего племянника!
— Вот как?.. Ну что ж, по-моему, это прекрасно… разве нет?
Синьора Фальеро воздела руки, призывая в свидетели Небо, а в толпе послышались довольно бесцеремонные смешки. В один из моментов затишья многие расслышали, как Дино Ваччи сказал сестре:
— Все получилось вовсе не так убийственно скучно, как я опасался…
Толпа взвыла от восторга. Никто уже не думал, понравится это или нет графу Матуцци. А того, казалось, вот-вот хватит удар. Вне себя от бешенства граф набросился на шурина:
— Молчал бы лучше, идиот!
— Решительно, у тебя гораздо больше денег, чем воспитания, Лудовико, — спокойно отозвался Дино.
Матуцци в ярости подскочил к мэру:
— А вы чего ждете? Почему не приказали выдворить этого субъекта вон? Неужто я должен учить вас, как исполнять свои обязанности?
В зале вдруг наступила гробовая тишина. Замолчал даже Жак. Как-никак дон Феличано был очень заметной фигурой в Болонье. Человек тщеславный, он в какой-то мере рассчитывал, что это бракосочетание укрепит его положение и поможет продвинуться дальше на политическом поприще. По правде говоря, дон Феличано даже подготовил длинную речь, выучил ее наизусть и за последнюю неделю хорошенько отрепетировал в тиши своего кабинета. Однако подобная бесцеремонность графа, да еще на глазах у лучшего болонского общества, совершенно выбила мэра из колеи. Рванув большим пальцем душивший его воротник, дон Феличано завопил:
— Ma gue! Для чего, по-вашему, я тут торчу, дон Лудовико? Может, это ваша мэрия, а не моя? Что ж, садитесь на мое место, раз уж вам так хочется распоряжаться! Вот вам значок, вот кодекс! Дерзайте! Коли вам вздумалось давать мне уроки — попробуйте сами. Хорошенький пример вы подаете избирателям, дон Лудовико! Всё, я возвращаюсь домой!
Граф Матуцци не знал, куда деваться от смущения.
— Простите меня, дон Феличано… — пробормотал он. — Этот скандал продолжается слишком долго, вот я и вспылил… Прошу вас принять мои глубочайшие извинения…
— Что ж, в таком случае… Стража, вывести нарушителя! Церемония продолжается.
И тут Майк Мортон, снова выследивший Субрэя, тихонько проскользнул в зал. В ту же секунду у других дверей показались Роналд Хантер и Наташа, за которой по пятам шли убийцы, упустившие Жака на виа Сан-Витале. Все они одновременно заметили кейс, который, прежде чем броситься к столу мэра, француз оставил на скамейке в глубине зала. Конкуренты поспешили завладеть добычей, но оказались у цели одновременно. Увидев друг друга, они остановились как вкопанные, руки скользнули в карманы. Атмосфера накалилась до предела. Теперь любой пустяк мог привести к перестрелке. Неожиданно на сцене появился Эмиль Лауб. Отстранив одного, попросив прощения у другого, извинившись перед третьим, он разомкнул смертоносное кольцо и с благодушной улыбкой спокойно забрал кейс.
— Я уверен, что месье Субрэй его уже ищет, — проговорил образцовый слуга, раскланиваясь со стоящими вокруг него дамой и господами.
Вся компания настолько ошалела от удивления, что никто даже не шевельнулся.
Пока мэр застегивал воротничок и приводил себя в порядок, стражники схватили Субрэя и осторожно повели к выходу. Однако в конце центрального прохода Жак вдруг снова рванулся к главе администрации Болоньи.
— Синьор подеста! — возопил он.
Услышав это, столь почитаемое ими, обращение, стражники по привычке застыли по стойке «смирно» и, конечно, отпустили пленника.
— Вы не можете поженить Тоску и Санто Фальеро! — продолжал кричать Жак.
— Это почему же, синьор?
— Потому что она моя жена перед Богом!
Большая часть аудитории благоговейно затаила дыхание. Заговорив о Боге, в Италии непременно найдешь внимательных слушателей. Мэр отнюдь не был исключением из правила и, несмотря на явное недовольство Лудовико Матуцци и шумное негодование синьоры Фальеро, не стал затыкать Субрэю рот.
— Очень смелое заявление, синьор! А вы можете предъявить какие-нибудь доказательства?
— Она ждет от меня ребенка!
Никакое уважение к городской магистратуре не смогло удержать публику от взрыва эмоций. Одни громко возмущались столь неслыханным бесстыдством, другие, радуясь скандалу, запятнавшему репутацию семейства, которому они всегда отчаянно завидовали, не скрывали торжества. Журналисты торопились поскорее сообщить сенсационное известие в редакции своих газет. Окончательно сбитый с толку мэр уставился на Тоску… Девушка, казалось, остолбенела, не в силах понять, то ли она ослышалась, то ли Жак и в самом деле опозорил ее перед всем собранием. Лидия Фальеро потеряла сознание и тяжело рухнула на мужа, а тот, изо всех сил пытаясь ее удержать, растерянно спрашивал соседей:
— Что такое? В чем дело?
Дино Ваччи, сотрясаясь от неудержимого хохота, согнулся пополам, а его сестра бросилась к дочери.
— О, Тоска! Почему же ты ничего мне не сказала?
— Да закончится это когда-нибудь или нет? — орал, не двигаясь с места, Лудовико Матуцци.
— Столь серьезное препятствие к браку совершенно меняет дело, — сердито огрызнулся мэр.
Все Фальеро, считая и пришедшую в себя Лидию, являли живую картину оскорбленного семейства.
— Он врет, синьор! — вырвавшись из материнских объятий, крикнула мэру Тоска. — Врет, чтобы попытаться помешать мне выйти замуж! А делает он это потому, что любит меня и знает, что я тоже его люблю!
— Тоска! — взвыл Санто Фальеро.
— Ты с ума сошла? — зарычал Лудовико Матуцци, по-прежнему не двигаясь с места.
— Девочка моя, по-моему, ты немножко запуталась… — не без ехидства заметил Дино Ваччи. — Либо ты ошибаешься в своих чувствах, либо в избраннике. А как по-твоему?
Лидия Фальеро, будучи на грани истерики, повисла на руке у мужа.
— Какой позор! — стонала она. — Мы обесчещены!
Доменика Матуцци повернулась к мэру.
— Вы не находите, что нынешние девушки — на редкость сложные создания, дон Феличано? — умиленно проворковала она.
Мэр чувствовал, что его престиж падает с каждой минутой. Как утопающий последним отчаянным усилием пытается вырваться на поверхность затягивающего его круговорота, несчастный сановник закричал, перекрывая шум толпы:
— Да, нахожу, синьора графиня, но это не повод, чтобы все Матуцци один за другим делали из меня козла отпущения! Синьорина Матуцци, приказываю вам уважать полномочия, которыми я облечен, и это место! Итак, согласны ли вы взять в мужья присутствующего здесь Санто Фальеро? Да или нет?
— Я запрещаю тебе, Тоска! — рявкнул Жак.
Вот этого-то ему говорить и не следовало. Девушка взвилась как ужаленная.
— Вы не имеете права запрещать мне что бы то ни было! — воскликнула она и, снова повернувшись к мэру, добавила: — Да, я согласна! Да! Да! Да!
— Хватит и одного «да». А вы, Санто Фальеро, согласны взять в жены присутствующую здесь Тоску Матуцци?
— Да.
— В таком случае объявляю вас законными супругами! А теперь, синьоры, позвольте мне…
Но всем так хотелось обсудить потрясающую сцену, свидетелями которой они стали, что продолжать эту ни на что не похожую церемонию не стоило и пытаться. Те, кто стоял поодаль, уже расходились, а стоявшие и сидевшие в первых рядах мечтали только о том, как бы поскорее раззвонить сногсшибательную новость по всему городу. И каждый боялся, что его опередят.
Субрэю вдруг показалось, что из него выкачали всю энергию.
— Теперь вы можете меня отпустить, — сказал он держащим его стражам. — Все кончено…
В голосе молодого человека звучало такое безнадежное отчаяние, что охрана, ни на секунду не усомнившись в его искренности, отступила. Тем временем Тоска, так бесповоротно решившая свою судьбу, горько рыдала, не обращая внимания на неловкие утешения новоявленного мужа. Граф Матуцци, не глядя в сторону мэра, подошел к дочери.
— Ты выставила нас на посмешище, Тоска! Нескоро я прощу тебе этот день! Ну, поехали в Сан-Петронио!
Субрэй продолжал стоять в покинутом публикой зале. Эмиль Лауб подошел и почтительно протянул ему кейс.
— Мы позволили себе подобрать то, что вы, несомненно, забыли.
Француз пожал плечами:
— Я нашел кейс, зато потерял Тоску…
— Мы были свидетелями драмы, месье.
— Вы меня осуждаете, Эмиль?
— Нам, скорее, грустно, что месье не сумел найти достаточно убедительных слов.
— Это было очень нелегко…
— А нам-то казалось, месье привык преодолевать куда большие трудности…
И снова Жаку показалось, что метрдотель над ним издевается.
— Не понял… Что вы имеете в виду, Эмиль?
— Только то, что убедить югославов, чехов и прочих венгров покупать капиталистическую лапшу должно быть весьма деликатной задачей… А теперь, покорнейше просим прощения, но неотложные дела призывают нас в особняк Матуцци…
Эмиль ушел, и Жак тоже собрался последовать его примеру. На пороге он обернулся и окинул прощальным взглядом стол мэра. Несчастный подеста печально поник в кресле, один из помощников обмахивал его веером, другой почтительно похлопывал по рукам. Дон Феличано страдал от несварения — внутри застряла так и не произнесенная речь.
Совершенно забыв о преследователях, охочих до секретных документов, якобы зашитых в крышку кейса, Субрэй, вне себя от горя, отправился в Сан-Петронио, надеясь в последний раз посмотреть на ту, что его предала. В церкви он смешался с толпой прихожан. Собор казался ему огромным кораблем, а Тоска, вознесенная над толпой чуть ли не к самым хорам, превратилась в недосягаемую, сверкающую звезду. Шло торжественное богослужение. Вокруг священников порхали стайки служек. Хор пел Баха. Две кардинальских мантии яркими пятнами выделялись среди церковной позолоты. Это была великолепная церемония, но Субрэй был не в состоянии оценить всю ее торжественность. У него не укладывалось в голове, что Тоска безвозвратно потеряна… Тоска… никогда еще она не казалась ему такой милой и дорогой! В полной растерянности молодой человек пытался сообразить, что теперь делать. Ремесло секретного агента больше ничуть не привлекало Жака — не оно ли отняло у него счастье? И впервые за последний час он вспомнил о кейсе. Француз по-прежнему машинально сжимал его в руке, почти не чувствуя веса. Ах, ну и черт с ним! Пускай забирают! Сейчас ему на это совершенно наплевать! Вот только лучше бы сначала его прикончили, избавив от груза бессмысленного существования. Зачем Жаку жизнь, если с ним больше не будет Тоски?
Церемония закончилась. Жак наблюдал, как уходит клир, а новобрачные и их родители перебираются в большой зал принимать поздравления друзей. Вместе с толпой гостей графа Матуцци Субрэй тоже направился туда, движимый самыми благородными побуждениями. Он хотел попросить у Тоски прощения и пожелать ей счастья. Желающие поздравить молодых выстроились в длинную очередь, но когда наконец подошла очередь Жака, вокруг уже почти никого не осталось. При виде молодого человека Тоска сильно побледнела.
— Жак… — пробормотала она.
Санто разговаривал с тестем, повернувшись к ним спиной. Профессор Фальеро пытался в уме извлечь квадратный корень, нужный ему для проверки одной интересной мысли, осенившей его в самый сосредоточенный момент, перед причастием. Что до жены профессора, то она стрекотала с дамами болонского высшего света, упиваясь мыслью, что теперь может держаться с ними на равных.
— Тоска… прости меня за… недавнюю сцену… но… я ужасно несчастен… Потерять тебя вот так… в тот самый момент, когда я возвращался к тебе… Теперь у меня ничего в жизни не осталось…
Потрясенная девушка, сообразив, что совершила величайшую глупость, так безудержно зарыдала, что к ней обратились все взгляды. Доменика попыталась обнять дочь.
— Дитя мое… успокойся…
Узнав Субрэя, Санто подпрыгнул на месте от возмущения.
— Опять он?! Да неужели мы от него никогда не избавимся?
Граф Матуцци, еще не вполне остывший от гнева, душившего его в мэрии, стиснув зубы, двинулся на Субрэя с явным намерением вышвырнуть молодого человека вон. Константино Гарапацци, швейцар Сан-Петронио, в очередной раз обвел высокомерным взглядом пьяца Маджиоре. Он не возражал, чтобы любопытные, собравшиеся у церкви поглазеть на выход новобрачных, полюбовались заодно его роскошной ливреей и стройными ногами. Но сейчас Гарапацци почувствовал, что у него за спиной происходит что-то неладное. Повернувшись к новобрачным, он увидел, как Тоска упала в объятия Жака, а тот долгим поцелуем приник к ее губам. Вне себя от ужаса, синьора Фальеро опять собралась падать в обморок, а немного смущенная Доменика Матуцци пыталась объяснить странное поведение дочери гостям:
— Они почти друзья детства…
Однако слышавшиеся отовсюду сдавленные смешки лучше слов показали графине, что ей никто не поверил. Необычное зрелище так поразило швейцара, что он едва не уронил алебарду. Санто вырвал Тоску из объятий Жака, но француз ухватил счастливого соперника за плечи и, повернув к себе, стукнул в челюсть. В этот удар молодой человек вложил всю свою обиду, разочарование и боль. Фальеро-младший пошатнулся и, глядя остекленевшими глазами в пространство, тяжело грохнулся на пол.
— Мадре миа! Он его убил!
И синьора Фальеро, забыв о праздничном туалете, бросилась на колени возле неподвижного тела племянника, а Матуцци вместе с теми, кто всегда жаждал перед ним отличиться, накинулся на француза. Произошла короткая, но очень жестокая схватка. Дино Ваччи поостерегся в ней
участвовать и лишь меланхолично заметил сестре, прижимавшей к груди Тоску:
— Вовремя же твоя дочка заметила, какую сделала глупость…
А Константино Гарапацци в ужасе бегал вокруг дерущихся, слезно умоляя:
— Синьоры! Сжальтесь! Синьоры! Ну, хотя бы приличия ради…
Еще немного — и, не в силах совладать с возмущением, он начал бы разгонять почтенных гостей алебардой. Но очень скоро Жак без чувств повалился на пол, а Санто тем временем поднялся. Тоску потащили к выходу. Беря под руку все еще не вполне очухавшегося супруга, девушка обернулась, посмотрела в глубину зала и тихонько всхлипнула:
— Жак!..
— Не забывай, дорогая, твоего мужа зовут Санто! — быстро шепнула ей на ухо мать.
Спустившись по лестницам Сан-Петронио, свадебный кортеж расселся по ожидавшим его машинам. Жак все еще пребывал в довольно жалком состоянии духа, но все же достаточно пришел в себя, чтобы заметить, как молодая, скромно одетая женщина хватает его кейс. Француз не мог ей помешать, да и желания особого у него не возникало. Пошло все к чертям! Сидя на пятой точке, молодой человек спокойно наблюдал за похитительницей. Она уже добралась до выхода, как вдруг откуда-то выскользнул рыжий плюгавый человечек, с которым Жак уже сталкивался на Монтаньола. Набросившись на молодую женщину, он снова втащил ее в зал и попытался вырвать кейс. Сам не зная почему, Субрэй расхохотался. Вмешиваться в новую драку у него не было сил. Рыжий, видимо взбешенный неожиданно упорным сопротивлением, стукнул женщину по носу. Несчастная выпустила добычу и ухватилась за переносицу. Победитель нагнулся за кейсом, но перед ним внезапно вырос здоровенный детина.
— Хэлло, Ронни! — вкрадчиво проговорил он. — Кажется, вы меня малость опередили?
— С дороги, Майк, — сердито завопил рыжий, — или я…
— …или вы — что, старый добрый Ронни?
Вместо ответа Роналд быстро сунул руку за пазуху, но не успел вытащить револьвер — гигант ударил его прямо в солнечное сплетение, и бедняга согнулся пополам. С довольной улыбкой здоровяк подхватил кейс и для верности еще раз стукнул противника — на сей раз по затылку. Ронни упал на колени, потом вытянулся во весь рост на полу. Женщина все еще пыталась остановить хлеставшую из носа кровь, а Субрэй с трудом поднялся на ноги, чувствуя, что колени его предательски подгибаются. Гигант одарил его ослепительной улыбкой.
— Я полагаю, вы не очень жаждете еще раз плюхнуться на землю, my boy?
В это время Константино Гарапацци поднялся по лестнице и недоуменно воззрился на странную картину. Впрочем, он тут же заметил, что стоящий к нему спиной огромный детина держит в руке кейс молодого человека, устроившего недавний переполох. Появление швейцара позабавило Субрэя и, охваченный азартом игры, он громко проговорил:
— Вы украли мой кейс, синьор!
— Весьма сожалею, можете мне поверить… но вы ведь не в состоянии его защитить, не так ли?
— Зато я могу, верно? — раздался за его спиной незнакомый голос.
И, прежде чем Майк Мортон из американского разведывательного управления успел обернуться на вызов незнакомца, что-то острое и твердое ткнуло его в спину. Решив не упрямиться, он отпустил кейс и поднял руки. Жак не преминул этим воспользоваться и, подхватив свою собственность, бросился удирать в глубь церкви.
— Можете не торопиться, синьор! — крикнул ему вслед гордый своим подвигом швейцар. — Пусть только шевельнется — и я проткну его, как рябчика.
Несмотря на досаду, Наташа Андреева и пришедший в чувство Роналд Хантер из Интеллидженс Сервис не могли удержаться от смеха — очень уж потешно выглядел здоровенный американец, укрощенный швейцаром Сан-Петронио. А смешнее всего — что последний, сам о том не догадываясь, свел к нулю усилия секретных агентов трех великих держав.
Побитый, окровавленный и в помятом костюме Субрэй отправился искать утешения в модный бар на виа Сан-Марселино, хозяин которого, Паоло Чиафино, был его приятелем. Появление француза вызвало сильное оживление. Не успел Жак облокотиться на стойку, как к нему подбежал толстяк Паоло.
— Можно подумать, вы угодили под автобус, а, синьор?
— Хуже, Паоло… Мне нужно подкрепиться… Дай-ка бутылку коньяка!
— Бутылку? А не многовато ли?
— Нет!..
Бармен поставил на стойку коньяк, Субрэй налил себе полный бокал и выпил залпом. Паоло с грустью наблюдал за этой картиной.
— Подумайте о своей матери, синьор…
— Вот именно, Паоло! Моя мать умерла, а я очень скоро отправлюсь следом. Меня прикончили два часа назад, и если я пью, то для того, чтобы не чувствовать себя покойником.
Жак опорожнил второй бокал. Бармен с состраданием покачал головой.
— Послушай, Паоло, — обиженно заметил француз, — если бы ты побывал на свадьбе девушки, которую любишь и собирался сделать матерью своих детей, разве тебе не понадобилась бы бутылка коньяка?
— В таком случае, синьор Субрэй, я спустился бы к себе в погреб и не вышел бы, пока не забыл неверную!
— Беда в том, что мне-то никогда не забыть Тоску… Вот я и должен забыться, потому что не могу ее забыть!
Паоло со вздохом обернулся к знакомым посетителям.
— Мы, мужчины, слишком чувствительны… и они этим пользуются!
Не прошло и часа, как совершенно пьяный Жак рассказал обо всех своих невзгодах полудюжине клиентов Паоло. В зависимости от количества выпитого, одни сочувствовали, другие внутренне посмеивались над незадачливым влюбленным. Неожиданно сквозь пары туманившего мозг алкоголя Субрэй увидел входящего в кабачок тщедушного рыжего человечка, оставленного им в столь плачевном состоянии в церкви Сан-Петронио. Голова отказывалась работать, и Жак поддался первому побуждению. Услышав веселый хохот, пьянчужки изумленно уставились на француза. Он поманил соседей придвинуться к нему поближе и шепнул:
— П-пог-глядите н-на эт-того р-рыж-жего… в-вон т-там…
Паоло склонился над стойкой:
— Ну и что?
— Т-так в-вот, штарина, эт-то… шпи-пи-пи-он!
Вся компания дружно фыркнула, но Субрэй упрямо стоял на своем:
— Г-гов-ворю в-вам… шпи-пи-он… Я… его з-знаю… С-сегодня с-с ут-тра з-за м-мной… с-следит… н-ну?
Здоровенный мясник Арнальдо Фузато недоверчиво покачал головой:
— Ma gue! С чего бы это вдруг он решил следить за вами, синьор?
Субрэй с пьяной серьезностью поднял вверх указующий перст.
— Ш-штобы с-стянуть… м-мой кейс!
— А портфельчик-то совсем легкий! Вряд ли там такое уж ценное сокровище! — усмехнулся посыльный из бакалейной лавки Уго Сарасено.
Все смеялись, то хлопая себя по бедрам, то — друг друга по спине. А Энрико Тенкони, работавший в табачном киоске, сказал, что пришла его очередь заказать всем выпивку. Но Жак не сдавался.
— Т-там н-не… с-сок-кровище… а д-докум-менты… п-причем… с-секретные!
— Ну да! И откуда же они у вас?
— А от-туда… ш-што я тоже…
— Вы тоже пьяны, синьор!
— С-согласен… я пьян… и д-даже ч-чертовски пьян… н-но эт-то н-не м-меш-шает м-мне б-быть… шпи-пионом!
На сей раз Пало Чьяфино сам решил всех угостить — давненько в его кабачке так не веселились! Чтобы поддержать шутку, Арнальдо Фузато потребовал подробностей:
— И как, по-вашему, кто он такой, этот рыжий таракашка и откуда взялся?
— Эт-то… около Л-лондона… Лондона или Ва-Ва-Ваш… ингтона! Н-но и англи-ли-личане… и аме-ме-риканцы… па-пальцем в н-небо!
Корчась от безудержного хохота, приятели устроили такой тарарам, что Роналд Хантер, рыжий агент британского М1-5, поднял глаза над газетой, которую якобы читал (что, впрочем, не мешало ему пристально следить за вожделенным кейсом). Легкий шумок в голове расположил Арнальдо Фузато и Уго Сарасено к щедрости. Они направились к столу английского шпиона и предложили выпить вместе. Роналд Хантер не понял, что происходит, но отказаться не посмел.
— Что вы будете пить, синьор? — подмигнув друзьям, осведомился Паоло.
— Кампари с содовой.
Ему подали бокал. Все чокнулись с самым дружелюбным видом, и англичанин поднес кампари к губам.
— Я пью за ваше здоровье, синьор, — торжественно заявил Паоло. — И позвольте вам сказать, что я еще ни разу в жизни не видел такого симпатягу шпиона!
От удивления Роналд поперхнулся, содовая ударила в нос, бедняга закашлялся и расчихался, из глаз потекли слезы. И все, не мешкая, принялись хлопать его по спине, только Субрэй с пьяной хитрецой спросил:
— Н-ну… к-коллега… в-вы все еще жа-жадтете п-получ-чить м-мой… к-кейс? А?
Англичанин наконец справился с приступом кашля.
— Должно быть, это шутка, синьор, — с достоинством проговорил он, — но я не улавливаю ее смысла.
— Ma gue! — возмутился Уго Сарасено. — А я-то думал, шпионы как раз всегда все улавливают!
Энрико Тенкони поддержал приятеля.
— Может, око Лондона малость подслеповато?
— Но я вовсе не… — попытался было отнекиваться англичанин, однако Арнальдо Фузато дружески хлопнул его по плечу.
— Не волнуйтесь, синьор, мы в курсе!
Субрэй ухватил Роналда за лацканы пиджака.
— В-вы… мне нрав-витесь… ста-ти-рина… н-но я в-все рав-вно н-не м-могу да-да-дать в-вам… к-кейс с до-досье… Фа… Фальеро? П-правда же?
Англичанин в полной растерянности наблюдал, как рушатся все правила осторожности и маскировки, столь терпеливо внушавшиеся ему в М1-5. Мало того, что его инкогнито раскрыто, но эти болонцы не только не возмущаются этим, а как будто даже рады! Ни самому Хантеру, ни его начальству никогда даже в голову не приходило, что однажды он может оказаться в подобной ситуации! Приехав в Италию, Роналд ждал любых неприятностей, начиная от высылки из страны и кончая пожизненным заключением. В случае, если о его миссии станет известно, Хантер готовился претерпеть даже пытки, но ни один инструктор ни разу не намекнул, что он столкнется с бандой отвратительных пьяниц и те начнут во все горло орать о тайном поручении Роналда Хантера, подданного Ее Всемилостивейшего Величества и уроженца Кокермаута, что в графстве Камберленд!
Верзила мясник по-братски обхватил его за плечи.
— Моя жена Джельсомина ни за что не поверит, что я познакомился со шпионом! Может, зайдете к нам пожевать сегодня вечером, синьор? Джузеппе, мой старшенький, будет вне себя от радости! Он не пропускает ни одного шпионского фильма.
Хантера терзали страх и отчаяние, он чувствовал, что вот-вот потеряет сознание, но Уго Сарасено вовремя поддержал беднягу за талию.
— Ma gue! — возопил он. — Вы что, не видите? Синьору плохо! Неужто никто не пожалеет бедного маленького шпиона?
Зычный голос бакалейщика разносился по улице, и Роналд подумал, что, если сегодня ночью его не выволокут из постели агенты итальянской контрразведки, это будет почти чудом везения. И Хантер решил срочно переехать в другую гостиницу, послав кого-нибудь за багажом. Закрыв глаза, он живо представил себе дом в Кокермауте и ожидающих его жену Дэйзи и детей. Из Дэйзи выйдет такая хорошенькая вдова… К глазам подступили слезы, но тут Роналд обнаружил, что на него никто больше не обращает внимания. Мучители, повернувшись спиной к англичанину, слушали, как Паоло что-то рассказывает вполголоса, Субрэй дремал, опустив голову на стойку, а брошенный им кейс лежал в пределах досягаемости Хантера. Не решаясь верить своему счастью, Роналд вознес горячую молитву святому Георгию, который, как известно, с незапамятных времен оберегает граждан Великобритании, потом нагнулся и осторожно протянул руку к кейсу, но… тут же получил такой шлепок по заду, что, потеряв равновесие, рухнул на Субрэя. Тот на мгновение вышел из пьяного оцепенения и, обхватив англичанина, забормотал:
— А в-ведь ты… з-знала… ш-ш-што я люб-блю… т-тебя одну…
Покраснев от стыда, Хантер под громкий хохот и радостные вопли итальянцев вырвался из объятий Субрэя. Он понимал, что угодил в ловушку, и без всякой надежды на спасение стал ждать полицию. Влип так влип. Но верзила мясник тихонько подвел его к стойке и, сунув под нос толстый, как сарделька, палец, стал добродушно отчитывать:
— Кто ж это попадается с поличным, а? Неужто так руки чешутся взглянуть, чем набит чемоданчик нашего друга?
Роналд уже просто не знал, на каком он свете. Он чувствовал себя пробкой, плавающей в бурных волнах, и не испытывал ни малейшего желания сопротивляться обстоятельствам.
— Мы не хотим, чтобы вы ушли от нас с обидой, синьор, — все так же благодушно продолжал Арнальдо Фузато. — И ради вашего удовольствия покажем, что там, внутри…
Профессионалы терпеть не могут, когда любители лезут в их епархию, и Хантер хотел было воспротивиться, но не рискнул. Какого черта? И, вытаращив глаза, с пересохшим от волнения горлом англичанин стал смотреть, как мясник открывает кейс и роется в бумагах, из-за которых полдюжины секретных служб уже потратили кучу золота и пролили немало крови…
— Ага… Контракты на поставку лазани, тальятелли, спагетти… И чем они вас так привлекли? А ну-ка, признайтесь, что вы с приятелем просто задумали нас разыграть! Так ведь? Ничего не скажешь: оба — первостатейные актеры! Да вот только тот, кто сумеет провести болонца, еще не родился на свет! Ладно, давайте опрокинем по последней… Плачу я… Как-никак, мы вам обязаны: повеселили на славу!
Прежде чем ему позволили уйти, Роналду пришлось проглотить еще один кампари, и все равно Уго Сарасено счел своим долгом проводить англичанина до двери. Выпуская его на улицу, бакалейщик во всю силу легких завопил:
— Дорогу любимому шпиону Ее Всемилостивейшего Величества королевы английской Елизаветы Второй!
Онемев от ужаса, Хантер стоял в дверном проеме, не в силах ступить и шагу на подгибающихся ногах, и отчетливо представлял себе самочувствие несчастных, которых в средние века выставляли на поругание толпы. К ним подошел полицейский. Супруг Дэйзи решил, что наслаждается последними мгновениями свободы, но блюститель порядка через голову англичанина набросился на Уго Сарасено.
— Может, сам угомонишься немного, а, Уго? Иначе как бы мне не пришлось учить тебя хорошим манерам! Ясно?
Полицейский козырнул Роналду.
— Простите, его, синьор. Все это от глупости, а вообще парень-то он безобидный.
Едва веря такому счастью, агент М1-5, даже не поблагодарив своего спасителя, поспешил удрать как можно быстрее, но так, чтобы не возбуждать подозрений.
Субрэй пришел в себя около пяти часов вечера, в своей квартире на виа Васцелли. Он никак не мог понять ни каким образом попал домой, ни почему у изголовья постели сидит Паоло Чиафино. Бармен наклонился над ним.
— Ну, вам полегчало?
— Что со мной стряслось, Паоло? И какого черта я валяюсь в кровати?
— Отсыпаетесь от фантастического перепоя, синьор! Когда я вез вас сюда на такси, вы были не лучше покойника… — Немного подумав, Паоло мечтательно заявил: — Не то чтоб я хотел вам польстить, синьор, но это одна из самых потрясающих пьянок в моей жизни, а уж Мадонна знает, чего я только ни повидал! Клянусь, вы прямо чемпион в своем роде! А потому, зная ваш адрес, я счел своим долгом отвезти вас сюда и поглядеть, как дело пойдет дальше… Уже добрых три часа вы проспали…
— Три часа?
И Паоло рассказал изумленному Жаку о сцене, разыгранной им вместе с забавным рыжим человечком, который так замечательно исполнял свою роль. От заключительных комплиментов бармена Субрэй стал бледно-зеленого цвета.
— До чего ж мы смеялись, когда вы нас убеждали, будто вы шпион и таскаете в кейсе сверхсекретные документы, за которыми якобы охотится тот рыжий! Стоит вам выпить, синьор, и вы становитесь непревзойденным шутником!
— А этот рыжий… он все-таки забрал кейс? — придушенным голосом спросил француз.
— Еще чего! Между нами говоря, не знаю, вправду ли этот парень один из ваших друзей, но, по-моему, ему не Бог весть как понравилась шутка… Но, как бы то ни было, никто и не собирался отдавать ему кейс. Мы вовсе не хотели, чтобы вы лишились своих контрактов…
— Контрактов?..
— Для смеху Арнальдо заглянул в ваш чемоданчик, уж чего скрывать! Но потом все положил на место — я сам следил за этим!
— А где мой кейс?
— Под тумбочкой.
Убедившись, что бумаги на месте, Субрэй облегченно вздохнул. Прежде чем расстаться с приятелем, Паоло приготовил крепчайший кофе, влил в Жака пол-литра этого освежающего напитка, помог добраться до ванны и принять холодный душ. Когда Паоло наконец ушел, облаченный в халат Жак развалился в кресле и, закурив, стал медленно возвращаться к действительности.
Будучи все еще в некотором отупении, он включил радио и почти тотчас же наткнулся на городскую хронику. Репортер с воодушевлением рассказывал о венчании в церкви Сан-Петринио, соединившем священными узами Тоску Матуцци, дочь графа Матуцци, одного из благодетелей Болоньи, и Санто Фальеро, молодого ученого, племянника знаменитейшего профессора Фальеро, благодаря которому Италии завидует весь мир. Журналист ни словом не упомянул о двойном скандале, разразившемся в мэрии и в церкви, зато сообщил, что, прежде чем отправиться в свадебное путешествие, молодые сегодня будут принимать друзей в особняке Матуцци начиная с двадцати часов.
Опьянение притупило отчаяние Жака, но теперь ему снова стало невыносимо больно. Молодой человек задумался о Тоске. Убедившись, что девушка его любит, — разве не крикнула она об этом мэру? — Субрэй не мог смириться с потерей. И как она решилась соединить жизнь с другим? Досье Фальеро снова отступило на задний план. Какое ему дело до ловли чужих шпионов для Джорджо Луппо, если у него отнимают Тоску? Как и утром, к Жаку пришло воинственное настроение, и он поклялся, что Фальеро и Матуцци с ним еще не покончили. Для начала Субрэй задумал явиться на прием графа Матуцци, хотя его никто туда не приглашал. Уж как-нибудь Эмиль Лауб поможет ему проникнуть в крепость на виа Сан-Витале!
В четверть десятого Субрэй, облаченный в смокинг, но по-прежнему сжимая в руке драгоценный кейс, смешался с группой опоздавших с твердым намерением войти в особняк Матуцци. Эмиль, возвещавший о прибытии каждого нового гостя с порога гостиной, сделал Жаку знак идти в маленький салон и сам не замедлил присоединиться к нему.
— Мы полагаем, месье не удивится, узнав, что мы получили категорическое приказание преградить вам вход в этот дом, если у месье хватит наглости — мы, конечно, повторяем собственные слова господина графа — явиться сюда? Поэтому мы надеемся, месье соблаговолит уйти, не доставляя нам лишних неприятностей…
— И это вы, Эмиль, гоните меня вон?
— С тем чтобы месье вернулся, как только мы повернемся спиной… дабы не обмануть доверия господина графа… Добавим, что в комнате мадемуазель Тоски… простите, мадам Фальеро устроена дамская раздевалка, и если, как мы догадываемся, месье надеется в последний раз увидеть мадемуазель Тоску — пардон, мадам Фальеро, — то лучшего места не найти…
— Эмиль, вы потрясающий тип!
— Мы тоже имеем слабость так думать, месье.
— Вот только Тоска не захочет со мной увидеться… она не посмеет!
— Мы могли бы шепнуть мадемуазель Тоске… которую никак не привыкнем называть мадам Фальеро… что видели месье и знаем о его твердой решимости наложить на себя руки и присовокупить собственное бездыханное тело к числу свадебных даров. Может, это и диковато, но девушки Болоньи весьма романтичны… Так почему бы этим не воспользоваться?
Те, кого обычно принято именовать блестящим собранием, толпились в большой гостиной графского особняка. Лудовико Матуцци встречал гостей с любезностью дипломата, но на губах его играла усталая улыбка человека, привыкшего выслушивать одни банальности. Супруга графа, как всегда величественная и прекрасная, никак не могла отойти от легкой меланхолии, которая, впрочем, ей весьма шла. Синьор Фальеро забился в уголок и, по-видимому, смертельно скучал, зато Лидия сияла, наслаждаясь величайшим триумфом своего существования. Санто, гораздо чаще привыкший обращаться с пробирками, чувствовал себя среди элегантных туалетов и светской болтовни довольно неуютно. Тем не менее большинство гостей испытывали к нему симпатию. Везению, конечно, завидовали, но беззлобно. Что до Тоски, то, несмотря на все старания, ей никак не удавалось казаться счастливой. Девушка не могла забыть отчаяния Жака и уже перестала размышлять над тем, не совершила ли она глупости, — увы, теперь в этом не осталось и тени сомнения! К счастью, вечно юный Дино Ваччи был рядом и несколько разряжал накаленную атмосферу вечера. Время от времени сестра с улыбкой поглядывала на него. При всех недостатках Дино Доменика была ему благодарна: что бы там ни было, брат продолжал хранить чудесные традиции прежнего мира.
Тоска пила шампанское и слушала поздравления ближайших подруг. Случайно подняв голову, она вдруг встретилась глазами с дворецким — тот, по-видимому, нарочно хотел привлечь внимание молодой хозяйки. Девушка немного удивилась и, извинившись перед гостями, вышла вслед за Эмилем в холл.
— Что-нибудь не так, Эмиль?
Лауб, великолепно разыгрывая сильное потрясение, пробормотал:
— Ах, синьора… мы вне себя от страха…
— От страха? Вы?.. Но это невозможно, Эмиль! И что же вас так напугало?
— Месье Субрэй, синьора…
Тоска покраснела.
— Вы хотите сказать, он здесь?
— Месье Субрэй воспользовался тем, что мы провожали гостей в большую гостиную, и проскользнул в холл… Мы не рискнули выдворить его из дома, опасаясь нового скандала…
— Вы правильно поступили, Эмиль, но я не хочу его видеть. Где он?
— В вашей комнате, синьора.
— В моей комнате? Какое нахальство! И что он там делает?
— Месье Субрэй крикнул нам, что собирается покончить с собой, синьора!
— Что?!!
Тоска подбежала к лестнице и, приподняв длинное платье со шлейфом, чтобы не мешало, стала торопливо подниматься наверх. Эмиль не отставал. Они вместе примчались к комнате Тоски, и дворецкий распахнул дверь. При виде тела Субрэя, раскачивающегося на огромном крюке возле тяжелой бархатной шторы, молодая женщина чуть не закричала на весь дом. А Эмиль бросился к Жаку.
— О святая Мадонна! Несчастный повесился…
Метрдотель не счел нужным добавить, что это он сам «повесил» Жака и что молодой человек без всякого вреда для здоровья мог оставаться в таком положении хоть до ночи. Но как раз поэтому Эмиль должен был сам снять «тело» с крюка.
Жак, вытянувшись на постели с закрытыми глазами, превосходно играл свою роль. А Эмиль похоронным тоном заметил, что сходит в гостиную и поглядит, нельзя ли потихоньку вызвать врача.
— Насколько мы помним, в числе приглашенных есть доктор Камуссо, синьора…
Как только Лауб закрыл за собой дверь, Тоска склонилась над мнимым самоубийцей.
— Жак!.. Мой Жак!.. Зачем ты это сделал?
Тот промолчал, хотя ему страстно хотелось обнять девушку.
— Если ты любил меня до такой степени, то почему не позвонил три месяца назад? — рыдая, причитала Тоска. — Зачем ты исчез и не давал о себе знать столько времени? Я думала, ты меня разлюбил и сбежал… О, горе мне! Когда Санто попросил моей руки, я сказала «да», потому что так хотел отец… а мне было все равно, будет он или кто другой… раз не ты! — И, нагнувшись к самому уху молодого человека, она шепнула: — Но я никогда никого не любила и не полюблю, кроме тебя, Жак… кроме тебя!
Не в силах больше сдерживаться, Субрэй вдруг приподнялся и заключил девушку в объятия. Тоска даже икнула от страха. События, несомненно, приняли бы катастрофический оборот для чести Санто Фальеро, если бы в этот момент не вошла Доменика Матуцци.
— Тебе не кажется, что это все же рановато, Тоска? — спокойно осведомилась она.
Внезапно отрезвев, девушка вырвалась из рук возлюбленного и бросилась к матери.
— Чего-чего, а решимости у вас не отнимешь, Жак! — заметила та Субрэю. — Заметьте, я вас вовсе не упрекаю, скорее наоборот. Но если об этом проведает мой муж, случится что-то ужасное!
Однако Тоска, вдруг сообразив, что самоубийство было чистой воды надувательством и ее провели, раскричалась:
— Он опять мне наврал, мама! Сделал вид, будто повесился из-за любви! Вот ведь чудовище!
— Не стоит преувеличивать, девочка. Он тебя и в самом деле любит. Но вам надо было объясниться немного раньше, не так ли, мой милый Жак?
— Кому бы могло взбрести в голову, что Тоска изменит мне и выйдет замуж за этого сморчка Санто!
— Это вы мне изменили! И сморчок он или нет, а Санто — мой муж, и он сумеет обеспечить мне спокойную жизнь, о которой я мечтала!
— Посмотрим-посмотрим! Вы со мной еще не покончили, Тоска Мутацци!
— Синьора Фальеро, будьте любезны!
— Для меня вы навсегда останетесь Тоской Матуцци!
Молодая женщина вышла, хлопнув дверью. Доменика закурила, а Жак стал приводить в порядок несколько помятый смокинг.
— Ну и кашу вы заварили, малыш… Вероятно, вы не очень удивитесь, если я скажу, что предпочла бы иметь зятем вас, а не Санто с его уравнениями… Не считая того, что мысль о его тетке приводит меня в содрогание… Но что сделано, то сделано…
— О, развязать можно любой узел!
— Если вы рассчитываете, что Тоска пойдет на развод, то глубоко заблуждаетесь.
— Тогда я убью Санто!
— Это, разумеется, выход, но я бы вам не советовала им воспользоваться. Оставьте кейс в гардеробе и пойдемте в гостиную. Вы войдете со мной под руку, и Лудовико не посмеет ничего сказать.
При виде Субрэя граф Матуцци даже покраснел от гнева, и все с любопытством застыли в ожидании взрыва. Доменика подошла к мужу.
— Лудовико… Я думаю, в такой прекрасный день не должно быть места обидам. Жак пришел принести нам искренние извинения за то, что случилось утром… Надеюсь, вы его простите?
Граф нехотя протянул Субрэю руку. Среди гостей пронесся вздох разочарования. Тоска постаралась уйти подальше от Жака, зато Санто, напротив, искал примирения.
— Я отношу ваши сегодняшние безумства на счет растерянности, Субрэй. Давайте забудем об этом. И предлагаю вам свою дружбу.
— Я ее принимаю, но с одним условием: докажите свое дружеское расположение немедленно.
— Хорошо. А что я должен сделать?
— Покончить с собой!
— Что?!
— Так или иначе, но вы должны исчезнуть раз и навсегда, чтобы мы с Тоской могли исправить глупость, случившуюся из-за вашего дурацкого вмешательства. И вот что, мой бедный друг: зарубите себе на носу, что она никогда вас не полюбит! Я хорошо знаю Тоску, она, уж простите, Санто Фальеро, любит меня!
— Правда?
— Правда!
Молодые люди угрожающе мерили друг друга взглядами, как вдруг Доменика Матуцци, проходя мимо, взяла их обоих под руки.
— Я очень счастлива, что вы так хорошо поладили, — шепнула она, — и не сомневаюсь, что Тоска тоже обрадуется…
Не ответив, Санто ускользнул от дружеской опеки тещи и, решительно направившись к жене, отозвал ее в сторону.
— Что на него нашло? — удивилась Доменика.
— Невыносимый характер!
— Жак, будьте откровенны! Что вы ему наговорили?
— Я? Да ничего… вернее, почти ничего… Просто попросил покончить с собой, чтобы я мог как можно скорее жениться на вдове… Заметьте, это был лишь совет… просьба… Я его вовсе не принуждал. К несчастью, у меня нет такой возможности…
— Жак, когда вы станете серьезным?
— Я и так достаточно серьезен, чтобы чувствовать себя несчастным!
В это время Санто подошел к ним вместе с Тоской. Опасаясь скандала, Доменика увела их в маленькую гостиную.
— В чем дело, Санто? — спросила она зятя.
— А то, что я хочу расставить все точки над «i». Вот этот тип преследует нас с Тоской с самого утра под тем предлогом, что, видите ли, любит мою жену и она якобы тоже его любит. Я хочу, чтобы Тоска ответила ему сама! Может, тогда он наконец поймет и отстанет от нас?
— Опасное дело вы затеяли, Санто, — ввернула Доменика, — и крайне неприятное для всех нас…
— Тем хуже! С этим пора покончить. Ну, Тоска…
Тоска заговорила прерывающимся голосом, не поднимая глаз:
— Будьте благоразумны, Жак… Теперь Санто мой супруг и нас ничто не может разлучить… Я ждала вас достаточно долго… но вы предпочли скакать по горам, по долам! Что ж, продолжайте в том же духе, Жак, а нам с Санто дайте возможность жить тихо и спокойно!
И, повернувшись на каблуках, Тоска убежала. Все были смущены и молчали. Наконец Санто решил закрепить победу:
— Ну, теперь вам все ясно, Субрэй? На вашем месте я бы ушел.
Санто тоже покинул маленькую гостиную, и Жак с Доменикой остались вдвоем.
— Вам очень больно, Жак?
— А вы в этом сомневаетесь?
— Тоска дурочка… Сто раз я ей повторяла, чтобы не торопилась выходить за Санто, но ее так злило ваше молчание… И что вы собираетесь делать теперь?
— Умереть!
Доменика улыбнулась. Этот француз и в самом деле стал истинным итальянцем!
Глава III
Было уже около полуночи, но с новобрачными и их родней еще оставалось человек двадцать самых близких друзей, и в том числе Субрэй, невзирая на все советы отказавшийся покинуть дом. Он сидел в кресле у двери совершенно один и неотрывно следил глазами за Тоской. А девушка, постоянно чувствуя на себе этот взгляд, все больше и больше нервничала. Вошли двое слуг с подносами, на которых поблескивали бокалы с шампанским, — наиболее стойким гостям предлагалось выпить напоследок за счастье и благополучие новобрачных. Как только слуги ушли, Жак встал и, подходя то к одному, то к другому гостю, начал забрасывать их странными вопросами.
— Простите… — шептал он. — Вы ничего такого не чувствуете?
И всякий раз удивленный гость требовал объяснений:
— Извините, синьор, я не понимаю смысл вашего вопроса…
— Ни жжения в желудке? Ни тошноты? Ни головокружения?
— Вы с ума сошли?
Субрэй с растерянным видом вздыхал.
— Лучше бы я и в самом деле лишился рассудка!
Гости пожимали плечами, полагая, что это глупая шутка, но все же поведение Жака удивляло, и мало-помалу в души ближайших друзей семейства Матуцци закралась легкая тревога. Узнав о маневрах Субрэя, граф заподозрил неладное и, остановив молодого человека посреди гостиной, громко потребовал объяснить причину грубого фарса. Опасаясь худшего, хотя и не вполне понимая, что бы это могло быть, Тоска под руку с Санто подошла поближе к отцу, а следом за ними — и Доменика. Клевавший носом Дино Ваччи протер глаза, не сомневаясь, что благодаря изобретательности француза этот скучный вечер закончится-таки фейерверком. Меж тем граф, хоть и побагровел от бешенства, все же заставил себя говорить спокойно:
— Субрэй! Вы вторглись в мой дом без разрешения, а теперь позволяете себе… Как расценить бестактные вопросы, которые вы осмелились задавать моим гостям?
— Я задавал их для очистки совести…
— И что это значит?
— Меня мучают угрызения…
— Какого рода?
Все окружили хозяина дома и его противника. Последний обратился ко всей аудитории:
— Дамы и господа! Я хочу, чтобы вы знали: я люблю Тоску Матуцци и она меня любит, а за Санто Фальеро вышла по ошибке!..
Подобное отсутствие такта возмутило женщин. Мужчины, тоже несколько шокированные, все же заулыбались. В упрямстве француза чувствовалось нечто глубоко трогательное. Только Лидия Фальеро попыталась было протестовать, но граф остановил ее:
— Прошу вас, дорогой друг, дайте этому господину закончить свой номер, а потом я вышвырну его вон!
— Однако сделанного не воротишь, — все с тем же несчастным видом упорствовал Субрэй. — В отместку я решил умереть — пусть, думал я, Тоска перешагнет через мой труп, отправляясь в свадебное путешествие…
Тоска зарыдала, а граф, не обращая внимания на ее слезы, стал уверять Субрэя, что ему пришла в голову замечательная мысль и он, Лудовико, очень жалеет, что у молодого человека не хватило пороха ее осуществить.
— Да в том-то и дело, — жалобно возразил Жак. — Я как раз предпринял первые шаги…
Все мгновенно насторожились.
— Несколько минут назад я вылил содержимое флакончика с ядом в бокал шампанского, но, прежде чем выпить, на минутку отлучился, а по возвращении обнаружил, что поднос с бокалами исчез. Ну и как же я мог отличить после этого свой бокал от тех, что слуги предложили вашим гостям?
Смешки и шушуканье сразу умолкли, и комнату окутала гнетущая тишина.
— Вы хотите сказать, что кто-то из присутствующих выпил отравленное вами шампанское? — с трудом открывая пересохший рот, выразил всеобщее беспокойство граф.
— Вот именно. Я очень об этом сожалею… Однако, если бокал достался Санто Фальеро…
Не успел Жак договорить, как Лудовико вцепился ему в горло. Доменике пришлось призвать на помощь слуг, и лишь тогда мужчин растащили. Однако две дамы уже упали в обморок — каждая из них не сомневалась, что именно она выпила отраву. Обе жаловались на нестерпимое жжение в желудке. Мужчина лет сорока, побледнев как смерть, рухнул в кресло, умоляя вызвать врача, ибо уже пробил его последний час… Но на него никто не обратил внимания — страх смерти мгновенно обратил в ничто все светские манеры и приличия. Каждый спешил вызвать своего врача, и у телефона началась чуть ли не свалка. Теперь уже семь человек клялись, что чувствуют характерные признаки отравления. Доменика Матуцци в панике металась среди гостей, то успокаивая одного, то утешая другого. Граф Лудовико боролся с охватившей его жаждой убийства. Лидия Фальеро вопила, что надо вызвать полицию. А ее внезапно разбуженный супруг спрашивал, что случилось и не тонет ли корабль.
— Ma gue! При чем тут корабль, Пьетро? Мы же у Матуцци!
— Тогда, значит, пожар?
— Нет… Кого-то отравили!
— Кого?
— Неизвестно!
— А-а-а…
И профессор Фальеро, еще раз убедившись, что никогда не сумеет понять людского поведения, опять погрузился в сон. Санто лез из кожи вон, помогая теще и тестю в безуспешных попытках восстановить спокойствие. А Тоска ошарашенно созерцала то, во что вдруг превратилась ее свадьба. Жаку, на которого больше никто не обращал внимания, удалось подойти к девушке.
— Ну как, дорогая? Хорошенькое начало тихого и спокойного существования, не правда ли?
— Жак!.. Да как вы решились на такое? Убить какого-то несчастного только для того, чтобы отомстить мне! Неужто вы и впрямь чудовище?
Услышав ее слова, проходивший мимо Дино Ваччи расхохотался. Тоска немедленно набросилась на него.
— А вас, дядюшка, это забавляет?
— Девочка моя… только не говори, будто ты хоть на секунду поверила болтовне своего милого…
Взглянув на Субрэя, Тоска поняла, что, как и другие, попалась на удочку. Яростный вопль новобрачной заставил умолкнуть все стоны и жалобы, и даже те, кто уже явственно ощущал дыхание смерти, удивленно выпрямились. А Жак решил, что ему самое время незаметно уйти. В холле его ждал Эмиль.
— Мы наблюдали за этой сценой, месье. Высочайший класс! Вряд ли у наших гостей когда-либо изгладится воспоминание об этом вечере… Однако мы бы посоветовали месье посидеть в укрытии, пока не прекратятся поиски, ибо, судя по звукам из гостиной, месье ждут очень крупные неприятности, если господину графу и его друзьям удастся его найти…
Прежде чем забраться в чулан, радушно предложенный дворецким, Субрэй забрал из раздевалки кейс. Он с легким стыдом признался себе, что совершенно забыл о миссии, которую поручил ему Джорджо Луппо. Но, подумав, что преследователи, должно быть, до сих пор поджидают его в окрестностях Палаццо дель Дженио Сивиле, Жак немного утешился — теперь им недолго ждать! На рассвете он позвонит шефу и скажет, что скоро выйдет из дома, но, вероятно, будет убит, прежде чем достигнет цели, а впрочем, это не имеет особого значения, поскольку жизнь без Тоски… Едва молодой человек успел запереться в чулане, как дверь гостиной распахнулась и в холл вылетели оповещенные Тоской Лудовико Матуцци и его гости. На все расспросы Эмиль ответил, что злой шутник сбежал, не дожидаясь возмездия. Гости, стыдясь своего недавнего поведения, очень холодно попрощались с Матуцци, причем кое-кто даже забыл поклониться хозяину дома.
В особняке еще долго гремели адресованные Жаку угрозы и проклятия графа. Лудовико Матуцци жаждал отомстить обидчику. Но мало-помалу снова воцарилась тишина. Тоска переоделась и, распрощавшись с родителями и Фальеро-старшими, под руку с Санто вышла из дома. Жак уже успел выскользнуть на улицу и, прячась в тени, наблюдал за отъездом своей возлюбленной. Увидев, что новобрачные садятся в его собственную машину, француз едва опять не вмешался в события. Как только они уехали, молодой человек подбежал к Эмилю, все еще стоявшему на тротуаре.
— Вы позволили им взять мою машину, Эмиль?
— Месье нас извинит, но он введен в заблуждение. Его машина стоит чуть поодаль. А синьор и синьора Фальеро уехали в автомобиле, который господин граф подарил им на свадьбу. Он очень похож на машину месье.
В это время мимо них проехал мотоциклист.
— Этот тип уже больше часа вертится вокруг дома, месье… Кого он поджидал и зачем бросился вдогонку нашим молодоженам? Разве что…
— Да?
— Разве что он тоже ошибся, перепутав автомобиль Фальеро с машиной месье?
— А как, по-вашему, зачем я ему мог понадобиться?
— Возможно, это какой-нибудь клиент месье, недовольный качеством макарон?
— Эмиль… вы что, смеетесь надо мной?
— О месье… мы бы никогда не позволили себе ничего подобного! Может быть, месье будет рад узнать, что синьор и синьора Фальеро проведут эту ночь на вилле Ча Капуцци, которую предоставил в их распоряжение синьор Ваччи?
— А с чего вы взяли, будто меня это касается?
— Просто мы подумали, месье, как было бы печально, случись с мадемуазель Тоской беда… по ошибке…
Сначала они ехали молча. Санто старательно вел машину, а Тоске, все еще переживавшей события дня, разговаривать не хотелось. Выехав из центра Болоньи, Фальеро расслабился и закурил, не забыв предложить сигарету жене, но та отказалась.
— Если этот бандит Субрэй поклялся испортить нам свадьбу, то он вполне преуспел, — буркнул молодой человек.
— Жак вовсе не бандит! Он немного экзальтированный, но не более того…
— Вы меня удивляете, Тоска!
— Да поймите же, Санто, он несчастен!
— Ma gue! Это не оправдание! Если каждый начнет изводить чужих невест под тем предлогом, что он ее любит, а она его — нет…
— Довольно бестактно, Санто…
Молодой человек прикусил язык и взял Тоску за руку.
— Простите меня, дорогая… Все эти происшествия совершенно вывели меня из равновесия…
— Вы заметили, что за нами все время следует какой-то мотоциклист?
— Что вы сказали?
— С тех пор как мы выехали с виа Сан-Витале, примерно в сотне метров позади нас все время едет мотоциклист.
— Знаете, Тоска, дорога принадлежит всем и каждый имеет право возвращаться домой, когда ему заблагорассудится…
Девушка промолчала, а Санто, вовсе не испытывавший той уверенности, что хотел показать, стал следить за дорогой в зеркальце. На прямых пустынных виа Сарагоцца и виа Поретанна он прибавил газу и, казалось, оторвался от преследователя, но уже на выезде из Казалеччио тот снова катил в сотне метров позади. Санто искоса поглядел на свою спутницу — Тоска улыбалась. Тут до него наконец дошло.
— У Субрэя есть мотоцикл? — сухо осведомился он.
— Возможно…
— Я уверен, что это он нас преследует!
— Не исключено… — с трудом удерживаясь от смеха, ответила Тоска. — Он достаточно безумен для этого…
Молодой муж не выдержал:
— И вас это смешит? Что ж, клянусь, ваш Субрэй недолго будет действовать мне на нервы!
Маленькая деревушка Торичелла спала, и даже рев машины Фальеро никого не разбудил — в окошках не вспыхнуло ни огонька. Дорога шла в гору. Наконец они добрались до Мольо и свернули на дорогу, ведущую к Ча Капуцци. Мотоциклист по-прежнему следовал за ними.
— Ну, теперь вы убедились? — сердито бросил Санто.
— Это вы отказывались верить, что нас преследуют!
Неожиданно ночную тишину разорвал резкий хлопок. Фальеро выругался.
— Не хватало только, чтобы машина сломалась!
— А вы уверены, что это машина?
— Что же еще?
Послышался еще один хлопок, потом другой, и по заднему стеклу вкруговую расползлись трещины. На сей раз не оставалось никаких сомнений.
— Ma gue! — не веря своим глазам, воскликнул Санто. — Да ведь он стреляет! Этот дурак нас убьет!
Потрясенная Тоска не знала, что ответить. Ее муж резко затормозил и выскочил из машины, прихватив с собой разводной ключ.
— Раз ему так надо поговорить — пожалуйста! Пригнитесь, Тоска.
Мотоциклист приближался. Санто загородил дорогу, но тот, не останавливаясь, выстрелил в упор. И промахнулся, ибо в тот самый миг ангел-хранитель Санто Фальеро подбросил камень под самое колесо мотоцикла, и Майку Мортону пришлось резко вильнуть в сторону. Это и спасло жизнь мужу Тоски. Мортон исчез в ночи, а Санто, вцепившись в машину, чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Ни разу еще он не видел смерть так близко! Жена пыталась утешить несчастного, но он, ничего не видя и не слыша, глухо бормотал:
— Убийца… это убийца… убийца…
Тоска протерла ему виски одеколоном.
— А вы знаете, это был вовсе не Жак!
— Вы уверены?
— Этот парень гораздо выше и толще!
Санто схватился за голову:
— Dio mio! Раз даже совсем незнакомые люди пытаются меня прикончить, вы очень скоро овдовеете, Тоска!
— Не стоит так нервничать, Санто…
— Мне бы очень хотелось сохранить спокойствие… но меня же пытались убить! По-моему, есть из-за чего волноваться, разве не так?
Они снова сели в машину и до конца пути не обменялись ни словом. Тоска думала, что спокойное существование, которого она так страстно желала, начинается очень неудачно.
Пожалуй, трудно найти лучшее место для медового месяца, чем вилла Дино Ваччи. Она стоит на отшибе, окруженная густыми и высокими деревьями, а в шуме ветвей ухо итальянца всегда умеет улавливать тончайшее дыхание гармонии. Да, в этом гнездышке влюбленные могли наслаждаться счастьем вдали от нескромных глаз. На первом этаже — гараж и мастерская, где дядя Дино любил иногда повозиться. Весь второй этаж опоясывал деревянный балкон, выходивший прямо в сад — довольно запущенный и заросший. Журчание воды, падающей в бронзовую вазу, звонко отдавалось в тишине ночи. Здесь было так хорошо, что Санто наконец пришел в себя.
— Тоска… забудем обо всех недавних неприятностях и подумаем лишь о нашем счастье…
В ответе жены молодой человек не почувствовал особого воодушевления, но настаивать не стал, а,
выпустив Тоску, поехал в гараж. Молодая женщина поднялась на балкон и, созерцая ночной пейзаж, призналась себе, что все было бы во сто крат прекраснее, окажись рядом Жак. Но скоро к ней присоединился Санто, которому не терпелось обнять жену и вместе с ней войти в дом. Они проследовали в гостиную. Дверь слева вела на кухню, справа — в ванную, а в глубине дома были еще две комнаты. Санто включил свет и восхищенно присвистнул.
— А он умеет жить, ваш дядя Дино!
Тоска растроганно подумала о «паршивой овце» семейства. Дино и в самом деле не походил ни на кого другого и благодаря щедрости сестры жил по своему вкусу. Здесь все дышало негой и ленью, и, опустившись в большое кресло, молодая женщина вдруг подумала, какую сильную волю надо иметь, чтобы покинуть этот райский уголок и запереться в кабинете или лаборатории. Разумеется, Санто этого не понять… Для него главное — работа, и Тоска не сомневалась, что уже завтра его потянет к любимым исследованиям.
— А вы знаете, что уже очень поздно, моя дорогая?.. По-моему, нам лучше всего лечь…
Но Тоска явно не спешила.
— Здесь так хорошо…
— Не спорю, но…
Санто смешался и умолк. Однако молодая женщина была ему благодарна за молчание, пусть даже вынужденное.
— Тоска… может, я и не такой пылкий влюбленный, о каком вы мечтали, но я вас очень люблю… очень…
Неловкость мужа тронула Тоску.
— Я не умею говорить… да и никогда не был силен ни в речах, ни в… романтизме. Когда живешь среди цифр и формул, привыкаешь выражаться так же сухо, как учебник… Я отлично понимаю, что сейчас это не совсем то, что нужно… Но могу вам твердо обещать, Тоска, я буду хорошим мужем…
Молодая женщина смущенно взяла его за руки. Сейчас она не сомневалась, что сделала правильный выбор. Фантазии Жака уместны лишь весной, а ведь есть еще лето, осень и зима… особенно зима, и она приходит очень быстро, гораздо быстрее, чем обычно думают. Разве женщина может надеяться удержать Субрэя возле домашнего очага? А вот Санто прочно усядется там рядом с ней в тапочках, покуривая трубку… Не блеск, конечно, но зато крепок и надежен, а будущим детям лучше иметь папу, на которого всегда можно положиться.
— Мы будем счастливы, Санто, — сказала Тоска.
Чувство трепетного сожаления превратилось в легкую дымку, но молодая женщина надеялась, что со временем оно окончательно растает. Тоска встала.
— Пойду приведу себя в порядок… подождите минутку.
— Я думаю, дядя Дино позаботился оставить в холодильнике бутылку шампанского… Может, выпьем по бокалу… на сон грядущий?
— Договорились…
Тоска вошла в спальню. Дядя Дино повсюду расставил букеты цветов. На столике она с удивлением заметила прислоненный к вазе из Урбино конверт. Внутри лежало письмо от дяди Дино.
«Моя дорогая племянница, когда ты прочитаешь это письмо (видишь, я начинаю совсем как в романах!), ты будешь уже не той маленькой девочкой, которую я пытался развлекать целых двадцать лет. От всего сердца желаю тебе счастья. Не сердись, но, честно говоря, я не очень в это верю. Опыт подсказывает, что невозможно радоваться, живя с одним, а думая о другом. Надеюсь, ты сумеешь меня переубедить. В то время как ты распечатаешь конверт, я буду лежать у себя в комнате и ломать голову, под каким благовидным предлогом завтра с утра выманить у твоей мамы немного денег. Помолись за старика-дядю, чтобы Небо послало мне озарение. Обнимаю тебя и только тебя, потому как мой новый племянник мне решительно не нравится. Очень скучный тип. Он напоминает мне отличников, которых мне вечно ставили в пример, пытаясь отравить мою ленивую юность. К счастью, я этого не допустил!
Дино».
Милый дядя Дино! Такой добрый и совершенно лишенный морали! Разумеется, Санто — совсем не тот человек, которым он мог бы восхищаться… Уж он-то предпочел бы Жака… И Тоска сердито разорвала письмо старого холостяка. Надо же чтобы в тот самый миг, когда ей удалось больше не думать о французе, о нем снова напомнили! И, несмотря на все цветы и нежную заботу, Тоска рассердилась на дядю, тем более что в глубине души отлично понимала, что он прав.
Облачившись в воздушные одежды, купленные матерью, и накинув халат (подарок дяди Дино — но тоже, конечно, оплаченный Доменикой), Тоска вдруг сообразила, что Санто слишком долго не несет обещанное шампанское. Право же, молодого супруга трудно обвинить в торопливости! Разве что его робость… деликатность… Возможно, смутное ощущение, что он занял чужое место, немного парализует Санто… При мысли, что молодой человек сидит в гостиной и тщетно ждет призыва, на губах Тоски мелькнула жалостная улыбка. Что ж, пора с этим покончить и навсегда выкинуть Жака из головы. Она вытерла слезы, слегка припудрила покрасневшее лицо и, заставив себя улыбнуться, решительно вышла в гостиную. Никого! Немного поколебавшись, молодая женщина подумала, что ее муж на кухне и никак не может открыть бутылку шампанского. Она толкнула дверь и остолбенела, не в силах даже крикнуть. Санто сидел, крепко привязанный к стулу, растрепанный и с подбитым глазом. Судя по всему, молодой человек временно утратил какой бы то ни было интерес к реальности. Наконец, вновь обретя дар речи, Тоска вскрикнула: «Санто!» — и бросилась было к мужу с похвальным намерением избавить его от пут. И в тот же миг ей на плечо опустилась чья-то рука. Синьора Фальеро обернулась и увидела высокого плотного мужчину — очевидно, того самого мотоциклиста, который чуть не убил ее мужа. Он еще имел наглость улыбнуться Тоске, прежде чем она без сознания повалилась на пол.
Придя в себя, молодая женщина не сразу сообразила, что происходит. Тоска, как и ее муж, сидела на кухне, привязанная к стулу, а этот ужасный тип смотрел на нее с улыбкой, что, впрочем, не мешало ему крепко сжимать в руке револьвер.
— Ну, синьора, вы наконец снова с нами?
Тоска пожала плечами, не удостоив его ответом. Здоровяк захохотал и подошел к Тоске. Лицо его вдруг показалось ей зловещим.
— Мне уже пришлось малость встряхнуть вашего супруга… И я взгрею его еще раз, если вы немедленно не скажете, где он!
— Кто?
— Субрэй!
— Субрэй?
Здоровяк угрожающе выпрямился.
— Прикидываться бесполезно. Я думал, вы умнее. Ну, раз вам по душе эта игра… как говорится, на вкус и цвет… верно?
Он повернулся к Санто:
— Может, вы решились говорить, синьор Фальеро?
Вид бедняги Санто с подбитым глазом внушал жалость.
— Но откуда же мне знать, где Субрэй? — с отчаянием в голосе простонал он.
— Жаль…
И незнакомец изо всех сил начал бить Санто по лицу. Голова несчастного моталась под ударами, а по щекам безостановочно текли слезы.
— Бандит! Трус! Убийца! — кричала возмущенная Тоска.
Гигант повернулся к ней:
— А ну, крошка, спокойно! Не то вконец рассержусь! Если хотите, чтобы я оставил в покое вашего мужа, быстро признавайтесь, где Субрэй!
— Но, клянусь вам, мы не знаем! Это наше свадебное путешествие… По-вашему, мы могли прихватить его с собой?
Незнакомец покачал головой, словно отец, удивленный упрямством своего чада.
— Ну, пеняйте на себя… Я еще немножко поработаю с синьором, а коли он не перестанет артачиться, придется всерьез потолковать с вами, синьора… Надеюсь, муж вас любит и постарается избавить от крайне неприятных минут и скажет мне, наконец, где этот проклятый тип. Понятно?
— Нет! — взревел Санто.
Мучитель пожал плечами:
— Как хотите…
Он уже занес руку, намереваясь ударить Фальеро, как вдруг повелительный голос приковал его к месту:
— Руки вверх, Майк! И если бы вы посмели тронуть ее, я бы уже выстрелил!
При виде Жака, появившегося в дверном проеме, сердце Тоски учащенно забилось. Субрэй тоже держал в руке револьвер. Но молодая женщина не пыталась понять, что значит все это безумие, она была просто счастлива. Тот, кого француз назвал Майком, немного поколебался, но, как старый служака, умеющий вовремя признать поражение, выполнил приказ и медленно обернулся. Жак забрал у него револьвер, быстро обыскал и, убедившись, что противник обезврежен, позволил опустить руки.
— Итак, Мортон, решили поохотиться?
Тоска нервно рассмеялась.
— О Жак! Это сумасшедший, да?
— Сумасшедший? Вы слышали, Мортон?
Тот пробормотал что-то невразумительное, а молодая женщина продолжала расспрашивать:
— Должно быть, сбежал из какой-нибудь клиники?
— Дорогая Тоска, позвольте представить вам Майка Мортона, агента разведки Соединенных Штатов Америки.
— Разведки?..
— А с какой стати этот здоровенный болван набросился на нас? — сердито буркнул Санто.
— Ну, дорогой мой… Вот что, Майк, освободите-ка синьору от веревок…
Гигант склонился над пленницей, но, вместо того чтобы развязать узлы, подхватил ее вместе со стулом и швырнул в Жака. Маневр застал француза врасплох — он упал, однако не выпустил из рук револьвера и выстрелил. Лежащие у него на груди Тоска и стул помешали прицелиться, и невредимый Мортон удрал. Вскоре треск мотоцикла убедил всех, что американец больше не жаждет общения. Субрэй с трудом выпрямился, развязал веревки и высвободил Тоску. Молодая женщина плакала, и Жак в утешение нежно обнял ее и поцеловал.
— Субрэй! — завопил Санто.
— О, простите, я совершенно забыл, что она ваша жена.
— Развяжите меня!
— Сначала попросите повежливее, приятель.
— Развяжите!
— И не подумаю.
Взяв Тоску на руки, Жак отнес ее в спальню, уложил на кровать и закрыл дверь, чтобы не слышать доносившиеся из кухни крики Санто.
— Жак, помогите мне подняться… это неприлично — так лежать, когда вы тут…
Субрэй взял ее за руки и так резко потянул к себе, что молодая женщина упала ему на грудь. Он сжал ее в объятиях.
— Тоска, дорогая моя…
— Нет-нет! — отбивалась она. — Вы забыли, что я замужем?
— Это ошибка…
— Неважно… Я синьора Фальеро. Оставьте меня!
— Тоска, я вас люблю сегодня, как любил вчера и как буду любить завтра… Я не отдам вас Санто!
— Слишком поздно, Жак…
— Я никогда не откажусь от вас, Тоска, особенно теперь, когда уверен в вашей любви!
Субрэй снова прижал молодую женщину к себе. И опять она вырвалась.
— Вы с ума сошли! В день моей свадьбы! О Боже мой!..
— Что случилось?
— Мой муж! Я забыла о муже! Что он может подумать!
— Нетрудно догадаться…
— Быстро идите и освободите его! Это… это просто гнусно с моей стороны… Мне… мне стыдно!
— Но я вовсе не хочу освобождать Санто! Иначе он начнет отравлять нам существование…
— Ладно, я пойду сама!
— Это не помешает ему раздумывать над тем, что помешало вам прийти раньше!
— Жак… прошу вас, помогите мне.
— Чтобы я помог вам соединиться со своим соперником? Честное слово, это уж слишком!
— Это не ваш соперник, а мой муж!
Сидя на стуле, к которому он был привязан, Санто исходил бессильной яростью. Как смеет Тоска так себя вести? Они ушли уже добрых десять минут назад, а его оставили связанным в нарушение всех законов морали и справедливости. Санто рисовал в своем воображении самые страшные планы отмщения… Чувство собственного достоинства мешало ему позвать на помощь, но он в конце концов уже решился плюнуть на гордость, как вдруг снова явился Субрэй.
— Простите, старина, мы заставили вас ждать… Но нам надо было так много сказать друг другу…
— Сволочь!
— Ну-ну, Санто… Разве такие речи подходят молодожену?
— Я убью вас, Субрэй!
— Вас повесят, и Тоска станет вдовой! Пожалуй, при таком раскладе я способен воскреснуть вам назло!
Продолжая так болтать, Субрэй разрезал веревки, которыми был связан Фальеро. Едва освободившись, тот изо всех сил ударил француза по лицу. Последний, никак не ожидая подобного нападения, кубарем покатился в угол, сбив по дороге стоявшее на холодильнике радио. Не давая времени опомниться, Санто налетел на Жака и стал молотить того куда ни попадя. Шум привлек Тоску. Заглянув на кухню, она закричала от ужаса. Этот вопль и погубил ее мужа. Пока он оборачивался поглядеть, что происходит, Жак выпрямился и, как только снова увидел повернутое к нему лицо Фальеро, нанес ему короткий прямой удар в челюсть. Санто сшиб корзину с овощами и приземлился среди морковки и капусты. Но за внешней вялостью скрывался лихой боец. Санто снова ринулся в бой, и очень скоро стало казаться, что в кухне дяди Дино похозяйничал тайфун. Впрочем, оба противника, не обращая внимания на такие мелочи, продолжали вдохновенно колотить друг друга. Субрэй умел драться и испытывал своего рода садистское удовольствие, разделывая под орех физиономию соперника. Один глаз Санто еще до того подбил Майк, и вторым он почти ничего не видел, поскольку из рассеченной брови хлестала кровь. Губы у него распухли, нос раздулся и кровоточил, и, несмотря на всю свою стойкость, Фальеро оборонялся из последних сил. В сущности, он держался на ногах лишь сверхъестественным усилием воли. У Субрэя тоже текла кровь по поврежденной скуле, и ему пришлось выплюнуть один зуб. Тоска, остолбенев от страха, молча вопрошала себя, неужели мужчины и вправду прикончат друг друга. Она попыталась было вмешаться, но в пылу сражения противники плохо соображали, и Тоска получила предназначавшийся Жаку удар под дых, села на пол и долго ловила ртом воздух. Теперь она замерла в легком оцепенении, почти ничего не соображая, и лишь повторяла про себя, что бывают, конечно, всякие брачные ночи, но уж эта наверняка самая из ряда вон выходящая…
Наконец, получив короткий удар левой, Фальеро упал и больше не смог подняться. Жак умылся и вытер слегка распухший нос.
— А крепкий парень этот муж, — признал он.
— Я никогда не прощу вам… — без всякого выражения заметила Тоска.
— Вы что ж, хотели, чтобы я позволил себя избить?
— И зачем вы сюда пришли!
— У вас короткая память, дорогая моя. По-моему, когда я появился, у вас обоих был довольно-таки бледный вид.
— И все из-за вас! Опять-таки из-за вас! Этот американец набросился на нас только по вашей вине!
— Я же вас предупреждал, что, пока я жив, можете поставить крест на спокойном существовании!
Тоска горестно воздела руки к небу.
— Но в конце-то концов, почему я не имею права на покой, как все люди? Все мамины подруги вспоминают о дне свадьбы как о чем-то прекрасном, и я надеялась на такое же счастье. Но мое бракосочетание в мэрии заканчивается скандалом, венчание в церкви — дракой, брачная ночь начинается эпизодом из детективного романа, а под конец, вместо того чтобы заниматься мною, мой муж дерется, как какой-нибудь бандит, и я превращаюсь в сиделку! И вы находите, что это нормально, справедливо?
— Не более разумно и справедливо, чем бросать мужчину, которого любишь, и выходить замуж за другого!
— А кто вам сказал, будто я вас люблю?
— Да вы, моя дорогая, и никто иной!
— Уходите, Жак! Умоляю вас, уходите или я сойду с ума!
— А кто позаботится о нем?
— Я!
— А если после того, когда я уйду, вернется американец?
— Но не можете же вы оставаться с нами всю ночь?
— Почему бы нет?
— Это… это безумие… совершеннейшее безумие…
Субрэй указал на все еще лежащего без чувств Фальеро:
— К тому же, уверяю вас, при его нынешнем состоянии уже не важно, тут я или нет.
Они отнесли Санто в спальню и уложили на кровать.
— Интересно, так я и буду все время нянчиться то с одним, то с другим из вас? — пробормотал Жак.
— Нянчиться! И у вас хватает нахальства…
В ближайшие четверть часа они по очереди меняли компрессы на лице Санто и по мере возможности старались остановить кровотечение. Как только раненый начал подавать признаки жизни, Тоска взяла Жака за руку.
— Вам лучше исчезнуть, прежде чем он откроет глаза…
— Подумайте хорошенько, Тоска. Не могу же я вас оставить одну с человеком, который, в случае чего, не сумеет вас защитить?
— Мне все равно. Уезжайте!
— Ладно… воля ваша.
Уступчивость молодого человека принесла Тоске облегчение, но в то же время немного задела. Жак поцеловал ей руку.
— Спокойной ночи, дорогая. Желаю вам приятных снов.
Дать бы ему пощечину!
Карабинер Силио Морано, дежуривший в ту ночь в полицейском участке Мольо, мирно дремал. Услышав телефонный звонок, он вздрогнул и снял трубку.
— Полицейский участок Мольо, — сонно проговорил он. — Вас слушают… Погодите… погодите… где вы сейчас?..
Слушая собеседника, Силио Морано все шире открывал глаза.
— Дочь графа Матуцци… на вилле синьора Ваччи… Что? Вооруженный налет?.. Но… но кто же вы?.. Что?!! Один из налетчиков, мучимый раскаянием?.. Да вы что, издеваетесь надо мной?!!
Карабинер сердито швырнул трубку. Попадись ему только этот глупый шутник — уж он устроил бы ему веселую жизнь! Морано хотел еще немного вздремнуть, но так и не смог. А вдруг тот тип сказал правду? Силио слыхал о графе Матуцци, а Дино Ваччи — вообще свой человек в Мольо. Может, надо позвонить шефу, сержанту Коррадо? Как бы не прослыть дураком… но с другой стороны…
Тем временем Жак, не сомневаясь, что его звонок всполошит местные власти, спрятался в саду и незаметно наблюдал за виллой. Молодой человек совсем не был уверен, что охотники за его кейсом не явятся сюда еще раз.
Санто очень медленно приходил в себя, но, едва к нему снова вернулась способность что-либо соображать, в здоровом глазу сверкнул дикий огонь. Молодой человек попытался сесть.
— Где он?
Тоска положила ему руку на лоб и заставила снова лечь.
— Уехал… Вам больше не о чем волноваться.
— Я подам на него в суд — пусть посидит в тюрьме! И как вы только могли увлечься подобным субъектом?
— Не будем об этом, Санто, прошу вас!
— Однако вы не можете не признать, что по милости этого типа у нас престранная брачная ночь?
— Да, конечно… Но в какой-то мере это и моя вина, и я прошу у вас прощения…
— Нет-нет! Мне самому следовало потребовать его ареста еще в мэрии!
— Он потерял голову…
— Ах вот как? Теперь вы его защищаете?
Вне себя от возмущения, Санто снова распрямился, и на сей раз ему никто не помешал сесть.
— Жак любит меня и страдает… Поставьте себя на его место!
— Может, для того, чтобы он мог занять мое?
— О Санто!
— Простите меня, дорогая… но я в таком бешенстве, что ничего не соображаю… Дайте мне, пожалуйста, зеркало, которое стоит вон там, на комоде.
Тоска молча выполнила просьбу.
— Ma gue! — простонал Санто, увидев свое отражение. — Во что он меня превратил, этот убийца! Я отвратителен! Мерзок!
— Да нет… нет… — без особой уверенности в голосе постаралась успокоить его Тоска.
Фальеро схватился за голову.
— Ну как я смогу говорить вам о любви с такой-то физиономией? Мне же самому на себя тошно смотреть…
— Не имеет значения… Вы мне завтра все скажете… И вообще у нас вся жизнь впереди, так что еще успеем поговорить о любви.
— Вы чудесная девушка, Тоска! А что, если нам все-таки выпить ту бутылку шампанского?
Мучимый сомнениями, карабинер Силио Морано никак не мог решить, как ему поступить. В конце концов, поскольку карабинеры — как-никак элитная часть полиции, да и сам Морано не был лишен природного великодушия, он счел, что лучше прослыть дураком, чем оставить без помощи людей, которые, возможно, в ней нуждаются, особенно если эти люди находятся в родстве с графом Матуцци. И Морано стал звонить шефу.
Сержант Карло Коррадо мирно спал рядом со своей супругой Антониной, как и положено человеку, чья совесть не обременена никакими волнениями. Антонине снилась родная Тоскана. Она видела себя юной пастушкой, и за ней ухаживали пастухи, одетые в форму карабинеров. Все они играли на свирелях военный марш. И вдруг один из пастушков прижал свирель к самому ее уху и стал играть так назойливо, что Антонина рассердилась и… открыла глаза. Она лежала в супружеской постели, а рядом надрывался телефон. Матрона сняла трубку.
— Pronto?
— Это вы, синьора Коррадо? Говорит Морано, ваш покорный слуга… Тысячу извинений, что тревожу вас в такое время, ma gue! Мне очень нужно поговорить с сержантом.
— Это срочно?
— Более того, дело серьезное.
— Милостивый Иисусе! Это хоть не опасно?
— У нас такая работа, синьора, что разве можно знать заранее, где и когда нарвешься…
Тон карабинера испугал Антонину даже больше, чем слова.
— Потерпите минутку, — дрожащим голосом проговорила она, — его надо будить с осторожностью, а то как бы опять не разыгралась мигрень…
— Буду ждать с превеликим почтением, синьора, и еще раз — тысяча извинений!
Антонина включила свет и с такой же любовью, как в день свадьбы, посмотрела на своего красавца-сержанта. Карло спал на спине, и жена могла вволю любоваться его профилем. Антонина с умилением заметила, что при каждом выходе кончики его усов шевелятся, и ей, неизвестно почему, захотелось плакать. Ласково и осторожно она погладила по щеке мужа. Наконец, почувствовав более настойчивое прикосновение, Карло приоткрыл сначала один глаз и потом уставился на супругу.
— Карло, любовь моя… — прошептала она.
Сержант повернулся к ней лицом:
— Что это на тебя нашло в такой час, Антонина?
— Тебя зовет к телефону Морано…
— Морано? Дай-ка мне трубку!
Антонина молча выполнила приказ, но из-за слишком короткого провода сержант мог разговаривать по телефону, только лежа поперек жены.
— Ну, Морано, что это еще за странный бзик? — рявкнул он начальственным тоном. — Нарушить сон старшего по званию! И вам не страшно, а? Что там еще стряслось?
Карабинер сообщил о полученном предупреждении, но о собственных опасениях умолчал. Для начала сержант осведомился, уж не вздумал ли Морано подшутить над начальством, и предупредил о целой серии взысканий, ожидающих его, если он и в самом деле захотел позабавиться. Несчастный призвал святых покровителей родной деревушки Гаруньяно подтвердить искренность и чистоту его намерений.
— В таком случае вы просто дурак, Морано, а дурак не имеет права носить форму карабинера! — отрезал сержант.
Силио чуть не заплакал.
— Ma gue, сержант… — жалобно пробормотал он. — Я хотел только добра… все-таки дочь графа Матуцци… меня это поразило…
— Что? Граф Матуцци? А он-то тут при чем?
Морано с ужасом понял, что совершенно забыл сообщить шефу о временных обитателях виллы, и залопотал с такой скоростью, что сержант вообразил, будто в Ча Капуцци разыгрывается политическая драма и Лудовико Матуцци только что зверски убит шурином.
— Ни слова больше, Морано! Наступило время не говорить, а действовать! Пусть Гринда немедленно заменит вас на посту, а сами не мешкая приезжайте за мной на джипе. Исполняйте!
Сержант повесил трубку и погрузился в размышления, даже не отдавая себе отчета, что все еще лежит поперек Антонины.
— Антонина… Случилось нечто ужасное! Убитые — из самого высшего света! Тут нужны и такт, и решимость! А значит, дело как раз для меня!
Не получив привычного одобрения супруги, Карло удивленно поглядел в ее сторону — лицо Антонины посинело. Сообразив наконец, что он ее чуть не задушил, Карло вскочил, спрыгнул с постели с той юношеской живостью, которая всегда так восхищала дарованную ему Господом спутницу жизни, и бросился приводить ее в чувство.
— Антонина!.. Светоч моих очей!.. Горе мне, я чуть не погубил тебя!
Синьора Коррадо окинула супруга нежным, хотя все еще довольно затуманенным взглядом.
— Ты и вправду тяжеловат, мой Карло!
— Но почему ты ничего не сказала?
Антонина молитвенно сложила руки.
— Ах, ты такой красавчик, когда отдаешь распоряжения!
У Санто так болели разбитые губы, что он лишь с большим трудом выпил бокал шампанского. Он попробовал было улыбнуться своей молодой жене, но получилась ужасающая гримаса.
— Тоска миа, вы не думаете, что нам пора отдохнуть?
— Мне немного страшно, Санто… После всего, что случилось, с тех пор как мы приехали… А вдруг возле виллы прячутся еще какие-нибудь типы?
— Зачем?
— Не знаю… Но, по-моему, мы уже достаточно натерпелись, чтобы не пытаться найти логическое объяснение…
Фальеро уже вполне пришел в себя.
— Подождите меня здесь, Тоска, — сказал он, вставая. — Я хочу убедиться, что в саду никого нет.
— Вы оставляете меня одну?
— Мало ли что, в этой комнате вам будет гораздо безопаснее.
— И вы собираетесь голыми руками справиться с вооруженным бандитом?
— Да что вы, у меня тоже есть револьвер!
Фальеро извлек из чемодана «беретту».
— Нам с дядей дали разрешение носить оружие, и после кражи документов я с ним не расстаюсь. Эх, был бы у меня при себе револьвер час назад… Я скоро вернусь, дорогая…
У Тоски не было сил спорить. Вот уж она не думала, что ее замужество может вызвать подобные осложнения! Ладно бы еще Жак, а то насилие, револьверы, выстрелы, раны, угрозы! Нет, так продолжаться не может! Это просто чудовищно! Завтра же Тоска вернется в родительский дом и поселится с мужем там. Под защитой сурового Лудовико и нежной Доменики ей будет гораздо спокойнее.
Санто осторожно крался по саду, прислушиваясь к каждому шороху и не спуская пальца с курка. Жак, сидевший за газоном, видел, как его счастливый соперник вышел из дома, и стал с удивлением раздумывать, что тот замышляет. Любопытство заставило его высунуться из укрытия. Санто заметил какую-то тень и тут же выстрелил. Пуля просвистела у самого лица ошарашенного Жака, а вторая ударила в бронзовую вазу, и та отозвалась долгим обиженным звоном.
— Это я, Фальеро! — крикнул француз.
В ответ Санто еще дважды спустил курок, и Жак остался в живых лишь благодаря хорошей реакции — он вовремя успел броситься на землю. Похоже, этот кретин всерьез задумал его прикончить! Субрэй в свою очередь тоже выстрелил. Правда, он хотел лишь утихомирить Фальеро и пальнул далеко в сторону.
Тоска зажала зубами носовой платок, с ужасом прислушиваясь к грохоту выстрелов.
По приказу Коррадо карабинер остановил джип.
— Вы слышали, Морано?
— Да, сержант…
— Как, по-вашему, что там такое?
— Выстрелы, сержант!
— Я тоже так думаю. Смертоубийство продолжается! Вам выпал случай покрыть себя славой, Морано!
— Мне, сержант?
— Да, вам, карабинер! Было бы несправедливо лишить вас такой блестящей возможности отличиться! И можете не благодарить меня — это вполне заслуженный вами знак доверия.
Карабинер Силио Морано испытывал сейчас к своему шефу что угодно, только не благодарность. И еще никогда родная деревушка Гаруньяно не казалась ему столь далекой.
Жаку все же удалось ускользнуть от взбесившегося Санто, хотя тот, вероятно для очистки совести, выпустил последнюю пулю в том направлении, где исчез француз.
Морано остановил джип метрах в двадцати от въезда на виллу.
— Ну, сержант, что мы будем делать, а?
— С ружьем наизготовку вы проникнете в сад и медленно пойдете к дому. А я вас прикрою.
— Вы… вы не думаете, сержант, что лучше б нам идти рядом…
— А если с вами что-нибудь случится, Морано, кто сообщит, что вы пали жертвой долга?
Тоска так изнервничалась, что при виде Санто едва не закричала.
— Что означает вся эта стрельба?
— Там кто-то бродил… и мы стреляли друг в друга… не знаю, удалось ли мне попасть в цель.
— Надеюсь, это по крайней мере не Жак?
— Безусловно нет… И позвольте заметить вам, Тоска, что ваша забота об этом типе меня удивляет. Между прочим, в меня тоже стреляли!
— Ох, я уже совсем запуталась! Но одно я знаю точно — это что не останусь здесь больше ни на минуту!
— И куда же вы хотите ехать?
— К папе!
Карабинер, стараясь как можно осторожнее переставлять ноги, продвигался по саду. В горле у него пересохло, живот сводило судорогой, а колени подкашивались. Приняв вазон за притаившегося врага, Морано чуть не выстрелил. А позади на почтительном расстоянии за ним следовал сержант с револьвером в руке. Он наблюдал за своим подчиненным не сводя с него глаз.
Тоска и ее муж закрыли чемоданы, выключили свет и, распахнув дверь, дружно отпрянули: на пороге стоял карабинер и целился в них из ружья!
— Не двигайтесь — или я стреляю! — крикнул он.
Глава IV
Тоска и ее муж недоуменно смотрели на неизвестно откуда взявшегося карабинера. Добродушная румяная физиономия Силио выражала полное ликование.
— Вы можете идти сюда, сержант, я их поймал! — слегка повернув голову, крикнул Морано.
Недоверчиво поглядывая по сторонам, сержант Коррадо вошел в комнату, но при виде Тоски распрямил грудь колесом и лихо разгладил усы.
— Ну, попались в ловушку, а? — осведомился он. — Думали потихоньку смыться, да? Но вы не учли Коррадо!
Карабинер Морано слишком гордился совершенным подвигом, чтобы сразу вернуться к своей обычной робости, поэтому он осмелился напомнить о своем существовании:
— И меня, сержант!
Карло испепелил подчиненного высокомерным взглядом.
— Вы только рука, а голова — я. Никогда не забывайте об этом, Морано. И все, что вы делаете, сначала я продумал, вот так! Ясно?
— Ясно, сержант…
И Морано понял, что еще не пришел тот день, когда он сможет похвалиться медалью перед друзьями из Гаруньяно. Но Коррадо уже не обращал на него внимания, а снова повернулся к пленникам.
— Где жертвы?
— Жертвы?! — взорвался Фальеро. — Да мы и есть жертвы!
— Только не говорите этого мне, синьор! — фыркнул сержант. — Все преступные уловки я знаю наизусть! Вы убили, спрятали трупы и собирались улизнуть. Но тут появился я и с беспримерной отвагой, с полным презрением к опасности, на которое способны лишь карабинеры, эти аристократы полиции, преградил вам дорогу! Жаль, что тут не оказалось хотя бы одного-двух журналистов, а? Ma gue! Безвестность не подобает верному долгу солдату!
Бледный от злости Санто перебил тираду сержанта:
— Может, хватит?
Сержант вздрогнул. Потрясенный Силио — подумать только, какой-то штатский смеет так разговаривать с его шефом! — уронил ружье. Прогремел выстрел, и пуля засела в спинке кровати. Все переглянулись, осознав грозившую им опасность.
— Карабинер… — только и смог пробормотать Карло.
Пристыженный Морано подобрал ружье.
— Извините, сержант…
— А если бы вы меня убили, дурак? У кого бы вы просили прощения? У моего трупа?
Увидев на тумбочке телефон, Коррадо подбежал и быстро набрал номер.
— Алло! Антонина!.. Это твой Карло… Что здесь творится!.. Я лишь чудом избежал смерти! Но небо не пожелало лишить тебя супруга, мой ангел! Я просто хотел тебя успокоить… Иди, ты можешь спать, бедняжка, а я должен выполнить свой долг! Что? Ты не спала? Что ж, жена солдата должна стойко выносить постоянную тревогу! Да-да, обещаю… Я буду достоин тебя! И, если того пожелает Господь, мы скоро увидимся! А?
Разъяренный Санто схватил Коррадо за руку:
— Да сколько же можно?!
— Спокойно! Покушение на сержанта карабинеров при исполнении служебных обязанностей обойдется вам очень дорого! Где трупы?
— Какие трупы?
— Несчастных, которых вы злодейски убили! Например, графа Матуцци…
— Как? Мой отец убит? — вскрикнула Тоска.
Коррадо посмотрел на нее:
— Ваш отец? А кто вы такая, синьора?
— Тоска Фальеро, дочь графа Матуцци.
— Так… А это?
— Санто Фальеро, мой муж.
— Ах вот как… тогда, значит, ошибка вышла… А ежели человек согрешит по неведению, это ведь всегда можно уладить, правда? Но где же синьор Ваччи?
— В Болонье, он оставил нам свою виллу на несколько дней.
— Ага…
Сержант повернулся к Силио.
— Боюсь, нам придется объясниться, Морано, — тихо проговорил он, но за внешней мягкостью скрывалась воистину необъятная злость.
— Вы что-то сказали, синьора? — спросил он Тоску.
— Мы поженились только утром, сержант, и это наша брачная ночь.
— Правда?
В разговор вмешался Фальеро:
— Вам известно, что такое брачная ночь, сержант?
— А как же, синьор, у каждого свои воспоминания! Ах, синьора, это лучшие минуты в жизни женщины! Куколка превращается в бабочку… Такая ночь никогда не забудется, синьора, никогда! Знаете, моя Антонина часто мне говорит: «Ты помнишь, Карло?» Карло — это я… Так вот…
— Плевать нам на это!
— Синьор Фальеро не любит поэзию, насколько я понимаю? Мне жаль вас, синьора, потому как жизнь без нее ничего не стоит… Но позвольте мне еще раз нижайше принести вам мои поздравления. Мы с карабинером уходим и оставляем вас наслаждаться минутами этого упоительного, единственного в мире блаженства!
И, безукоризненно вытянувшись по стойке «смирно», сержант отдал честь, потом, как на учениях, повернулся на каблуках и с высоко поднятой головой двинулся вправо.
— А мне что делать, сержант? — спросил Морано.
— Иди за мной, дурень!
Как только карабинеры ушли, Тоска без сил опустилась на кровать.
— Никогда в жизни не слышала столько пальбы, и надо же, чтобы все это обрушилось на меня сразу после свадьбы!
Санто попытался обнять жену, но она с неожиданной яростью стала вырываться.
— Оставьте меня! Вы ничуть не лучше остальных! Вы клялись, что если я и не питаю к вам пылкой страсти, то хотя бы смогу жить тихо и спокойно, а сами устроили настоящее сражение!
Надеясь успокоить жену, Санто снова попытался заключить ее в объятия, но Тоска продолжала отбиваться:
— Отстаньте! Говорю вам: не трогайте меня!
— Может, вы и в самом деле оставите молодую даму в покое, синьор, а?
На пороге комнаты опять стоял улыбающийся сержант, а за его спиной в темноте поблескивало дуло ружья карабинера. Мгновение Тоска молча созерцала эту картину, потом свернулась в клубочек и зарыдала. На сей раз у нее началась настоящая истерика. Санто бросился было на помощь, но сержант его опередил:
— Позвольте мне! Я-то к таким вещам привык, синьор, а вы еще новичок!
Он уселся на кровать рядом с молодой женщиной и начал тихонько поглаживать ее волосы, руки, спину.
— Ну-ну-ну, моя голубка… моя горлица… Дышите глубже… Закройте глазки, мой ангелочек…
Вытаращив глаза, Санто наблюдал эту картину. Он уже открыл рот, собираясь крикнуть, но сдержался и тяжело осел на стул, так и не издав ни звука.
— Нет, этого просто не может быть! Тут явно что-то не так… Я женюсь, и по этой причине, с молчаливого согласия родителей, при всем честном народе начинается незнамо что… Какой-то выродок оскорбляет меня прямо в мэрии… потом меня избивают в церкви… Я убегаю в горы, чтобы нам с женой никто не мешал… и тут парень, которого я ни разу в жизни не видел, задает мне трепку и привязывает к стулу… Потом появляется мой побежденный соперник и расквашивает мне физиономию… Выстрелы хлопают, как ракеты во время фейерверка… И в довершение всего, когда у меня появляется надежда, что мы с женой избавились от банды сумасшедших, приходит сержант карабинеров и принимается ласкать мою жену прямо у меня на глазах! Нет, что ни говорите, а здесь точно должна быть какая-то чертовщина…
— Я не ласкаю вашу жену, синьор, я ее лечу! — сурово возразил сержант. — Поглядите, она уже немного успокоилась… Все-таки рука Карло Коррадо — это вещь, и, между нами говоря, найдется немало женщин, только и мечтающих ее присвоить! Но у меня есть Антонина! И я ей верен! Всегда верен жене и родине — таков сержант Коррадо!
Фальеро наконец взял себя в руки.
— Что ж, сержанту Коррадо следовало бы убраться отсюда, да поживее!
— Минуточку!
— Что?
— Я сказал: минуточку, синьор! Потому как есть ведь еще эта история с выстрелами… Может, потолкуем немного о них, а? Если хотите знать мое мнение, эта стрельба ужасно подозрительна!
— Еще бы нет!
— А, вы признаете? Вы ведь сказали, что приехали сюда в свадебное путешествие?
— И это правда.
— То-то и оно, что нужны доказательства, синьор! Я слышал, что иногда брачную ночь стараются украсить звуками мандолины, гитары, аккордеона, флейты или арфы, а особо воинственные в крайнем случае пускают в ход рожки и трубы, но чтоб палили из револьверов — никогда! Может, где-нибудь в Африке, у дикарей, такое и случается, но не у нас! И потом… ваше лицо…
— Оно вам не нравится?
— Оно отвратительно, синьор, просто отвратительно… Лицо вампира, не удосужившегося умыться после трапезы!
— Я не позволю вам разговаривать со мной в таком тоне!
— Простите, синьор, это не я, а ваша мать.
— Моя мать?
— Да, Италия, которую я воплощаю благодаря этой униформе. А кроме того, я слышал, как эта молодая дама кричала, чтобы вы оставили ее в покое. По-моему, вы тут чинили насилие…
— Да это же моя жена!
— Даже если вам удастся это доказать, синьор, имейте в виду, воспитанный мужчина не должен навязываться… Морано!
— Да, сержант?
— Понаблюдайте-ка за этой парой — не скажу преступной, а возможно даже и не подозрительной, но странной! Вот самое подходящее слово: странной! А я тем временем загляну в комнаты — кто знает, может быть (слышите, Морано, я подчеркиваю эти слова: может быть), обнаружу там corpus delicti[26].
— Чего-чего, сержант?
— Слишком сложно для вас, Морано! И не настаивайте, это было бы проявлением весьма дурного вкуса… Синьора, синьор, мы скоро увидимся, э!
Сержант отвесил поклон по всем правилам итальянской вежливости и вышел в гостиную, где и провел некоторое время, пересаживаясь с кресла на кресло и мечтая, как было бы здорово подарить Антонине такие же. Потом он заглянул во вторую комнату, но и там не нашел ничего подозрительного. Зато на пороге кухни Коррадо замер как громом пораженный. Быстро возвратясь в спальню, сержант не стал скрывать обуревающие его чувства.
— Я только что побывал на кухне… Потрясающе! Это напомнило мне землетрясение, которое я, увы, однажды наблюдал в Калабрии… Так что за страшная сцена происходила у вас на кухне?
— Я уже битых полчаса пытаюсь вам это объяснить! — буркнул Санто.
— Что ж, синьор, я вас слушаю.
Фальеро рассказал обо всем, что случилось на вилле, с тех пор как туда приехали они с Тоской. Когда он умолк, сержант задумчиво погладил усы.
— Надеюсь, вы бы не посмели разыгрывать сержанта карабинеров, синьор?
— Что за странный вопрос!
— Да просто в вашу историю довольно трудно поверить…
— Согласен с вами и признаю, что, не будь у меня такого доказательства, как разбитое лицо, я бы и сам, наверное, подумал, что мне все это померещилось… Бывают же кошмарные сны…
— И вы никогда прежде не видели того здоровяка, что ехал за вами на мотоцикле, стрелял в вас, а потом еще и пытал?
— Никогда!
— А вы, синьора?
— Никогда!
— А что понадобилось тут этому Субрэю?
Пришлось объяснять сержанту и кто такой Жак, и причины его безумного поведения в этот день. По мере того как Тоска рассказывала, Коррадо проявлял все более явственные признаки воодушевления и наконец не выдержал:
— Синьора, как же вы могли привести его в такое отчаяние? Несчастный любит вас до сумасшествия! Ах, синьора, при всем моем почтении к вам, позвольте заметить, вы поступили очень дурно!
Коррадо поднял указующий перст.
— И Там вас могут осудить за такую жестокость!
Фальеро не понравился этот лирический порыв.
— Прошу вас выбирать слова, сержант! Не забывайте, что вы разговариваете с моей женой, синьорой Фальеро!
— Знаю, синьор, знаю! Но я поставил себя на место бедняги, у которого украли любимую девушку! Если бы у меня отняли мою Антонину, я бы с горя спалил весь полуостров! И я бы прикончил похитителя, соблазнителя, самозванца!
— Эй, послушайте, вы…
— Конечно, если бы я не был карабинером… А теперь, может быть, вы покажете мне свои документы, а?
Санто передал сержанту свидетельство о браке и удостоверение личности. Коррадо внимательно изучил документы.
— Ну, теперь убедились?
— О да! Синьора Фальеро, имею честь еще раз почтительнейше поздравить вас… Я понимаю всепоглощающую страсть того француза. Стоит только поглядеть на вас — и сразу чувствуешь волнение, вы смущаете души, синьора, и…
Фальеро вернул его на землю.
— Успокойтесь, сержант, и помогите нам выбраться отсюда!
— И куда же вы хотите ехать, синьор?
— Мы возвращаемся в Болонью.
— Невозможно! Я не имею права покидать свой участок, а по дороге на вас снова могут совершить нападение. Вы проведете ночь в этой прелестной комнатке. А мы с карабинером будем охранять ваш сон и вашу любовь…
— Но…
— Это приказ, синьор Фальеро! Приказ, продиктованный мне чувством ответственности! Подумайте, что синьор француз оплакивает потерю любимой и, быть может, неподалеку… А доведенный до отчаяния влюбленный способен на все, синьор! Спокойной ночи, синьора! Спокойной ночи, синьор, и не беспокойтесь ни о чем: Коррадо на посту. Пойдемте, Морано! И не забудьте, мой мальчик, самое главное — такт и скромность!
Супруги Фальеро наконец остались вдвоем.
— Мы оба случайно не сошли с ума? — прошептала Тоска.
— Нет, дорогая…
— Тогда, значит, этот карабинер существует на самом деле?
— Увы!
— Может, позвонить папе?
— Он вам не поверит, а кроме того, я стану посмешищем, хотя, должно быть, в ваших глазах я и так достаточно смешон…
— Да нет же, Санто, нет… Мы оба жертвы какой-то чудовищной, неправдоподобной игры… Попробуем уснуть, но, предупреждаю вас, нас окружают такие опасности, что раздеваться я не стану.
Тоска скинула туфли, и муж последовал ее примеру. Но едва она сняла блузку, намереваясь накинуть халат, как снова вошел сержант. Девушка вскрикнула и скорее накрылась одеялом. Коррадо в очередной раз раскланялся и отдал честь.
— Мое почтение красоте и целомудрию, синьора!
Фальеро стоял в носках, и потому его гнев не производил должного впечатления.
— Убирайтесь к черту! — заорал он.
— Здесь дама, выбирайте выражения, синьор, э? Я только хочу позвонить своей Антонине и успокоить ее. Не сомневаюсь, что синьора меня поймет… женская солидарность, э?
Сержант направился к телефону, а Санто поглядел на жену, закутавшуюся до самых глаз, и бессильно развел руками.
— Алло! Антонина? Это твой Карло… Все так же невредим, сердце мое, и по-прежнему тебя люблю. Я и вправду попал в трудное, если не сказать деликатное, положение… Ты ведь меня знаешь, услада моих дней… и знаешь мою скромность… Так что, раз я говорю, что держался великолепно, можешь мне поверить… Где я? В комнате молодой пары… у них сегодня как раз брачная ночь. Видела б ты невесту, Нина! Она почти так же хороша, как
ты в день нашей свадьбы!.. Что? О, Нина, как ты можешь задавать подобные вопросы?!
Сержант осторожно накрыл трубку рукой и вне себя от восторга сообщил Тоске:
— Она ревнует!
И счастливый Коррадо вернулся к разговору с женой:
— Перестань, Антонина, а то ты меня расстроишь, а ты ведь знаешь, в какое состояние я прихожу, когда ты меня расстраиваешь, э? Так что прекрати!.. Ну да, я ухожу, а она остается с мужем… Нет, не думаю, чтобы он тебе понравился… далеко не так красив, как твой Карло… и потом, без этакой военной выправки, которая тебе по душе… Спокойной ночи, моя куколка… целую тебя в шейку, под кудряшками… Ха-ха-ха!
Сержант повесил трубку.
— Надеюсь, я не допустил никакой бестактности? — наивно спросил он.
Они лежали рядом под одеялом и пытались уснуть, но сон не шел. Санто немного знобило, и все избитое тело мучительно ныло. Услышав, что жена тихонько плачет, он неловко взял ее за руку.
— Не надо плакать, Тоска…
— Не могу… как подумаю обо всех своих надеждах… А ведь я хотела совсем немного! Любая самая ничтожная работница в Болонье имеет право на то, в чем мне почему-то отказано, — спокойную жизнь… За что? Я уверена, что с основания мира ни у одной женщины не было такой брачной ночи, как у меня!
— Во всем виноват Субрэй!
— Как вы думаете, Санто, тот тип, что так выискивал Жака, добрался до него и убил?
— Надеюсь!
— О!
— Послушайте, Тоска, Субрэй мне никогда особенно не нравился, но с сегодняшнего дня я его просто ненавижу! Я никогда не забуду, что он с нами сделал, и не понимаю, как вы можете даже теперь думать о нем без омерзения…
— Может быть, оттого, что я слишком долго думала о нем с нежностью… и вам это известно, Санто…
— Да… но вот чего я совершенно не понимаю, так почему ни на одной двери нет замка!
— Дядя Дино страдает клаустрофобией. Замки внушают ему ужас. И потом, живя один, Дино боится, что, когда ему вдруг станет плохо, никто не сумеет вовремя войти и помочь.
— Ну вот, а мы из-за дядюшкиных маний не можем даже запереть дверь! Хотя бы предупредил…
— Кто мог предполагать, что нас тут ждет? Санто, вы думаете, карабинеры нас стерегут?
— А что им еще делать?
— Спать…
— Ну нет, только не карабинеры! А вот вам надо попытаться хоть немного отдохнуть…
— Спокойной ночи, Санто.
— Спокойной ночи, Тоска.
Полная благих намерений молодая женщина закрыла глаза и погрузилась в легкую дрему, но какой-то чуть слышный скрип вскоре вырвал ее из сонного оцепенения, так и не дав по-настоящему уснуть. Приоткрыв глаза, Тоска увидела, что дверь в ванную тихонько отворилась и в комнату скользнула какая-то тень. Она сразу вспомнила, что в ванной большое окно и выходит оно на балкон, окружающий виллу. Молодая женщина в ужасе разбудила Санто. Тот вздрогнул.
— А? Что такое?
— Санто… в комнате мужчина!
— Мужчина? Вам приснилось!
Однако он повернулся и зажег ночник. В ногах у их постели действительно стоял мужчина.
— Вы?
— Собственной персоной. И после всех пуль, которыми вы меня недавно угостили, большая удача, что сюда явился не мой призрак!
— Что вам еще надо?
— От вас — ничего. И от этой несчастной, хоть она и начала уже расплачиваться за измену, — тоже.
Тоска как ужаленная соскочила с постели, и Субрэй с удовольствием отметил про себя, что она не раздета.
— Это вы мне изменили!
— И вам не стыдно? Я своими глазами видел вас в постели с другим!
— Но он же мой муж!
— А-а-а, признаете? Это вы задумали венчаться, а не я! И с кем же вы сочетались браком? Насколько я понимаю, не со мной?
— Нет, конечно!
— Ну, так кто изменил?
Тоска схватила себя за волосы и жалобно застонала.
— Святая Мадонна! Я схожу с ума! — забормотала она. — Меня отправят в сумасшедший дом! Я уже не знаю, за кого вышла замуж! Я уже не знаю, кто я такая! На помощь! На помощь!
— Это только начало расплаты! — безжалостно заметил Жак.
Санто тоже встал.
— Сейчас здесь случится что-то страшное, Субрэй!
— Оно уже произошло, когда эта несчастная сказала «да» в мэрии сегодня утром!
— И на что вы рассчитывали, забравшись сюда посреди ночи?
— Найти свой кейс!
Жак без лишних церемоний отодвинул Фальеро и, сунув под матрас руку, вытащил чемоданчик.
— Я положил его туда, когда шел спасать вас от американской гориллы, вообразившей, будто вы самая подходящая боксерская груша. Потом мне пришлось подождать, пока карабинеры уснут… А теперь остается только пожелать вам спокойной ночи!
— Погодите!..
Жак уже направился к двери, но, услышав оклик Санто, остановился.
— Погодите, Субрэй… Вы, значит, считаете себя вправе пытаться довести нас с Тоской до сумасшествия? И вы, очевидно, воображаете, будто мы готовы изображать козлов отпущения, пока вам не наскучит ваша игра? Что ж, вы ошиблись, мерзавец вы этакий! Говорите, это в вас я недавно палил в саду? Единственное, о чем жалею, так это о том, что промахнулся! Но подобное упущение всегда можно исправить, синьор Субрэй!
Продолжая говорить, Фальеро взял со столика револьвер и прицелился в Жака. Тот не верил собственным глазам.
— Но вы не застрелите меня так хладнокровно?..
— Вы ворвались ко мне ночью… ударили меня… И кто посмеет поставить мне в вину самозащиту?
— Тоска не позволит…
— Ей придется молчать — командую тут я! Мы в Италии, синьор француз, а не в вашей стране, и здесь женщины слушаются мужа!
Субрэй отлично понимал, что при такой взвинченности противника и в самом деле рискует отправиться на тот свет. Дверь далеко… Позвать карабинеров? Они прибегут слишком поздно. И Жак приготовился закончить жизнь так по-дурацки, как вдруг Тоска, чье молчание должно было бы удивить обоих мужчин, если бы они могли обращать внимание на что-то, кроме собственной ярости, как рысь налетела на мужа. Тот потерял равновесие, и пистолет выстрелил в пол. Жак одним прыжком добрался до ванной и исчез. Одновременно дверь из гостиной распахнулась и голос сержанта скомандовал:
— Стрелять из положения лежа! Быстро на живот, Морано!
Карабинер выполнил приказ.
— А теперь палите во все, что шевелится! Огонь!.. Ну, в чем дело? Вы стреляете или нет, Морано, э?
— Никто не шевелится, сержант!
— Мертвые есть?
— По-моему, нет, сержант…
Карло Коррадо осторожно заглянул в спальню и, окинув ее взглядом, вновь напустил на себя важность.
— Кто стрелял?
— Я.
— Вы, синьор Фальеро? В кого же это?
— Во француза.
— А, в воздыхателя синьоры? Вот упорный малый, э! Не желает так просто отступать, совсем как я! Мне стоило бы с ним познакомиться…
— В чем же дело? Бегите следом!
— Сначала скажите, почему вы пытались его убить, синьор!
— Потому что мне не нравится, когда ко мне в спальню забираются ночью и нарушают мой сон… я, разумеется, не имею в виду карабинеров…
— А вы сами не приглашали француза войти?..
— Я уже имел честь сообщить вам, что лишь вчера женился на синьоре и, каким бы странным вам это ни показалось, в настоящий момент у нас брачная ночь! Не знаю, как в ваших краях, сержант, но у нас в Болонье предпочитают проводить это время вдвоем.
— С тем же успехом мы могли бы устроиться в комнате ожидания на вокзале, — решительно поддержала мужа Тоска. — Вряд ли там больше народа и уж наверняка безопаснее…
Карло Коррадо отдал честь и поклонился.
— Синьора, разве вы не думаете, что, пока я рядом, вам нечего опасаться? — проворковал он.
Тоска пожала плечами и повернулась к нему спиной.
— Неужели я имел несчастье рассердить вас, синьора? Это был бы первый случай, когда дама не оценила Карло Коррадо.
Санто слишком долго сдерживался, чтобы не выложить наконец все, что накипело у него на сердце.
— Жалкий паяц! Вот кто вы такой, сержант! Смешной клоун, неспособный даже толком выполнить собственные обязанности!
— Синьор, я определенно начинаю все больше сочувствовать вашему сопернику-французу!
— И, несомненно, именно из этих соображений позволили ему удрать?
— Тысячу извинений, синьор! Но это вы в него стреляли… это вы промахнулись, и, следовательно, упустили француза тоже вы!.. К тому же мне лично этот человек ничего плохого не сделал! Зачем бы я стал его арестовывать?
— А мое лицо? Посмотрите, что этот негодяй с ним сделал!
— Видать, вы здорово вывели парня из себя, синьор… Честно говоря, не будь на мне формы, я бы тоже с удовольствием расквасил вам физиономию… Но это уже сделано… Впрочем, прошу синьору простить мне грубые слова… И я поищу вашего противника, раз уж вы не способны справиться с ним самостоятельно. Если бы тут не было синьоры… а, ладно!.. Ну и как выглядит этот бешеный?
— Ничем не примечательный тип…
— Прошу прощения, синьор, я обращаюсь к вашей супруге… Сдается мне, она гораздо лучше разглядела молодого человека… Итак, я слушаю вас, синьора!
— Высокий… брюнет… красивый…
— Очень?
— Что?
— Видите ли, синьора, в Италии красивых мужчин хватает… Так вот, я и хотел бы уточнить, о какой красоте идет речь — просто ли он хорош собой, но это обычное, ничем не примечательное соответствие классическим канонам, или же это истинная красота, вроде статуй Донателло и Микеланджело? Красота плюс изящество, природная грация… Или же он поразительно красив? Понимаете, синьора, я имею в виду нечто ослепительное, отчего у вас спирает дыхание и вы превращаетесь в рабыню с первой встречи?
— Нет, все же не до такой степени…
— Значит, вам больше повезло, чем моей Антонине… Бедная невинная овечка!.. Я тогда отправился в паломничество в Сан-Джиминьяно, и Антонина вместе с другими тосканскими девушками тоже шла туда… И как только наши две группы смешались… ах, синьора!.. Это было потрясающе, незабываемо!.. Едва мы встретились глазами, она пошатнулась, упала на колени и все было кончено!
— Кончено?
— Она так никогда и не сумела подняться. И вот уже одиннадцать лет стоит передо мной на коленях! Но Антонина так счастлива, как я желал бы и вам, синьора! Карабинер!
— Сержант?
— Мы поищем как следует, только чтобы доставить удовольствие этому синьору, хотя он, по-видимому, считает, будто корпус карабинеров был создан с единственной целью служить развлечением представителям имущих классов, страдающим бессонницей! Ну, пошли искать воображаемого француза, который якобы бродит в…
Первый выстрел оборвал сержанта на полуслове. После второго он с беспокойством оглядел присутствующих, а услышав третий, чуть не побежал прятаться, но вопль Санто Фальеро: «Ну, теперь поверили?» — напомнил карабинеру о долге. Он бросился к телефону.
— Антонина! Это Карло! Я просто хотел сказать тебе, что иду на смертный бой!.. Стреляют из каждого угла! Будь сильной, любовь моя, сильной, как твой Карло! А если я не вернусь, обещай навсегда остаться верной моей памяти! Спасибо!
Он торжественно опустил трубку, вытащил револьвер и снял предохранитель.
— Avantis carabinieri![27]
И сержант пружинящей походкой вышел из дома вместе с Морано.
Снаружи немедленно послышалась бешеная пальба: Коррадо и его подчиненный, видимо, твердо решили не жалеть патронов.
— В кого это они так стреляют? — спросила мужа Тоска.
Они палили во что ни попадя, и Роналд Хантер из британского М1-5, удивленный неожиданным подкреплением, явившимся на помощь Субрэю, которого он, казалось, наконец настиг, вообразил, будто вернулся во времена Дюнкерского отступления. Уткнувшись носом в куст молочая, Роналд решил переждать угрозу. Англичанин ненавидел свою работу, но выполнял каждое задание с величайшей тщательностью, не сомневаясь, что таким образом приближает счастливый день, когда он наконец сможет навсегда вернуться в Кокермаут, к Дэйзи и детям. Поэтому же Роналд всегда считал первейшим долгом сохранить супруга этой милой женщине, так хорошо умеющей готовить шоколадные кексы. Вспомнив о прежних чаепитиях, рыжий шпион улыбнулся молочаю, словно воинственные фантазии карабинеров вдруг утратили всякое значение. Унесенный волной давно испарившихся кулинарных запахов, муж Дэйзи затерялся в мечтах о домашнем уюте, и эхо выстрелов в итальянской провинции нисколько не нарушало их мирного течения.
Хоть и будучи оптимистом по натуре, Роналд Хантер после неудачи в баре Паоло Чиафино и пережитого там кошмара едва не отказался от миссии. Он полагал, что раскрыт, и только для очистки совести отправился вечером бродить возле Палаццо дель Дженио Сивиле. При виде советской команды Хантер немного приободрился: эти тоже потерпели поражение… Однако отсутствие Майка Мортона его немного беспокоило… Около полуночи англичанину сообщили, что Субрэй — на приеме у графа Матуцци, но когда он добрался до виа Сан-Витале, новобрачные уже уезжали, а следом за ними — Мортон… Некоторое время Роналд потратил на расспросы, а потом не без труда добрался до Ча Капуцци. Как только он проник в сад, из дома выбежал мужчина с кейсом в руке. Ни секунды не колеблясь, Хантер выстрелил, но и противник явно не желал сдаваться без боя. А потом в их перестрелку внесли свою лепту карабинеры, тоже выскочившие из дома. В результате муж Дэйзи окончательно перестал понимать, что происходит. Заметив, что тот тип с кейсом снова вернулся на виллу, Роналд решил последовать за ним, если, конечно, не падет жертвой двух здоровенных итальянцев, по-прежнему паливших из ружей куда попало.
— На войне стреляют так же?
— Знаете, Тоска, к концу последней мне было всего четырнадцать лет, но, думаю, сражения на передовой похожи на то, что мы сейчас слышим.
Забравшись в постель, они прислушивались к перестрелке, не понимая, что все это значит. Тоска смирилась с неизбежным и больше не плакала. Абсурд есть абсурд, и оставалось лишь ждать продолжения.
— Как, по-вашему, это надолго, Санто?
— Откуда же мне знать?
— Кто бы мог подумать, что коротенькое «да» в мэрии способно послужить сигналом к такой череде событий? Похоже, какие-то темные силы поклялись не давать нам ни минуты роздыха!
— Может, и так, Тоска, но, клянусь, теперь с этим покончено!
Фальеро положил пистолет и обнял жену.
— Положитесь на меня, никто нам больше не помешает — я этого не позволю!
То ли потому, что искренний пыл Санто растрогал девушку, то ли от усталости она не стала его отталкивать.
— Руки вверх или я стреляю! — рявкнул кто-то.
Молодые люди отпрянули друг от друга и, поглядев в сторону ванной, увидели тщедушного рыжего человечка с револьвером в руке. Санто очень некрасиво выругался, а Тоска, будто на грани безумия, разразилась хохотом.
— Входите же, прошу вас! — с трудом проговорила она сквозь смех.
Хантер несколько растерялся — такой странный прием кого хочешь собьет с толку, зато Фальеро набросился на жену:
— Что с вами, Тоска? Зачем вы пригласили этого типа?
— А какой смысл бороться с судьбой? Вероятно, нам на роду написано то и дело принимать гостей в брачную ночь!
— Вольно вам так легко к этому относиться, а вот я не желаю…
Санто попытался схватить револьвер, но голос англичанина приковал его к месту.
— Лучше не надо, синьор… я хорошо стреляю.
— Но в конце-то концов, что вам угодно? И откуда вы взялись?
— Откуда я — вас не касается, а хочу я, чтобы вы сказали мне, где он прячется!
— Кто?
Тоска схватила мужа за руку и повернулась к Хантеру.
— Минутку, синьор, позвольте мне угадать, о ком речь. Возможно, по удивительному, по невероятному совпадению вы имели в виду Жака Субрэя?
— Да.
Молодая женщина торжествующе крикнула мужу:
— Я делаю успехи, Санто! Вот увидите, скоро я начну хоть что-нибудь понимать в том, что тут происходит!
— Ну, я-то уже давно понял, что, пока Субрэй не окажется на шесть футов под землей, я не буду знать ни минуты покоя! Слушайте, рыжий, вы ищете Субрэя, так?
— Да.
— Тогда найдите его, старина! А если вам понадобится помощь, чтобы отправить его на тот свет, когда поймаете, не стесняйтесь — зовите меня!
Роналд Хантер не доверял бурным страстям.
— Вы его не любите?
— Мягко говоря — да.
— Так почему вы не пытаетесь изловить его сами?
Фальеро указал на Тоску.
— Потому что я не желаю оставлять жену одну. Этот парень вполне способен ее украсть!
— Ясно…
По правде говоря, англичанин ничего не понимал, но шпиону не положено признаваться в таких вещах.
— А где, по-вашему, он может прятаться?
— В саду за газоном неподалеку от задней стены виллы. Там растут кипарисы.
Рыжий человечек повернулся и хотел было снова выйти в ванную, а оттуда — на балкон, но вопрос Тоски остановил его:
— Синьор… вы ненавидите Субрэя?
— Я? Что за странная мысль!
— Но мне показалось, будто вы хотите его убить…
— Только если меня вынудят к тому обстоятельства… Коллега все-таки… А мы стараемся без особой нужды не доставлять друг другу лишних неприятностей…
И он ушел, оставив молодую женщину в полном недоумении.
— Санто… мне говорили, что после свадьбы и всего с ней связанного я стану по-новому смотреть на мир… Но мне скорее кажется, что я помимо своей воли попала в сюрреалистический фильм, где логика уже не имеет значения, а социальные установления — пустяк. Санто, вы когда-нибудь слышали, чтобы женщину наутро после свадьбы забирали в психиатрическую клинику?
— Не знаю, дорогая… Что за странный вопрос!
— Просто я чувствую, что именно это меня и ждет!
— Вы с ума сошли?
— Вот видите!
— Да я вовсе не то имел в виду, Тоска!
— Что ж, напрасно! Потому что я сумасшедшая! Слышите? Сумасшедшая!
— Умоляю вас, дорогая, придите в себя!
— А вас, Санто Фальеро, я ненавижу! Вы злой человек! У меня на глазах вы осмелились сказать тому рыжему незнакомцу, чтобы он убил Жака, если сможет!
— Да какие ж вам еще нужны доказательства, чтобы открыть глаза? Неужели вы не понимаете, что этот проклятый мерзавец — причина всех наших бед?
Не удостоив его ответом, молодая женщина схватила со столика пистолет.
— Если рыжий убьет Жака, я застрелю вас!
— Но ведь я ваш супруг перед лицом Бога и людей, Тоска!
— Сейчас не самый подходящий момент мне об этом напоминать!
— Этак вы заставите меня поверить, будто сожалеете о нашем союзе!
— И еще как! Если супружество и в самом деле таково, я бы и злейшему врагу не пожелала выходить замуж!
— Послушайте, Тоска миа, вы достаточно разумная девушка и должны понять, что все наши несчастья не имеют ничего общего с браком… я имею в виду сами священные узы… Это месть Субрэя, осложнившаяся чем-то таким, чего я и сам толком не понимаю…
— Но согласитесь все же, что ни тот колосс, который вас бил, ни этот рыжий тип, ни карабинеры не были необходимым дополнением к нашей брачной ночи…
— Бесспорно.
— Тогда почему они здесь?
Фальеро развел руками в знак полной неспособности дать нужный ответ. При этом он выглядел так забавно, что Тоска не удержалась от смеха.
— Вы похожи на пингвина, Санто…
Однако, увидев глубокое отчаяние в глазах мужа, она великодушно добавила:
— …но пингвины мне очень нравятся…
И, мысленно послав последнее «прощай» Жаку, молодая женщина подошла и прижалась к груди Фальеро, и тот крепко обнял ее. Тут же в комнату вошел Карло Коррадо.
— Прошу прощения, синьора, синьор… Я пришел с отчетом… — заявил он, отдавая честь.
Санто хотел возмутиться, но у него уже не оставалось на это сил. На сей раз пришла очередь Тоски его успокаивать.
— Иначе и быть не могло, друг мой… Стоит нам только подойти друг к другу, как двери немедленно открываются…
— Я полагаю, что могу совершенно уверить синьору в том, что с этой минуты ей больше ничего не грозит, — продолжал бесстрашный сержант. — Тот тип, по всей видимости, бежал за пределы имения… А утром мы проверим, чьи там следы. Вы позволите?
Уже в который раз за эту ночь Коррадо снял трубку.
— Алло! А, ты тут, моя Антонина? Бодрствуешь у телефона? Отлично! Я горжусь тобой, моя мужественная голубка! Ты, конечно, выполняешь свой долг, но делаешь это с блеском, уж можешь поверить своему сержанту!.. Да, здесь все потихоньку успокаивается. У нас была отчаянная перестрелка, но, благодарение Богу, сейчас уже тихо. Мы с карабинером Морано вернемся на рассвете. Я очень надеюсь согреться в твоих объятиях, моя Антонина! О да, я хотел бы повстречать как можно больше врагов, душа моя, и победить их ради твоих прекрасных глаз!
Прижимая трубку к щеке, Карло Коррадо слегка повернулся. Он хотел улыбнуться Тоске, но улыбка умерла, едва успев родиться, — на пороге ванной стоял невысокий, разбойничьего вида мужчина и целился из револьвера в него, сержанта! Карло вздохнул, но у него перехватило дыхание, и этот сдавленный звук произвел на Антонину впечатление отчаянного крика о помощи.
— Что случилось, Карло мио? — испуганно вскрикнула она.
— Попал в ловушку, — пробормотал побелевший от страха сержант. — Смерть глядит мне в глаза, Нина… Прощай, любимая…
Тоска и Санто, сидя на постели, созерцали картину, которая больше их не удивляла. Зато в трубке, болтавшейся на проводе, они услышали какой-то грохот — где-то далеко от них, у себя дома, Антонина упала в обморок. Сержант выпрямился и, положив трубку на место, поглядел на рыжего агрессора.
— Ну, синьор?
Задавая вопрос, Коррадо искоса поглядывал в сторону гостиной и с облегчением заметил тихонько приоткрывшуюся дверь. Он глубоко вздохнул, от всей души призывая карабинера немного поторопиться.
— Где человек, в которого вы только что стреляли?
— Понятия не имею, синьор… Вероятно, сбежал?
— Будь это так, мы бы услышали шум мотора!
Сержант с упреком посмотрел на Санто и Тоску.
— А вы говорили, высокий брюнет…
— Это не тот, сержант!
— Так что же, все жители Эмилии решили здесь встретиться этой ночью?
— Я и вправду начинаю так думать… — с горечью признался Санто.
Тоска рассмеялась, и звонкие ноты, выскользнув в окно, коснулись ветвей деревьев, вторя журчанию воды в фонтане. Роналду Хантеру итальянская веселось внушала ужас — он никогда не знал, то ли эти люди смеются от души, то ли морочат ему голову.
— Довольно! — бросил он.
Все умолкли, разглядывая его, как диковинного зверя.
— Положение очень серьезное, а вы, кажется, не отдаете себе в этом отчета? В деле замешаны государственные интересы, настолько значительные, что по сравнению с ними жизнь мужчины, женщины и даже сержанта карабинеров ничего не значит!
Карло попытался возразить:
— Позвольте, синьор…
— Нет! Я должен найти Субрэя или его труп… и поскорее!
— Осторожно, синьор! Положите оружие на кровать, а то как бы вам самому не стать покойником!
Англичанин вздрогнул, но, проследив направление взгляда сержанта, увидел карабинера с ружьем наизготовку. Как хороший отец семейства Хантер бросил револьвер на кровать, которая этой ночью должна была стать брачным ложем. Карло воспрянул духом. Положение изменилось в его пользу.
— Ну, синьор, что вы скажете о таком повороте событий, а? — проговорил он, насмешливо расправив усы. — Придется вас обыскать, уж извините! Морано, не спускайте пальца с курка и при первом же подозрительном движении… Понятно?
— Да, сержант!
Силио Морано так сильно сосредоточился на своем противнике, что не слышал, как у него за спиной открылась дверь. Внезапно он почувствовал, что падает, и, не успев сообразить, как это произошло, приземлился на чету Фальеро. Санто, получив головой в живот, сразу утратил интерес к происходящему, а Тоска, задыхаясь под тяжестью солдата, меланхолично заметила:
— Вы полагаете, такое поведение достойно карабинера?
Сержант, не видевший полета своего подчиненного, узрел лишь финальную сцену — то есть кувыркание на постели.
— Морано! — возмущенно завопил он.
Роналд Хантер воспользовался удобным случаем и отшвырнул Карло Коррадо, и тот немедленно составил компанию Силио и синьору Фальеро. Все вместе они сплелись в некий причудливый гордиев узел, а вконец рассерженная Тоска лупила по физиономии каждого, кто попадался ей под руку. Англичанин бросился было к двери в гостиную, но, встретив кулак Майка Мортона, отлетел к постели и шлепнулся на сержанта, который как раз только что встал на ноги. Тот опять попал в черту досягаемости Тоски и сразу же заработал пощечину. Карло выругался, грозя Морано всеми возможными карами, и потребовал, чтобы тот поскорее вызволил его из столь щекотливого положения, если не хочет неприятностей. Что до Санто, то он, выведенный из строя нечаяным ударом Силио, безжизненно болтался в общей свалке, пока не скатился с кровати. Это привело его в чувство. Молодой человек открыл глаза, тупо посмотрел в потолок и, не теряя времени на обдумывание происходящего, приподнялся. Не обопрись Санто о стену, наверняка он снова упал бы, потрясенный представшей пред его изумленным взором картиной: Тоска, его законная жена, сражалась сразу с тремя мужчинами… и к тому же на постели! У супружеского терпения тоже есть пределы. Вне себя от бешенства, Фальеро схватил прекрасную урбинскую вазу дядюшки Ваччи и изо всех сил опустил ее на первую подвернувшуюся голову. Это оказалась голова сержанта. Прекрасный Карло без чувств повалился на пол. Карабинера за шиворот стянули с неправедно занятого супружеского ложа. Бедняга Силио, окончательно рассвирепев, напал на англичанина — тот так еще и не очухался после удара Мортона — и катапультировал его в другой угол комнаты, а потом кинулся на помощь шефу. Однако ему пришлось пройти мимо Санто, и тот, пустив в ход на сей раз канделябр, отправил его в нокаут. Майка весь этот спектакль, по-видимому, очень забавлял, но теперь он вспомнил о работе.
— Спокойно! — приказал американец. — Синьор Фальеро, где Субрэй?
Но Тоска вмешалась прежде, чем ее муж успел открыть рот.
— Верно, его тут нет! Вы пренебрегли всеми своими обязанностями, Санто! Единственный, кого здесь не хватает, это Жак! Право же, нехорошо лишать его участия в таком ралли, тем более что финиш — в нашей спальне! Что до вас, горилла, положите-ка лучше пистолет в карман, а то как бы с вами не случилось несчастья!
Молодая женщина надела туфли, и Майк Мортон, забавляясь ее нахальством, слишком увлекся созерцанием очаровательного раскрасневшегося личика и не заметил, что девушка идет к нему с револьвером Роналда в руке. Подойдя к американцу, Тоска от души стукнула его ногой в бедро. Мортон взвыл и ухватился обеими руками за ногу, а молодая женщина что было мочи шарахнула его по затылку рукоятью револьвера, и Майк Мортон из американского разведывательного управления без слов повалился на пол.
Тоска издала громкий воинственный клич и победно посмотрела на слегка ошалевшего мужа.
— Брачная ночь продолжается! — воодушевленно заметила она.
Увидев, что жена дошла до крайней степени экзальтации, Санто испугался и посоветовал ей взять себя в руки.
— Осторожнее, Тоска, такое возбуждение ненормально…
Молодая женщина широким жестом обвела комнату:
— Ага, а вот это все, по-вашему, нормально? Сегодня ночью у меня в спальне четверо мужчин, не считая мужа, а я, очевидно, должна думать, что так и надо? В моей постели устраивают побоище, меня тоже бьют… и я раздаю оплеухи… А теперь вам хотелось бы поговорить со мной при лунном свете о звездах? Никогда! С этим покончено! Брачную ночь я собираюсь провести на ринге! Слышите? На ринге!
Участники сражения стали понемногу приходить в себя, и Санто, взяв жену за руку, повел ее в гостиную.
— Пусть сами разбираются… Пойдемте выпьем чего-нибудь горяченького…
Они вошли в кухню и одновременно вскрикнули: наведя здесь относительный порядок, Жак Субрэй спокойно закусывал. При виде супружеской четы он гостеприимно встал.
— Входите… Только закройте за собой дверь, а то все эти люди слишком шумят! Хотите чего-нибудь выпить?
— Су… брэй… — прокашлял Санто, с трудом произнося звуки от душившей его ярости.
— Я вижу, вы не стали красноречивее, приятель. А вы, Тоска? Как вам брачная ночь? Незабываема?
— Я думаю, это и впрямь самое подходящее слово, но предупреждаю: если вы еще хоть раз заговорите на эту тему, у меня начнется истерика, и вам самому придется поживее затолкать меня в смирительную рубашку…
— Субрэй… я вас… — пригрозил было Санто, как только почувствовал, что снова может нормально дышать, но жена заставила его умолкнуть.
— Довольно, Санто! Лучше помогите-ка Жаку приготовить завтрак.
Майк Мортон первым пришел в себя. Убедившись, что в комнате нет и следа вожделенного кейса, он из профессиональной солидарности не захотел оставлять Хантера на милость карабинеров и несколькими могучими затрещинами привел его в чувство. Оба шпиона малость передохнули, а потом стали решать, стоит ли оставаться на вилле. Англичанин пожал плечами:
— Если хотите знать мое мнение, Майк, Субрэй уже наверняка у Джорджо Луппо вместе с досье. Мы проиграли, старина…
— Не уверен… Раз он приехал сюда — у него были на то причины, и ничто не доказывает, что они же не помешали ему убраться отсюда.
— И что же?
— Мы спрячемся снаружи и понаблюдаем за всеми выходящими на улицу дверьми.
Эмиль Лауб за рулем своего маленького «фиата» отважно карабкался по дороге на Ча Капуцци. По приказу графини ему надлежало заботиться об удобствах молодоженов. При виде множества машин у виллы Дино Ваччи дворецкий немного удивился. Подъезжая к дому, он заметил, как оттуда тихонько выскользнули двое мужчин. Эмилю это очень не понравилось, он заспешил и чуть не упал, наступив на пустую гильзу. На сей раз Лауб по-настоящему встревожился и побежал к вилле. В гостиной не было ничего подозрительного. Эмиль прислушался: из спальни доносилось мирное посапывание. Тогда он на цыпочках пошел в кухню и резко распахнул дверь. Послышался хор удивленных голосов:
— Эмиль!
Только профессиональная закалка позволила дворецкому не выдать, как его поразило столь раннее бдение на кухне, где, судя по всему, сводили счеты враждующие банды гангстеров. Лауб лишь поклонился:
— Позволим себе осведомиться у синьоры и синьора Фальеро, хорошо ли они провели ночь…
Глава V
Вопрос показался таким нелепым, что никто не смог удержаться от смеха. Эмиль, о котором никто никогда точно не знал, что у него на уме, невозмутимо взирал на молодых людей. Тоска встала из-за стола.
— Теперь, когда вы здесь, Эмиль, я чувствую, что все встанет на свои места, — заявила она, прижимаясь к старику.
— Во всяком случае, мы можем уверить синьору, что сделаем все от нас зависящее.
— Ах, Эмиль, это просто невероятно… чего я только не натерпелась, с тех пор как мы уехали с виа Сан-Витале!
— Не будь на кухне столь странного беспорядка, мы бы, наверное, сочли, что синьора преувеличивает… Не угодно ли синьорам пройти в гостиную, пока мы приготовим настоящий завтрак?
— Только не он! — возмутился Фальеро, ткнув пальцем в сторону Жака. — Этот тип уже достаточно отравил нам жизнь! Так что у меня нет никаких оснований еще и кормить его, помимо всего прочего!
— Это не соответствует традициям Матуцци, синьор, — презрительно бросил Эмиль. — Для Матуцци любой гость священен…
— Ну и что с того? Я же не Матуцци! И если этот субъект не уберется отсюда сию же секунду, вышвырните его вон, Эмиль!
— Как это ни печально, мы не можем подчиниться приказу синьора Фальеро… Мы покинем дом вместе с месье Субрэем. В нашем возрасте нам было бы невозможно научиться вести себя, как в бистро для черни. Но, может быть, синьор Фальеро не понимает нашей точки зрения?
— Идите вы оба к черту!
Жак дружески взял дворецкого под руку:
— Пойдемте, Эмиль, и останемся светскими людьми.
— Если вы уйдете, то и я с вами! — пригрозила Тоска.
Субрэй заявил, что это вполне отвечает его собственным желаниям, но Санто тут же подскочил к двери и загородил ее собой, раскинув руки крестом.
— Так вы продолжаете? Да неужели эта проклятая ночь никогда не кончится?
— О, Фальеро, как вы можете так говорить о своей брачной ночи? — с наигранным удивлением осведомился Жак.
— Пусть это будет последним, что я сделаю в жизни, но я вас прикончу, Субрэй!
Эмиль преградил Фальеро дорогу:
— Мы были бы премного обязаны синьору, если бы он соизволил взять себя в руки…
Тоска решила, что ей пора вмешаться.
— Перестаньте нести чепуху, Санто! Дайте мне руку и пойдемте в гостиную… А вы, Жак, побудьте пока тут с Эмилем — пусть мой муж немного передохнет и образумится, а потом присоединяйтесь к нам.
Как только дверь закрылась, Эмиль высказал свое мнение:
— Мадемуазель Тоска поистине безукоризненна.
— Это ужасно, Эмиль, но чем дальше, тем больше я ее люблю!
— Мы понимаем месье. А можем мы поинтересоваться, не было ли у месье крупных неприятностей этой ночью?
— Да, я чуть не влип… но, кажется, Фальеро нахлебался куда больше! А ведь он не имеет никакого отношения к делу!
— К какому делу, месье?
— Ни к какому… это я просто так…
— Месье несомненно известно, что в непосредственной близости от имения стоит довольно много машин?
— Ну и что?
— Эти машины, разумеется, не могли появиться здесь самостоятельно… Поэтому месье следовало бы проявить крайнюю осторожность на случай…
— Да?
— …если бы этим людям вздумалось объяснить месье, что они не в восторге от макаронных изделий Пастори, чьим глашатаем является месье… Кажется, мы уже видели этих людей в мэрии, и, по всей видимости, они проявляют повышенный интерес к кейсу, с которым месье не расстается никогда или почти никогда. В наше время любопытство и дурные манеры распространились беспредельно!
— Слушайте, Эмиль, давайте прекратим эту игру. Вы ведь в курсе дела, не так ли?
— Слуга никогда не позволит себе быть в курсе чего бы то ни было, месье, если только заинтересованные лица не сочли полезным ему довериться, но это в большинстве случаев и неуместно, и… опасно. Пусть месье соблаговолит нас простить, но мы, кажется, слышим телефонный звонок.
Оставив Жака в некотором замешательстве, Эмиль вышел из кухни, пересек гостиную, где, сраженные усталостью, Тоска и Санто дремали в креслах, и открыл дверь в спальню. Царивший там беспорядок шокировал дворецкого, но он подошел к телефону и снял трубку.
— Pronto?.. Простите? Муж? Мы опасаемся, что плохо поняли смысл вашего вопроса, синьора… Ваш муж должен быть здесь? Вместе с карабинером? Но для чего? Ах, они пришли арестовать убийц? Синьора, мы думаем, здесь какая-то ошибка… или же синьора стала жертвой шутки весьма сомнительного вкуса… Мы можем уверить вас, что здесь нет… О! Подождите! Не вешайте трубку, пожалуйста…
Дворецкий направился к кровати, из-за спинки которой торчал сапог. Нагнувшись, он обнаружил там сержанта карабинеров. Эмиль извлек беднягу из щели и с удивлением узрел совершенно синий лоб, как будто сержант с размаху приложился головой об стену. Лауб усадил карабинера на постель и начал похлопывать по щекам, пока Коррадо не приоткрыл наконец один глаз.
— У вас есть жена по имени Антонина, синьор сержант? — спросил Эмиль.
Карло испустил столь невероятно глубокий вздох, что произвел впечатление даже на невозмутимого дворецкого.
— Антонина… солнце моей жизни? Где она?
— Дома, вероятно.
— Тогда почему вы говорите мне о ней? По какому правы вы позволили себе упоминать имя этой святой? Где вы ее видели?
— Мы не видели синьоры, мы ее только слышали.
— Где?
— Там… Синьора ждет на том конце провода и требует своего мужа, сержанта карабинеров.
— Это я!
— Так мы и подумали.
— Помогите мне добраться до нее, до бедняжки…
Эмиль поддерживал сержанта, пока тот брел к телефону.
— Алло?.. Нина?.. Не кричи так, ты меня терзаешь… Ранен? Нет, не думаю… хотя голова… Ах, Боже мой, я, кажется, вернулся с того света… Западня, слышишь, Антонина, западня! Вот куда я попал! Меня избили! Кто? Откуда я знаю! Сходи к Пьеранджели и купи эскалоп потолще — я положу его на лоб, чтобы оттянуть кровь. Иначе, я чувствую, у меня будет удар, воспаление мозга… безумие и смерть! Нет, не плачь, моя Антонина, хотя из тебя получилась бы очень милая вдовушка… вот только я уже не смогу тебе об этом сказать, моя голубка… А раз меня не будет, то что мне с этого за радость?
Чувствуя, что разговор становится все нежнее, Эмиль тактично удалился.
— Что со мной произошло?.. Не знаю… Клянусь тебе, сейчас я просто не способен ни о чем думать — я так страдаю… И как же мне не терпится попасть к тебе под крылышко! Ты мое спасение, моя гавань, Антонина миа… Да, уеду отсюда, как только разыщу Морано. Ты же понимаешь, что военачальник не может вернуться без своих полков! Отдаю измученное сердце в твои верные руки! Чао!
Сержант задумчиво опустил трубку. Он еще не вполне пришел в себя, но все же пытался сообразить, что произошло. Коррадо смутно припоминал, что явился какой-то рыжий разбойник и грозил ему револьвером, потом карабинер изменил ситуацию в свою пользу, но с этого момента цепь событий прерывалась — он не мог вызвать в памяти ничего, кроме разрозненных и непонятных видений. Будто бы он, Карло, бултыхается на кровати вместе с Морано, молодой женщиной и — это уж ни в какие ворота не лезло — с тем рыжим типом! Кроме того, у сержанта было неясное ощущение, будто он получил сильнейший удар по голове. Коррадо инстинктивно поднял глаза к потолку — не отвалилась ли какая-либо его часть. Но, поскольку потолок оказался явно ни при чем, сержант так и не смог понять, что его оглушило. Опустив глаза долу, Карло заметил, что из-под опрокинутого дивана торчит рука. Он выхватил револьвер и решительно двинулся к человеку, притаившемуся в засаде. Однако, отодвинув диван, сержант нашел там лишь своего карабинера. Тот, видимо, спал. Мощнейшим пинком под зад Коррадо вернул ему одновременно и чувство реальности и представление о дисциплине.
— Ma gue! Морано! Вы хоть знаете, где находитесь?
Совершенно ошалевший карабинер явно ничего не понимал.
— Значит, пока я сражаюсь, пока я сдерживаю натиск бешеной своры, вы, Морано, спокойно дрыхнете, э?
— Я разве сплю, сержант?
— А если нет, то для чего вы торчали за диваном, а?
— Не знаю, сержант.
— А ружье? Где ваше ружье?
Морано посмотрел на обе ладони, словно желая убедиться, что там нет карабина, и с отчаянием поглядел на Коррадо.
— Не знаю, сержант…
— А вы догадываетесь, что это значит?
— Нет, сержант!
— Вас всего-навсего ждет трибунал, Морано! Военный трибунал!
Подобная перспектива так напугала парня, что он разрыдался. В конце концов растроганный Карло похлопал его по плечу и стал утешать.
— Ну-ну… Силио… Возьмите себя в руки… Я же не сказал, что отправлю вас под трибунал, а только то, что за такие вещи судят! Надо найти ваше ружье… Иначе как же я смогу объяснить его исчезновение в очередном рапорте?
Карабинер немедленно опустился на четвереньки и принялся искать ружье на полу в каждом углу. Поиски увенчались успехом, и, обнаружив карабин под кроватью, Морано старательно вытянулся перед шефом по стойке смирно. Сержант с умилением улыбнулся:
— Вот и отлично, Морано… Забудем об этом. Но в следующий раз отнеситесь к своему долгу посерьезнее! Э?
Пока Эмиль приводил кухню в мало-мальски пристойный вид, Санто и Субрэй сидели в гостиной, бросая друг на друга полные ненависти взгляды. Кричать они не осмеливались из опасения разбудить Тоску. Сержант и его карабинер нарушили эту семейную сцену, и вся видимость покоя мгновенно улетучилась.
— А, вот вы где! — заметил Каррадо, недружелюбно поглядев на Санто.
Тоска вздрогнула и проснулась.
— Опять карабинеры? — простонала она. — Кошмар продолжается…
Карло повернулся к ней:
— Прошу прощения, синьора! Но всему есть предел, и даже у лучшего в мире карабинера может лопнуть терпение! Кто-то меня ударил по голове! Кто?
— Откуда же мне знать?
— Где тот рыжий тип, который угрожал вам револьвером?
Фальеро хмыкнул.
— Вы что ж думаете, он стал вас дожидаться?
— С одной стороны, я его понимаю… иначе его ждало нечто совершенно ужасное! А это еще кто?
— Француз.
— Француз, влюбленный в синьору?
Жак встал:
— Я вижу, сержант, вы уже в курсе наших дел?
— Да, синьор, и позвольте сказать вам, что у вас прекрасный вкус.
— Благодарю, сержант… всегда приятно встретить человека с душой и сердцем!
Карло Коррадо взволнованно схватил Субрэя за руки.
— Не отчаивайтесь, синьор! Кто знает, что нам судило Небо? Возможно, в один прекрасный день синьора овдовеет…
— Ну, давайте же, не стесняйтесь! — завопил Фальеро. — Прикончите меня, раз на то пошло…
Коррадо смерил его ледяным взглядом:
— Кажется, вас никто не просил вмешиваться в нашу беседу, синьор!
Вне себя от бешенства Санто схватил первую попавшуюся вазу и швырнул об пол. Стекло разлетелось вдребезги. Звон пробудил память сержанта, и тот налетел на Фальеро:
— Теперь я вспомнил! Это вы!
— Я? Что я?
— Вы меня оглушили вазой!
— А вам это не приснилось?
Коррадо заколебался.
— Ваше счастье, синьор, что я не могу присягнуть! — с негодованием крикнул он.
— Мое счастье? Porca miseria! Это я-то счастливчик? Ну, это уж слишком!
Сержант с нескрываемым презрением повернулся к нему спиной.
— Я думаю, синьора, подобное поведение вашего супруга не может не внушать вам глубоких сожалений, — сказал он Тоске.
— Чувства моей жены вас не касаются, сержант! Ма gue! Нет такого закона, что я должен выносить наглость какого-то карабинера! Убирайтесь к чертям! Слышите? Вон отсюда!
Карло с достоинством поклонился Тоске.
— Приношу вам мои глубочайшие соболезнования, синьора… А вы, синьор, не теряйте надежды… В конце концов глаза у нее откроются, — обратился он к Жаку. — А кстати, синьор Фальеро, что за человек только что заходил в спальню?
— Эмиль, дворецкий графа Матуцци.
— И зачем он сюда приехал?
— Работать.
— Превосходно. Насколько я понимаю, бандиты исчезли, разлученная на время пара соединяется, дворецкий приводит дом в порядок, а карабинеры, которых грубо лишили сна и заставили рисковать жизнью, могут идти на все четыре стороны? Да что я говорю — «идти»… их вышвыривают за дверь, святая Мадонна!
— Совершенно верно, сержант. И, честно говоря, чем раньше карабинеры отправятся восвояси, тем лучше!
— Отлично… Вы слышали, Морано?
Мальчик мой, вам пора знать, что никакая броня не защищает нас от неблагодарности тех, кому мы бросаемся на помощь, блюдя честь своей формы! Пойдемте, Морано… Достоинство — прежде всего! Помните, Морано: достоинство!
— Да, сержант!
— А я вас от души благодарю, сержант, — обратилась к Коррадо Тоска. — Возможно, без вашего вмешательства мы с мужем сейчас были бы мертвы!
— Из-за вас я был бы очень этим огорчен, синьора… — Он указал на француза и чуть заметно подмигнул. — И из-за него, впрочем, тоже!
Коррадо гордо выпрямился.
— Синьор Фальеро, хочу вас предупредить, что вас могут грабить, пытать, выпустить кишки и убить хоть тысячу раз подряд — я и пальцем не шевельну! Один раз еще можно поиздеваться над сержантом Карло Коррадо, но дважды — не выйдет! Так что имейте это в виду.
Когда блюстители закона удалились, Санто вдруг пришло в голову, что за последние несколько часов он перенес гораздо больше унижений, чем нормальный человек в силах вытерпеть за всю жизнь. И он решил излить обиду на жену.
— Я не понимаю вас, Тоска! Вы встаете на защиту каждого, кто меня оскорбляет!
— Вовсе нет, Санто! Будь вы сейчас в состоянии рассуждать здраво, вы бы поняли, что я лишь пытаюсь все уладить и успокоить тех, кого вы несправедливо обижаете!
— Жака Субрэя, например?
— Это особый случай…
Жак поклонился:
— Спасибо, милая Тоска!
Санто тут же вскипел:
— Я запрещаю вам называть мою жену «милой»!
— Коли на то пошло, может, вы еще запретите мне ее любить?
— Ma gue! Разумеется, запрещаю!
— Тысячу извинений, но это невозможно!
— Вы слышите, Тоска?
— Естественно… я же не глухая!
— И это вас не возмущает?
— Не могу же я заставить человека меня разлюбить!
— Зато могли бы велеть ему помалкивать на эту тему! Чего вы добиваетесь, Субрэй?
— Право, не знаю… Глядя на нее, я больше ни о чем не могу думать… Мы так давно любим друг друга, Фальеро…
— Так-так… продолжайте, не стесняйтесь! Если хотите, я выйду!
— Я и не смел попросить вас о такой любезности!
— Довольно, Субрэй!.. А вам, Тоска, должен признаться, что ваше поведение меня глубоко ранит! Вы ведете себя, как… Синьор Субрэй, может, вам уйти, пока я не попросил Эмиля выставить вас вон?
— Невозможно!
— Вы отказываетесь уходить?
— Не то чтоб я не хотел… но не могу.
— А почему, скажите на милость?
— Видно, у вас очень короткая память, Фальеро! Вы что же, забыли о событиях нынешней ночи?
— Санта Репарата! Еще бы я забыл! Ничего я не забыл, Субрэй, а главное — что этой дьявольской ночью я обязан вам!
— Уж не воображаете ли вы часом, будто те два типа отказались от надежды до меня добраться?
— Я полагаю, они ушли?
— Вряд ли эти молодцы далеко отсюда… Они меня ждут. Так что заставить меня уйти, Фальеро, — это послать на верную смерть.
Санто, по-видимому, подобный исход нисколько не расстроил бы. Даже наоборот.
— Не хватало только, чтобы вы стали убийцей, Санто! — возмутилась Тоска.
— Об этом и речи быть не может… вы же знаете, Тоска… Но скажите, Субрэй, а вы уверены, что не преувеличиваете малость… просто чтобы пустить пыль в глаза Тоске, а? Ну зачем тем ребятам понадобилось вас убивать?
— Чтобы забрать мой кейс.
— Кейс? Вы что, смеетесь надо мной?
— Клянусь, мне совсем не до веселья.
— Но в конце-то концов, что за сокровища в вашем кейсе?
— Планы мотора, который вы делаете со своим дядюшкой.
— Что?!!
— Вы прекрасно слышали, Фальеро.
— Вы утверждаете, будто документы, украденные три месяца назад, у вас?
— Вот именно.
— Но в таком случае, Субрэй, это вы… вы…
— Украл их? И вы всерьез в это верите?
— По-моему, после того как вы…
— А вы, Тоска?
— Конечно, нет, Жак! Не знаю, как попали эти бумаги к вам, но в любом случае я убеждена, что вы не совершили дурного поступка!
— Спасибо, Тоска.
Полное взаимопонимание между его женой и французом невыносимо раздражало Фальеро. Он усмотрел в этом желание лишний раз поиздеваться над ним, тем более что, к величайшей своей досаде, видел, насколько Тоска любезнее с Субрэем по сравнению с ним.
— Все это очень красиво, но, когда вы закончите обмениваться комплиментами, может, синьор Субрэй снизойдет до объяснений, каким образом похищенные в лаборатории моего дяди документы попали к нему?
— Просто я ездил за ними…
— Куда же это? В Россию?
— Нет, в Марибор, если вас интересуют детали.
— И… и что сталось с ворами?
— А что обычно бывает со шпионами, не сумевшими выполнить задание?
— Да ладно! Все это — пустая болтовня! Вы-то тут при чем?
— Я сотрудник итальянской разведки.
Такое признание, сделанное совершенно спокойным тоном, глубоко потрясло обоих собеседников. Санто пришел в себя первым.
— Значит, вы шпион?
— Если угодно… И не будь я твердо намерен уйти в отставку, вы бы никогда об этом не узнали.
— Угрызения совести? Отвращение?
— Да нет, просто устал… а еще до сегодняшнего утра у меня оставалась надежда…
Тоска покраснела и опустила голову. Но Фальеро продолжал настаивать:
— Значит, те люди, которые напали на нас сегодня ночью…
— Мои коллеги из Англии и Америки.
— Наши союзники!
— В разведке не бывает ни союзников, ни друзей!
— А почему вы держите бумаги при себе?
— Потому что со вчерашнего дня пытаюсь добраться до человека, которому должен их передать. Но пока тщетно.
— И что же вам мешает?
— Слишком много желающих получить планы караулят на дороге.
— В любом случае Тоска наконец-то знает, что вы за тип на самом деле! Шпион… Да есть ли на свете что-нибудь хуже?
— Может, и так… но они нужны, хотя бы для того, чтобы исправлять ляпсусы неосторожных ученых! Ради того, чтобы ваше семейное изобретение не угодило в лапы Советов, мне пришлось три месяца жить в обнимку со смертью! Да еще прислушиваться к каждому шагу на лестнице — вдруг это полиция идет меня арестовывать? А в каждом случайном прохожем или попутчике, будь то на улице, в кафе или в поезде, видеть наемного убийцу, жаждущего за хорошие деньги отправить меня к праотцам… Три месяца подобного режима — это долго, синьор Фальеро, очень долго…
Тоска внимательно слушала. Теперь она отчетливо сознавала, что для нее теперь существует только Жак. И вот она разлучена с ним навеки, из-за того что усомнилась в его любви.
— Именно поэтому вы и молчали целых три месяца?
— Конечно… Меня отправили по следу похитителей как раз в тот вечер, когда я должен был вам позвонить, Тоска. Я не успел вас предупредить, а сейчас…
Она опустила голову:
— Простите меня!
К счастью, появление Эмиля разрядило атмосферу.
— Что угодно синьоре, чай или кофе?
— Чай, пожалуйста.
— А что будут пить синьоры?
Санто и Жак выбрали кофе. Дворецкий сообщил, что, если не считать следов от пуль, дом не очень пострадал.
— Мы не знаем, стоит ли звонить синьору Ваччи и рассказывать о случившемся…
Фальеро пожал плечами:
— Чего ради? Рано или поздно он все равно об этом узнает, и чем позже — тем лучше… Эмиль…
— Да, синьор?
— Вам известно, чем на самом деле занимается Жак Субрэй?
— Мы знаем, что синьор Субрэй время от времени путешествует по поручению торговой фирмы Пастори.
— А если бы вам сказали, что это неправда?
— Мы бы ответили, что нас это ни в коей мере не касается. Простите, синьор, но мы вынуждены вернуться на кухню, тосты уже на огне.
Тоска так рассердилась, что не могла не сделать мужу выговор.
— Намотайте на ус, Санто! Метрдотель дает вам уроки такта! Зачем вам понадобилось выкладывать ему чужие секреты? В конце концов, я могу подумать, что у вас низкая душа!
— В первую очередь я несчастен, вот и все! Как бы я хотел оказаться на месте Субрэя!
— Почему же?
— Потому что тогда я вышел бы из дома и покончил с существованием, которое становится слишком тягостным!
Спрятавшись за кустом можжевельника, Майк Мортон и Роналд Хантер видели, как сержант и его подчиненный покинули виллу.
— По-вашему, они вернутся, Майк?
— Поживем — увидим… Может, они решили, что мы удрали, а может, отправились за подкреплением…
— Тогда нам придется туго…
Американец покачал головой:
— В нашем ремесле самое главное — никогда не терять надежды, мой мальчик, иначе живо испечешься. Давайте-ка малость передохнем. Дорогу отсюда видно, так что, коли Субрэю вздумается подойти к машине, его ждет сюрприз. Как видите, Ронни, я был прав — француз где-то поблизости… С карабинерами он не вышел, а машина так и стоит на обочине. Трудно вообразить, что он мог отправиться в Болонью пешком, а? По-моему, там, в доме, царит полное благодушие! Все трое отлично ладят. Напрасно я не встряхнул хорошенько эту парочку… они бы точно раскололись… А впрочем, голубки ровно ничего не потеряли из-за отсрочки! Ладно, пусть пока приходят в себя, а если через полчаса не случится ничего новенького, рванем туда. О'кей?
— О'кей… Вы женаты, Майк?
— Да вы что? При моей-то работенке? У меня есть подружка в Сиу-Сити, в штате Айова — я там родился. Лет через пять-шесть мы поженимся, если, конечно, я выйду в отставку не очень дохлым… Буду ловить рыбку в старушке Миссури, и настанут распрекрасные времена… Правда, за пять-шесть лет может много чего случиться… Иногда я думаю, Ронни, что лучше бы пошел в полицию Сиу-Сити… Тогда я, само собой, не смог бы болтаться по всему свету, зато Мэрион, возможно, нарожала бы мне чудных ребят…
— А зачем вы пошли в разведку?
— Кажется, меня провели за нос, старина… Книжек начитался! Я воображал, будто шпионы, хоть и дерутся, но в перерывах «снимают» самых сногсшибательных куколок, готовых на что угодно из уважения к нашей профессии. А долларов будто бы — хоть лопатой греби! Видали осла? Насчет драк не спорю — чего-чего, а этого добра хватает. Я уже заработал одну пулю в бедро, другую в плечо и получил ножом в спину, так никогда и не выяснив, кому сказать спасибо… Я болел тифом, корью и чуть не сдох от желтой лихорадки. А вот девицы, по крайней мере те, что мне попадались, не привлекли бы и мальчишку… Что же до бешеных бабок — каждую коробку спичек приходится записывать в статью расходов… Так что облапошили меня, старина, другого слова не подберешь. А у вас как, получше?
— Куда там! С нашими-то жмотами…
— А вы тоже полезли в этот дурдом из-за девок?
— Не совсем… По правде говоря, мы с Дэйзи — моей женой — дружили с детства, вместе ходили в школу в Кокермауте, это в графстве Кемберленд. Я крепкий малый, но всегда был маленького роста, а женщины, во всяком случае у нас в Англии, не очень-то обращают внимание на коротышек…
— А вы еще и рыжий!
— Ну да, рыжий, и что с того?
— Разве в Англии любят рыжих?
— Пока вроде бы да…
— Вот как? А у нас — нет. Короче, ваша Дэйзи не ставит вам в счет огненные волосы?
— Она сама рыжая!
Майк дружески хлопнул коллегу по спине:
— Ох уж этот Ронни! Выходит, Дэйзи не нравился только ваш рост?
— Не то чтобы не нравился, а просто я видел, как она переживает… Другие совершали спортивные подвиги, а я мог рассчитывать только на всякие хитрости. Потом началась война… Я надеялся наконец отыграться, но и тут ни разу не пришлось пострелять. Меня засадили за бухгалтерские расчеты… Троих моих друзей убили, двое вернулись раненые и увешанные медалями. И вот как-то раз, когда я занимался в физкультурном зале дзюдо, ко мне подошел один тип… Короче, я связался с разведкой, чтобы ошеломить Дэйзи. Мы поженились, и у нас двое детей — Алан и Монтгомери…
— И оба рыжие?
— Иначе это было бы просто подозрительно, Майк! Разумеется, о моей работе в секретных службах знает весь Кокермаут, во всяком случае, я думаю, Дэйзи об этом позаботилась, потому что каждый раз, когда в любой точке мира случается мощный взрыв, исчезает самолет, сходит с рельсов поезд или происходит особо впечатляющее покушение, сограждане со всех ног бросаются к моей супруге спрашивать, не замешан ли в этом деле я. Дэйзи, которая, конечно, ничего не знает, отказывается отвечать, но при этом напускает на себя такой таинственный вид и так многозначительно подмигивает, что, с точки зрения жителей Кокермаута, на моих руках больше крови, чем у Гитлера и Сталина, вместе взятых!
— Значит, вы самая выдающаяся личность в Кокермауте?
— Да… Но, по правде говоря, лучше бы я остался бухгалтером. По крайней мере я бы видел Дэйзи и детей, а по субботам метал бы стрелки в баре «Оловянная кружка»…
— Не расстраивайтесь, старина! Всему приходит конец. А пока, раз карабинеров не видно, займемся нашим синьором Субрэем.
— Вы совершенно уверены, Майк, что этот сержант не притащит с собой подкрепления и не начнет прочесывать дом и сад?
— Сержант? Готов спорить, он сейчас лежит в постели с ледяным компрессом на лбу!
Карло Коррадо не лежал, но предположения американца были недалеки от истины. Отдав необходимые распоряжения Гринде — второму из своих карабинеров, и отпустив Морано немного отдохнуть, Карло отправился домой. Антонина встретила его душераздирающими криками и причитаниями. Она сняла с мужа ботинки и мундир, удобно устроила в кресле и потребовала, чтобы он молчал, пока не выпьет крепкого кофе. Но, не давая Карло открыть рта, сама матрона и не думала отказываться от подобного удовольствия.
— Святой Януарий свидетель, Карло мио, я пережила ужасные часы… Я думала, ты погиб!.. И уже видела тебя распростертым на погребальном ложе, в парадной форме и с четками в скрещенных руках.
— Ну, это уж слишком, Антонина…
— А кем бы я была без тебя, мой Карло?
— Вдовой!
— Что ты говоришь?
— Если меня не станет, ты будешь вдовой!
— Никогда! Я не желаю быть вдовой!
— Знаешь, голубка, я ведь тоже не особенно рвусь на тот свет…
— Вот что, Карло, немедленно дожить! Я приготовлю тебе настой огуречника с граппой… ты пропотеешь, и все неприятности как рукой снимет!
— Ma gue! Я же не болен, просто устал!
— Что ж, сделай так, будто ты заболел!
— А мой долг, Антонина?
— Твой долг — сохранить мне мужа, потому что такого, как ты, я больше никогда не найду!
— Если хочешь знать, Антонина, я тоже так думаю.
— Так ты позволишь мне поберечь моего дорогого супруга?
И, преодолевая слабеющее сопротивление Коррадо, жена заставила его облачиться в великолепную пижаму цвета палого листа, отделанную пурпурным шнуром, и уложила в постель. А потом сержанту пришлось выпить обжигающий настой с такой щедрой порцией граппы, что очень скоро, парясь под одеялом, бедняга почувствовал себя островом в океане. Антонина облегченно перевела дух — хотя бы на сей раз вдовство ей не грозит!
Тоска, Санто и Жак заканчивали завтракать. За едой они почти не разговаривали — все трое слишком устали, чтобы продолжать ссориться. Признания Субрэя так огорчили синьору Фальеро, что ей хотелось умереть. Мысль о том, что ее собственное нетерпение и недоверчивость лишили их обоих счастья, казалась невыносимой. В свою очередь Санто понимал, что жена и Субрэй смотрят на него как на третьего лишнего, и, конечно, не мог не испытывать глубокой горечи. Невозмутимый Эмиль, словно не замечая этого кипения страстей, неусыпно следил за соблюдением всех ритуалов, приличествующих завтраку. Наконец Тоска объявила, что собирается принять ванну и нарочно предупреждает всех, чтобы ей не мешали, поскольку в ванной, как и в других помещениях, замка на двери нет. Оставшись вдвоем, Жак и Санто с нескрываемым отвращением уставились друг на друга.
— Весьма сожалею, что там, в Мариборе, над вами не взяли верх, — заметил Санто. — Это избавило бы нас от вашего присутствия!
— Но тогда вам пришлось бы распрощаться с планами мотора!
— И что с того? Тоска мне дороже всех моторов на свете!
Субрэй встал:
— Пойду-ка я лучше пройдусь… Уж очень велико искушение надавать вам как следует!
Как только Жак ушел, Фальеро позвал Эмиля и заказал обед. Покончив с этим вопросом и отпустив метрдотеля на кухню, он закурил, но забыл бросить спичку и, конечно, обжегся, поскольку в комнату ввалился тот самый ужасный гигант, который так жестоко избил его накануне. Санто хотел крикнуть, но не смог издать ни звука. Впрочем, пистолет Майка не располагал к громким проявлениям недовольства. И Санто лишь взмолился, сам не зная кому:
— Нет, этого не может быть… меня, наверное, мучают кошмары… Неужели опять вы? И все начнется сначала?..
Американец расплылся в добродушной улыбке:
— На этом я вовсе не настаиваю… разве что вы сами меня вынудите… Ну? Где он прячется?
— Кто?
— У меня складывается впечатление, что это вы хотите начать все сначала, синьор!
— Вам по-прежнему нужен Субрэй?
— Вот именно.
— Минуту назад он был здесь, так что вряд ли успел уйти далеко.
— Советую вам не двигаться и сидеть спокойно, пока я не закончу поиски.
Не сводя глаз с Фальеро, Майк подошел к двери в спальню, быстро окинул ее взглядом и, не обнаружив ничего интересного, перешел к ванной. Едва он приоткрыл дверь, как послышался дикий вопль Тоски, застигнутой в костюме Евы. Майк неторопливо закрыл дверь и повернулся к Санто:
— А у нас принято запирать дверь, когда собираешься ополоснуться!
На пороге кухни гигант столкнулся с Эмилем.
— Что вам угодно, синьор? — с присущим ему спокойствием осведомился метрдотель.
— Синьор Субрэй, per favore![28]
— Разве он не завтракает?
— Нет.
— Тогда не знаю.
Во время этого короткого разговора Роналд Хантер, решив взяться за своего противника с другой стороны, в свою очередь появился в гостиной.
— Вы один? — спросил он вконец обалдевшего Фальеро.
— Странный вопрос… Вы тоже ищете Субрэя?
— Да.
— В доме его нет, во всяком случае, я так думаю…
— С вашего позволения, я проверю. Главное — не двигайтесь с места!
Фальеро мрачно уверил англичанина, что, если тому вздумается даже поджечь виллу, он не встанет с кресла. Хантер тоже заглянул в спальню, потом в ванную и услышал отчаянный вопль Тоски. Как и положено истинному британцу, Роналд покраснел до ушей и быстро захлопнул дверь:
— Sorry, Mrs…[29]
Он вернулся в гостиную в тот момент, когда Мортон вышел из кухни.
— Ну, Ронни?
— Пусто, Майк!
— Да не испарился же он, в самом деле?!
Не подозревая о том, что его ждет, Жак вошел в гостиную. Увидев вытаращенные глаза Фальеро, он быстро сообразил, что к чему, и хотел было вернуться назад, но опоздал — дорогу в сад преградил американец. Жак оттолкнул плечом Хантера и бросился в спальню, рассчитывая выскочить в сад через ванную, но, распахнув дверь и услышав крик Тоски, застыл на месте и угодил в лапы преследователей. Мортон схватил Жака, а Хантер прикрыл дверь в ванную:
— Excuse me, Mrs**…[30]
Но Тоска без чувств сползла по стенке и не слышала извинений. В гостиной, куда Мортон уже привел Субрэя, Роналд, не отличавшийся ненужной жестокостью, сразу же сообщил, что синьоре, по всей видимости, нехорошо. Проходивший мимо Эмиль бросился на помощь и, забыв постучать, влетел в ванную. Тоска как раз поднималась. Кричать у нее уже не было сил. Дворецкий так смутился, что, забыв все правила, забормотал на родном языке:
— Verzeihen Sie mich, gnadige Frau…[31]
А в гостиной события разворачивались с нарастающей быстротой. Мортон и Хантер, загнав Субрэя в угол, уговаривали отдать кейс, не вынуждая прибегнуть к более убедительным аргументам. Донельзя возбужденный этой сценой Фальеро громко протестовал:
— Вы не знаете французов, синьоры! Этот ни за что не изменит своему долгу! Он предпочтет, чтобы вы прикончили его на месте! Синьор Субрэй — человек отважный! Вам придется как минимум очень долго его колотить!
Жак поглядел на Санто:
— Вам бы очень хотелось, чтобы эти джентльмены окончательно вывели меня из строя, да? Но я не испытываю ни малейшего желания стать калекой ради того, чтобы доставить удовольствие какому-то садисту! Вот мой кейс, синьоры. Я изо всех сил старался сохранить его, но бумаги дядюшки Фальеро, по-моему, не заслуживают, чтобы я положил за них собственную жизнь.
Санто презрительно фыркнул:
— Вы трус, Субрэй! Я это всегда подозревал…
— А вы, надо думать, покажете мне, как умирают, спасая изобретение любимого дяди?
— Мое дело изобретать, а не драться! Для таких вещей существуют наемники… Убийцы на жалованье вроде вас!
Появление Тоски, затягивающей поясок халата, окончательно взбесило Фальеро.
— Тоска! Вы совсем лишились рассудка? Являться в неглиже на глазах у этих похотливых субъектов!
— Какая разница?
— То есть как это?
— За последние несколько минут все они, включая Эмиля, видели меня совершенно голой, так что, честное слово, мне сейчас не гоже строить из себя воплощение стыдливости!
— Тоска… вы меня разочаровываете…
— А вы, Санто? Неужели вы и вправду думаете, что оказались на высоте? Почему вы не предупредили меня, что наша брачная ночь уподобится туристической экскурсии, а основной достопримечательностью буду я сама? Очевидно, синьоры немного опоздали? О, да я же их узнаю! Это великие оригиналы! Они не знали, что римские Олимпийские игры уже окончены, и во что бы то ни стало хотели показать свои достижения в борьбе! Чем могу вам служить, синьоры?
Мортон, который был очарован такой любезностью и, возможно, недостаточно умен, чтобы оценить иронию, неловко поклонился:
— Ничем, синьора… Теперь, когда синьор Субрэй продемонстрировал добрую волю, нам больше незачем вас беспокоить… Ваш кейс, Субрэй, please?
Жак протянул ему кейс. Немного поколебавшись, Майк разразился громким хохотом.
— Думаете, я такой простак, Субрэй? Бросьте-ка его лучше к моим ногам и поднимите руки вверх! Ну, старина?
Чемоданчик шлепнулся рядом с американцем. Тот подождал, пока Жак поднимет руки, потом вытащил револьвер и опустился на корточки, не сводя глаз с француза. Он уже схватил кейс и собирался встать, как вдруг услышал тихий голос Хантера:
— Мне было бы очень жаль заканчивать карьеру убийством такого славного малого, как вы, Майк… Положите оружие на пол…
Мортон повернул голову и воззрился на британского коллегу:
— Ronnie, you!.. Dobled-cross![32]
— Бросьте, Майк, разве на моем месте вы не поступили бы точно так же?
— Конечно… Ну и дурака я свалял! О'кей, готов платить за ошибку!
Он выпрямился.
— А что теперь, Ронни?
— Ногой подтолкните револьвер ко мне…
Майк повиновался.
— Превосходно. А теперь сделайте то же самое с кейсом.
Американец и тут не стал спорить.
— Вы и вправду надеетесь унести его с собой, Ронни?
Ироническая улыбка Мортона немного тревожила англичанина. Он чувствовал, что произошло или вот-вот произойдет нечто, не слишком для него приятное. Роналд быстро нагнулся и сунул револьвер американца в карман.
— Ну вот, а теперь я удалюсь вместе с трофеем.
— Не думаю, Ронни.
— Почему?
— Гляньте, что у вас за спиной!
Англичанин хмыкнул.
— Старый трюк, Майк, вот уж не ожидал от вас…
Не отводя взгляда от тех, кто стоял перед ним, и не заботясь более о странном выражении их лиц, Хантер стал медленно наклоняться, но так и замер в полусогнутом положении, услышав резкий окрик. Выглядел он так комично, что Тоска не могла удержаться от смеха.
— Не очень-то дергайтесь, товарищ Хантер… А то я могу вспомнить, как жестоко вы обошлись со мной в церкви Сан-Петронио…
Англичанин понял, что Наташа Андреева решила взять реванш, и безропотно покорился. Похоже, Дэйзи придется одной воспитывать Алана и Монтгомери…
— Выпрямитесь, Хантер! И идите ко мне пятясь, но не вздумайте оборачиваться, иначе я выстрелю!
Подняв руки, Роналд начал нетвердым шагом пятиться к двери.
— Стоп!
Англичанин замер, и Наташа быстро забрала у него оба револьвера — и его собственный, и Мортона. Майк рассмеялся:
— Какая невезуха, Ронни!
Наташа велела американцу умолкнуть.
— Вы, агенты капитализма, делаете все только ради денег… вы мне отвратительны! Не будь вас так много, я бы всех перестреляла, гнусные враги народа! Вы, англичанин, возвращайтесь к кейсу и подтолкните его ко мне ногой… точно так, как вы велели своему американскому дружку…
Хантер добросовестно исполнил требование.
— Хорошо. Встаньте рядом с остальными.
Наташа подняла чемоданчик — предмет вожделений стольких разведок. Мортон и Хантер имели бледный вид. Фальеро, похоже, все это забавляло, а Тоска, уже ничему не удивляясь, безразлично наблюдала за развитием действия. Что до Субрэя, единственного, кто знал истинную цену бумагам, захваченным русской, то ему никак не удавалось изобразить отчаяние. Его огорчало лишь то, что подделка попала прямиком к Наташе. Джорджо Луппо ждет разочарование! Молодая женщина отступала к двери, держа всех под прицелом. Зато противники Наташи с растущим интересом наблюдали, как из кухни выскользнул Эмиль и неожиданно оказался у нее за спиной. Мортон и Хантер надеялись, что дворецкий бросит поднос, который он держал в руках, и внезапно обрушится на победительницу. Не мог же он не слышать, что здесь творится! Наташа буквально подскочила на месте, когда почтительный голос шепнул ей в самое ухо:
— Не угодно ли синьоре чашечку чаю?
Забыв о тех, кого она только что держала на мушке, молодая женщина резко обернулась и наставила дуло револьвера в живот Эмилю.
— А ну убирайтесь к себе на кухню!
— Но, синьора…
— Прочь, лакей капитализма! Раб!
— К услугам синьоры…
Присутствующие разочарованно вздохнули, особенно Тоска и Жак — они оба так хорошо знали старого слугу! А тот, чтобы вернуться на кухню, разворачиваясь, сделал неловкое движение, и все содержимое подноса — чай, молоко, кофе, масло и джемы — полетело на юбку Наташи.
— Дурак! — на русском языке завопила разгневанная женщина.
Она инстинктивно опустила голову, дабы оценить масштабы катастрофы, и тут же получила от Эмиля такой меткий удар в челюсть, что, сама того не замечая, плавно перешла от возмущения к глубокому сну. Майк и Роналд как на пружинах подскочили к чемоданчику. Оба вцепились в него одновременно, и Майк уже поднял огромный кулак, собираясь избавиться от англичанина, но замер, услышав спокойный голос дворецкого.
— Синьоры, должно быть, ошиблись…
Хантер и Мортон, не двигаясь, смотрели на Эмиля, стоящего с Наташиным револьвером в руке.
— Если память нам не изменяет, — продолжал меж тем Лауб, — этот кейс — собственность синьора Субрэя, не так ли? Мы убеждены, что синьоры ни за что на свете не захотят присвоить то, что им не принадлежит, а потому сочтут своим долгом вернуть вещь синьору Субрэю…
Мортон первым признал новое поражение.
— О'кей… ловко разыграно… Придется все начинать сначала, Ронни…
Майк швырнул Жаку чемоданчик и, обхватив английского коллегу за плечи, направился к двери. Эмиль с извинениями вручил им аккуратно разряженные револьверы.
— Нам было бы весьма прискорбно, если бы произошел несчастный случай… поэтому мы сочли разумным принять некоторые меры предосторожности…
На пороге американец повернулся к дворецкому.
— Любопытный вы тип, старина… Пожалуй, как-нибудь на днях нам придется потолковать…
— Почтем за честь, синьор…
Как только двое мужчин ушли, Тоска захлопала в ладони:
— Эмиль, вы необыкновенный человек!
— Синьора очень добра к нам. А что делать с молодой особой, которую нам пришлось столь грубо ударить, хотя подобное обращение ни в коей мере не свойственно нашему характеру?
— Свяжите ее хорошенько, Эмиль, — ответил Жак, — а я позвоню в Мольо и попрошу карабинеров за ней приехать. Пускай забирают.
— Вы разрешите воспользоваться спальней, синьоры? Нам было бы жаль причинять этой синьорине лишние страдания…
Фальеро знаком показал, что его эта история ни с какой стороны не касается и он предоставляет заботу принимать решение другим. Тоска не преминула этим воспользоваться.
— Ну конечно, Эмиль!
Молодая женщина проводила дворецкого в спальню и со жгучим любопытством наблюдала, как тот связывает Наташе руки и ноги и подкладывает ей под затылок подушку. Заботливые, почти ласковые движения старика растрогали синьору Фальеро.
— Вы были женаты, Эмиль?
— Нет, синьора.
— Жаль…
— Кого?
Глава VI
Карабинер Ренато Гринда, узнав от коллеги о приключениях в Ча Капуцци, внутренне возликовал, что ему не пришлось принимать участие в экспедиции. Сейчас он удобно устроился в караульной и читал еженедельник кино, с особым удовольствием смакуя последние новости о Лолобриджиде, к которой всегда питал слабость. В мечтах карабинер видел себя живущим в Калифорнии и женатым на кинозвезде, очень похожей на его кумира, причем актриса готова была отделаться от фотографов, журналистов и менеджеров, чтобы приготовить кашу детишкам. Даже в самых фантастических грезах Гринда всегда оставался мелким буржуа, страждущим семейной жизни. Услышав телефонный звонок, Ренато не сразу вернулся от грез к действительности и пробормотал «Pronto?» довольно томным голосом. На том конце провода Субрэй остолбенел от удивления. Однако от слов невидимого собеседника карабинер волей-неволей вернулся в реальный мир. Теперь ему было не до золотых снов! Ренато Гринда с ужасом осознал, что жуткая ночная история продолжается и ему придется-таки в ней участвовать! Сначала Гринда попробовал отнекиваться в наивной надежде хотя бы отдалить несчастье.
— No, signjre, no! Ma gue! No e possibile.[33] Сержант едва успел вернуться домой!.. И вы хотите, чтобы я его беспокоил? О, синьор, вы же не можете требовать от меня такого?.. Что я вам сделал, синьор… Scusi?[34] Что?!! Вы спрашиваете, не пьян ли я?
От несправедливых обвинений карабинер Гринда всегда мигом терял хладнокровие, поэтому, услышав предположение француза, он не выдержал:
— Вам крупно повезло, что я далеко, иначе я бы вам живо показал, кто пьян! Что ж, отлично, я предупрежу сержанта, и мы вместе приедем в Ча Капуцци! И, если мы увидимся, вам придется отвечать за свои слова, синьор!
Вне себя от праведного гнева Гринда швырнул трубку и тотчас же схватил ее снова. Однако пока он набирал номер сержанта, воинственный пыл улетучивался с такой быстротой, что когда в квартире Карло Коррадо зазвонил телефон, Ренато едва не нажал на рычаг. Но в трубке сразу же послышался голос Антонины, и парень не успел окончательно поддаться малодушию, совершенно недостойному карабинера. Гринда объяснил жене шефа, как обстоит дело и по какой нелепой случайности их с сержантом ждет на Ча Капуцци пленник. Сперва синьора Коррадо ни за что не хотела будить мужа, отдыхавшего после ночи кошмаров, но представив, как ее красавец-сержант ведет в оковах виновника их ночных переживаний, матрона поддалась мстительному порыву и отбросила осторожность. Она уверила Гринду, что сержант будет готов через полчаса, и попросила заехать за ним на джипе.
Внезапно разбуженный Карло сначала решил, что над ним зло подшутили. Со стороны Антонины это было бы неслыханно! Наконец, убедившись, что ему и в самом деле звонили, и услышав, какое обещание дала от его имени жена, Коррадо стал божиться, что все жаждут его погибели! А потому он твердо решил на некоторое время отрешиться от мира, столь безжалостного к сержанту карабинеров, и натянул на голову одеяло. Так смертельно раненный Цезарь закрыл лицо полой тоги.
Сбитая с толку капитуляцией супруга Антонина разразилась трогательным монологом. Сначала она напомнила Карло о своей любви, потом коварно перешла к глубинным причинам этого чувства, особенно подчеркивая, как она всегда гордилась тем, что стала спутницей жизни человека, о котором другие могут лишь мечтать. А дальше, не останавливаясь, перескочила на чисто земные проблемы и долго распространялась о долге и чести. Наконец в полном изнеможении матрона умолкла. Несколько удивляясь молчанию супруга, Антонина дрожащей рукой убрала с любимого лица одеяло — сержант рыдал. Синьора Коррадо не могла взирать на подобное зрелище безучастно и, обливаясь слезами, бросилась на грудь сержанту.
Исчерпав до конца излияния разделенной печали, Карло сел.
— Антонина, как ты красиво говоришь!
— Это потому, что от сердца, Карло.
— Тогда в следующий раз постарайся пустить в ход мозги!
Матрона удивленно воззрилась на мужа:
— Что ты имеешь в виду?
— Только то, что оценил твою речь, но она меня не убедила. Я остаюсь в постели!
— Карло, ты этого не сделаешь!
— Ma gue! Ты вздумала мне приказывать?
— А почему бы и нет? Твоя честь принадлежит не только тебе! Я ношу твое имя, Карло Коррадо!
Сержант скрестил на груди руки.
— Ты хочешь оскорбить меня, Антонина? — осведомился он с горечью.
Синьора Коррадо промолчала. Сержант посмотрел на жену. Она не опустила глаз. И Карло вдруг понял, что перед ним стоит совершенно не знакомая ему Антонина. Привычный семейный мирок, основанный на таких простых и необходимых для жизни правилах, как, например, полная власть над женой, рушился. Коррадо встал. В его отчаянии чувствовалось нечто возвышенное.
— Я одеваюсь… и еду в Ча Капуцци, где собрались одни головорезы… Я больше не хочу жить!
Антонина испустила вопль, в котором слышалась тоска львицы, лишившейся своего господина и малышей. Но, как ни мрачен был этот стон, он приятно щекотал самолюбие сержанта. Он сообразил, что нащупал правильный способ вернуть утраченную или по крайней мере пошатнувшуюся власть. Сейчас, всем своим видом выражая презрение к заботам этого бренного мира, он был великолепен.
— Замолчи, Антонина! — приказал Коррадо.
— Не могу!
— Ma gue! Разве не ты сама посылаешь меня на смерть?
— Нет!
— Послушай, Антонина, ты меня оскорбила. А поэтому теперь можешь сколько угодно ползать у моих ног, умоляя не соваться в разбойничий вертеп на Ча Капуцци, я все-таки поеду! — Немного подождав, он с болью в голосе добавил: — Впрочем, ты и не думаешь просить…
Появление Силио Морано нарушило эту возвышенную сцену. Но и в пижаме сержант внушал карабинеру глубокое почтение.
— Почему на Ча Капуцци сопровождаете меня вы, а не Гринда?
— Гринда хотел приехать, сержант, но я счел своим долгом не покидать вас…
Карло смерил жену ироническим взглядом и снова повернулся к Силио:
— Морано, я вас не забуду… Люди думают, будто всегда могут рассчитывать на самых близких, на тех, с кем связаны узами родства или брака, но… запомните, Морано, даже если это мой последний совет вам, запомните: посторонние бывают гораздо преданнее своих! Я благодарю вас, Морано! Спасибо, друг! Дайте руку…
Сержант подошел к Силио. Тот все еще стоял, вытянувшись по стойке «смирно», поэтому Карло сам взял его руку и горячо пожал. Антонина глотала слезы, но пунцовые от стыда щеки горели. В порыве чувств сержант, отпустив руку Морано, обнял его за плечи и с решимостью, достойной античного героя, повел к двери.
— Andiamo, fratello mio![35]
Но Антонина со свойственной ей практичностью спустила их на землю.
— Что ж, ты так и пойдешь в пижаме? — всхлипывая, спросила она.
Ворота не были заперты, но сержант все-таки позвонил, решив строго придерживаться устава, раз уж его сюда вызвали по всем правилам. К карабинерам вышел Эмиль.
— Отведите нас к своим хозяевам! — высокомерно бросил Коррадо.
Эмиль поклонился и повел их в гостиную, где ожидали Тоска, Жак и Санто. Сержант вытянулся в военном приветствии и коснулся кепи затянутой в перчатку рукой, а хозяева встали навстречу.
— Мы прибыли сюда по просьбе синьора Субрэя, с тем чтобы арестовать личность, напавшую на вас и угрожавшую огнестрельным оружием, но обезвреженную вами… Е vero?[36]
Такая торжественность немало позабавила Тоску.
— Да, все правильно, — улыбнулась она, — только следовало бы уточнить, что речь идет о женщине.
— О женщине?
— Она из Советов, — пояснил Субрэй. — Наташа Андреева, горничная.
— Так вы ее знаете?
— Конечно!
— Ладно… Что ж, синьор, соблаговолите отвести меня к задержанной… Где вы ее оставили?
— В постели.
— Что?!
— Предварительно хорошенько связав! Вы идете?
Но в комнате никого не оказалось, и только веревки свидетельствовали о недавнем пребывании здесь Наташи. Сержант подкрутил усы.
— Не так уж крепко вы ее связали, э?
Жак молча разглядывал веревку. Нет, ее не развязали и не стянули, а разрезали!
Карло Коррадо набрал в легкие побольше воздуха — слишком много накипело у него на сердце, с тех пор как Антонина его разбудила.
— Синьор француз, надеюсь, вы поверите, что я не испытываю никакой особой враждебности к вашим соотечественникам и какие бы странные дела ни творились по ту стороны Альп, мне это безразлично? Откровенно говоря, меня это не касается. Нейтралитет, синьор, я соблюдаю строгий нейтралитет. Зато я не потерплю и не позволю, чтобы некий француз пересек границу наших двух стран с единственной целью опозорить сержанта Карло Коррадо!
— Уверяю вас, сержант, вы заблуждаетесь!
— Scusi, синьор!.. Я спокойно жил в Мольо, не строя никаких честолюбивых планов и радуясь, что у меня есть жена, которая чтит меня, как самого Господа Бога, вновь пришедшего на землю. Я гордился уважением начальства и доверием подчиненных и полагал, будто с честью ношу форму. Ma gue! Но вот на моем ясном, незамутненном горизонте появляетесь вы, и жизнь мгновенно становится адом кромешным!
— По-моему, вы слегка преувеличиваете, сержант…
— Синьор! Меня вытаскивают из постели и заставляют тащиться в Капуцци посреди ночи! Там я оказываюсь в окружении каких-то сумасшедших и призраков. В меня стреляют, разбивают голову, а на рассвете выпроваживают, чуть ли не обвиняя, будто я полез не в свое дело. Но едва я возвращаюсь домой в надежде на заслуженный отдых, как снова вынужден вставать с постели, ссориться с Антониной… И ради чего? Чтобы, приехав, обнаружить вместо пленника пустое место! По-вашему, это серьезно, синьор?
— Серьезно? И даже очень, сержант! Вы даже не представляете, до какой степени…
— Grazie![37] Не хватало только, чтобы вы обозвали меня дураком! Но теперь и это сделано! Grazie tanto[38], синьор!
— Да нет же, сержант, я не это имел в виду! Женщина, привязанная к кровати, никак не могла освободиться сама. Правда, Эмиль?
— Совершенно исключено, месье.
— Стало быть, ее кто-то освободил! А значит, люди, которые были здесь ночью, все еще неподалеку.
— Тот рыжий человечек, что грозил мне револьвером, а потом отшвырнул на кровать? Ну, уж его-то я поймаю! У нас с ним свои счеты!
Охваченный воинственным пылом сержант, позабыв о нанесенных обидах, потащил Морано в сад, где, быть может, скрывался Роналд Хантер.
Тоска и Санто видели, как карабинеры бросились в сад, и не преминули удивиться отсутствию Наташи. Узнав от Жака о побеге пленницы, Фальеро стал уговаривать Тоску прогуляться. Он мечтал хотя бы на часок-другой избавиться от невыносимой атмосферы виллы, от навязчивого присутствия Субрэя и от периодических, но всегда неожиданных набегов представителей Великобритании, Соединенных Штатов и Советского Союза. Все это изрядно отравляло существование молодожену, жаждущему побыть наедине с супругой.
Тоска согласилась, но сначала заставила Жака пообещать, что без нее он не станет лезть на рожон. Молодой человек поспешил успокоить ее:
— Не волнуйтесь, Тоска. Я воспользуюсь вашим отсутствием и немного отдохну. Мне это совсем не повредит. Впрочем, ради пущего спокойствия я спрячу знаменитый кейс в стиральной машине. Где-где, а там наши друзья не станут искать, даже если они снова явятся!
Тоска решилась уйти вместе с мужем, лишь получив от Эмиля заверения, что он позаботится о Жаке как о родном сыне. Фальеро это не доставило никакого удовольствия.
Мортон и Хантер, выскользнув из дома после того, как Наташа попала в руки противников, вернулись на прежний наблюдательный пост, покинутый ими час назад ради новой неудачной экспедиции. Однако оба отличались упрямством и не желали так легко отказываться от добычи. Они видели, как Наташа прыгнула с балкона и убежала, но, не заметив у нее в руках кейса, продолжали спокойно сидеть под кустом. Потом появились карабинеры.
— Опять они! — проворчал Роналд.
— Ну, эти нам не опасны! — успокоил его Майк.
— Все равно помешают…
— Нет… если только я не захочу…
Поглядев, как его спутник сжимает здоровенные кулачищи, Хантер невольно содрогнулся. То, что карабинеры вдруг опять выскочили из дома и, словно ищейки, начали прочесывать сад, привело обоих агентов в полное недоумение.
— Как, по-вашему, Майк, что это они затеяли? — спросил англичанин.
— Нас ищут…
— И, думаете, не найдут?
— Я бы не советовал, если у них есть семьи…
Потом из дома, взявшись за руки, вышли Тоска и Санто. Хантер, явно чувствующий себя все менее уверенно, мрачно заметил:
— Что, они тоже — по наши души?
— Кто? Эта парочка? Ну, эти заняты друг другом, так что им не до нас… Похоже, нам нарочно облегчают работу…
— Что вы имеете в виду, Майк?
— То, что Субрэй остался один…
— Не считая дворецкого!
— С ним мы тоже разберемся… Этот тип меня чертовски интересует… Ну, пошли, что ли, Ронни?
— Я пойду за вами!
Они встали, но почти тут же Роналд выругался и спустился на колено, завязывая шнурок. Мортон, не раздумывая, треснул его по затылку, и англичанин без единого вздоха повалился носом в булыжник.
— Sorry, Ронни… но ведь и вы недавно подставили мне подножку, а? Так что я не хочу давать вам еще один повод… Тут может быть только один победитель, и с вашего позволения им стану я.
Майк подтащил Хантера к небольшому деревцу и тщательно привязал к стволу, но, будучи по натуре добрым малым, не стал забирать у него револьвер. Он вовсе не хотел унижать коллегу.
Эмиль хлопотал на кухне. Поскольку другой прислуги в доме не было, ему приходилось всю работу выполнять самому. Сейчас он готовил оссо буко из продуктов, привезенных с виа Сан-Витале. Это его коронное блюдо! Он как раз успел тщательно обвалять в муке кусочки телятины и с любовью уложить в большую медную кастрюлю, хорошенько смазанную маслом, когда за спиной неожиданно послышался насмешливый голос:
— Наверняка получится очень вкусно, а, старина?
Метрдотель неторопливо оглянулся. Судя по всему, появление Мортона его нисколько не взволновало.
— Мы так и думали, что это вы, — бесстрастно заметил он.
— Почему?
— Только американцы
так дурно воспитаны, чтобы назвать дворецкого «стариной». Прошу прощения, но, если вы намерены и впредь продолжать всякие нелепые фокусы, нам лучше выключить плиту — иначе мясо может подгореть.
— Продолжайте в том же духе, и вам самому жарко станет!
Эмиль поклонился:
— Мы видим, в Вашингтоне любят плоские каламбуры?
— Довольно! Вы перебарщиваете, старина! Я, конечно, парень не злой, но всему есть предел… Садитесь!
— На колени к синьору?
— Ну-ну, валяйте дальше! Делайте из меня дурака! Только не жалуйтесь, коли схлопочете по носу!
— А что же нам делать в таком случае?
— Я, кажется, уже велел вам сесть!
Заметив, что Мортон нервно сжимает револьвер, Эмиль решил больше не испытывать его терпения.
— А теперь?
— Заткнитесь, пока я вас буду привязывать. Чего-чего, а тряпок тут хватает!
— Странные у вас в Америке развлечения…
Майк привязал дворецкого к стулу, заткнул ему рот и, умиротворенный, пошел искать Субрэя. Это не заняло много времени — француз мирно спал на кровати. Мортон быстро обшарил комнату, надеясь добраться до кейса без посторонней помощи. Однако поиски успеха не принесли, и американцу все-таки пришлось разбудить Жака.
— Ну и упрямый вы тип, как я погляжу! — не удержался Субрэй.
— Да. Отдадите вы мне кейс добровольно?
— Нет.
Мортон сокрушенно вздохнул.
— Вам нравятся такого рода упражнения?
— Но вас, кажется, никто не заставляет…
— Не болтайте глупостей, Субрэй. Вы отлично понимаете, что я не уйду из этого дома без чертежей профессора Фальеро, даже если мне для этого придется вас убить!
— Моя смерть не поможет вам найти чемоданчик.
— Смерть, может, и нет, а вот то, что ей предшествует…
— А-а-а, понимаю… вы собираетесь меня пытать?
— С огромным сожалением… Вас оглушить или вы обещаете не сопротивляться, пока я вас буду связывать?
— Предпочитаю получать по башке как можно реже… Так что вяжите на здоровье.
Американец связал Субрэя, пуская в ход все, что попадалось под руку, в том числе и галстук Жака. Француз выглядел совершенно спокойным, зато Мортон чувствовал себя явно не в своей тарелке.
— А теперь слушайте внимательно, Субрэй: мне нужны документы, и я готов получить их любой ценой. Короче, лучше б вы сразу признались, куда их спрятали. Ну, куда вы девали этот проклятый кейс?
— Значит, вы советуете мне предать своих?
— Нет, лишь признать, что на сей раз вы проиграли.
— А я в этом совсем не уверен, Мортон!
— Что ж, как хотите, Субрэй. Клянусь вам, я далеко не садист, но раз надо применить суровые меры, я их применю!
— Валяйте, приятель!
Американец замялся.
— Субрэй… не вынуждайте меня вас пытать… Прошу как о дружеской услуге. Я всегда терпеть не мог такие вещи…
— Но, по-моему, вас ничто не заставляет…
— Увы, досье Фальеро!
— В таком случае, боюсь, вам придется-таки меня пытать…
— Не очень-то это благородно с вашей стороны, Субрэй, но раз вы настаиваете…
Майк вытащил из кармана складной нож.
— Пожалуй, я выколю вам глаза, Субрэй… Это будет ужасно!
— Тем хуже! Но честь превыше всего!
— И вы готовы окриветь?
— Что ж я могу поделать…
Мортон открыл лезвие и склонился над французом.
— Только не кричите слишком громко — у меня слабые нервы!
На висках у Жака выступили капельки пота. Неужели американец пойдет до конца? Лезвие ножа приблизилось к левому глазу. Субрэй с трудом проглотил слюну. Но не успело острие коснуться глазного яблока, как Майк выпрямился.
— Нет, не могу! — забормотал он прерывающимся голосом. — И никогда не мог!.. Это сильнее меня!
Субрэю показалось, будто он возвращается к действительности откуда-то издалека. И ему вдруг стало бесконечно жаль своего победителя.
— Встряхнитесь, Мортон… Все это — неприятные стороны нашего ремесла…
— Признаюсь вам честно, Субрэй… Я воображал, что разрезать кого-нибудь на кусочки — очень просто… Во всех детективах, какие я только читал, герои шутки ради могут поджарить родную маму. Я считал себя таким же крутым парнем — и вот пожалуйста!.. С суперменами-то вышло то же, что и с девками, — ни разу не видал ничего похожего на книжки! Потому я и говорю, что меня бессовестно надули!
— Надеюсь, вы хоть не собираетесь плакать?
— Ну, это уж слишком… вам смешно, да? Десять лет я болтаюсь по всему свету, собираю все шишки, вместо того чтобы раздавать их самому…
— С чего бы это?
— Да просто у меня мягкое сердце… Драться — пожалуйста, но только на кулаках! Это по правилам, слышите, Субрэй, по правилам, и все честно! И никто меня не понимает! Все как один пользуются запрещенными приемами! А тем временем, очень может быть, Мэрион нашла себе другого!
— Мэрион?
— Это моя девочка, Субрэй… Она осталась дома, в Сиу-Сити, и поклялась меня ждать… По-вашему, я могу ей доверять?
— Ну, знаете, женщины…
— Да, конечно…
Забыв о досье Фальеро, оба агента погрузились в свои собственные переживания. Тоска… Мэрион… Обоих глодала одна и та же печаль… и оба чувствовали себя обманутыми, не понимая, ни кем, ни ради чего.
— Так вы думаете, у них не всегда хватает мужества терпеливо ждать? — робко спросил Майк.
— Я получил очень веское подтверждение как раз вчера… Я приехал черт знает откуда вместе с досье, которое вас так интересует… Миссия окончилась удачно, и я был доволен собой, а еще больше тем, что смогу наконец бросить эту дьявольскую работу и жениться на своей Тоске…
— И что же?
— Я приехал как раз вовремя, чтоб полюбоваться, как она выходит замуж за другого!
— Вот оно как… Может, и меня с Мэрион ждет то же самое?
— Не исключено…
— Эх, не очень-то вы стараетесь меня ободрить!
— Просто мне больше не хочется врать…
Мортон вдруг разрыдался, и Субрэй начал его успокаивать:
— Не падайте духом, Майк. Это наша общая судьба. Наша работа не дает жить по-человечески… Такие уж мы неудачники, Мортон.
— Верно… неудачники! Вы мой брат, Субрэй… И я вовсе не собирался портить вам зрение…
— Так я и думал.
— Вы и в самом деле не хотите отдать мне это окаянное досье?
Добравшись до конца сада и не встретив ни единой живой души, сержант решил изменить тактику.
— Вы пойдете направо, Морано, а я — налево. Доберетесь до лесочка, прочешете его и, описав дугу, вернетесь сюда. Ясно?
— Ясно, сержант!
— Тогда исполняйте! Я сделаю то же самое, но с другой стороны. Вперед, Морано! Я смотрю вам вслед…
Как только карабинер исчез из виду, Коррадо свернул влево. Судьбе было угодно, чтобы он наткнулся на дерево, возле которого сидел привязанный Хантер, утешаясь мечтами о карах, ожидающих Мортона, когда они встретятся. Сержант далеко не сразу сообразил, что за ворох тряпья прикрутили к дереву. Подойдя поближе и увидев человека, он тихонько выругался. Зато когда выяснилось, что это бандит, имевший наглость угрожать ему, Карло Коррадо, револьвером, сержант испустил радостный вопль.
— Простите за бестактность, синьор, но могу я осведомиться, что вы тут делаете?
Хантер сейчас не мог воспринимать даже самые невинные шутки.
— Если я вам скажу, что тренируюсь перед олимпийским марафоном, вы мне не поверите, правда?
— Нет, синьор, не поверю… Не обижайтесь, но мы, болонцы, вообще народ довольно недоверчивый… Может, вы и сочтете мое предположение смехотворным, синьор, но, мне кажется, вы привязаны к дереву. Я не ошибаюсь?
— Кажется, это вполне очевидно, нет?
— А можно узнать, каким образом вы оказались в подобной ситуации?
— От скуки… Делать было нечего, и я сам себя связал… а потом стал ждать, пока вы меня освободите… Ведь именно так вы и поступите, не правда ли?
— Непременно, синьор, я вас отвяжу и возьму с собой в Мольо.
— Зачем?
— Чтобы посадить в уютненькую, свежевыкрашенную известкой камеру. Надеюсь, цвет вам понравится.
— Вы хотите посадить меня за решетку только за то, что отвяжете от дерева? Странно. Никогда не пойму итальянцев!
— Нет, синьор, я вас арестую за то, что ночью у вас хватило нахальства угрожать револьвером сержанту карабинеров! И больше — ни слова. Устав запрещает разговаривать с задержанными!
Карло Коррадо, мысленно возблагодарив Небо за такой чудесный реванш, разрезал веревки Хантера.
— А теперь, синьор, протяните мне руки, чтобы я смог застегнуть на них эти красивые браслеты!
— С удовольствием, сержант!
Роналд резко выбросил руки вперед, и улыбка застыла на губах Коррадо — в правой руке англичанина поблескивал пистолет, и его дуло смотрело явно в живот сержанту. Карло поглядел на оружие, потом — на англичанина и снова перевел взгляд на револьвер.
— Ma gue, синьор! — возмутился он. — Неужели вы собираетесь меня прикончить?
— Если понадобится — да!
— Синьор, я женат…
— Ну и что?
— Так не поступают! Нельзя же вот так, за здорово живешь, убить мужа Антонины? И потом я совсем не хочу умирать, э?
— Я тоже, сержант, не горю желанием отнять у вас жизнь, если только вы меня к этому не вынудите.
— Уверяю вас, синьор, и не подумаю!
— В таком случае, будьте любезны, подойдите поближе к дереву, чтобы я мог вас привязать.
— Привязать меня? Но это же бесчестье, синьор!
— Вы предпочитаете умереть?
— По зрелом размышлении — нет, синьор.
Майк так хорошо связал Субрэя, что теперь никак не мог развязать узлы. Устав от бесплодных усилий, он снова вытащил нож.
— Лучше разрезать, так будет гораздо проще…
— Гораздо проще, Мортон, было бы утопить «Мэйфлауэр»[39], тогда мы не получили бы американцев на свою голову!
Мортон обернулся и, увидев Роналда, захохотал.
— У вас есть чувство юмора, Ронни!
— Я запрещаю вам называть меня Ронни после того, что вы со мной сделали!.. И поднимите руки или, клянусь, я с удовольствием всажу в вас пулю-другую!
Мортон повиновался.
— Вы, кажется, и впрямь сердитесь, Ронни?
— Так оно и есть! И не смейте больше называть меня Ронни! Где чемоданчик Субрэя?
— Спросите у него сами!
— Как только приму некоторые меры предосторожности против вас, Майк.
Американец в свою очередь мигом оказался крепко привязанным к стулу, после чего Хантер повернулся к французу:
— А теперь, Субрэй, чем скорее мы с этим покончим, тем лучше для всех. Где досье Фальеро?
— Поищите!
— Нет времени. Куда вы его спрятали?
— Это мой секрет.
— Хотите помучиться, Субрэй?
— Не особенно.
— Тем не менее именно это вас ожидает, если вы немедленно не скажете, где бумаги.
— Я ничего не сказал Мортону, так почему бы не поступить точно так же и с вами?
— Потому что Мортон не умеет раскалывать, а я — да!
— Интересно было бы взглянуть…
— Пожалуйста!
Хантер закурил, высвободил правую ногу Субрэя и, сняв носок, поднес горящую сигарету к его пальцам.
— Вы все еще не хотите говорить?
— Нет.
— Что ж…
Роналд уже собирался прижечь ногу Жака, как вдруг Мортон негодующе крикнул:
— Ронни!
— Отвяжитесь, Майк!
— Ронни… Вы думаете, Дэйзи обрадовалась бы, узнав, что ее муж стал палачом?
— Запрещаю вам упоминать о моей жене!
— По-вашему, Алан и Монтгомери гордились бы своим папой, узнай они, что тот разыгрывает из себя заплечных дел мастера, как какой-нибудь китаец? Я уверен, если бы после этого вы попытались обнять своих мальчиков, они бы сбежали, вопя от ужаса!
Роналд раздраженно отшвырнул ногу Субрэя и подскочил к американцу:
— Слушайте, Майк, агент я секретной службы или нет?
— Вне всякого сомнения, Ронни.
— Тогда не мешайте мне работать! И не смейте называть меня Ронни!
— Это не ваша работа, Ронни… Я знаю, вам будет очень стыдно, что вы пошли на такую мерзость… Вы джентльмен, Ронни…
— Вы думаете? Но, во имя Иова, скажите мне, каким образом я заставлю Субрэя выложить, куда он сунул треклятое досье?
— Понятия не имею, старина…
— Майк, с вашей стороны очень гадко было говорить мне о Дэйзи и мальчиках…
— Я хотел только избавить вас от угрызений совести, Ронни…
— Между прочим, в наказание за провал они ушлют меня в Чехословакию или в Болгарию… Тогда уж я точно не скоро увижу Дэйзи!
— Сочувствую вам, Ронни… Но, знаете, меня самого запросто могут отправить куда-нибудь в Джакарту или в Бангкок… тоже не сахар…
— И зачем мы только выбрали такую работу, Майк?
— Повторяю, старина, нас облапошили!
Привязанный к дереву сержант жестоко страдал. Теперь он жалел о том, что рыжий разбойник его не убил… И страдал еще больше оттого, что англичанина уже не было поблизости и он никак не мог выполнить лицемерные пожелания Коррадо. Никогда больше Карло не осмелится предстать перед Антониной! Она перестанет уважать его, не сможет ни восхищаться им, ни обожать… Кто станет с почтением относиться к человеку, которого, словно бабочку в коллекции, пришпилили к дереву? Коррадо питал особую любовь к святому Януарию — он унаследовал такое пристрастие от бабушки, уроженки Неаполя, — и теперь обратился к этому святому с горячей мольбой поспешить на помощь северянину, забыв о предпочтении, которое он всегда оказывает жителям Юга. Однако святой Януарий, видать, оказался закоренелым регионалистом, ибо не пожелал услышать мольбы болонца. И сержант с горечью подумал, что даже там, наверху, сидят упрямцы…
Шагая бок о бок, Тоска и ее муж пытались восстановить душевное равновесие. Санто начинал всерьез раздумывать, умно ли он поступил, столь поспешно взяв в жены синьорину Матуцци, а Тоска больше не сомневалась, что всегда будет проклинать нетерпение, лишившее ее единственного человека, которого она любила, любит сейчас и не разлюбит до конца своих дней. В Италии развода не существует. Впрочем, если бы закон и позволял Тоске расторгнуть брак, она бы этого не сделала. Груз собственных ошибок следует нести до конца. Главное — больше не видеть Жака.
— Санто… вам непременно нужно оставаться в Болонье?
— Что за вопрос, Тоска? Вы ведь знаете, я работаю вместе с дядей…
— А что вам дороже: работа или счастье?
— Разве это несовместимо?
— В Болонье — да.
— Из-за Субрэя?
— Да.
Некоторое время оба молчали. Наконец Фальеро решился:
— Я рад, что вы со мной так откровенны, Тоска… Я женился на вас не ради денег, а по любви. На деньги мне плевать. Я отлично могу без них обойтись и готов, если вы не против, завтра же оставить Болонью. Честно признаться, я уже давно хотел уехать отсюда.
— А ваш дядя?
— Он может обойтись без меня, как и я — без него.
— Тогда нам надо уезжать поскорее.
— Положитесь на меня!
Так разговаривая, они подошли к дереву, у которого мыкался несчастный сержант, и боясь, и надеясь одновременно, что его обнаружат. Тоска первой увидела Коррадо. Молодая женщина остановилась и указала на него мужу:
— О, смотрите, Санто!
Фальеро подошел к сержанту:
— Ну и ну! В вашем-то возрасте…
Покраснев от стыда за то, что женщина застала его в столь плачевном положении, Карло все же пытался сохранить достоинство.
— Прошу вас, синьор… По-моему, это совсем не смешно…
Неожиданное примирение с Тоской вернуло Санто отличное расположение духа.
— Я вовсе не шучу, сержант. Просто я не знаю, имею ли право вмешиваться в вашу игру…
— Издеваетесь, да? А ну отвяжите меня, или я вас арестую за отказ содействовать человеку в опасности!
Субрэю осточертело слушать нытье коллег.
— Развяжите меня — тогда я вам, может, и расскажу всю правду о досье Фальеро.
Хантер впился в него глазами:
— В самом деле?
— Даю вам слово…
Немного поколебавшись, англичанин разрезал путы Жака, но тот, указывая на привязанного к стулу Мортона, заявил:
— Можете отпустить и его — все равно у вас нет ни единого шанса получить…
В это время со стороны кухни послышались сдавленные стоны и приглушенное бормотание. Француз сурово посмотрел на Роналда.
— Надеюсь, вы ничего не сделали с Эмилем?
— Я?
— Тогда… это вы, Майк?
Американец смущенно опустил голову, как нашкодивший мальчишка.
— Я его только малость связал…
— Пойдем посмотрим, что с Эмилем!
Субрэй бросился вон из комнаты. Хантер собирался последовать за ним, но услышал жалобный вопль Мортона:
— Неужто вы оставите меня в таком виде, Ронни?
Англичанин быстро освободил коллегу, и они оба присоединились к Субрэю. Жак развязывал тряпки, а Эмиль объяснял, что произошло:
— Она вошла сюда, как домой, видимо даже не боясь наделать шуму и как будто ожидая увидеть нас в таком положении. Потом улыбнулась нам, право же, очень мило, и прямиком пошла к тайнику, вытащила кейс, еще раз одарив нас улыбкой, и была такова.
— Кто? — в один голос спросили трое мужчин.
— Как — кто? Наташа Андреева… если нам удалось правильно запомнить имя молодой особы, которую совсем недавно пришлось так грубо ударить…
Однако они уже не слушали, а, отталкивая друг друга локтями, торопились к машинам в надежде догнать советскую шпионку. Но на пороге гостиной неожиданно вырос сержант Коррадо с револьвером в руке, а следом за ним шла чета Фальеро.
— Стойте, синьоры! Вы не пройдете!
Мужчины попытались оттолкнуть Карло, но он выстрелил в воздух в знак того, что совсем не шутит. Преследователи Наташи отступили.
— Именем закона я вас арестую!
— Всех троих?
— Всех троих!
Санто повернулся к Тоске:
— Кажется, мы сможем остаться дома, моя дорогая…
Субрэй попытался вступить в переговоры:
— Сержант, вы обязаны нас пропустить! Речь идет о государственной тайне!
— А вы, надо думать, наш Святой Отец[40], путешествующий инкогнито? Все вы уже и так вволю поиздевались надо мной, синьоры, и пора положить этому конец! Руки вверх, или вас ждут крупные неприятности!
Не видя иного выхода, все подчинились. Через плечо сержанта Жак обратился к Тоске:
— Тоска… уверяю вас, дело очень серьезное… Русской удалось стащить мой кейс… Не поймать ее — значит изменить стране, превратиться в сообщника! А этот дурак ничего не понимает!
Коррадо подскочил от возмущения:
— Это меня вы обозвали дураком, синьор?
— Что же я могу сделать, Жак? — с беспокойством спросила Тоска.
— Не вмешивайтесь, дорогая… — проговорил ее муж. — Все эти грязные истории нас не касаются!
— Вы что, рехнулись, Фальеро? — крикнул Субрэй. — Уж вы-то знаете, что поставлено на карту!
— Я не верю вам! Вы просто пытаетесь произвести впечатление на Тоску!
Со стороны сада появился Эмиль. Судя по всему, он уже оправился от пережитых волнений. Дворецкий настолько спокойно взирал на представшую его глазам странную картину, что можно было не сомневаться: он все слышал из кухни. Тоска хотела заговорить со слугой, но тот знаком попросил ее молчать. Проскользнув за спину сержанта, Эмиль неожиданно издал такой вопль, что вздрогнул не только Коррадо, вообразивший, будто на него налетел бешеный бык, но и все остальные остолбенели от удивления. Кому бы пришло в голову, что респектабельный Эмиль Лауб способен на такую штуку? Карло, вне себя от ярости, повернулся к дворецкому.
— Что это на вас нашло? Вы просто…
Но никто так и не узнал, что именно сержант думает об Эмиле, поскольку Субрэй, Хантер и Мортон плечом к плечу, как нападающие в меле во время матча по рэгби, налетели на Коррадо. Сержанту показалось, будто его сшиб грузовик. Ноги Карло отделились от земли и, пролетев сквозь закрытое окно гостиной, он в вихре осколков приземлился в саду. Оставив сержанта без чувств, его победители ринулись к машинам в тщетной надежде догнать Наташу.
Когда трое мужчин выбегали из сада на дорогу, Майк Мортон рукоятью револьвера стукнул Субрэя по голове. Француз упал, а Хантер быстро вытащил пистолет.
— Без глупостей, Майк!
— Он бы помешал нам, Ронни…
— Согласен, но и вы тоже мне мешаете, Майк!
— Послушайте, Ронни, вы ведь не хотите…
— Бросьте пушку!
— Но…
— Бросьте, и подальше!
— О'кей.
Американец швырнул револьвер на противоположную обочину дороги. Хантер вытащил нож.
— Опять вы за свое, Ронни? — проворчал Мортон.
Англичанин молча проткнул две задние шины автомобиля Майка.
— Это нечестно, Ронни, — застонал тот.
— А мы с вами вообще далеко не чемпионы по честности!
И, не тратя больше времени на препирательства, Роналд добросовестно вывел из строя машины всех обитателей виллы, но джип карабинеров не тронул.
— На таком драндулете вы далеко не уедете… So long, old chap![41]
После этого Хантер сел в машину и, предоставив Мортона его судьбе, выжал газ.
Санто, Тоска и Эмиль поспешили на помощь сержанту, подняли его, отнесли в гостиную и уложили на диван. Пока Фальеро внушал жене, что Субрэй ведет себя как настоящий убийца, молодая женщина растирала Коррадо виски, а Эмиль поил его с ложечки кофе с коньяком. Мало-помалу туман, окутавший мозг сержанта, начал рассеиваться. Он открыл глаза и, явно никого не узнавая, уставился на окружающих.
— Со мной что-нибудь случилось? — чуть слышно прошептал сержант.
Ответить никто не отважился.
— Я умру?
Все начали дружно отрицать подобное предположение, и Карло немного успокоился.
— Почему тут нет Антонины?
— Она ничего не знает.
— А я думал, в больнице всегда…
— Но вы не в больнице, синьор сержант!
Коррадо привстал и огляделся:
— Тогда где же я?
Однако прежде, чем кто-либо успел открыть рот, взгляд карабинера упал на вдребезги разбитое окно, и он тотчас же все вспомнил. Карло вскочил с дивана.
— Где они прячутся?! — завопил он. — Пусть никто не выходит! Всех арестую!
— Но они давно уехали, сержант!
— Прекрасно! Вы засвидетельствуете, что им удалось сбежать только через мой труп! Один против троих! Разве я мог устоять? Ах, если бы Морано был тут… А кстати, где Морано?
— Мы его не видели.
— Значит, он убит, пал жертвой долга! А я-то удивлялся, почему Силио не спешит мне на помощь… На него это не похоже… Эти бандиты прикончили моего карабинера!
— Вы уверены, сержант? — вмешалась Тоска.
— Синьора, вы видели, как обошлись со мной, невзирая на форму и ранг… Представляете, какая расправа ждала простого карабинера? Нет, как ни тяжело, а против очевидности не пойдешь… Солдат Силио Морано с честью пал на поле брани…
Речь сержанта произвела впечатление на слушателей, хотя и не вполне развеяла их скептический настрой. Однако вряд ли кто-нибудь из присутствующих стал бы утверждать, будто Мортон или Хантер не решились убить карабинера, если тот встал им поперек дороги. Сержант смахнул слезу.
— Такой милый мальчик… — с чувством проговорил он. — Родом из Гаруньяно… испытанная отвага… неисчерпаемая преданность… Он вполне мог не ехать со мной сюда нынче утром — я собирался взять другого солдата, Гринду, но Силио сам захотел сопровождать меня… Я и сейчас слышу, как он мягко, без всякой бравады, проговорил: «Я счел своим долгом не покидать вас…» Сколько величия в этой простоте! Я поеду в Гаруньяно и скажу всем: «Силио Сорано был не только выдающимся карабинером, не только безупречным другом… Это был человек высокой души!»
— Браво, сержант!
Польщенный Коррадо поклонился, но тут же сообразил, что восклицание послышалось откуда-то сзади. Он медленно обернулся и удивленно вскрикнул:
— Морано! Живой! Благодарение Мадонне!
И в порыве великодушия добряк Карло раскрыл своему карабинеру объятия, а Морано под слегка изумленными взглядами Тоски, Санто и Эмиля бросился шефу на грудь. Внезапно, несмотря на то что воодушевление карабинеров предполагало долгие объятия, сержант схватил Морано за плечи и с гневным воплем отшвырнул прочь.
— Но раз вы не умерли, тогда где вас носило, Морано, пока меня тут убивали?
— Я выполнял ваш приказ, сержант! Я пошел в лесок, прочесал его и вернулся на прежнее место. Не увидев вас, я решил подождать, но мне пришло в голову, что ждать с тем же успехом можно и лежа. Тогда я прикорнул в тени кипариса и…
— И вы заснули?
— Кажется… да, сержант!
— Ну, на сей раз, Силио Морано, уж не знаю, как мне удастся спасти вас от трибунала…
— М-меня, с-сержант?
— Именно вас, Морано! Заметьте, что высшая мера вам, пожалуй, не грозит… но долгого, очень долгого заключения точно не избежать. Лет двадцать — двадцать пять по меньшей мере!..
— Двадцать пять лет!
— Черт возьми! Уснуть перед лицом врага!
— Ma gue, сержант!.. Но я же не видел врага…
— Зато я видел! И сражался! Пока вы спали, меня били и калечили! Двадцать пять лет как минимум Морано!
— А как же Джиоконда, сержант?
— Какая Джиоконда?
— Моя невеста… она ждет меня в Гаруньяно…
— Посоветуйте ей выйти за другого, если не хочет остаться старой девой!
На довольно долгое время воцарилась полная тишина. Карабинер, по-видимому, размышлял. Наконец он поднял голову.
— Ессо… Я умру.
Сначала никто не понял, о чем это он, но Морано решил объяснить свое решение:
— Мне двадцать пять лет… плюс двадцать пять тюрьмы, получается пятьдесят… У Джиоконды уже вырастут дети, но не от меня… А потому лучше я убью себя сейчас же!
Коррадо слегка испугался и попробовал отговорить Силио от столь мрачных планов:
— Осторожно, Морано! Самоубийство на службе — это дезертирство! Как бы это не стоило вам еще дороже!
— А что мне за дело до того, сержант, коли я все равно буду мертвый!
Корабинер зарядил ружье и очень вежливо спросил Санто:
— Куда мне пройти, чтобы причинить вам как можно меньше беспокойства?
Все стали умолять его отказаться от черных помыслов, но Силио упрямо покачал головой:
— Зачем мне жить без Джиоконды?
— Довольно, Морано! Я приказываю вам не кончать жизнь самоубийством! В конце концов, подумайте о старухе-матери…
— Мне очень жаль маму, но без Джиоконды… жизнь меня больше не интересует…
— А я, Морано? Я, ваш сержант? Что обо мне подумают, узнав, что мои карабинеры кончают с собой? Вы хотите испортить мне карьеру, Морано? А об Антонине вы не вспомнили? Она так хорошо к вам относилась, Силио… Как раз сегодня утром говорила: «Если бы у нас был сын, Карло, мне бы хотелось, чтобы он вырос таким же славным парнем, как Морано…»
— Правда, сержант?
— Ее собственные слова, Морано.
— Я очень уважаю синьору Коррадо, сержант!
— И вы хотите причинить ей такое огорчение?
— А вы думаете, если меня отправят в тюрьму на двадцать пять лет, синьора Коррадо не расстроится?
— Во всяком случае, не так сильно.
— Нет, сержант, я не отступлю от своего решения. Пожалуйста, извинитесь за меня перед синьорой Коррадо…
— Послушайте, сержант, — вмешалась Тоска, — если молодой человек умрет, то из-за вас!
— Scusi! Только из-за устава!
— А кто вам велит его применять?
— Форма и нашивки!
— А не могли бы вы о них забыть… ради Джиоконды?
— Синьора, вы не имеете права…
— А когда они с Джиокондой поженятся, вас пригласят на свадьбу, и всем своим счастьем молодожены будут обязаны вам. Разве это не лучше, чем устав, сержант?
— Не спорю, синьора, но…
— Прошу вас, как о личной услуге, сержант… Мужчина с такими чудесными глазами не может отказать женщине…
Карло смущенно хихикнул, победоносно подкрутил усы и вздохнул.
— Ах, синьора, видно, мне на роду написано всегда быть игрушкой в руках хорошеньких женщин! Ладно, Морано… я ничего не видел и не слышал… Вы только что пришли, сделав больший круг, чем предполагалось, а потому ни в чем не виновны… Возвращаю вам свое уважение, а заодно и Джиоконду.
— Спасибо, сержант!
— А теперь, солдат Морано, бегите заводить машину. Мы едем в Мольо сообщать обо всем начальству. Но сначала, синьора, я попрошу у вас разрешения позвонить своей Антонине. Должен же я ее успокоить?
Закрывая за собой дверь спальни, куда она проводила Коррадо, Тоска услышала начало его разговора с женой.
— Антонина, пятнадцать лет службы в карабинерах научили меня точности… я всегда выражаюсь четко и ясно… А потому скажу только одно: я был просто велик!
Глава VII
Габриэле Валеккья не сомневался, что Господь Бог создал его исключительно в утешение несчастным или одиноким женщинам, а вовсе не для других, куда менее приятных занятий. Статный, красивый парень почти не встречал отказа и даже получал кое-какой доход от нескольких не слишком целомудренных почитательниц. Правда, порой и ему случалось поухаживать за синьорой или синьориной совершенно бескорыстно, из чистой любви к искусству. Поэтому, когда на углу виа Сан-Стефано и виа Гверацци из машины выскочила прелестная брюнетка, сердце Габриэле учащенно забилось и он побежал следом. Незнакомка шла, крепко сжимая в руке чемоданчик, и парень, сочтя ее деловой женщиной, обрадовался возможности совместить приятное с полезным.
Девушка решительным шагом шла по виа Гверацци, но Валеккья догнал ее без особого труда. Тактику знакомства он давно и многократно проверил, а потому не сомневался в успехе. Однако на все любезности молодого человека незнакомка ответила лишь удивленным взглядом. Габриэле воспользовался случаем и одарил ее самой ослепительной улыбкой — уж она-то покоряла и самую стойкую добродетель. Таким образом парень надеялся сэкономить время, но, против ожидания, Наташа — а это была она — сухо попросила оставить ее в покое. Габриэле снова улыбнулся — он прекрасно знал, как часто женщины сопротивляются только для того, чтобы подхлестнуть ухажера. А потому, не обращая внимания на возражения синьорины, Валеккья продолжал болтать, суля безграничное блаженство той, что имела счастье ему понравиться. Решив, что красноречие принесло желаемые плоды, парень подошел поближе. То, что синьорина зачем-то открыла кейс и сунула туда руку, его нимало не смутило. Габриэле слегка прижался к девушке, но она как будто ничего не заметила, и, окончательно осмелев, Валеккья обхватил красавицу за талию. И тут же в бок ему ткнулось что-то твердое, а суровый голос приказал:
— Не кричите, синьор… и не шевелитесь — иначе я выстрелю!
Теперь Габриэле сообразил, что в ребра ему упирается дуло револьвера. Совершенно ошарашенный, не понимая, что произошло, он лишь чувствовал, что задыхается, а рубашка вмиг промокла от противного, липкого пота.
— Ma gue? Ma gue? Ma gue? — глупо повторял парень, вытаращив глаза.
— Бегите, синьор, да побыстрее!.. А то горе вам!
— Вы… вы не станете стрелять, синьорина, э?
— Нет, если вы сейчас же уберетесь отсюда!
Валеккья так резко сорвался с места, что прохожие недоуменно оборачивались, не понимая, что стряслось с парнем и почему он мчится, обгоняя автобус. Зато водитель при виде столь выдающегося спортивного достижения завопил от восторга.
Добравшись домой, Габриэле лег в постель. И долго еще некоторая желтизна кожи отравляла его юное существование, мешая толком зарабатывать на жизнь.
Все еще дрожа от праведного гнева, вызванного нахальством этого порождения капиталистического мира, Наташа толкнула дверь лавки сапожника Карела Чекана. Карел — чех, якобы сбежавший в Италию от режима Гомулки, на самом деле был членом компартии и служил посредником между советским консульством и агентами, направляемыми третьим отделом ГРУ. Все жители виа Гверацци с симпатией относились к старику, и даже коммунисты не держали на него зла за недовольное брюзжание, если речь заходила о товарище Хрущеве. Нельзя ведь обижаться на человека, который все потерял! Клиенты обычно приходили к Чекану по вечерам, после работы — а в этот час в мастерской наступало затишье, — и старик мирно тачал обувь, насвистывая молдаванскую песню — весь квартал уже выучил ее наизусть. При виде Наташи Карел осторожно вытащил изо рта гвозди и ткнул ручкой молотка в сторону кейса:
— Так тебе это удалось, Наташа?
— Да, товарищ.
— Хорошо, душенька… Я горжусь тобой!.. Ты хорошо послужила делу марксизма-ленинизма… Подожди здесь, а я позвоню, сама знаешь куда, и спрошу, как быть дальше… Я думаю, тебя ждет повышение…
Оставшись одна, девушка гордо выпрямилась. Она была очень довольна. Возможно, ей позволят провести отпуск (месяц, а то и два) в Советском Союзе? А может, даже вызовут в Кремль и поздравят? Наташа так погрузилась в честолюбивые мечты, что не заметила возвращения Карела Чекана. Ворчливый голос грубо оторвал ее от пьянящих грез:
— Наташа Андреева, ты изменница!
— Что?!
— Одно из двух: или ты дура, или предательница, перешедшая на службу к капиталистам!
— Я?
Потрясенная Наташа не могла найти слов.
— Я только что звонил Иосифу Байскому. И знаешь, что он мне рассказал?
— Нет.
— Одна из служащих Джорджо Луппо работает на нас. Так вот, она позвонила и предупредила Байского, что в кейсе Субрэя — подложное досье и подбросили его нарочно, как приманку, чтобы итальянская полиция могла добраться сначала до меня, а потом и до него. И только из-за твоей непроходимой глупости их план, возможно, удался! Теперь ты понимаешь, Наташа Андреева, что ты натворила?
Оторопевшая девушка тяжело опустилась на стул.
— Нет…
— И что может помешать нашим шефам счесть, что ты, поддавшись извращенному влиянию реакционеров, вкусила из сосцов капитализма?
Наташа с воплем вскочила.
— Это ложь!
— Ну, я-то почти уверен в твоей невиновности… а вот другие, Наташа Андреева, там, в Москве…
Она разрыдалась.
— Как бы тебе не пришлось просидеть в Сибири лет двадцать за саботаж, душенька…
— Но вы ведь не бросите меня на произвол судьбы, Карел Чекан? — взмолилась Наташа.
— Не бросите, не бросите… А как, по-твоему, я дожил до старости? Только избавляясь от неумелых дураков!
— Тогда мне остается умереть!
— Сначала ты должна попытаться исправить ошибку.
— Каким образом?
— Избавившись от этого кейса… Но не бросай его где попало — это было бы слишком легко… Надо подсунуть чемоданчик кому-то из тех, кто и так на подозрении у полиции. Ясно?
— Да… но…
— Для настоящего коммуниста никаких «но» не существует — все это буржуазные уловки! А избавившись от кейса, ты, разумеется, вернешься в Ча Капуцци.
— Зачем?
— Ты забыла, что должна забрать у Субрэя досье, похищенное у наших агентов?
— А если Субрэя больше нет на вилле?
— Он там… мне только что об этом сообщили.
Наташа опять вышла на виа Гверацци, но теперь она брела как сомнамбула, не видя и не слыша ничего вокруг. После такого шока голова отказывалась соображать. Наташа с самого начала никак не могла понять, почему дело Фальеро поручили именно ей. В первый раз досье украла не Наташа, но того человека, видимо, оберегают и стараются не навлечь на него подозрения. А зачем понадобилось снова посылать ее в Ча Капуцци после такого провала? Нет, все это слишком сложно. Даже Карелу Чекану как будто плевать на Наташу… а она-то воображала, что он относится к ней как к родной дочери!.. Передать кому-то кейс, конечно, замечательно, но под каким предлогом? Девушке вдруг захотелось умереть и разом избавиться от такого нагромождения непонятных сложностей. Неожиданно у нее за спиной послышался знакомый голос:
— Как я счастлив снова вас увидеть, Наташа!.. Давненько я вас ищу…
Девушка обернулась. Перед ней стоял Роналд Хантер.
— Что вам надо?
— Всего-навсего кейс… тот, что вы взяли у Субрэя.
Наташа не смела поверить в такое счастье, но боялась уступить слишком быстро.
— А если я откажусь?
— Вон, видите машину у кромки тротуара? Мотор включен, дверца открыта. Я прыгну туда в ту же минуту, как убью вас… и заберу чемоданчик.
— Вы бы наверняка не ушли от наказания, синьор Хантер, но я… я лежала бы тут мертвая или тяжело раненная… Так что ладно, берите!
Роналд смутился:
— Вы и в самом деле…
— Берите, он теперь ваш!
Англичанин взял протянутый кейс и застыл в нерешительности, не зная, как себя вести дальше. Наташа вывела его из затруднения.
— И позвольте пожелать вам удачи, синьор Хантер!
Прежде чем Роналд успел сообразить, что она задумала (англичанин всегда скрупулезно обдумывал все возможные варианты, кроме правильного), девушка бросилась ему на шею и смачно поцеловала в губы по русскому обычаю. А потом стремглав кинулась прочь, оставив беднягу Ронни окончательно сбитым с толку. В конце концов Хантер решил, что загадочная славянская душа навсегда останется непроницаемой для британского рационализма. Он забрался в машину, отпустил шофера и один поехал на виа Уго Басси к модистке Феликсе Спалек, польке, уже семь лет жившей в Болонье. До этого Феликса довольно долго, точнее, с 1939 по 1954 год, жила в Лондоне и успела завязать весьма прочные связи с джентльменами из британского M1-5. Служащие синьоры Спалек считали Роналда серьезным претендентом на руку хозяйки, а потому, как только англичанин появлялся, его вели прямиком в кабинет синьоры Спалек. Все знали, что полька терпеть не может, когда ее беспокоят в кабинете, поскольку именно там она создавала новые модели.
Как только за Хантером закрылась дверь, Феликса, даже не дав англичанину поздороваться, воскликнула:
— Значит, вы его принесли?
Муж Дэйзи гордо выпрямился.
— Как видите!
— Бедняжка Роналд, похоже, вы вполне созрели для отставки!
— Что вы говорите?
— Наш агент из советского посольства предупредил, что в кейсе Субрэя — фальшивки и вообще это ловушка для иностранных агентов… вас хотели обнаружить, и, конечно же, вы сломя голову бросились в капкан!
До Роналда сразу дошло, почему Наташа вела себя так странно. Ничего удивительного, что девушка поцеловала человека, избавившего ее от такого тяжкого бремени! Ну и дурака он свалял!
— Как же я мог догадаться…
— Вот именно! Хороший агент всегда чувствует западню! Вам не показалось странным, что Субрэй весь день напролет болтается по городу с такими ценными бумагами?
— Честно говоря… да, немного…
— Но вас это не смутило?
— Нет, поскольку Мортон и Наташа тоже охотились за кейсом.
— Просто-напросто и они не отличаются особой проницательностью! Вот когда понимаешь, что Болонья — провинциальный городишко… Сюда посылают только второсортных агентов!
— Спасибо.
— Не обижайтесь, Ронни… Я ведь с вами откровенна. По правде говоря, вы никогда не годились для такой работы. Скажите честно, вам жилось бы куда счастливее в Кокермауте, с Дэйзи и мальчиками?
— О да, еще бы! — невольно вырвалось у англичанина, прежде чем он успел прикусить язык.
Феликса улыбнулась. Ей нравился старина Ронни с его трогательной привязанностью к домашним. Семья пани Спалек сгинула в Варшаве, а седые волосы уже не оставляли надежды создать новую, поэтому для нее Хантер — Хантер из Кокермаута — олицетворял тот образ жизни, который ей самой хотелось бы вести.
— Договорились… Но я не хочу, чтобы вы возвращались в Кокермаут с общипанными перышками… Напротив, вас должны наградить и отпустить с почетом.
— И чего вы хотите от меня, мисс?
— Принесите мне настоящее досье Фальеро, только и всего. Наверняка Субрэй держит его при себе.
— А как же…
— Сначала придется избавиться от не в меру обременительного кейса — он слишком привлечет к вам внимание Джорджо Луппо. А потом возвращайтесь поскорее в Ча Капуцци, к Субрэю. Такова цена спокойной жизни с Дэйзи.
Жестокое падение. А он-то надеялся, что, поймав русскую, блестяще выполнил задание! В довершение всего Роналд вдруг заметил, что правое заднее колесо спустило. Англичанин выругался, но тут же закусил губу — когда он вернется к Дэйзи, она ни за что не потерпит таких дурных привычек. Склонившись над колесом, он стал искать причину аварии, но внезапно почувствовал, как его что-то кольнуло под левой лопаткой. Роналд быстро сунул туда руку и снова выругался — порезать палец не очень-то приятно! Он хотел разогнуться, но голос Майка дружески посоветовал ему вести себя осторожно.
— Если вы не хотите, чтобы я вас проткнул насквозь, Ронни, поднимайтесь помедленнее…
Хантер повиновался.
— Можно мне обернуться, Майк?
— Валяйте, старина, но без глупостей, да?
— А что теперь, Майк?
— По-моему, я выиграл во втором раунде.
— Несомненно, но остается еще дополнительное время!
— На сей раз его не будет, Ронни, потому как вы отдадите мне кейс и на том все закончится, в том числе и наше состязание. Согласны?
Хантер внутренне ликовал. Должно быть, сам святой Георгий послал ему дубину-американца! Но только нельзя показывать, что он, Роналд, спит и видит, как бы избавиться от проклятого чемоданчика!
— Не согласен, Майк!
— Правда? А мне бы так не хотелось сделать Дэйзи вдовой!
— Днем? Посреди улицы? Вы не посмеете!
— Залезайте-ка в машину!
— Но…
— Лезьте, говорю!
Англичанин не стал ждать, когда его снова ткнут ножом. Дело складывалось так удачно, что он безропотно забрался в машину. Как только он сел за руль, Мортон плюхнулся рядом и опять пощекотал его ножом. Роналд сделал вид, будто изрядно напуган.
— Может, уберете тесак, Майк? Уверяю вас, это крайне неприятно…
— Отдайте мне кейс, Ронни, и я выйду из машины.
— Но я не имею права, Майк!
— Пораскиньте мозгами, Ронни… Убив вас, я ведь все равно заберу чемоданчик, так что результат — тот же. Так почему бы не обойтись без крайностей? Это гораздо разумнее…
Хантер схватил чемоданчик и протянул американцу:
— Уходите скорее! Я… я обесчещен… Бегите, пока я не взял себя в руки!
Мортон не заставил себя упрашивать. Схватив кейс, он выскочил из машины, остановил такси и приказал ехать на виа Риччио, в гостиницу «Магеллан». Роналд расплылся в счастливой улыбке и, выждав, пока такси скроется из виду, побежал звонить Феликсе.
Эрнст Нубер любил Италию и ничуть не жалел о родном Айдахо. Не будь в Болонье так дорого виски, он чувствовал бы себя счастливейшим человеком на свете. Поэтому все виски, купленное для бара, откладывалось в сторонку, в особый ящик, который с полным основанием именовался «личным запасом хозяина». Верность далекой родине побудила Нубера принять предложение ЦРУ, и с тех пор он стал любящим папашей для всех секретных агентов США, приезжавших в Болонью. Если кто-то из них не хотел встречаться с консулом, Эрнст Нубер брал на себя роль посредника. Особую симпатию он питал к Майку Мортону. Нубер очень ценил и его простоту, и особенно способность поглощать спиртное в поистине невероятных
количествах.
Заметив кейс в руке Майка и его гордый вид, Нубер сразу понял, что миссия завершилась успехом, и на радостях открыл новую бутылку «Бурбона» из «личного запаса». Бар гостиницы в это время пустовал, и мужчины могли спокойно отпраздновать событие. Не прошло и пяти минут, как содержимого бутылки стало вдвое меньше. И только после этого Эрнст задал первый вопрос:
— Жарко пришлось?
— Довольно-таки… англичане чуть нас не обскакали… но я утер им нос на финише!
Нубер налил новую порцию, и они выпили за поражение коварного Альбиона — их старого доброго союзника.
— А теперь, Майк, я пойду звонить… Надеюсь, вы получите хорошую премию! И если пересохнет в горле — можете не стесняться!
Мортона всегда терзала жажда. К возвращению Нубера бутылка из-под «Бурбона» приобрела скорбный вид опустевшей и ненужной посуды. Эрнст нахмурил брови и с угрожающим видом надвинулся на Майка:
— Кто вам позволил допивать мое виски, мистер Мортон?
Майк решил, что тот шутит.
— Жажда, мистер Нубер! Она приказывает — я покоряюсь!
— Ну так вы напокорялись на пять долларов, мистер Мортон!
— Как так?
— Надеюсь, вы не думаете, будто я стану молча смотреть, как всякие ни на что не годные олухи лакают мое виски, мистер Мортон?
— Но, Эрни…
— Никаких Эрни! Вы вели себя самым постыдным образом, Майк Мортон!
— Выпив виски?
— И это тоже! Но главное — позволив всучить вам чемодан, к которому прикованы глаза всей контрразведки Болоньи! Наш человек в английском консульстве предупредил, что это ловушка для дураков, а вы угодили в нее, как какой-нибудь новичок! Гоните мои пять долларов и живо дуйте обратно, в Ча Капуцци — Субрэй вроде бы носит досье при себе!
Позвонив Антонине, сержант вернулся в гостиную, к Тоске и ее мужу. Ехать в Мольо он не торопился, воображая, будто произвел на молодую женщину неизгладимое впечатление, а потому спокойно опустился в кресло, к величайшей досаде Санто — тот все более укреплялся во мнении, что стал жертвой заговора с целью не дать ему ни минуты побыть наедине с женой. Однако он заставил себя спокойно выслушать нескончаемую речь Коррадо, повествовавшего об Антонине, о собственном невероятном успехе у женщин и о том, почему столь выдающийся человек остается в Мольо и не уезжает в Болонью, куда призывают его недюжинные способности. Фальеро в равной степени злило и краснобайство сержанта, и напускное восхищение Тоски.
Тем временем карабинер Силио Морано, сидя в саду, мечтал о своей Джиоконде. Погрузившись в мечты, он не сразу узнал человека, который, пошатываясь, брел к нему через сад. И только когда тот подошел совсем близко, солдат сообразил, что это Субрэй. Силио Морано, несмотря на то что носил форму карабинера, не мог выносить вида крови, а потому при виде струйки, стекавшей по щеке француза, напряженно замер. Мортон и в самом деле ударил очень сильно, и, по мере того как к Жаку возвращалась память, он стал всерьез опасаться, не разбита ли у него голова.
Появление раненого Субрэя в сопровождении карабинера положило конец излияниям сержанта. Тоска первой заметила, как страдает француз, вскрикнула, бросилась к нему и усадила в свое кресло. На помощь тут же позвали Эмиля. Тот раздобыл все необходимое для перевязки и, ощупав ловкими пальцами голову Жака, заверил, что никаких серьезных повреждений нет — только кожа рассечена. Стоило лишь взглянуть, с какой нежностью Тоска ухаживает за Субрэем, чтобы и без особых познаний в психологии догадаться о ее чувствах. И Санто искусал все губы от ярости. Сержант немного досадовал, что кто-то отвлек от него внимание синьоры Фальеро, но стоически ждал, пока французу перевяжут рану, чтобы потом допросить его по всем правилам. Наконец все еще немного пришибленный Жак рассказал, что произошло.
— Короче говоря, знаменитый кейс, который так отважно защищал месье Субрэй, все же попал в руки той молодой особы, — философски заключил Эмиль.
Жак вздохнул:
— Да, по-видимому, Наташа победила в этой игре…
— В какой игре? — вмешался сержант. — Я требую объяснений, синьор!
— Нет, сержант… люди нашей профессии никогда ничего не объясняют…
— Какой же профессии, синьор, а?
Субрэй не ответил, вместо него сержанта решил просветить Фальеро.
— Шпион! Вот кто он такой, questo cavaliere! Questo cascamorto.[42]
— Шпион! А для кого вы шпионите, синьор?
— Не вмешивайтесь в это дело… Так будет лучше для вашего же спокойствия, — мягко посоветовал Жак.
Коррадо весьма ценил собственный покой, зато терпеть не мог выглядеть недостойным высокого поста сержанта карабинеров. Однако француз тут же избавил его от необходимости выбирать:
— И потом, синьор сержант, я, право же, не в состоянии сейчас что-либо обсуждать…
— Нельзя беспокоить раненого! — поддержала его Тоска. — Это бесчеловечно!
— Я вовсе не палач, синьора… — отступил Карло. — Лечите его, заботьтесь о нем, я нисколько не возражаю… даже наоборот!
— А вот я возражаю! — взвился Санто. — Моя жена не должна заботиться ни о ком, кроме меня!
Сержант довольно невежливо вздернул усы.
— А может, такая перспектива ее совсем не радует, синьор? — заметил он.
— Я не позволю вам…
— О, я просто высказал свое личное мнение, синьор.
— А я вам запрещаю иметь какое бы то ни было мнение о моей жене!
Тоска решила вмешаться и прекратить ссору.
— Успокойтесь, Санто! Это нелепо и смешно!
— Но вы же сами делаете из меня посмешище!
— Я?
— Да, вы! Вы ведете себя, как покинутая возлюбленная этого грошового донжуана! Этого сверхчемпиона секретных служб, который не мог даже вернуть дяде бумаги, хотя был с ним в одной комнате!
— Я не позволю вам говорить о Жаке в таком тоне, Санто!
— И вы еще осмеливаетесь мне что-то не позволять?
— Вот именно!
— Ну, это слишком! Что ж, коли на то пошло, скажите мне сразу, что вы его любите!
— Конечно, люблю… и вам это прекрасно известно!
— О!
Сержант настолько оценил живость диалога, что, не удержавшись, тоже вступил в перепалку:
— Прекратите!
Тоска и Санто удивленно воззрились на него.
— Вы уже достигли апогея. Теперь, синьор, у вас осталось всего три возможности выйти из положения: либо убить счастливого соперника, либо прикончить неверную супругу, либо покончить с собой… Мне лично больше нравится последний вариант!
— Пошел к черту!
— Синьор, вы вносите в эту человеческую трагедию ноту невыносимой грубости… Позвольте заметить вам, что это совершенно излишне… да что там говорить, просто пошло!
Фальеро, не обращая внимания на Коррадо, снова сцепился с женой.
— Тоска, нам надо раз и навсегда расставить все точки над «i»! С тех пор как появился этот чертов француз, на нас сыплются все несчастья! Я уверен, что ни одного молодожена так не оскорбляли, как меня! И это — со вчерашнего утра!
— А я? Вы думаете, хоть у одной женщины в мире была такая брачная ночь?
— Но я же не виноват! Все получилось из-за этого субъекта!
Означенный субъект, воспользовавшись тем, что на него никто не обращает внимания, ускользнул в спальню, чтобы позвонить Джорджо Луппо и сообщить о провале операции. Мафальда объяснила, что еще не все потеряно и Луппо пустил слух, будто кейс — только ловушка, а настоящие бумаги Субрэй носит при себе. Так что Жак должен состряпать липовое досье и сунуть в карман, да поживее, поскольку его английский, американский и советская коллеги наверняка не замедлят явиться на виллу.
Когда Субрэй вернулся в гостиную, Фальеро успел расколотить вторую японскую вазу, Тоска, вся в слезах, клялась немедленно вернуться домой, к маме, а сержант, развалившись в кресле, с воодушевлением следил за развитием действия. Очевидно, он чувствовал себя как зритель в театре. Эмиль занимался своим делом, будто в комнате кроме него никого не было. Появление Жака прервало представление, и сержант встретил его с явным неудовольствием.
— Кажется, вам полегчало, синьор? Тогда самое время поговорить серьезно. Вы знаете, кто на вас напал?
— Нет.
— Нет? Но разве это не американец… или англичанин…
— Меня ударили сзади, сержант… Откуда же мне знать, кто это сделал?
— Послушайте, синьор, у меня складывается весьма неприятное впечатление, что вы смеетесь надо мной, а следовательно, над всем карабинерским корпусом! Очень опасная игра, э? Во всяком случае, вам должна быть известна личность особы, похитившей ваш кейс?
— Да.
— Ах, все-таки вы ее знаете! Вы, конечно, подадите жалобу и…
— Нет.
— Как нет? Вас ограбили, а вы не желаете подать в суд?
— Нет, поскольку я и сам подшутил над несчастной синьориной. То досье, за которым она охотилась, у меня в кармане, а отнюдь не в кейсе!
— А как вы мне докажете, что сказали правду, синьор?
— Я думаю, доказательства представят они сами…
— Кто?
— Те, кто во что бы то ни стало хотят отобрать у меня досье, пока я не отдал его по назначению. А мне еще надо немножко прийти в себя…
— В таком случае я тоже остаюсь здесь. Карабинер!
Силио бегом примчался в гостиную.
— Да, сержант?
— На нас в любую минуту могут напасть. Держитесь настороже. Я на вас рассчитываю!
Морано потемнел, нахмурился, вскинул ружье и вышел с таким решительным видом, словно хотел показать всем присутствующим, что враги войдут на виллу только через его труп. Карло побежал звонить своей Антонине: супруга карабинера должна знать, что ее муж готовится к подвигу и его ждут или слава, или смерть (а может, и то и другое сразу). Это сообщение так подействовало на чувствительную Антонину, что ей пришлось выпить три чашки черного кофе, прежде чем она нашла в себе силы дотащиться до гипсовой статуэтки святого Франциска Ассизского, умоляя его защитить ее незаменимое сокровище. Синьора Коррадо даже попыталась прельстить святого обещанием поставить ему целую уйму свечей (но, будучи женщиной весьма осторожной, не стала уточнять, какой толщины).
Наташа первой добралась до Ча Капуцци, немного опередив Хантера. По правде говоря, она едва успела нырнуть за гигантский кактус, чтобы не попасться на глаза сопернику. Англичанин, не догадываясь, что за ним наблюдают, размышлял, как бы проникнуть на виллу незаметно для обитателей. При виде Мортона, который направлялся к вилле, сунув руки в карманы и озабоченно жуя жвачку, сердце Роналда учащенно забилось — надо думать, американец питает к нему такие же нежные чувства, что и он, Хантер, — к Наташе, и по тем же причинам. Англичанин на всякий случай вытащил револьвер — не хватало еще, чтобы Майк его опередил. Стыдно, конечно, стрелять в такого славного парня, но на карту поставлено возвращение в Кокермаут… Подавив угрызения совести, Хантер вскинул револьвер и тщательно прицелился в ногу Мортона, но не успел спустить курок, как грохнул выстрел и с него слетела шляпа. Роналд настолько оторопел, что догадался упасть плашмя и вжаться в землю только после того, как вторая пуля сшибла веточку в сантиметре от его носа. Услышав стрельбу, Мортон тоже выхватил револьвер. Англичанин засек точку, откуда в него палили, и в свою очередь тоже выстрелил. Майк живо сообразил, что его соперники слишком заняты друг другом, и вскарабкался на ограду, но тут же получил в физиономию град осколков от камня, выбитых пулей. Карабинер Морано хорошо прицелился. Решив не настаивать, американец проворно соскользнул на прежнее место. Роналд встретил его пулей — на сей раз Майк лишился правого каблука. Рассерженный не на шутку американец не остался в долгу, и в ближайшие несколько минут все три агента разных секретных служб методично палили друг в друга.
Карло Коррадо не был трусом, но, как все представители латинской расы, обладал богатым воображением, а потому мысль об опасности пугала его куда больше, чем непосредственная угроза. Стоя под дулом ружья или револьвера, он явственно видел — в прямом смысле слова — «скорую помощь», больницу, операционную и последнее напутствие священника. И слезы выступали на глазах не от страха, а от зримого видения Антонины, закутанной в траурные покрывала. Но как только первое волнение проходило, чувство долга и честь побуждали сержанта действовать и он без колебаний бросался в бой. Вот почему отзвук первого выстрела заставил его вцепиться в подлокотники кресла. Второй и третий — повергли в панику, вызвав череду самых мрачных картин, зато треск карабина сразу же вернул хладнокровие. Карло выпрямился и достал револьвер.
— Я думаю, это ваши гости, синьор француз… Пора оказать им достойный прием…
— Спасибо, сержант! А я тем временем ускользну через черный ход и помчусь в Болонью.
— Отлично! Счастливого пути!
— Я тоже желаю вам удачи, сержант.
В саду Карло Коррадо присоединился к Силио.
— Я мог бы позвонить и вызвать подкрепление, Морано, но что о нас скажут Антонина и Джиоконда? Покажем-ка этим дикарям с севера, на что способны карабинеры, э!
— Так точно, сержант!
— Тогда слушайте, Силио… Я проберусь за кипарисами и нападу на них с тыла. Если сдадутся — приведу сюда, и мы отвезем всю компанию в Мольо. А не послушаются — перестреляю. Вы же не двигайтесь с места, ждите их тут. Ясно?
Опьяненный, как и его шеф, запахом битвы, Морано превзошел самого себя. Теперь он уже ничем не напоминал дрожащего от страха парня, который прошлой ночью брел по саду с ружьем наизготовку. Карло Коррадо и Силио Морано разыгрывали друг перед другом героическую сцену, чувствуя себя и актерами, и зрителями одновременно. Оба принимали участие в действе, но при этом как бы наблюдали со стороны и аплодировали. Упиваясь спектаклем, каждый из них считал себя главным героем и готовился лечь костьми за правое дело. Таковы, впрочем, прерогативы этого персонажа в любом театре мира — вечно он хватит через край.
Под защитой ружья Морано сержант скользнул за кипарисы в тот момент, когда Субрэй прощался с Тоской и Санто. Он вовсе не хотел, чтобы его противники расправились с хозяевами дома. Эмиль вывел молодого человека через ванную на балкон, но Фальеро, не желая доставлять жене лишние волнения, предложил прикрыть отступление француза.
Мортон, Хантер и Наташа, утомившись от бесплодной перестрелки, решили перейти к более результативным действиям. Каждый по-своему, они забрались в сад как раз в тот момент, когда сержант из него выходил, а Субрэй только собирался туда пойти. Карло Коррадо прошел так близко от Наташи, что мог бы почувствовать ее дыхание, и, таким образом, даже не догадываясь об этом, был на волосок от смерти. Англичанин, русская и американец медленно, ползком, подбирались к дому, пристально наблюдая за карабинером, а тот в свою очередь держался настороже. Шла какая-то странная игра, когда противники то и дело меняются местами и, воображая, будто проникли на территорию врага, на самом деле занимают только что оставленные им позиции. Однако всем им неизбежно предстояло встретиться у бронзового фонтана, за которым устроился карабинер. Сержант беспрепятственно дошел до дерева, где его самолюбие подверглось жестокому испытанию, и, сделав изящный поворот кругом, направился к дому с твердым намерением напасть на непрошеных гостей с тыла.
Эмиль с достоинством, присущим хорошо вымуштрованному слуге, пытался успокоить Тоску:
— Если синьора позволит нам высказать свое мнение, то она беспокоится совершенно напрасно. Синьору Фальеро ничто не угрожает.
— А Жаку?
Вопрос сорвался с губ молодой женщины невольно, и она покраснела до ушей. Дворецкий потупил глаза.
— Мы достаточно хорошо знаем синьора Субрэя и не сомневаемся, что он с блеском выйдет из положения.
— Правда, Эмиль? Вы и в самом деле так думаете?
— Мы в этом убеждены, синьора.
— Спасибо…
Американец, англичанин, русская и карабинер увидели друг друга одновременно и в ту же секунду выстрелили. Все они были отличными стрелками. Майк получил от Наташи пулю в бедро, а сам прострелил ей плечо. Хантер оказался чуть медлительнее и не попал в карабинера, зато Морано не промахнулся и ранил его в ногу. Американец поспешил удрать, зажимая рану носовым платком, — он надеялся добраться до больнице прежде, чем истечет кровью. Наташа последовала его примеру. Только Хантер, не в силах тронуться с места, попал в руки карабинера и оказался в наручниках. При мысли о том, сколько долгих лет пройдет, прежде чем он снова приедет в Кокермаут к Дэйзи и мальчикам, на глазах у Роналда выступили слезы. Когда Силио притащил пленника в гостиную, Тоска с помощью Эмиля стала перевязывать ему рану. Нежность молодой женщины снова напомнила англичанину о заботливых руках Дэйзи, и он, не выдержав, разрыдался. Пришлось утешать его втроем, и карабинер, которого уже начали терзать угрызения совести, старался больше всех.
Звуки выстрелов привлекли внимание сержанта, и он, не желая упустить сражение, бросился к дому, но застыл как вкопанный при виде открывшегося его взору зрелища: некто ударил Субрэя по голове и, когда француз упал, вытащил у него из кармана досье. Коррадо положил револьвер в развилку ветки, стараясь прицелиться как можно тщательнее. Он понимал, что расстояние слишком велико, так велико, что не удавалось даже толком разглядеть, кто напал на Субрэя. К несчастью, прежде чем Коррадо спустил курок, похититель исчез.
Эмиль отпаивал Хантера граппой, а Фальеро предлагал немедленно позвонить в Болонью, чтобы налетчиков арестовали по дороге к городу. Дворецкий стал его отговаривать, поскольку слыхал, будто вокруг такого рода историй не следует поднимать шум и делать их достоянием публики. А кроме того, синьор Субрэй знает своих противников и, если сочтет нужным, в любой момент может потребовать их ареста. Тоска присоединилась к мнению Эмиля, тем более что это избавляло их от необходимости предпринимать что бы то ни было. Однако Фальеро, не желая уступать жене, ткнул пальцем в сторону раненого:
— А этот?
— Я думаю, его тоже надо отпустить…
Фальеро заспорил. Он не мог согласиться, чтобы люди, которые нарушили его покой, испортили ему брачную ночь и избили, остались безнаказанными. И Санто уже начал со всем возможным пылом излагать свою точку зрения, как вдруг на пороге появился сержант. На спине он нес Субрэя.
— Жак! — вскрикнула Тоска.
И, не обращая внимания на попытки мужа ее удержать, молодая женщина бросилась помогать Эмилю и Коррадо уложить на диван столь нежно любимого ею француза. Хантер не преминул воспользоваться переполохом и улизнул. А Тоска, совершенно утратив чувство реальности, покрывала поцелуями лицо Жака, даром что ее супруг надрывался от крика:
— Тоска, ваше поведение скандально! Клянусь Вакхом! Вы меня обесчестили! Это бесстыдство! Да еще при посторонних мужчинах! Вы с ума сошли! Тоска, не смейте!
Но она ничего не слышала. Видя лишь закрытые глаза, помертвевшее лицо и окровавленные волосы Субрэя, она решила, что француз мертв, и не желала смириться с потерей. Эмиль почтительно взял молодую женщину за плечи и отодвинул в сторонку, потом склонился над Субрэем и во второй раз за день начал ощупывать его голову. Все так внимательно наблюдали за каждым движением эскулапа, что побег Хантера остался незамеченным. Только карабинер, вдруг вспомнив о пленнике, выбежал в сад. Наконец Эмиль выпрямился:
— Мы полагаем, повреждений черепа нет… У синьора, видимо, очень крепкая голова! Однако, если его не перестанут колотить по макушке, в конце концов сделают идиотом… Удар нанесен рукоятью револьвера.
— Это невозможно! — возразил Фальеро. — Я проводил его до калитки, и, когда мы прощались, поблизости не было ни души!
Сержант назидательно поднял палец:
— Вот именно, синьор, вот именно!
— Вы о чем?
— Раз вы были вдвоем с синьором французом, значит, вы же его и ударили!
— Я?
Но Тоска с угрожающим видом уже надвигалась на него:
— И вы это сделали, Санто? Вы посмели это сделать?
— Послушайте, Тоска, вы ведь меня знаете… Дурень карабинер вконец рехнулся! Зачем бы я стал пытаться прикончить Субрэя?
— Из ревности!
Фальеро насмешливо хмыкнул.
— Я вас очень люблю, Тоска, но не до такой степени, чтобы ради ваших прекрасных глаз подохнуть в тюрьме!
— О!
— Может, вам и в самом деле придется закончить жизнь в тюрьме, синьор, — заметил Коррадо. — Я видел, как вы ударили француза.
— Вы видели меня?
— По крайней мере, мне так кажется…
— А-а-а, это уже лучше!
— Во всяком случае, синьор, у вас есть очень простой способ снять с себя вину. Докажите нам, что у вас в кармане нет досье, которое носил с собой француз.
— Нет, это просто недопустимо! По какому праву вы…
— А кроме того, вы отдадите мне свой револьвер, — невозмутимо продолжал Коррадо, — я хочу взглянуть на рукоять…
И тут, к ужасу Тоски и удивлению остальных, обычно кроткое лицо Санто Фальеро резко исказилось. Рот скривила жестокая ухмылка, челюсть выдвинулась вперед, в глазах засверкала холодная ненависть.
— Санто… — остолбенев от столь неожиданного превращения, пробормотала Тоска.
Фальеро накинулся на нее:
— Все из-за вас, чертова идиотка! Дело шло как по маслу, но вы, видите ли, продолжали любить проклятого француза!
— Санто, умоляю вас… Ведь это неправда, не так ли? Вы не могли ударить Жака и украсть у него бумаги, верно?
Тот пожал плечами:
— Вы и вправду так думаете?
— Не знаю… я совсем запуталась…
— Зато я знаю, синьор, — вмешался сержант.
Санто быстро отступил и выхватил револьвер.
— Вы слишком догадливы, сержант… а при вашей работе это опасно… Ни с места, вы все! Как ни противно, а придется покончить со всей компанией… не могу же я оставить свидетелей? А после этого я подброшу револьвер французу и оставлю его отпечатки пальцев… Никто не усомнится, что эту чудовищную бойню учинил он, а я лишь чудом избежал расправы, стукнув его по башке… Досье же тем временем вернется в страну, из которой его увез Субрэй! Зря он считал себя таким умным!
Тоска прикрыла рот рукой, словно хотела сдержать крик, потом без всякого выражения, деревянным голосом проговорила:
— Так это вы… вы, Санто, обокрали своего дядю? Но почему? Почему?
— По причинам, которых ваша буржуазная головенка не в состоянии понять! Изобретения моего дяди не должны служить торжеству капитализма! Или хотя бы отдалять его поражение!
Заметив карабинера, возвращающегося после бесплодных поисков англичанина, сержант облегченно вздохнул. Однако ему не удалось скрыть радость, и Фальеро обернулся навстречу новой опасности. Сержант воспользовался этим и выстрелил, прежде чем муж Тоски сообразил, что к чему. Санто широко открыл глаза, как будто поведение Коррадо его несказанно удивило, попытался снова вскинуть револьвер, но сержант еще раз спустил курок. Фальеро пошатнулся и медленно поднес руку к груди. Чувствовалось, что он лишь огромным усилием воли держится на ногах. Перепуганная и опечаленная Тоска не могла сдвинуться с места. Ее муж ничком рухнул на пол. Эмиль склонился над ним, но тут же снова выпрямился.
— Все кончено.
— Я ведь не мог поступить иначе, правда? — спросил Коррадо.
Дворецкий кивнул:
— Без всякого сомнения, синьор сержант… Мы с синьорой обязаны вам жизнью.
Коррадо тут же бросился к телефону сообщать своей Антонине, что минуту назад застрелил опасного врага всего свободного мира вообще и Италии в частности. Такое заявление показалось немного преувеличенным даже синьоре Коррадо, и она стала требовать уточнений. В это время в спальню за шарфом зашла Тоска, и сержант попросил ее подтвердить правдивость рассказа.
— Подожди, душа моя, — сказал он жене, — я сейчас позову свидетеля.
Немного ошарашенная Тоска, плохо понимая, чего хочет Карло и с кем ей надо говорить, взяла трубку.
— Pronto? — машинально пробормотала она.
Сержант подмигнул и быстро объяснил, что на том конце провода — его жена.
— Ваш муж — герой, синьора…
Тоска отдала трубку Коррадо, а благодарный сержант низко поклонился.
— Ну, слышала, моя голубка? И между прочим, можешь нисколько не сомневаться в искренности этой синьоры!
— Почему?
— Потому что это вдова…
— Вдова? Чья же?
— Человека, которого я только что отправил на тот свет!
В тот же вечер Тоска и Жак пили чай на вилле Ча Капуцци, собираясь вскоре уехать в Болонью. Карабинеры уже вернулись в Мольо, а тело Фальеро увезли на экспертизу. Молодая женщина никак не могла до конца поверить, что все случившееся — правда. Несмотря на то что последняя сцена разворачивалась у нее на глазах, Тоска не понимала, как мог скромный, застенчивый Санто оказаться жестоким и циничным фанатиком, готовым все на свете принести в жертву делу, которому служит. Это никак не укладывалось в голове!
— А вы, Жак? Вы могли хотя бы заподозрить что-нибудь подобное?
— Должен был бы… С тех пор как Фальеро не стало, я только и думаю, сколько раз он сам давал мне повод учуять неладное, а я ничего не замечал. Например, еще в начале ночи, когда я оставил вас вдвоем и вышел в сад… Санто уверял, будто стрелял, не зная, что это я… А ведь я его окликнул. Значит, уже тогда парень совершенно сознательно пытался со мной расправиться. Кроме того, Наташу могли освободить только он или Эмиль… И откуда Санто знал, что похитители работали на Советский Союз? А русская каким образом выяснила, куда я спрятал кейс? Опять-таки никто, кроме Санто и Эмиля, не знал, что я сунул чемоданчик в стиральную машину… И самое главное — в окружении профессора Фальеро под подозрением находились все, кроме его племянника… А меж тем ему было проще, чем любому другому, украсть досье. И каков хитрец! Ведь сам же сообщил в полицию, как только убедился в том, что его друзья — вне досягаемости… Простите, Тоска, но мне надо позвонить шефу и доложить, что наша хитрость удалась и виновным оказался Санто Фальеро…
Как и следовало ожидать, к телефону подошла Мафальда. Узнав, чем закончилась операция, она обещала сделать все необходимое, чтобы официально Санто умер от инфаркта. Правды не узнает никто, кроме двух семей, однако, во избежание бесчестья, и те и другие наверняка постараются держать язык за зубами…
Субрэй, пересказав этот короткий разговор Тоске, подвел итог:
— И вся Болонья станет оплакивать милейшего Санто Фальеро, которого ожидало такое блестящее будущее… Представляю, сколько сочувствия обрушится на его несчастную молодую вдову…
— А ведь и правда… я вдова… так и не став ему женой…
Субрэй обнял Тоску:
— Вы думаете, меня это печалит, дорогая?
Она довольно вяло попыталась воспротивиться:
— Слушайте, Жак… Вы не должны так говорить… Санто умер всего несколько часов назад… Что подумает обо мне Эмиль?
— Эмиль слишком хорошо воспитан, чтобы подслушивать наши разговоры. И в любом случае он прекрасно знает, что вы не любили мужа, он не любил вас, зато мы любим друг друга! Через год и один день мы поженимся, если, конечно, к тому времени вы согласитесь выйти за меня замуж.
— Пока вы не бросите эту ужасную работу, на которой надо то и дело рисковать жизнью, — ни за что!
— Обещаю вам, Тоска, я непременно попытаюсь наконец добраться до Джорджо Луппо и втолковать ему, что меня необходимо отпустить на волю.
— А кто этот Джорджо Луппо?
— Мой непосредственный начальник… Надеюсь, он поймет, что я тоже имею право хоть немного пожить, как все люди.
— Конечно, поймет, если вы сумеете объяснить ему, как мы любим друг друга!
— Мы тоже глубоко в этом убеждены, синьора.
Тоска и Жак с легким изумлением повернулись к дворецкому.
— Спасибо за моральную поддержку, Эмиль, — улыбнулся Жак, — но откуда, черт возьми, у вас такая уверенность?
— Просто я и есть Джорджо Луппо!
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ИДИОТКА

Главные действующие лица:
Пенелопа Лайтфизер, портниха (24 года).
Миссис Лайтфизер, ее мать.
Петр Сергеевич Милукин, он же — Гарри Комптон (28 лет).
Тер-Багдасарьян, армянин, владелец ресторана «Независимая Луна» в Сохо.
Адмирал Норланд, начальник Отдела планирования в Адмиралтействе.
Сэр Реджинальд Демфри, начальник сектора «Д» в Адмиралтействе.
Герберт Рутланд, первый помощник сэра Р.Демфри.
Дональд Фаррингтон, второй помощник сэра Р.Демфри.
Леди Барбара, жена сэра Реджинальда.
Марджори Рутланд, жена Герберта Рутланда.
Дороти Фаррингтон, жена Дональда Фарринггона.
Маргарет Мод Смит, кухарка у Демфри.
Розмери Крэпет, горничная у Демфри.
Уильям Серджон, дворецкий-шофер у Демфри.
Эверетт Картрайт, инспектор Интеллидженс Сервис.
Предуведомление
Герой этой повести чаще всего называется вымышленным именем Гарри Комптон, поскольку читателю, вероятно, нелегко поверить, что подданный Ее всемилостивейшего Величества Елизаветы II может именоваться Петром Сергеевичем Милукиным. И однако…
Время вполне сознательно указано французское.
Суббота, утро, 6 часов
Часы на Бетлем-Хоспитал пробили шесть раз. Над Лондоном занимался рассвет. За Лондонским мостом уже чуть-чуть порозовело небо. Чайки, которые вечно стонут над подернутой мазутом водой Темзы в поисках съестного, казалось, поверяли друг другу удивительную новость: погода обещает быть прекрасной! Такого же мнения придерживался и констебль Боб Карузерс, продолжавший свой обычный обход от площади Элефант и Кэстл. Еще два часа, а потом можно будет выпить чашку чаю, позавтракать и завалиться в постель. Но два часа — это очень долго… Столь мрачная перспектива приводила констебля в отвратительное настроение, и он лишь ворчал в ответ на приветствия первых утренних пешеходов — рабочих, спешивших к метро. От необычного теплого воздуха, в котором уже чувствовались первые дуновения весны, ежеутренние пассажиры лондонской подземки избавлялись от постоянного раздражения, свойственного низкооплачиваемым, плохо одетым, не слишком сытым и невыспавшимся людям. Они спускались под землю, а Боб Карузерс продолжал свой утомительно долгий поход, размышляя о тех десятках и сотнях тысяч километров, которые ему еще предстоит отмерить, прежде чем наступит время отставки. Эхо его шагов потихоньку таяло в шуме просыпающегося города.
6 часов 30 минут
По другую сторону реки, в квартале Хейгейт, там, где он граничит с загородными имениями Парлиамент Хилл, в комнате мисс Пенелопы Лайтфизер зазвонил будильник. Несмотря на то что это произошло на пять минут раньше времени, девушка, радостно улыбаясь, соскочила с постели. Улыбалась она по многим причинам: и потому что ей двадцать четыре года, и потому что она хороша собой, и потому что она счастлива быть молодой и красивой, и, наконец, потому что у нее самая лучшая на свете мама, которая сейчас — если судить по аппетитным запахам — хлопочет на кухне, дабы ее единственное дитя не отправилось на работу голодным. Мисс Лайтфизер, энергично расчесывая волосы, вошла в гостиную.
— Доброе утро, мамми!
— …рое утро, дорогая! — донеслось в ответ откуда-то из недр кухни.
Уверившись таким образом, что за ночь ничто не потревожило столь любезный ее сердцу маленький мирок, Пенелопа вошла в ванную, насвистывая «Толстяка Билла», песенку, имевшую огромный успех сразу после войны и особенно полюбившуюся ей самой. Когда мисс Лайтфизер закрывала за собой дверь, в церкви Сен-Мишель пробило половину седьмого.
Такой же звон на колокольне Святого Патрика в Сохо нарушил сновидения Тер-Багдасарьяна, владельца ресторана «Независимая Луна», расположенного на Грик-стрит. Впрочем, его сон никогда не бывал особенно спокойным. Глядя на слегка обрюзгшую фигуру армянина, никто не мог бы догадаться, как он силен и ловок. Он встал и, осторожно высунув нос в приоткрытую форточку, стал принюхиваться к утренним запахам. Убедившись, что пахнет вовсе не розами, Тер-Багдасарьян возрадовался, ибо ему, как убежденному коммунисту, было бы весьма досадно обнаружить хоть что-нибудь хорошее в Лондоне, который он считал треклятой столицей треклятого капиталистического мира. Обдумывая все, что ему предстоит сделать за этот день, Багдасарьян съел сырую луковицу и выпил стаканчик ракии — просто чтобы малость освежить голову, а потом начал тщательнейшим образом готовить кофе с видом человека, для которого этот ежеутренний ритуал приобрел чрезвычайно важное значение. По правде говоря, Тер-Багдасарьян вообще никуда не годился, пока не выпьет свои две-три чашки кофе по-турецки, зато после этого сразу становился самим собой, то есть превосходно отлаженной машиной для убийств, весьма ценимой товарищами из советского посольства. К семи часам армянин уже чувствовал себя в полной форме.
В это же время мисс Лайтфизер, свеженькая как цветок, выходила из ванной и снова шла в спальню выбирать платье, соответствующее ее лучезарному настроению и синеве неба.
7 часов 00 минут
Слушая, как на колокольне Сент-Мерилбоун бьет семь, Герберт Рутланд с облегчением перевел дух. Наконец-то он может встать! Ему не терпелось (в отличие, несомненно, от большинства коллег) как можно скорее оказаться в Адмиралтействе, у себя в кабинете. Он зажег ночник, и Марджори что-то проворчала сквозь сон — характер у нее портился день ото дня. Марджори старела и злилась на весь мир, хотя никто, кроме нее самой, пока не замечал ни малейших признаков увядания. Неисправимая поклонница азартных игр, миссис Рутланд все чаще шла на поводу у своего порока, и это внушало серьезные опасения ее заботливому, но скучному супругу, а заодно объясняло, почему Герберт, будучи первым заместителем сэра Реджинальда Демфри, начальника сектора «Д», довольствовался скромной квартиркой на Сент-Мерилбоун. Счастье еще, что хоть Риджентс-парк неподалеку…
Герберт Рутланд жил в постоянной тревоге и напряженном ожидании удара, который, как он был убежден, не преминет рано или поздно нанести судьба. Рутланд внушал себе, что шпионы (неважно какие — он никогда не пытался вообразить конкретные лица) однажды украдут какой-нибудь сверхсекретный документ из его сейфа, и это положит конец всей карьере. И что тогда будет с Марджори и с ним? Рутланд бесшумно проскользнул в ванную. Огромные траты жены на игру в бридж не позволяли держать прислугу, а потому Герберт сам приготовил чай, но от чего-либо более существенного воздержался — Марджори не выносила запаха жареного бекона. За чаем Рутланд, вероятно в тысячный раз, спрашивал себя, откуда его супруга берет деньги на игру. Он догадывался, что у жены есть долги, но, так или иначе, она ухитрялась держаться в рамках приличий, поскольку до мужа ни разу не доходило никаких слухов. Правда, эта тишина и пугала его больше всего. Но боялся он и самой Марджори…
7 часов 15 минут
Пока мисс Лайтфизер расправлялась с четвертым тостом, щедро намазанным маслом, а ее мать, крошечная седая дама, унаследовавшая от предков-крестьян стойкое убеждение, что, пока человек ест с аппетитом, у него все в полном порядке, с умилением наблюдала эту картину, молодая Дороти Фаррингтон тормошила своего мужа Дональда, пытаясь внушить ему, что колокол на церкви Святой Троицы пробил четверть восьмого, а вовсе не час ночи. Дональд достаточно любил Дороти, чтобы поверить любым ее заявлениям, а потому согласился встать, но при условии, что жена поцелует его шесть раз подряд, ибо эта цифра всегда приносила ему удачу. Получив требуемое, он ухватил Дороти за талию и, вальсируя, подвел к окну, выходившему на Слоан-сквер. Взглянув на чудесную игру солнечных лучей в ветвях деревьев, Дональд в очередной раз порадовался, что может жить в таком квартале, хотя конец месяца всегда бывал довольно трудным. Впрочем, в этом Фаррингтон винил исключительно скаредное правительство, слишком мало ценившее труды своих преданных чиновников. Но денежные заботы никогда надолго не омрачали горизонт Дональда, упорно веровавшего в свою счастливую звезду. Более того, он знал, что на хорошем счету у шефа, сэра Реджинальда Демфри, и надеялся, что какое-нибудь серьезное потрясение в Адмиралтействе представит ему случай продемонстрировать свои скрытые возможности, а то и — кто знает? — занять место бедолаги Герберта Рутланда, один вид которого нагонял на него смертную тоску. Наконец, вняв настояниям Дороти, угрожавшей подать к столу вязкий, как клейстер, порридж и обуглившийся бекон, Дональд соблаговолил отправиться в ванную.
7 часов 30 минут
Герберт Рутланд с бесконечными предосторожностями запер за собой дверь и, таким образом избавившись от домашнего гнета, радостно поспешил в Адмиралтейство.
Из гигиенических соображений, а равно и потому, что, работая в ателье «Пирл и Клементин», она не могла позволить себе лишних трат, мисс Лайтфизер имела обыкновение в любую погоду — будь то снег, град, ветер или дождь — всегда идти пешком до станции метро Кентиш Таун. Высоко подняв голову, с радостной улыбкой, девушка бодрым шагом проходила мимо Хайгетского кладбища, где покоится некий Карл Маркс.
Очень далеко оттуда, в аристократическом районе Кенсингтон, чопорный дворецкий-шофер сэра Реджинальда Демфри поглядел на часы, желая проверить, не отстал ли от них колокол Сент-Мэри Эбботс, а потом с самым торжественным видом сообщил кухарке, Маргарет Мод Смит, толстухе лет пятидесяти с такой же любезной физиономией, какая может быть разве что у голодного бульдога, а также горничной Розмери Крэпет, с трогательным упорством пытавшейся в свои сорок лет выглядеть не такой увядшей и тощей благодаря обилию ленточек и кружев:
— Пойду к сэру Реджинальду…
Хозяин весьма ценил такт дворецкого, всегда будившего его с величайшей осторожностью.
— Доброе утро, Серджон.
— Здравствуйте, сэр.
— Какая сегодня погода?
— Хорошая, сэр.
Сэр Реджинальд недоверчиво воззрился на слугу.
— Вы не шутите, Серджон?
Дворецкий чуть заметно вздрогнул.
— Я никогда не шучу, сэр!
— Да, верно… прошу прощения. Подайте машину к без четверти десять…
7 часов 45 минут
Когда сэр Реджинальд Демфри входил в ванную, мисс Лайтфизер спускалась по ступенькам лестницы на станции Кентиш Таун, намереваясь воспользоваться Северной линией, а адмирал Норланд выходил из собственного домика в Грэйвсенде, чтобы сесть на восьмичасовой поезд в Лондоне.
8 часов 00 минут
Призывая верующих подумать немного о вечном спасении, колокол Христовой церкви разбудил молодого Петра Сергеевича Милукина, который, после того как уехал из Бристоля, стал именоваться Гарри Комптоном. Означенный Гарри снимал комнатку на Тэвисток-сквер у вдовы Пемсбоди, хорошо известной в округе консервативными взглядами, приобретенными во время трансваальской войны благодаря тайной, но оттого не менее пылкой симпатии к одному юному и блестящему офицеру по имени Уинстон Черчилль. Петр недовольно заворчал, повернулся на другой бок и снова закрыл глаза, надеясь досмотреть сон, в котором наконец осмелился заговорить с очаровательной девушкой, вот уже больше месяца завтракавшей всего за несколько столиков от него. Девушка носила какую-то невероятную фамилию — что-то вроде Лайтфизер, но была так хороша собой, что никакое смехотворное имя ее не портило… и потом, когда-нибудь она отделается от этой мелкой несообразности, взяв фамилию мужа, который во сне Петра очень походил на него самого.
Тем временем обожавшая пешие прогулки мисс Лайтфизер вышла из метро на станции Юстон и направилась к Монтегью-стрит, в свое ателье. Она прошла под окнами Петра Сергеевича Милукина, но тот, вопреки тому, что могли бы вообразить наиболее чувствительные души, даже не догадывался об этом обстоятельстве.
8 часов 15 минут
Инспектор Картрайт, один из самых блестящих представителей Интеллидженс Сервис, вытер губы, тщательно сложил салфетку и, поднявшись из-за стола, расцеловал свою жену Элизабет.
— Не жди меня к обеду, дорогая, — сказал он перед уходом.
Элизабет пожала плечами. Уже давным-давно, смирившись с неизбежным, она перестала ждать мужа — нормальная, размеренная жизнь явно не для них.
А в Панти констебль Боб Карузерс уже успел позавтракать и со вздохом удовлетворения ложился в постель. Все, что сегодня произойдет в Лондоне, его уже не касается.
8 часов 30 минут
Как всегда по утрам, выйдя из ванной, сэр Реджинальд Демфри долго разглядывал свое отражение в зеркальном шкафу и не мог удержаться от тяжкого вздоха. Представшее его глазам печальное зрелище и в самом деле не могло не вызвать сочувствия: фигура была пока еще ничего себе, но в остальном шестой десяток завершался очень скверно. Под глазами — мешки, на лбу и на щеках — морщины, на висках — глубокие залысины, волосы поседели и стали какими-то тусклыми, у губ залегла горькая складка, а глаза выцвели. Нет, в самом деле, сэра Реджинальда собственный вид отнюдь не радовал, а его и без того обычно бледное лицо приобретало землистый оттенок от одной мысли, что внешняя разруха — лишь слабое отражение внутренней. Демфри догадывался, что его сосуды изношены до последней степени, и под двойным напором холестерина (бесконечные порции яичницы с беконом, которые он поедал, с тех пор как оставил соску, конечно, не могли пройти даром!) и множества забот, не дававших ему вздохнуть, он вполне созрел для хорошенького инфаркта миокарда. Впрочем, это самый тактичный, а потому весьма ценимый в хорошем обществе способ уйти в отставку.
Подумать только, что в свое время сэр Реджинальд Демфри слыл одним из самых бесшабашных повес Лондонского университета! Но это было до того, как он познакомился с Барбарой и согласился возглавить сектор «Д» Адмиралтейства.
Барбара принадлежала к разряду женщин — стихийных бедствий, что рождаются в каждом поколении и испокон веков доводят тех, за кого вышли замуж, до преступления, алкоголизма или, в лучшем случае, до язвы желудка. Тридцать лет назад Барбара Пеллрайт являла собой славу «Шепердс Буш Эмпайр» и, по единодушному мнению критиков, в ревю Let me listen youk heart[43] была «настоящим лакомым кусочком». Да, лакомым, но, как выяснилось, совершенно несъедобным, и тридцать лет спустя несчастный Реджинальд Демфри все еще не мог переварить глупость, сотворенную примерно в 1931 году. Ибо околдованный восхитительными ножками Барбары
темпераментный молодой человек с чисто мужским отсутствием логики имел неосторожность просить руки танцовщицы, а та, со времен своего первого антраша мечтая стать «респектабельной дамой», немедленно согласилась. О, разумеется, она предпочла бы лорда, но, наведя справки и выяснив, что у родителей Реджинальда — вполне приличное состояние, а сам их единственный отпрыск подает блестящие надежды, Барбара быстро решилась стать спутницей его жизни. Сразу после свадьбы молодая женщина прекратила радовать супруга видом своих прелестных ножек, зато обнаружила самый отвратительный характер, какой только можно вообразить. Не прошло и года, как Реджинальд глубоко раскаялся в содеянной чудовищной ошибке, но в те времена мужчина, мечтавший сделать карьеру, не мог позволить себе развод, и мистер Демфри, вспомнив о короле Георге V и своей собственной преданности традициям доброй старой Англии, погрузился в пучину супружеской жизни. С того-то самого момента и начали потихоньку изнашиваться его коронарные сосуды, и каждый приступ бешенства, каждая жалоба, каждый перепад настроения чертовки Барбары истончали их оболочку. Однако с годами у миссис Демфри поубавилось злобы, и, по мере того как ее муж поднимался по ступенькам иерархической лестницы, Барбара с головой уходила в светскую жизнь. Впрочем, то, что все счета от портних, модисток и ювелиров получал один Реджинальд, свидетельствовало о неукоснительной супружеской верности. Таким образом, годам к пятидесяти мистер Демфри, ставший уже сэром Реджинальдом Демфри, мог бы наконец вкусить долгожданного покоя, тем более что в его распоряжении всегда оставались три блаженные гавани, в которые леди Демфри не имела доступа: работа, клуб и его собственная комната. Однако, надо думать, Провидение судило Реджинальду долю великомученика и обрекло на вечные изнурительные заботы. Едва избавившись от домашней фурии и обретя вполне умиротворенную и довольную жизнью супругу, сэр Демфри согласился возглавить в Адмиралтействе сектор «Д», куда стекались все секретные бумаги. Естественно, этот отдел больше всего привлекал любопытство иностранных генеральных штабов. С тех пор сэр Реджинальд жил в безумной тревоге, вечно опасаясь, что, невзирая на тысячи предосторожностей, шпионы доберутся до бесценных досье, и это станет как жесточайшим ударом для обороны Великобритании, так и непоправимым бесчестьем для него самого.
8 часов 45 минут
Несмотря на то что оба этих события ни в коей мере не связаны между собой, так уж случилось, что, когда Уильям Серджон почтительно захлопнул дверцу, прежде чем сесть за руль «бентли» сэра Реджинальда Демфри, в квартале Блумсбери на пол грохнулся будильник, сбитый неосторожным движением спящего Петра Сергеевича Милукина. Этот шум окончательно разбудил молодого человека. Петр сел на кровати и сладко потянулся. В окна струился солнечный свет, а на комоде и кресле играли золотистые блики. Одного этого вполне хватило, чтобы молодой человек почувствовал себя совершенно счастливым и снова возрадовался, что послушал того типа в Бристоле…
И однако ничто не предвещало, что Петр станет тем, во что он превратился теперь, — то есть начинающим шпионом на службе восточной разведки.
Родился он в Бристоле двадцать восемь лет назад. Отец, Сергей Милукин, работал поваром в большой гостинице, а его будущая мать служила там же горничной. Выходец из Белоруссии, Милукин-старший вовсе не жаловал сталинский режим, а потому воспитал сына в полном соответствии с духом британской демократии. Стало быть, все складывалось так, чтобы юный Петр вырос достойным подданным Короны. Долгое время он и оставался таковым. Однако около года назад, лишившись обоих родителей, Милукин-младший попытался стать администратором в заведении первой категории в Борнемауте, но ему несправедливо предпочли соперника, пользовавшегося надежным покровительством. Петр немедленно взъелся на капиталистический строй, обвинив его в непонимании истинных ценностей, и в гневе связался с людьми, которых Советы нарочно подкармливают на британской территории, дабы они поощряли всякого рода запоздалые политические призвания и наивный энтузиазм юношей, вступающих в сознательный возраст. Тот, с кем познакомился Петр, мигом смекнул, какую пользу можно извлечь из молодого человека, который одинаково свободно говорит по-английски и по-русски и к тому же выглядит как типичный британец. Его немедленно переправили из Бристоля в Лондон, но, чтобы не возбуждать подозрений Интеллидженс Сервис, в СССР не повезли, как того требовал Петр, а, напротив, постарались несколько умерить пыл неофита. Ему посоветовали — и в довольно жесткой форме — сначала усвоить марксистское учение и почитать хороших советских писателей, дабы однажды кривая не завела его на опасную дорожку, где вечно бродят гадюка уклонизма и крыса капитализма, измышляя всякие подлости.
В Лондоне Петр Сергеевич Милукин превратился в Гарри Комптона и окончательно порвал с гостиничным делом. Теперь он числился торговым представителем американской фирмы, выпускавшей кукурузные хлопья. Новые друзья позаботились, чтобы ему не пришлось слишком много писать в декларации, привлекая таким образом внимание полиции. Петр отнюдь не отличался трудолюбием, и частые визиты даже к самым любезным коммерсантам утомляли его не меньше, чем долгие часы, проведенные у себя в комнате в попытках постичь марксизм-ленинизм. Из этого ровно ничего не выходило, и Гарри начал с тревогой раздумывать, в какую опасную историю он сдуру вляпался, тем более что в глубине души очень любил Великобританию, с которой его связывали воспитание, сыновнее чувство и благодарность. Да вот только бывают ошибки, последствия которых непременно приходится расхлебывать. Те, к кому несколько месяцев назад от обиды и раздражения занесло Петра, очень ему помогли. И теперь его долг «вновь обретенным братьям» достигал такой цифры, что при одной мысли об этом молодого человека прошибал холодный пот. Он знал, что загнан в угол, а кроме того, просто боялся, зная, что новые «соотечественники» шутить не любят и при малейших признаках бунта ему, Петру Милукину, вероятно, придется совершить выдающийся кувырок в Темзу и побить все рекорды погружения на глубину. Однако тот факт, что он осознал всю чудовищность совершенной глупости, ничуть не утешал Петра Сергеевича Милукина, или Гарри Комптона. Успокаивало лишь то, что за восемь месяцев в обмен на благодеяния от него ровно ничего не потребовали. Сперва он всерьез опасался, что новые друзья заставят его прикончить старого доброго Мака[44], подбросить бомбу в Палату общин или при всем честном народе оскорбить архиепископа Кентерберийского. Как видно, душа новоиспеченного советского шпиона слишком пропиталась мелкобуржуазным романтизмом. Со временем Гарри Комптон потихоньку уверовал, что СССР просто решил провести благотворительную акцию, взяв на вечный кошт любезного его сердцу Петра Сергеевича Милукина, который отказался от мнимых удовольствий капиталистического существования ради суровых будней коммуны. То, что этот выбор так и остался на уровне теории, молодого человека нисколько не волновало — ведь его новые друзья сами помешали ему вернуться на историческую родину.
Однако погружение в самоанализ никогда не приносило особого удовлетворения Гарри Комптону (именно так мы и станем называть его впредь), а потому он просто жил как живется, немного печалясь, что марксизм-ленинизм запрещает верить в Бога, хотя именно сейчас он особенно склонен оценить отеческую заботу Всевышнего.
9 часов 00 минут
Приехав в Адмиралтейство, сэр Реджинальд вздохнул. Здесь он вне пределов досягаемости Барбары. Поднимаясь к себе в кабинет, начальник сектора «Д», как это часто случалось с ним в последнее время, размышлял, как он будет жить, когда настанет время уйти в отставку, если, конечно, до тех пор Господь, по милосердию своему, не сделает его вдовцом. Потом, прежде чем вызвать обоих помощников — Герберта Рутланда и Дональда Фаррингтона, стал проглядывать бумаги, разложенные на столе секретаршей.
Этажом выше адмирал Норланд тяжело опустился в кресло. Губы его горько кривились, сердце давила тоска — адмирал все никак не мог пережить, что больше не уйдет в плавание. Из окна кабинета он смотрел в небо поверх крыш и старался представить себе, будто по-прежнему стоит на мостике «Отважного». Наблюдая за движением облаков над столицей, старик вычислял силу ветра, а когда сильно задувало с юга, он распахивал окно настежь, надеясь уловить отдаленное дыхание моря. Адмирал и мысли не допускал, что возраст, хотя бы теоретически, может взять верх над ним и над его страстью к флоту. И вот, чтобы по-прежнему слышать словечки, без которых не мог обойтись, и постоянно видеть милую сердцу морскую форму, Норланд бросил якорь в Адмиралтействе, и каждое утро он воображал, будто явился туда за приказом отправиться в дальнее плавание. А в Грейвсенде его жена, затворившись в похожей на музей комнате, напоенной разными восточными ароматами, мирно грезила об ослепительных небесах Востока, не замечая туманов Темзы.
Сэр Реджинальд Демфри, не обнаружив в бумагах ничего примечательного или хотя бы срочного, собирался было вызвать помощников, но секретарша сообщила, что его немедленно хочет видеть адмирал Норланд.
Старик Норланд, с его потемневшей и задубевшей от морской воды кожей, напоминал отставного чемпиона по вольной борьбе. Он протянул Демфри широкую, как валек прачки, ладонь.
— Ну, Реджинальд, как дела?
— Благодарю вас, сэр, прекрасно.
— Хорошо… Садитесь… Вы в точности выполнили все мои указания насчет «Лавины»?
Прежде чем ответить, сэр Демфри с тревогой посмотрел на высокого, крепкого мужчину, сидевшего в кресле у окна.
Адмирал заметил его взгляд.
— Извините, совсем забыл вас познакомить! — воскликнул он. — Инспектор Эверетт Картрайт из Интеллидженс Сервис. Сэр Реджинальд Демфри, начальник сектора «Д». Именно в его сейфах хранится досье «Лавина»… И это, должен признать, удовольствие ниже среднего!
Демфри вздохнул. Ему и в самом деле не доставляло никакого удовольствия отвечать за «Лавину» — план мобилизации всех флотов НАТО, который русские с наслаждением полистали бы, чтоб выяснить, какие именно цели первыми попадут под обстрел союзнических кораблей в случае всемирной заварушки.
— Да, сэр. Уйдя от вас вчера утром, я сообщил всем своим подчиненным — помощникам, двум личным секретаршам, а также секретаршам помощников, что забираю досье «Лавина» домой, где никому не придет в голову его искать… По крайней мере, будем надеяться.
Сдержанный вздох сэра Реджинальда позабавил адмирала.
— Не стоит так нервничать, Реджинальд! Досье, которое лежит у вас в Кенсингтоне, — фальшивка. Но уж об этом — никому ни слова, ладно?
Демфри вдруг показалось, что небо неожиданно просветлело.
— Счастлив слышать, сэр! Но тогда я не понимаю, зачем понадобилось столько сложностей?
— Чтобы у вас его украли, Реджинальд.
— Что?
Адмирал повернулся к представителю Интеллидженс Сервис.
— Объясните ему, Картрайт.
— Двойной агент продал нам ценное сообщение. Стоило это очень дорого, но информация оказалась верной. Судя по всему, русские решили любой ценой заполучить «Лавину». Люди, которым это поручено, нам хорошо известны. Все это старые знакомцы, которых мы нарочно оставили в покое из опасения, что их заменят новыми, на сей раз темными лошадками. Однако, похоже, они собираются возложить попытку похищения на новичка, надеясь таким образом усыпить наши подозрения. К счастью, я думаю, что благодаря счастливому стечению обстоятельств и бдительности наших агентов в Бристоле мы знаем, о ком идет речь. Следовательно, у нас немало шансов не только обезвредить молодого человека, но и добраться через него до главарей.
— Но вы, кажется, только что утверждали, будто и так все о них знаете?
— Точнее, сэр, нам бы хотелось поймать главную фигуру советской шпионской сети в Лондоне. До сих пор, невзирая на все усилия, нам не удалось узнать об этом человеке ровным счетом ничего. Никто из наших агентов его не видел. Известно лишь, что существует некий «номер первый». А кроме того…
Полицейский умолк, словно не решаясь продолжать. Однако заметив ободряющий взгляд адмирала, он снова заговорил:
— А кроме того, сэр, нам очень хотелось бы обнаружить, кто именно из ваших служащих — предатель, и обезвредить его.
Демфри так потрясло это заявление, что сначала он просто остолбенел. Потом к лицу прихлынула кровь, и сэр Реджинальд уже собирался растолковать этому полицейскому, что он думает о подобной наглости, как вдруг вмешался Норланд:
— Спокойно, Реджинальд! Я, вернее, мы с Картрайтом хорошо понимаем ваше волнение, но, к несчастью, он сказал чистую правду… Русские уже знают, что вы храните «Лавину» у себя в Кенсингтоне.
Демфри с удрученным видом повернулся к инспектору. Тот кивнул:
— У нас тоже есть свои люди на другой стороне, сэр.
— Но, в конце-то концов, это просто невероятно! Мне известна вся подноготная Рутланда и Фаррингтона!
— У вас работают не только они, сэр… И потом, тщательное расследование показало, что, хоть Герберт Рутланд и экономит каждый пенс, у него масса денежных трудностей, а его жена очень много проигрывает в карты… А что до его коллеги Дональда Фаррингтона, то он вообще живет не по средствам…
— Вы не сообщили мне ничего нового! Я отлично знаю, что бедняжка Марджори не в силах противиться соблазну, а Дональду никогда не удалось бы сводить концы с концами, если бы не помощь дядюшки Дороти…
— К несчастью, сэр, у миссис Рутланд куда более крупные долги, чем воображает ее муж, но мало-помалу она их выплачивает, хотя никакого личного состояния у нее нет. А у Дороти Фаррингтон вообще никогда не было дяди… Однако некий джентльмен и в самом деле ежемесячно переводит ей из Ирландии сто пятьдесят фунтов… Любопытно, что Фаррингтоны ни разу не ездили к нему в гости, ссылаясь на то, что «дядя» якобы не одобряет брака «племянницы».
Демфри покраснел.
— Возможно, у этого человека есть какие-нибудь причины быть щедрым с Дороти… причины, которые нас вовсе не касаются…
— Да, такая возможность существует, сэр, но нас, увы, касается решительно все… точнее говоря, наша работа в основном из того и состоит, что приходится совать нос в дела, которые не имеют к нам отношения, по крайней мере теоретически…
Почувствовав, что атмосфера накаляется, Норланд решил положить конец разговору.
— Как и вы, Реджинальд, я от всей души желаю, чтобы Фаррингтон и Рутланд оказались вне подозрений, но пожелание — еще не уверенность. Итак, вы предупреждены. Но не показывайте своих истинных чувств и продолжайте играть роль, как я вас уже просил. Более того, джентльменов из Интеллидженс Сервис очень устроило бы, если бы вы постарались несколько облегчить задачу нашим противникам…
— Каким же образом?
— Например, устроив у себя прием в ближайшие несколько дней. Разумеется, все расходы оплатит казначейство… Подумайте, может, припомните какое-нибудь событие или дату, которую можно бы отметить?
— Боюсь, вы застали меня врасплох, сэр… А, погодите… Скоро тридцать лет, как я женат… Но, по правде говоря, я вовсе не собирался праздновать годовщину того далекого дня…
Адмирал долго смеялся.
— Реджинальд, вы неподражаемы!.. Умора, да и только!.. Но вы все же отпразднуете это тридцатилетие, и леди Демфри первая удивится… и придет в восторг! Уж в этом я не сомневаюсь! Не забудьте сообщить ей приятную новость сегодня же за ленчем и воспользуйтесь случаем рассказать о досье «Лавина» и ей тоже.
Демфри встал.
— Вы хотите сказать, сэр, что подозреваете и мою жену в…
— Нет-нет! Бог свидетель, ничего подобного, Реджинальд! Но у вашей Барбары такой язычок… А коль скоро бабская болтовня может хоть раз принести пользу, нельзя упускать такой случай!
10 часов 00 минут
Гарри Комптон никак не решался вылезти из постели. Разнежившись, он думал, что во второй половине дня непременно погуляет на солнышке. И почему бы мисс Лайтфизер не составить ему компанию? Правда, для этого надо еще ее пригласить, а сначала — познакомиться. А вот на это-то Гарри все никак не мог решиться. По правде говоря, сам того пока толком не понимая, он пал жертвой гнуснейшего из всех капиталистических вирусов — влюбился и мечтал подарить своей избраннице «роллс-ройс», норковое манто и виллу в Дорсете. Если бы о подобных мыслях узнали в окрестностях Кремля — его сочли бы безвозвратно потерянным. Настоящий советский человек имел бы право желать союза со столь прелестным созданием (по крайней мере, теоретически!), но лишь для того, чтобы предложить подруге стать примером для всего СССР либо произведя на свет рекордное число маленьких советских граждан обоего пола, либо возглавив список ударников-стахановцев.
Звонок в дверь отогнал приятные грезы, прозвучав в тишине субботнего утра подобно архангельским трубам на Страшном суде. Гарри долго соображал, что за незваный гость позволил себе беспокоить его в такой день, да еще в столь несуразное время. Однако прежде чем псевдо-Гарри успел найти ответ, в дверь снова позвонили, и на сей раз гораздо решительнее. Тогда он наконец решил открыть и увидел на пороге Тер-Багдасарьяна.
— Привет, Комптон… Надеюсь, вы один?
— Конечно… Входите.
Гость не заставил себя просить и с видом завоевателя ввалился в комнату. Плюхнувшись в кресло, он вытащил из кармана сигару и, откусив кончик, плюнул на ковер (к неимоверному ужасу Комптона, оставшегося в этом отношении истинным британцем).
— Выпить найдется? — спросил он, закурив.
— В такой час?
— А что, пить хочется только в определенное время?
Тер-Багдасарьян очень не нравился Гарри, но, увы, был его непосредственным шефом. Именно от армянина Комптон получал деньги, а следовательно, зависел.
— Давненько я вас не видел, Гарри!
— А зачем бы я стал зря мозолить вам глаза?
— Что ж, я очень ценю вашу скромность… но, полагаю, вы не думаете, будто Советский Союз перевернул весь мир и вселил в сердца угнетенных известную вам надежду с единственной целью держать вас в праздности?
— Разумеется, нет!
— Вот и отлично. Гарри, я пришел сообщить, что вам оказывают великую честь! Итак, вам представился случай расплатиться разом со всеми долгами и благодаря своим собственным достоинствам проложить себе прямую дорогу в Москву!
Восемь месяцев назад подобное сообщение преисполнило бы Гарри Комптона живейшего восторга. Но сегодня, став гораздо более подозрительным, он угадал, что это лишь вступление к целой серии крупных неприятностей.
— Я вас слушаю.
— Вам известны — по крайней мере из газет — милитаристские намерения западного блока. Весь Запад только и делает, что готовит планы нападения на СССР.
— А?
— Как так — «а»? Можно подумать, я рассказал вам что-то новое!
— Нет, конечно, но политика меня не интересует.
Чтобы оправиться от потрясения, армянину пришлось хлебнуть виски.
— Такое безразличие к величайшим проблемам момента, возможно, свидетельствует о том, что ваш мозг затронула гангрена мелкобуржуазности, но я предпочитаю думать, что вы принадлежите к числу беззаветно храбрых людей, всегда готовых повиноваться без лишних рассуждений. Так?
Гарри счел, что с его стороны было бы весьма опрометчиво разубеждать Тер-Багдасарьяна, и тот продолжал:
— Вы не можете не знать, что в НАТО британцы специализируются на разработке стратегии морских операций. И вот нам стало известно, что они разработали план нападения на наши базы. План этот называется «Лавина».
— Ну и что?
— Мы рассчитываем, что вы нам его раздобудете.
— Я?
— Вы!
— Но… как же, по-вашему, я это сделаю?
— А уж это, дорогой мой, решать вам самому… Мы стараемся предоставить своим агентам максимальную свободу. Инициатива — великая вещь!
Немного помолчав, армянин вкрадчиво добавил:
— А вы ведь один из наших агентов, дорогой Гарри, и, я уверен, в Интеллидженс Сервис были бы очень счастливы об этом узнать, что непременно случится, если вы откажетесь выполнить возложенную на вас миссию.
Это замечание в очередной раз убедило Комптона, что он еще не раз горько пожалеет о своем решении перейти в лагерь противника.
— Короче, Багдасарьян, насколько я вас понял, мне остается всего-навсего пойти в Адмиралтейство. Там у первого попавшегося чиновника спросить, где хранится план «Лавина» и, так или иначе прибрав его к рукам, притащить к вам в ресторан как особо лакомую закуску! Так, что ли?
Армянин очень некрасиво выругался, но, к счастью, на совершенно незнакомом Гарри Комптону языке.
— Если вы намерены поиздеваться надо мной, Гарри Комптон, и в моем лице оскорбить весь Советский Союз, лучше поторопитесь написать завещание!
Этот совет с намеком на самые мрачные перспективы чрезвычайно не понравился Гарри. Армянин встал.
— Мы не любим ни хвастунов, ни трусов, ни пустозвонов, Комптон! И считайте, что я вас уже предупредил!
— Вы совершенно правы…
Столь неожиданное одобрение несколько сбило Багдасарьяна с толку, а Гарри тут же воспользовался его замешательством:
— Может, объясните поточнее, чего именно вы от меня ожидаете?
Армянин со вздохом облегчения снова опустился на стул.
— Вот такие речи мне куда больше по вкусу! Не забудьте, что я отвечаю за все ваши действия и ваш провал мог бы навлечь крупные неприятности и на мою голову… Так что можете не сомневаться, я позабочусь, чтобы вы не разочаровали наше начальство… Разумеется, никому бы и в голову не пришло требовать от начинающего агента такого подвига, как нападение на Адмиралтейство. Нам стало известно, что сэр Реджинальд Демфри унес план «Лавина» к себе домой, в Кенсингтон. Адрес — Де Вере Гарденс, пятьдесят три. Ваша задача — тем или иным образом проникнуть в особняк, попытаться обнаружить место, где сэр Реджинальд хранит досье, и забрать его. Видите, как все просто?
— Но как же я это сделаю? Я не только не знаком с сэром Реджинальдом Демфри, но и не вижу ни малейших шансов с ним познакомиться!
— Это меня не волнует. Хорошего агента подобные пустяки не остановят. При вашей внешности можно найти тысячу и один способ войти в семью…
— Вы очень любезны!
— Миссис Демфри — бывшая танцовщица мюзик-холла… Есть горничная… кухарка… Короче, довольно, чтобы оказаться на месте и раздобыть необходимые нам сведения. Ошиваться возле Адмиралтейства, где, надо думать, все начеку, бессмысленно, а потому вам лучше как можно скорее отправиться в Кенсингтон, изучить местность и приступить к расследованию.
— Согласен.
Раз от него пока не требовали с револьвером в руке штурмовать Адмиралтейство, Гарри не стал возражать. Не говоря о том, что задача соблазнить миссис Демфри, горничную или кухарку на первый взгляд отнюдь не выглядела неприятной. А потому свидание с Тер-Багдасарьяном закончилось много лучше, чем можно было подумать сначала.
— Вы, естественно, должны постоянно держать меня в курсе дела, чтобы я мог докладывать куда следует. Но без крайней нужды ко мне в ресторан не приходите. Во время задания агенту следует сократить контакты, если не прервать их вовсе. А потом, если вы провалитесь, не стоит тянуть за собой и других, верно?
Такая перспектива отнюдь не радовала Комптона, но он все же заставил себя улыбнуться, чтобы продемонстрировать Тер-Багдасарьяну силу духа. Тот, уже совершенно успокоившись, протянул руку.
— Желаю успеха, товарищ! Я уверен, что вы не обманете нашего доверия!
— Я тоже в этом уверен и готов биться за Бога и за царя!
Столь странное и несколько анахроничное кредо произвело на Тер-Багдасарьяна такое же впечатление, как удар тарана в самое сердце. На мгновение он окаменел, открыв рот и не в силах произнести ни звука.
— Что… что такое… вы сказали? — наконец выдавил он из себя.
Тут до Гарри дошло, какую он сморозил глупость. А все из-за того, что вчера смотрел в кино «Михаила Строгова» с Куртом Юргенсом в главной роли. Комптон считал, что очень похож на этого актера, а потому пробовал подражать его походке и манере говорить — по крайней мере в фильмах. И вот как эта невинная забава неожиданно его подвела! Трудно объяснить такую штуку Тер-Багдасарьяну, который уже почувствовал в услышанном восклицании гибельную склонность к монархизму! И Гарри предпочел схитрить.
— Простите, это любимая поговорка моего отца… так он высмеивал старые суеверия… Всякий раз, как ему приходилось заниматься каким-нибудь не слишком приятным делом, он весело посвящал предстоящие труды Богу и царю. У каждого — свой способ бороться со старым режимом…
Все это показалось Тер-Багдасарьяну несколько притянутым за уши, и он долго сверлил Гарри недоверчивым, подозрительным взглядом.
— Возможно… Но от души советую вам бросить такие привычки… Вас могут неправильно понять!
Комптон проводил гостя до двери. Уже на пороге армянин вытащил из кармана бумагу.
— Чуть не забыл… Вот сведения, которые могут облегчить вам задачу… Сэру Реджинальду Демфри пятьдесят восемь лет… Вроде бы никаких дурных пристрастий за ним не водится… Его жене Барбаре, бывшей звезде «Шепердс Буш Эмпайр», скоро исполнится пятьдесят два года…
Комптон тут же оставил мысль соблазнить Барбару Демфри и решил, что проверит силу своего обаяния на прислуге.
— Кухарке Маргарет Мод Смит пятьдесят один год… По слухам, весьма любезна… — продолжал Тер-Багдасарьян.
У Гарри подкосились ноги.
— И, наконец, Розмери Крэпет, горничная. Сорок лет… Лицо не слишком привлекательно, зато очень приятный голос…
Издевается он, что ли? Чего бедняга Гарри сможет добиться от всех этих пожилых дам?
— Я мог бы назвать еще и Уильяма Серджона, шофера, но он не живет в доме. О нем тоже ничего интересного не говорят. Образцовый слуга. Типичный прислужник капитализма! Ну, вот и все. Теперь я вам все разжевал и поднес на блюдечке, осталось проглотить. И считайте, что вы везунчик!
Глядя на широкую спину спускающегося по лестнице Тер-Багдасарьяна, Гарри испытывал такое желание его прикончить, что у него мучительно заныли все мышцы.
10 часов 30 минут
Сэр Реджинальд Демфри вернулся к себе в кабинет глубоко потрясенный разговором с адмиралом и этим настолько рехнувшимся полицейским, чтобы заподозрить в измене Рутланда или Фаррингтона! Досадно, конечно, что Марджори не в состоянии справиться со своей страстью к картам, но почему бы просто-напросто не спросить у нее, каким образом ей удается расплачиваться с долгами? Что за дурацкая манера все усложнять! А насчет Дороти… У того ирландского джентльмена вполне могут быть по отношению к ней какие-то обязательства, и это не касается никого, кроме мужа… А раз у Дональда нет возражений, по какому праву этот инспектор сует нос в чужие дела?
Грустный Герберт Рутланд ожидал сэра Реджинальда Демфри, чтобы поведать обо всех последних неприятностях по службе. По странной прихоти случая неприятные новости всегда сообщал именно Рутланд. Казалось, это доставляет ему удовольствие, как будто среди чужих ошибок, огрехов и провинностей бедняга находился в привычной стихии, в то время как Дональд Фаррингтон, наоборот, со свойственным ему оптимизмом, всегда преуменьшал любые беды и старался выделить то, что помогало видеть будущее в розовом свете.
Герберт доложил об исчезновении одного из служащих. Тот уже три дня не являлся на работу и не подавал никаких признаков жизни. Отправленный к нему на дом детектив нашел лишь домовладелицу, и та поведала, что ее жилец — некий Патрик Муллой, холостяк, — не появлялся дома с тех самых пор, как без предупреждения не пришел в Адмиралтейство. Из всего этого Рутланд сделал вывод, что Муллой — вражеский агент, проникший в службы сектора «Д» для рекогносцировки. И теперь он подумывал, не надо ли изменить шифры всех сейфов и сменить замки на дверях, хотя подобная акция, несомненно, создаст множество хлопот персоналу и вызовет дополнительные траты. Изрядно раздосадованный сэр Реджинальд не знал, какое принять решение, ибо, несмотря не некоторое предубеждение против Рутланда, он должен был признать, что тот рассуждал очень логично и его мрачные прогнозы производили сильное впечатление. Тут-то и появился как всегда элегантный и как всегда улыбающийся Дональд Фаррингтон. Узнав о происшествии, он рассмеялся и весело сообщил, что Патрик Муллой попал в аварию, катаясь на мотоцикле в окрестностях Уилтшира, и пребывает сейчас в одной из больниц Солсбери. Местная полиция направила в Адмиралтейство извещение, но Фаррингтон, не подозревая, какие сомнения гложут его почтенного коллегу Герберта Рутланда, позабыл об этом сообщить. Помощники сэра Реджинальда не особенно любили друг друга и не упускали случая обменяться ядовитыми замечаниями, правда, в самой вежливой форме. В этой игре верх обычно одерживал Рутланд.
Когда Герберт ушел искать временную замену Муллою и звонить в больницу Солсбери, сэр Реджинальд устроил его коллеге хорошую головомойку. Он заявил, что не потерпит подобной небрежности и что на секторе «Д» лежит слишком большая ответственность, а потому малейшее отклонение от требований регламента совершенно недопустимо. Служба в целом — главная пружина Национальной безопасности, у каждого ее витка — своя роль, свои важные задачи, и никто не имеет права с этим не считаться, не рискуя изменить долгу. Почтительно выслушав нотацию шефа, Дональд вздохнул — все-таки Дороти совершенно права, упрекая его в недостатке серьезности и легкомыслии, совершенно не подобающем ни его возрасту, ни положению. И все это — потому, что Дональд никак не мог заставить себя возиться с каждым пустяком и охотно предоставлял эту заботу своему коллеге Рутланду. Что верно — то верно. Зато Фаррингтон обладал редкостным талантом к обобщению, что позволяло сэру Реджинальду Демфри всего на нескольких страницах излагать запутаннейшие международные проблемы. Наверху ему за это выражали благодарность, но вся заслуга принадлежала, бесспорно, Дональду. Кроме того, сэру Реджинальду очень нравилась Дороти, напоминавшая ему Барбару времен «Шепердс Буш Эмпайр», когда он еще мог воображать, будто из нее получится очаровательнейшая спутница жизни.
— Кстати, Дональд, мы с женой устраиваем прием… Хотим отметить тридцатилетие со дня свадьбы…
— Мои поздравления, сэр…
Сэр Реджинальд смерил его недовольным взглядом.
— Оставьте иронию для другого случая, Фаррингтон! В любом случае, я рассчитываю увидеть вас с Дороти… Вряд ли получится очень весело, но я все-таки очень хочу, чтобы вы пришли засвидетельствовать дружеское участие и преданность. Кстати, не забыть бы сообщить о приеме Рутланду…
11 часов 00 минут
Оставшись в одиночестве, Гарри совсем приуныл и растерялся. Больше всего его раздражало, что обвинить во всех грядущих неурядицах можно было лишь самого себя. Молодой человек обвел увлажнившимся взором привычную обстановку комнаты. Литографии, изображавшие победу англичан над бурами, вид на Йоркский собор и цветная репродукция Брайтона его умиляли. Казалось, здесь, в этих традиционных уродствах, равно как и в клейком порридже, который, несмотря на поздний час, готовила ему милейшая миссис Пемсбоди, как и в яйце с чуть подрумяненным белком, лежащем на ломтике слишком жирного бекона, сконцентрировалось нечто такое, на чем испокон веков стоит старая Англия. А к ней Комптон начинал испытывать все большую привязанность.
Выйдя из дому и оказавшись на мирной Тэвисток-сквер, Гарри почувствовал непреодолимое желание прогуляться в Кенсингтон пешком. Ему хотелось насладиться английской атмосферой, ставшей еще дороже после свидания с армянином, а заодно переварить порридж и яичницу с ветчиной миссис Пемсбоди. Сжимая в руке кейс с бумагами торговой фирмы, молодой человек двинулся по бесконечно длинной Оксфорд-стрит. По дороге он не преминул поклониться Британскому музею, один вид которого наполнял его сердце беспредельной и откровенной антимарксистской гордостью. Оказавшись у северной границы Сохо, Гарри снова подумал о Багдасарьяне и невольно ускорил шаг, словно боялся, что армянин его догонит. Однако, миновав Риджентс-стрит, молодой человек опять пошел прогулочным шагом, как праздный гуляка, жаждущий в полной мере оценить столь редкостное явление, как солнце, подрумянивающее Лондон, словно огромный пирог для какого-нибудь Гаргантюа. В Мабл Арч Гарри пошел через Гайд-парк, где первые ораторы уже успели собрать по нескольку слушателей. Комптон прогулялся вдоль Александра-гейт и вышел к Де Вере Гарденс. Строгая красота особняка, где обитал сэр Реджинальд Демфри, радовала глаз, но уязвленный острой завистью Гарри вдруг снова на мгновение ощутил себя представителем марксистского лагеря, а потому кнопку звонка нажала рука убежденного антикапиталиста. Теперь его унижала сама надпись у черного хода: «Для прислуги». Открыла добродушная дурнушка, и Комптон решил, что это, должно быть, Розмери Крэпет. Безнадега… С самым мрачным видом он попросил разрешения видеть кухарку, миссис Смит. Горничная проводила его в подвал, к преддверию храма, единственной и всемогущей жрицей которого являлась Маргарет Мод.
— Миссис Смит… к вам гость!
Розмери подтолкнула Гарри вперед и быстренько ретировалась.
— Ну, кто там еще? — буркнула занятая приготовлением соуса кухарка.
— Миссис Смит… Я… Меня зовут… короче, это не важно… Я…
Миссис Смит отодвинула кастрюлю и, медленно развернув могучий торс, поглядела на Гарри.
— Да скажете вы наконец, чего вам от меня надо?
— Да, конечно… Для этого я и пришел, верно? А стало быть…
— Стало быть… что?
Комптон совсем растерялся. Эта женщина просто парализовала его. Во всяком случае, насчет «любезности» миссис Смит Багдасарьяна жестоко обманули!
— Я представляю интересы…
— Вон!
— Но, миссис Смит…
— Я сказала: вон отсюда! Не желаю видеть никаких представителей чего бы то ни было! Я презираю это племя! Всех вас давно следовало бы посадить в тюрьму!
— Но, миссис Смит… это… это вполне законная профессия…
— А я ее не признаю! Ну, живо убирайтесь или я позову Серджона!
— В чем дело, миссис Смит? Этот тип посмел вам надоедать?
На пороге кухни вырос громадный, как деревенский шкаф, детина. Увидев его, кухарка облегченно вздохнула.
— А, мистер Серджон! Спросите-ка у этого парня, что ему здесь понадобилось.
Шофер окинул Комптона тяжелым взглядом любителя джина.
— Ну, слыхали?
— Я… я позволил себе… прийти предложить миссис Смит… новую марку кукурузных хлопьев. Наша фирма получила исключительные права в Лондоне и его окрестностях… и…
— Знайте, молодой человек, что я уже много лет пользуюсь только одной маркой кукурузных хлопьев, и не какому-то ветрогону вроде вас заставить меня изменить мнение!
Серджон опустил тяжелую лапищу на плечо Гарри.
— Теперь вы знаете, что думает о ваших хлопьях миссис Смит, а она, должен заметить, женщина с прекрасным вкусом…
— Спасибо, мистер Серджон! — прокудахтала Маргарет Мод.
— Пустяки, миссис Смит… А вы, молодой человек, поторапливайтесь, или я помогу!
Комптон не заставил его повторять совет дважды. Он живо вскарабкался на первый этаж и уже на пороге услышал последнее напутствие шедшего следом Серджона:
— И не вздумайте ошиваться возле дома, молодой человек, а то как бы вам не угодить в крайне неприятный переплет!
Дверь закрылась, и Гарри пришлось признать, что его первые шаги на пути шпионажа оказались далеко не блестящими. Более того, из-за скверного характера Маргарет Мод Смит проблема чертовски осложняется: стоит теперь подойти к дому пятьдесят три по Де Вере Гарденс, как его мигом засекут. А это далеко не лучшее, о чем может мечтать шпион!
Суббота, вечер 12 часов 30 минут
Раздосадованный Гарри Комптон, все больше проникаясь антикапиталистическими настроениями и проклиная упрямство британских слуг, сел в метро на станции Саус Кенсингтон. Будущее рисовалось в самых мрачных тонах. Гарри получил явное доказательство, что никогда не сможет проникнуть в жилище Демфри или найти там хоть одного союзника. Соваться в Адмиралтейство тоже бесполезно — наверняка там у каждой двери и на каждом углу по десять полицейских! Нет, положа руку на сердце, эта партия явно ему не по зубам. И Комптон решил сегодня же вечером высказать все Тер-Багдасарьяну. А там — будь что будет… Приняв решение, он было успокоился, но спокойствие быстро сменила тревога. Гарри ведь не мог не догадываться, что именно произойдет потом… Меж тем он полагал, что умирать рановато, да еще и таким скверным образом. На мгновение молодой человек призадумался, не пойти ли в Ярд и не рассказать ли обо всем полицейским Ее Величества. Возможно, там его возьмут под защиту, хотя и не преминут отправить в Дартмур[45] размышлять об опасностях, коим подвергается гражданин, предавая свою страну. Нет, как ни вертись, перспективы выглядели весьма безрадостно, однако Гарри было всего двадцать восемь лет, а потому никакие треволнения не могли лишить его аппетита. И Комптон, как всегда, по холостяцкой привычке, направился к маленькому ресторанчику на Стекли-стрит.
По мере приближения к Стекли-стрит все заботы улетучивались, и молодого человека стало охватывать даже некое радостное возбуждение. Гарри не сразу сообразил, в чем дело, но потом вдруг понял, что просто надеется снова увидеть в ресторанчике очаровательную незнакомку, к которой до сих пор так и не осмелился подойти. В двадцать восемь лет любовь гораздо важнее смерти, и раз уж Комптон считал, что может в ближайшие дни исчезнуть с лица земли по милости своих советских или просоветских «друзей», лучше использовать оставшееся время с максимальным толком, даже с риском получить от ворот поворот. Войдя в ресторан, Гарри сразу увидел мисс Лайтфизер и понял, что настал решающий день. Итак, сегодня или никогда!
Столик Комптона всегда обслуживала Элинор — уже не первой молодости, слегка поблекшая официантка. На правах старого клиента Гарри поверял ей свои сомнения насчет того, как воспримет его смелый шаг прелестная незнакомка. Элинор привыкла к подобным историям и была твердо убеждена, что молодые люди напрасно поднимают такой шум из-за самых обычных и естественных вещей.
— Вы знаете, чем она занимается, Элинор?
— Нет… хотя уже довольно давно сюда захаживает… Наверное, швея или что-то вроде того… Я часто вижу ее с одежными картонками. По-моему, барышня работает где-то неподалеку либо на хозяина, либо самостоятельно…
— Элинор… вас не очень затруднит спросить, не позволит ли она угостить ее десертом?
— По-вашему, мне подобает заниматься таким ремеслом?
— Скажите, что у меня произошло очень радостное событие, но, поскольку я один как перст, мне не с кем разделить свою радость.
— Продолжайте в том же духе — и я сейчас заплачу. Ладно уж, попробую вам помочь, если смогу…
Теперь, когда первый шаг сделан, у Гарри от волнения подступил комок к горлу. Он уже больше не думал ни о Тер-Багдасарьяне, ни о Демфри, а досье «Лавина» казалось ничего не значащим пустяком. Для него не существовало в мире ничего, кроме этой очаровательной темноволосой девушки с большими зелеными глазами и ее улыбки. Наверняка — дивное создание! Ожидая, пока решится его судьба, Гарри пытался угадать, как зовут незнакомку. Может быть, Одри? Или Кэтрин? Пожалуй, ей вполне подошло бы имя Марджори… Да и Джоан — совсем не плохо… Заметив, что Элинор наклонилась к девушке, Комптон на мгновение перестал дышать… А потом он услышал смех и сразу успокоился. Официантка вернулась к его столику и сообщила, что барышня считает его джентльменом и готова разделить с ним десерт, но за свою порцию заплатит сама, потому как уже вышла из детского возраста.
— Задание выполнено, командир! Теперь дело за вами.
Во время войны Элинор служила в женском батальоне и некоторые замашки сохранила с тех пор. Гарри улыбнулся девушке, которой намеревался без зазрения совести вскружить голову, и получил в ответ такую же многообещающую улыбку. Если бы сейчас какой-нибудь гад вздумал поговорить с Комптоном о Тер-Багдасарьяне и досье «Лавина», молодой человек совершенно искренне ответил бы, что не имеет ни малейшего понятия, о чем речь. Зарождающуюся великую страсть всегда можно узнать по ее исключительному, всепоглощающему характеру.
Вблизи девушка показалась ему еще красивее. Слегка вьющиеся темные волосы придавали ей сходство с пажом. Большие зеленые глаза, казалось, освещают это полное очарования личико. Красавицей в классическом смысле слова ее, пожалуй, не назовешь, но весь облик девушки дышал какой-то неизъяснимой, своеобразной прелестью. Но вот смех ее совсем не гармонировал со всем прочим. Говоря по совести, это очаровательное дитя испускало совершенно идиотское, дребезжащее хихиканье. И это производило весьма досадное впечатление. Отвесив легкий поклон и услышав в ответ что-то вроде радостного блеяния, Комптон почувствовал себя глубоко уязвленным, словно у него на глазах совершилась величайшая несправедливость, и он твердо решил излечить свою избранницу от такого уродства.
— С вашей стороны, мисс, было очень любезно согласиться разделить общество скучающего молодого человека…
— Представьте себе, я тоже ужасно скучала… так уж лучше на пару, верно?
— Я уверен, что с вами мне никогда больше не придется скучать!
— Вот как? А почему?
Гарри терпеть не мог такого рода вопросов, ибо своей прямотой и будничностью они мгновенно обращают в ничто весь арсенал соблазнителя, а потому молодой человек предпочел не отвечать.
— Вы позволите мне сесть напротив вас?
— Для того вы и пришли, разве нет?
Невероятно! Нарочно она, что ли?
Подошла Элинор.
— Ну, что вы хотите на десерт?
Девушка решительно сделала выбор, прежде чем Гарри успел галантно повторить вопрос.
— Я видела в меню appele hedghog[46]…
— Да, мисс.
— Вот и принесите мне его, хорошо?
Комптон из вежливости заказал то же самое, а потом с легким отвращением наблюдал, как девушка, которую он в глубине души уже называл любимой, с жадностью поедает любимое лакомство. Но Гарри слишком долго прокорпел над марксистскими теориями, чтобы не
запомнить хотя бы одно: никогда нельзя слишком доверять внешним проявлениям.
— Вы… вы не замужем, правда?
Некоторое время девушка молча смотрела на Гарри, как будто пытаясь понять, уж не издевается ли над ней молодой человек, но, убедившись в его невиновности, захихикала.
— Будь я замужем, сидела бы тут со своим мужем, а не с вами!
— Знаете, некоторым женщинам приходится надолго оставаться в одиночестве, поскольку работа мужа требует постоянных разъездов.
— Например, моей тете Луизе…
— Правда?
— Мой дядя Питер много путешествует и почти не бывает дома.
— Дипломат, наверное?
— Нет, проводник в спальном вагоне.
Это выглядело куда менее изысканно, но зато гораздо спокойнее. Забыв о дурацком смехе и не слишком эстетичной манере есть «яблочных ежиков», Комптон решил начать большую игру, поскольку, несмотря на все свои недостатки, девушка нравилась ему все больше и больше. Пользуясь испытанной тактикой, он намеревался сначала назвать свое имя, потом спросить, как зовут девушку, а потом перейти к ловким и нежным вариациям на тему, как бы невзначай припомнив, что так звали одну его знакомую, которая якобы скончалась от горя, потому что ее любимый не вернулся из долгого путешествия куда-то в Южную Америку. Эта история всегда производила нужное впечатление, поскольку слушательницы Гарри, потрясенные подобным постоянством, жалели лишь о том, что им самим не представилось случая продемонстрировать столь же несокрушимую верность (ни одна из них ни разу не усомнилась, что способна на это), и настолько отождествляли себя с тихо угасшей от любви героиней, что и не думали требовать подробностей.
— Меня зовут Комптон… Гарри Комптон… Я торговый представитель…
— Это очень хорошо.
— Простите, не понял…
— Я говорю, это очень хорошо.
— Извините, но что именно хорошо?
— Быть торговым представителем.
— Вы находите?
Гарри никогда бы и в голову не пришло, что подобная работа может кому-то нравиться, но такой пустяк его, конечно, не остановил.
— А вы, мисс… Могу я позволить себе спросить ваше имя? Нет, погодите! Можно, я попробую угадать?
— Пожалуйста!
— Одри?
— Нет!
— Марджори?
— Нет!
— Джоан?
— Нет!
Комптон перебрал одно за другим все известные ему женские имена, но девушка всякий раз только качала головой. Наконец, отчаявшись найти нужное, он перестал гадать.
— Сдаюсь!
— Пенелопа.
— Что?..
— Пенелопа.
Ну, это уж слишком! Пенелопа! Да никогда в жизни он не осмелится сказать, будто знал особу с таким именем!
— Пенелопа Лайтфизер.
— Пенелопа Лайтфизер, — повторил совершенно сбитый с толку молодой человек. — Нет, вы шутите?
По выражению лица девушки Гарри понял, что обидел ее, и попытался исправить оплошность.
— Я хочу сказать, что, наверное, вы меня разыгрываете… Такое… оригинальное имя, да еще в сочетании со столь… неожиданной фамилией… Можно подумать, принцесса из какой-нибудь древней легенды…
Лицо девушки сразу просветлело.
— Вам и в самом деле нравится имя Пенелопа? — с улыбкой спросила она.
Главное оружие любовной стратегии — ложь, и Гарри не стал нарушать традицию.
— Вы и представить себе не можете, до какой степени!
— Я очень рада, а потом, когда мы познакомимся поближе, я разрешу вам называть меня Пенни… Согласны?
— Еще бы! А кем вы работаете, мисс Лайтфизер?
— Я портниха… Я работаю тут неподалеку, на Монтегью-стрит, в ателье «Пирл и Клементин». В основном меня посылают к нашим самым богатым клиенткам подгонять одежду по фигуре… Не все ведь сложены, как манекенщицы, правда?
Невзирая на все свои старания, Гарри все больше поддавался странному очарованию Пенелопы. Он слушая всю эту чепуху и ему все больше и больше хотелось и хорошенько встряхнуть ее, и стать ее защитником и покровителем, и выдрать за уши, и расцеловать. Во всяком случае, у Комптона возникло явственное ощущение, что бедняжка Пенни явилась в наш мир совсем безоружной.
— Мисс Лайтфизер…
— Для начала можете называть меня Пенелопой.
— А вы будете звать меня Гарри, хорошо?
— Договорились.
— Пенелопа, сегодняшняя суббота — самая лучшая в моей жизни!
— Да, точно, Элинор сказала мне, что у вас произошло какое-то великое событие.
— Еще бы! Представьте себе, я встретил женщину, о которой всегда мечтал!
— Это чудесно!.. И где вы ее встретили, Гарри?
— Здесь!
— Здесь?.. Но когда же?
— А только что!
До Пенелопы не сразу дошло, что он имеет в виду.
— О! Вы это о… обо мне, Гарри?
И тут его понесло. С величайшим пылом молодой человек поведал, как давно он ее заметил, как в его сердце впервые проскользнула нежность, как вся его жизнь превратилась в ожидание безмолвных встреч за ленчем. Гарри объяснил, что уже отчаялся когда-либо набраться храбрости и заговорить и лишь сегодняшнее солнечное утро помогло ему отважиться просить Элинор прощупать почву. Пенелопа слушала, открыв от удивления рот, наконец, когда молодой человек умолк, она заметила:
— Не знаю, правда ли все, что вы мне наговорили, Гарри, но слушать это очень приятно…
Подобная наивность глубоко потрясла Комптона. Повинуясь благородному порыву сердца, он уже готов был отказаться от свободы ради мисс Лайтфизер, повести ее к алтарю (а еще лучше — позволить ей привести туда его) и самым законным образом наградить ей множеством маленьких Гарри и Пенелоп! Так, с удивительной непоследовательностью, свойственной романтическим душам, Комптон мечтал создать английскую семью, изменяя при этом Англии! Единственным оправданием молодому человеку может служить лишь то, что он напрочь забыл о прежних планах. Кто бы стал колебаться в выборе между Тер-Багдасарьяном и Пенелопой? И вообще, если не помечтать в субботу после полудня, то когда же?
— Пенелопа… Знали бы вы, сколько раз я приходил сюда по вечерам в надежде увидеть вас… Ваше отсутствие лишало меня аппетита, но, чтобы не огорчать Элинор, приходилось что-то заказывать и жевать без всякого удовольствия… Честное слово, Пенелопа, я и не подозревал, что любовь с первого взгляда может так плачевно сказываться на желудке!
— Простите меня, Гарри… но я не знала об этом… и потом, я живу далеко… слишком далеко, чтобы приходить сюда ужинать… Да и ужин я готовлю сама. Я живу за Парлиамент Хилл, на Саус Гроув. Прогулка нешуточная…
— Кстати, о прогулках, Пенелопа… сегодня суббота, и уже перевалило за полдень… Как вы посмотрите на то, чтобы пройтись вдвоем? День такой солнечный… Может, воспользуемся этим?
Слегка покраснев, девушка призналась, что мысль ей нравится. Но, к несчастью, ее ждет клиентка, и придется работать до самого вечера. Однако Гарри не желал смириться с обстоятельствами.
— У вашей клиентки есть телефон?
— Разумеется… она — из богатых.
— Так позвоните, что заболели!
— Но ведь это ложь!
— В некоторых случаях человек не только имеет право, но и обязан солгать!
— Вы и в самом деле так думаете?
— Конечно! А иначе зачем бы я стал это говорить?
Довод, очевидно, подействовал. Девушка, правда, еще пыталась возражать, но очень неуверенно.
— Если я позвоню и скажу, что больна, она сразу все поймет… Или начнет задавать вопросы, а я не сумею ответить…
— Хотите, я позвоню вместо вас?
— О, неужели у вас хватит смелости?
— Я представлюсь вашим врачом и скажу, что это я запрещаю вам сегодня выходить из дому.
В глазах девушки читалось глубочайшее восхищение.
— Ох, вы… ну надо ж, какой вы… — только и смогла пробормотать она.
Польщенный Гарри гордо выпрямился.
— Не будем терять время. Какой телефон у этой дамы?
— Кенсингтон, триста тридцать два — четыреста семьдесят восемь.
— Отлично!
Молодой человек встал и направился к телефонной будке, но внезапно развернулся и опять подошел к столику.
— Самое главное-то я и забыл! Как ее зовут?
— Леди Демфри… Миссис Барбара Демфри.
Комптон вряд ли испытал бы большее потрясение, даже если бы его хорошенько стукнули по голове колотушкой. Однако удивленный взгляд Пенелопы заставил его взять себя в руки и заговорить совершенно спокойным голосом.
— Так какое имя вы назвали?
— Леди Барбара Демфри.
Гарри повернулся на каблуках и снова пошел к автомату, бормоча про себя, что, каким бы ты ни был хитрецом, случай всегда окажется стократ хитрее.
Войдя в гостиную, где его дожидалась жена, сэр Реджинальд подумал, что издали она еще может произвести впечатление.
— Добрый день, Барбара… По-моему, вы в прекрасной форме. Я не ошибаюсь?
— Да, пожалуй, я чувствую себя вполне сносно, Редж.
— Счастлив слышать, дорогая, тем более что мне придется просить вас сделать над собой еще одно небольшое усилие.
Миссис Демфри сразу нахмурилась, предчувствуя какую-то неприятность.
— Вот как?
— Но успокойтесь, я уверен, что это не вызовет у вас отвращения.
— А в чем дело?
— Я бы с удовольствием выпил немного шерри… Будьте добры, позвоните Серджону.
— Пустяки! Я сама налью вам шерри, а вы тем временем объясните, о чем речь.
— Вам известно, Бэйб, что скоро исполнится ровно тридцать лет, с тех пор как я украл вас у сцены, попросив стать моей женой?
Вопрос так удивил леди Демфри, что она чуть не выронила бутылку.
— Редж!.. Что на вас нашло?
— Возможно, все дело в возрасте, дорогая… но я все чаще мысленно обращаюсь к прошлому…
— Может быть, вам следовало бы поговорить с врачом?
— Спасибо, не премину.
Ох уж эта старая добрая Бэйб! Как всегда, совершенно нечувствительна к нюансам… И Демфри уже в который раз без всякой надежды на успех попытался понять, что могло его так увлечь в этой высокой сухопарой женщине. Барбара протянула ему рюмку шерри, и он довольно лицемерно выпил за ее здоровье.
— Барбара, как вы смотрите на то, чтобы отметить годовщину нашей свадьбы?
Предложение привело миссис Демфри в восторг.
— О, Реджи, это замечательная мысль!
— Разумеется, в том, что касается расходов, я предоставлю вам полную свободу. Я хочу только, чтобы собралось побольше народу и угощение было достойно такого события.
— Положитесь на меня! И благодарю за доверие, Редж…
— Кому же мне доверять, как не вам, Бэйб? Кстати, в доказательство того, как я полагаюсь на вашу сдержанность, могу кое-что показать… Вон, видите, мой кейс? Там лежит досье с заманчивым названием «Лавина». Русские спят и видят, как бы его украсть!
— Но, послушайте, Реджи, это ведь не их собственность!
— Боюсь, подобные соображения их не остановят, Бэйб, и, если эти господа найдут способ добраться до бумаг, они их стащат!
— Какие ужасные люди!
— Это суждение свидетельствует о вашей удивительной наблюдательности, Бэйб. Пожалуй, я запру досье в сейф и сменю шифр. Послушайте, а что, если использовать ваше имя? По-моему, это будет весьма поэтично… Важную тайну охраняет женское имя, к тому же ваше!
— Ах, Реджи, вы просто прелесть!.. Но вернемся к нашему приему… Как вы думаете, я могу пригласить адмирала Норланда с супругой?
— Во всяком случае, попробуйте.
— Вероятно, мне следует также позвать ваших ближайших сотрудников?
— По-моему, вы просто не можете поступить иначе.
Леди Джемфри вздохнула.
— Как жаль, что у милейшего Дональда Фаррингтона такая заурядная жена…
Барбара терпеть не могла Дороти Фаррингтон, второразрядную провинциальную актрису, которую будущий муж подцепил то ли в Глазго, то ли в Абердине. Леди Демфри всегда казалось, что миссис Фаррингтон имеет наглость считать ее ровней. Ужасная наглость, особенно если вспомнить, чем был мюзик-холл в 1931 году, и сравнить с послевоенной дешевкой! И потом она, Барбара, как-никак танцевала в Лондоне! Зато Реджинальд глубоко ценил динамичного Дональда Фаррингтона и его неиссякающий оптимизм.
— Ох, если бы нашу кухарку нашла не миссис Фаррингтон, просто не знаю, сумела ли бы я выдержать ее присутствие…
— Послушайте, Бэйб… Вы настолько выше Дороти, что, право же, смешно равняться…
Видя, как надулась от спеси его глупая супруга, сэру Реджинальду страшно захотелось надавать ей пощечин.
— Вы правы, Реджи, итак, решено: я приглашу Фаррингтонов и Рутландов. По крайней мере Марджори Рутланд не доставит нам никаких хлопот — она умеет держаться в обществе. Что касается ее мужа, то при всем занудстве в нем есть особая утонченность, а в гостиной это всегда производит очень выигрышное впечатление. Вы со мной согласны, дорогой?
— Бесспорно. Ну что ж, идемте в столовую?
— Да, пожалуй.
Но тут появился дворецкий и сообщил, что леди Демфри просят к телефону. Сэр Реджинальд, воспользовавшись отсутствием жены, запер липовое досье в сейф и сменил комбинацию, набрав, как и обещал, имя Барбара.
Скоро вернулась улыбающаяся миссис Демфри. Реджинальд улыбнулся в ответ.
— Насколько я понимаю, новость не из числа печальных?
Барбара томно вздохнула.
— Ох уж эта молодость, Реджи… Представьте себе, сегодня ко мне должна была прийти моя маленькая швейка, мисс Лайтфизер. Мы собирались кое-что подправить в моем последнем приобретении у ее хозяев, «Пирл и Клементин».
— И мисс Лайтфизер не придет?
— Нет… она заболела… о чем мне и сообщил… лечащий врач… Врач с очень приятным, хотя и несколько смущенным голосом. Похоже, он слегка волновался, что я не поверю…
— А вы думаете…
Грудной смех миссис Демфри напоминал воркование горлицы.
— Что мне звонил поклонник мисс Лайтфизер? Ну конечно! Сегодня ведь суббота и к тому же чудесная погода! Я поставила себя на их место и…
Сэр Реджинальд галантно поцеловал жене руку.
— Как это мило с вашей стороны, Бэйб…
— Я тоже была молода, Редж… и вы сами напомнили мне об этом. А теперь дайте руку и поспешим к столу, иначе миссис Смит рассердится, а лучше, чтобы она была в хорошем настроении, когда я сообщу ей дату приема. Кстати, как, по-вашему, может, устроить его в ближайшую среду?
Из телефонной кабинки Гарри не сразу вернулся в зал, а пошел в туалет — ему хотелось немного поразмыслить в одиночестве. Уж слишком быстро, на его вкус, развивались события! Итак, судя по всему, каким-то чудом выходило так, будто сам Господь покровительствует Тер-Багдасарьяну и его сообщникам и Комптон снова мог рассчитывать довести до благополучного конца миссию, которую всего несколько минут назад собирался оставить, несмотря на смертельный риск. На мгновение ему пришло в голову, что тут какая-то западня, дьявольская ловушка, но молодой человек сразу отогнал такое нелепое подозрение, и по множеству причин. Никто не мог догадываться о его тайной деятельности, никто не знал о том, что он живет в Лондоне под вымышленным именем… да и кому бы взбрело на ум, что он именно сегодня наберется храбрости и заговорит с Пенелопой? Более того, в случае заговора девушка непременно позвонила бы сама. Она же, напротив, с удовольствием предоставила это Комптону, что вполне естественно для робкой и боящейся не угодить богатой клиентке девчушки. И наконец, Барбара Демфри тоже отреагировала нормально. Наверняка она очень любит Пенелопу (кто может ее не любить?), а потому не стала вести себя как эгоистка и признала, что утомленная мисс Лайтфизер имеет полное право отдохнуть. Гарри чувствовал, что его выросшее до необычайных размеров сердце способно вместить разом и капиталистический, и социалистический мир. Конечно, если хорошенько пораскинуть мозгами и если встреча Комптона с Пенелопой совершилась по велению свыше (а эта встреча открывает перед влюбленным двери особняка сэра Демфри), можно лишь удивляться снисходительности Неба по отношению к Советам, которые вот уже больше полувека только и делают, что играют с ним самые скверные штуки. Правда, досада Всевышнего на англичан, должно быть, гораздо старше, а там, на небесах, как и тут, старшинство наверняка имеет немаловажное значение.
Благодаря Пенелопе — что, надо признать, довольно странно! — Гарри вновь почувствовал вкус к шпионажу. Не то чтобы с тех пор его раздражение против Соединенного Королевства увеличилось, нет, но счастливый в любви шпион занимал важное место в кинопантеоне Комптона. Как в самых знаменитых фильмах, Гарри познает счастье любви, а заодно совершит великий подвиг, повергнув во прах Интеллидженс Сервис и стащив досье «Лавина»! На полученные деньги он сможет вместе с возлюбленной отправиться в СССР, а там наверняка удостоится звания Героя Советского Союза и приобретет такую же (конечно, менее зримую, но зато не менее прочную) славу, как космонавты Гагарин и Титов. Гарри уже представлял себя на даче[47] (обычный подарок партии за выдающиеся услуги) в окружении семьи и за самоваром, с которым ловко управляется Пенелопа. Упорное чтение советской литературы так и не смогло изменить представлений Гарри Комптона о России, и он воспринимал ее скорее через призму «Анны Карениной», нежели по опусам покойного Сталина и бесконечным проповедям Никиты Хрущева. Молодой человек воображал, как он, одевшись в знаменитую рубаху с застежками на плече и перетянутую у пояса, любуется Пенелопой, наряженной в некое фольклорное одеяние вроде тех, что он видел на украинских танцовщицах, приезжавших в Лондон. Гарри Комптон малость отставал от времени…
К тому моменту, когда он собрался вернуться к мисс Лайтфизер, ослепительную лазурь горизонта слегка омрачала лишь одна проблема: каковы политические воззрения Пенелопы? Впрочем, он надеялся, что девушка не отличается особым консерватизмом — это было бы катастрофой!
Узнав, что леди Демфри приняла извинения, и, значит, она, Пенелопа, вольна располагать этой солнечной субботой по собственному усмотрению, девушка, как ребенок, захлопала в ладоши, чем глубоко умилила Гарри. По обоюдному согласию, они решили отправиться в Сюррей, ибо эта холмистая местность, по мнению Гарри, соответствовала романтическому настрою зарождающейся любви. Они быстро доехали до вокзала Ватерлоо и взяли билеты в Доркинг.
14 часов 30 минут
Встав из-за стола, сэр Реджинальд поспешил распрощаться с женой. Важные дела призывали его в Адмиралтейство.
— Хотите, мы сегодня поужинаем где-нибудь вместе, Реджи?
— Прошу прощения, Барбара, но в последнее время я что-то уж слишком устал.
— Так я и думала. Может быть, вам следовало бы немного отдохнуть? Почему бы нам не съездить на недельку-другую в Борнемут?
— Сейчас я никак не могу отлучиться… Я отошлю вам на всякий случай Серджона, а сам вернусь на такси.
Сэр Реджинальд ретировался настолько быстро, насколько позволяли приличия и чувство собственного достоинства. По правде говоря, он начинал чувствовать, что живет, лишь выйдя за порог собственного дома.
Как только машина супруга скрылась из виду, Барбара побежала к телефону и не отрывалась от него в ближайшие два часа, оповещая друзей и знакомых о предстоящем торжестве. Сделав вид, будто нуждается в добром совете, она подробно рассказывала, что намерена купить и каких знаменитостей позвать, а сама наслаждалась, представляя, как подружки бледнеют от зависти.
Пенелопа и Гарри вышли на платформу Доркинга, держась за руки. Девушка ослепительно улыбнулась полицейскому, дежурившему у выхода из вокзала. Удивленный «Бобби», немного поколебавшись, ответил улыбкой и даже поднес руку к каске. Комптон, совершенно упустив из виду, что этот человек в форме символизирует капиталистическое угнетение, счел его симпатичным. Молодые люди собирались отправиться в замок Полсден Лейси милях в трех от вокзала. Мисс Лайтфизер чувствовала такой прилив жизненных сил, что наотрез отказалась воспользоваться каким бы то ни было видом транспорта. Они добрались до места слегка усталые и, пренебрегая королевским жилищем, где Георг VI провел медовый месяц, предпочли роскошный парк. Каменная скамья, стоявшая в густых зарослях кустарника, словно неприступная крепость, отгороженная от всего мира ветвями и листьями, казалось, давно их поджидает. Гарри и Пенелопа сели, по-прежнему держась за руки. Воодушевленный окружающей тишиной, красотой всегда благоволящей влюбленным природы, мягкостью воздуха и собственной молодостью, Гарри Комптон отважился наговорить своей спутнице немало слов, не блиставших, конечно, особой новизной, но зато вполне отвечавших сентиментальной традиции, к несчастью, насквозь пропитанной мелкобуржуазным духом. Но, честно говоря, об этом молодой человек напрочь забыл, поскольку ручка Пенелопы в его руке отвлекала от политики и ее ложных приманок.
Узнав от мисс Лайтфизер, что у нее нет не только жениха, но и никакого серьезного претендента на руку и сердце, Гарри ощутил необычайную легкость и едва не взмыл под облака. Но вот завести разговор на политические темы оказалось намного труднее. С первых же слов его спутница так смутилась и выказала столь явное нежелание продолжать, что Комптон был совершенно сбит с толку. Правда, он не посмел настаивать, но твердо решил вернуться к этому вопросу при первом же удобном случае. Что Пенелопа от него скрывает? Может быть, она незаконнорожденная дочь какого-нибудь ярого консерватора? Или выросла среди реакционеров? А вдруг среди членов ее семьи затесался агликанский епископ? Но тут Пенелопа опустила головку на плечо своего поклонника, и у него мигом пропало желание разбираться во всех этих сложностях. Молодого человека окутало блаженное тепло, а на глазах неизвестно почему выступили слезы. Еще никогда в жизни он не испытывал такого счастья. Гарри обнял девушку за талию, и она прильнула к нему. А не воспользоваться ли безлюдностыо этого уединенного уголка для поцелуя? Сдержанность, выработанная в нем суровым пуританским воспитанием, восставала против подобной распущенности, но от Пенелопы исходил такой волшебный аромат — смесь легкого запаха лаванды, душистого перца и корицы (почему корицы? А Бог его знает, только влюбленные способны нести подобную чушь!), что кружилась голова. И Гарри, разом освободившись от всех своих комплексов, уже склонился поближе к мисс Лайтфизер, как вдруг услышал легкое покашливание и открыл глаза. Уголок оказался куда менее уединенным, чем он воображал, поскольку у входа в живую беседку стоял тот самый полицейский, которому Пенелопа улыбнулась в Доркинге, и неодобрительно взирал на влюбленных. Комптон попытался сжать руку Пенелопы, намекая, что не худо бы принять более подходящую для посторонних взглядов позу, но девушка сидела с закрытыми глазами и, нисколько не подозревая, что на них смотрят, нежно мурлыкая, еще крепче прижалась к Гарри.
— Ну, — проворчал полицейский, — и где, по-вашему, вы находитесь?
Услышав замечание, мисс Лайтфизер испуганно вскрикнула, отпрянула от молодого человека и, покраснев как вишня, попыталась вернуть себе утраченное достоинство.
— По-моему, — продолжал констебль, — вы собирались нанести оскорбление общественной нравственности.
Комптон сделал попытку выйти из положения, изобразив уязвленную добродетель.
— О! И как только подобная мысль пришла вам в голову?
— Да просто я уже довольно давно за вами наблюдаю!
Молодой человек не на шутку рассердился.
— Позвольте вам заметить, что такое поведение недостойно джентльмена!
— Но я ведь не джентльмен, а полицейский! Когда я сюда пришел, вы как раз собирались поцеловать эту юную особу… Впрочем, я вас хорошо понимаю и на вашем месте сам бы… Но в том-то и дело, что я не на вашем месте! А потому, сэр, буду весьма признателен, если вы предъявите мне свои документы.
Гарри, недовольно ворча, выполнил приказ. Полисмен проглядел бумаги и тут же вернул владельцу.
— В следующий раз, сэр, постарайтесь ухаживать за дамами с меньшим пылом или по крайней мере убедитесь, что вы действительно одни! А ваши документы, мисс?
Несчастная Пенелопа так смутилась, что уронила сумочку, и все ее содержимое рассыпалось по земле. Констебль вежливо поспешил на помощь и начал собирать пудреницу, помаду, маленькие ножницы, кошелек и разные бумаги. Подняв одну из них и бегло проглядев, он медленно встал и сурово посмотрел на девушку:
— Вы член коммунистической партии, мисс?
В ответ Пенелопа лишь разразилась слезами.
Констебль выглядел очень расстроенным.
— Это, разумеется, не запрещено… и все же досадно…
Но Гарри уже успел прийти в себя от удивления.
— С какой стати? — возмутился он.
— Честно говоря, пока я не могу объяснить, сэр, но в любом случае лучше вам пойти со мной в участок.
Гарри заметил, что всю дорогу, пока полицейская машина везла их обратно в Доркинг, Пенелопа старалась не встречаться с ним глазами. Очевидно, девушка полагала, что после такого разоблачения он немедленно прекратит знакомство. Пенелопа — член партии! Так вот чем объяснялись и ее сдержанность, и уклончивые ответы! Бедное дитя… Знала бы ты, что Гарри сам работает на советскую разведку! Самое паршивое, что его имя может оказаться впутанным в смехотворную историю и записанным рядом со словом «коммунист». Хуже некуда! Решив взять быка за рога, по приезде в участок Комптон сразу потребовал, чтобы их отвели к самому старшему по чину. Ему сообщили, что суперинтендант Аллоуэй еще не приехал и придется подождать.
16 часов 30 минут
В небольшой комнатке за бакалейной лавкой Пимлико Тер-Багдасарьян разговаривал с Федором Александровичем Баланьевым, который официально числился вторым вахтером советского посольства, а на самом деле имел немалый чин в тайной полиции. Именно от него армянин всегда получал приказы.
— Поймите меня, дорогой Багдасарьян, мы не имеем права завалить это дело.
— А мы и не завалим, товарищ Баланьев.
— Очень надеюсь, поскольку провал был бы большой бедой для всех нас, а для вас — в особенности, дорогой Багдасарьян… В Сибири ужасно холодно!
Армянин почувствовал, как вдоль позвоночника пробежал неприятный озноб.
— Вы ведь хорошо знаете мою преданность, товарищ Баланьев! — чуть дрогнувшим голосом проговорил он.
— Конечно, конечно, дорогой Багдасарьян… Но Советский Союз не нуждается в преданности людей неловких. Для нас важен только успех! И никогда не забывайте об этом. Поэтому не сводите глаз с того парнишки, а в случае чего помогите ему…
— Договорились.
Федор Александрович Баланьев осторожно поднес к губам чашку зеленого чая и, допив, поставил на стол.
— А теперь мне пора… Вы знаете, где меня найти в случае крайней нужды… До скорой встречи, дорогой Багдасарьян… Вы мне и в самом деле очень симпатичны… И я буду глубоко огорчен, если придется вас потерять…
17 часов 00 минут
Суперинтендант Аллоуэй, которого никто не посмел беспокоить дома, где он принимал каких-то родственников из провинции, приехал в участок лишь к пяти часам. Раздраженный бесконечным ожиданием при полной невозможности обменяться хоть парой слов с удрученной Пенелопой, Гарри ринулся в кабинет суперинтенданта, как только ему сообщили о приезде последнего.
Аллоуэй оказался человеком плотным и полнокровным, и, по-видимому, страдал от дурного пищеварения. Шумное вторжение молодого человека так удивило его, что суперинтендант выслушал все молча, ни разу не перебив.
Впрочем, надо признать, Комптон был великолепен. Он сообщил, что влюблен в мисс Лайтфизер, но, узнав о ее политических взглядах, долго колебался и даже хотел порвать отношения. Однако глубина чувства не позволила так поступить. И теперь он, Гарри Комптон, дает суперинтенданту слово, что мисс Лайтфизер уже не интересуют ни господин Хрущев, ни господин Мао, более того, чисто буржуазное стремление создать семейный очаг заставляет ее с большей симпатией относиться к мистеру Мак-Миллану. Тронутый этой исповедью, суперинтендант Аллоуэй горячо пожал руку Гарри и заявил, что считает его очень достойным подданным королевы и поздравляет с тем, что ему удалось вернуть заблудшую овечку в лоно просвещенной демократии.
Успокоившись, Гарри спросил, можно ли ему теперь покинуть участок вместе с мисс Лайтфизер. Аллоуэй ответствовал, что не видит к тому никаких препятствий.
— Тем более, — добавил он, — что я вас сюда не вызывал и, честно говоря, плохо понимаю, с чего это вдруг вы решили избрать меня поверенным своих любовных дел.
Это замечание несколько подпортило дело. Суперинтендант грозно потребовал вызвать констебля, который привез в участок молодых людей. Тот рассказал, с чего все началось.
— Вы что, совсем рехнулись, Грегори? — взорвался Аллоуэй. — Какого черта вы арестовали эту пару?
— Но, шеф, они собирались целоваться…
— И что с того?
— Да я бы ничего не сказал или по крайней мере ограничился замечанием, если бы по чистой случайности не узнал, что девушка состоит в коммунистической партии…
— А вы что ж думаете, коммунистам никогда не хочется поцеловаться?
— Не знаю, шеф…
— Убирайтесь отсюда, Грегори! Вы слишком глупы! В конце концов, это становится просто неприличным…
18 часов 00 минут
За всю дорогу из Доркинга в Лондон Пенелопа и Гарри не сказали друг другу ни слова. На вокзале Ватерлоо девушка, едва сдерживая слезы, протянула Комптону руку.
— Я… я была счастлива познакомиться с вами… Я… прошу у вас прощения… но у меня не хватило мужества сразу сказать правду… прощайте…
Пенелопа хотела освободить руку, но Гарри удержал ее.
— Прощайте? Должен ли я из этого сделать вывод, что мы больше не увидимся?
— Послушайте, ведь это невозможно! После того, что произошло… Умоляю вас только никому не рассказывать. Иначе я останусь без работы… Вся моя клиентура настроена скорее консервативно…
— Да, я знаю, эти люди выжимают пот из народа!
Девушка удивленно вытаращила глаза. Не будь на вокзале так людно, Гарри заключил бы ее в объятия.
— Пенелопа… хотите, мы еще немного погуляем вместе?
— О да!
Они покинули вокзал и, перейдя через мост Ватерлоо, добрались до Стрэнда. Там Гарри пригласил мисс Лайтфизер в бар и, выбрав столик в самом углу, принялся с любопытством расспрашивать.
— И давно вы записались сами знаете куда, Пенни?
— Скоро год…
— А почему?
— В отместку!
— Не понимаю…
— В «Пирл и Клементин» у меня была подруга — Вирджини Максвелл. Как портниха она мне и в подметки не годилась… К тому же мне вечно приходилось то исправлять, то заканчивать ее работу — иначе Вирджини просто вышвырнули бы за дверь. Так вот, когда освободилось место старшего мастера, выбрали ее, и это от нее я теперь получаю распоряжения…
— А почему вам предпочли эту Вирджини?
— Потому что ее дядя — архидиакон в соборе Вестминстера, откуда родом жена Клементин (это, как, впрочем, и Пирл, — мужчина). Тогда-то я и поняла, что всегда буду жертвой в обществе, безжалостном к слабым и одиноким, и пошла к тем, кто обещает перемены, благодаря которым такие девушки, как я, окажутся в равном положении со всеми прочими.
В истории Пенелопы, столь поразительно сходной с его собственной, Гарри усмотрел перст Судьбы. Они, несомненно, созданы друг для друга и для того, чтобы отомстить режиму, который так несправедливо обошелся с обоими.
— Я понимаю вас, Пенни… и даже одобряю… Когда-нибудь потом я скажу вам кое-что еще… А пока можете не сомневаться: ни за что на свете я бы не согласился расстаться с вами. Мы провели вместе лишь несколько часов, но мне было бы очень тяжко жить, не видя вас…
Комптона несколько смущала привычка Пенни в любой ситуации — будь она счастлива или несчастна — выражать свои чувства бурными слезами. В высшей степени досадное обыкновение! Посетители бара — главным образом, конечно, мужчины — немедленно повернулись к ним, и в каждом взгляде Гарри читал презрение, а то и желание набить физиономию. Никто, видимо, не сомневался, что присутствует при трагической развязке романа, и коварный соблазнитель бросает на произвол судьбы влюбленную в него женщину, а возможно, и будущую мать чудесного бэби. Когда у двери замаячил силуэт констебля, озиравшего бар с типичной для всей лондонской полиции напускной небрежностью, за которой скрывается готовность действовать мгновенно и весьма решительно, Комптон ухватил заплаканную Пенелопу за руку и поспешил увести подальше. «Бобби» проводил их подозрительным взглядом, явно жалея, что у него нет никаких оснований вмешаться.
18 часов 30 минут
Субботний день подходил к концу. Марджори Рутланд, покинув стол, за которым только что выиграла двенадцать фунтов, спешила домой, на Мэрилбоун, где ее муж Герберт проработал всю вторую половину дня. Фаррингтоны катались на лодке в Хэнли — эти выходные они решили провести на лоне природы. Адмирал Норланд сидел у окна и провожал глазами плывущие по Темзе грузовые суда — каждое отправлялось в дальние странствия, которых ему, Норланду, уже не совершить. Тер-Багдасарьян возвращался в Сохо — ему нужно было проверить, все ли в ресторане готово к субботнему наплыву посетителей. Леди Демфри составляла список гостей, не забыв предварительно обсудить с миссис Смит все хозяйственные вопросы. Сэр Реджинальд закрывал кейс, намереваясь заскочить к себе в клуб и немного выпить, а уж потом ехать домой. Инспектор Эверетт Картрайт, дав подчиненным последние указания, собирался в полной мере насладиться очарованием субботнего вечера в домашней обстановке, вдвоем с женой. Миссис Лайтфизер заканчивала фруктовый кекс, которым хотела порадовать Пенелопу. Таким образом, жизнь следовала по хорошо накатанной колее.
Якобы для того чтобы утешить Пенни, Комптон крепко взял девушку под руку, и так, тесно прижавшись друг к другу, они вскоре перешли на тот удивительный шаг, к которому всякий британец привыкает, едва научившись ходить, — из-за этой особенности ни один представитель любой другой нации не в состоянии его догнать (разве что побежит рысцой). На Трафальгарской площади молодые люди остановились немного перевести дух. Комптон нежно склонился к девушке:
— Дайте слово, Пенни, что вам больше не грустно!
Она улыбнулась ему самой очаровательной улыбкой:
— Нет, раз вы на меня не… не сердитесь.
— Послушайте, Пенни… может, это и выглядит немного странно, но лучше уж сразу поставить вас в известность… По-моему, я вас люблю…
— О!
— Вам это не нравится?
— Нет, но уж слишком вы спешите…
И вечернюю тишину снова прорезало дребезжащее хихиканье мисс Лайтфизер. Комптон почувствовал, что нервы у него на пределе. Когда они поженятся, надо отучить Пенелопу от этой скверной привычки, а то семейная жизнь станет невыносимой. Однако в любом случае наш герой был слишком влюблен, чтобы долго задерживаться на подобных пустяках. Наконец-то ему подвернулся случай сыграть роль соблазнителя и уподобиться тем кинокумирам, которыми он так восхищался! Разговаривая с Пенелопой, молодой человек чувствовал себя то Куртом Юргенсом, то Кэри Грантом, то Витторио де Сика и пытался придать голосу волнующие интонации, подмеченные у любимых актеров.
— Пенни… после того ужасного происшествия в Доркинге… увидев вашу растерянность… выслушав вашу исповедь… и, наконец, сказав вам о своих чувствах, я считаю себя не вправе вас покинуть!
— Ах!
Гарри был очень доволен концовкой. По его мнению, именно так выразился бы Витторио де Сика. А теперь пришло время воспользоваться методикой Кэри Гранта. И он изобразил чисто приятельскую непринужденность человека, привыкшего относиться к собственным словам лишь с той мерой серьезности, которой они заслуживают.
— У меня есть предложение! Давайте-ка спустимся в метро, доедем до Рассел-сквер… и заглянем ко мне попить чаю. Ну, что вы об этом скажете?
— А где вы живете?
— На Тэвисток-сквер.
— Прекрасное место. Я его очень люблю.
Гарри тут же решил, что и сам Кэри Грант не сумел бы разыграть большие бескорыстие и отрешенность… и то и другое, впрочем, одинаково лицемерные. Однако, оставаясь в глубине души пуританином, молодой человек испытывал легкое отвращение к самому себе — ну можно ли так бессовестно злоупотреблять беззащитностью Пенелопы Лайтфизер? Тем не менее он продолжал настаивать:
— Так вы согласны, Пенни?
— Я-то бы очень хотела… но уже довольно поздно… и с моей стороны было бы не совсем прилично идти к вам в гости, правда?
Тут, бесспорно, следовало поступить, как поступали герои Курта Юргенса. Гарри посмотрел на свою спутницу тусклым глазом навеки уснувшей рыбы (не сомневаясь при этом в собственной неотразимости) и, приглушив голос, хрипло зашептал. Вероятно, если бы какому-нибудь бегуну-марафонцу вздумалось на финише произнести речь, он изъяснялся бы таким же придушенным шепотом.
— Теперь чужое мнение не должно для нас ничего значить, Пенелопа! Речь идет о нас двоих, и только о нас двоих! Никто не утешит нас в наших страданиях… Лишь мы одни можем завоевать собственное счастье! После чая, если вы почувствуете, что слишком устали, располагайте моей постелью. Я одолжу вам пижаму… а сам уйду спать на кухню…
Пенни, приоткрыв рот, в полном восторге слушала эти тирады. А Гарри уже терзали угрызения совести. Боже, как он, оказывается, коварен! Ах, не так уж трудно разыгрывать донжуана — достаточно просто иметь талант! Жаль, что мисс Лайтфизер не слишком умна. Комптону сейчас хотелось бы помериться силами с кем-нибудь поискушеннее!
— Как красиво вы говорите! Ну прямо как в газетах!..
Гарри, конечно, понимал, что его речи не отличаются избытком оригинальности, зато каков артистизм! Впрочем, Пенелопу оправдывало явное отсутствие опыта в этой области.
— Вот только я поклялась маме, что, пока не выйду замуж, всегда буду ночевать дома… Мне очень жаль — мы наверняка провели бы чудесный вечер…
Милая Пенелопа… Какая потрясающая дурочка! Ба! Лучше иметь немного ограниченную супругу, чем слишком хитрую. Но пока из-за клятвы, данной матери (вероятно, на смертном одре!), все его усилия пошли прахом. К счастью, Нельсон, наблюдавший за площадью с высоты своей колонны, пришел на помощь дурному англичанину Комптону, подсказав одно из тех молниеносных решений, на которые адмирал был таким мастером.
— Не стоит огорчаться, Пенни! В таком случае я сам провожу вас домой!
Мисс Лайтфизер не только не обиделась, но, судя по всему, предложение молодого человека ее очень обрадовало.
— Великолепная мысль!
Гарри хихикнул про себя. Бедная девочка! Так глупа, что хоть сеном корми… Некоторые победы одерживаются уж слишком легко… И Гарри с садистским удовольствием решил утвердить триумф.
— Вы и представить себе не можете, как мне хочется взглянуть на вашу комнату! — воскликнул он.
— Правда?
Для ответной реплики соблазнителю пришлось призвать на помощь Витторио де Сика, Кэри Гранта и Курта Юргенса разом.
— Неужели вы могли в этом усомниться, darling?
— Нет… но почему моя комната вас так интересует?
Гарри едва не пожал плечами. Что он мог ответить? В конце концов, всему есть предел!
Они спустились в метро, доехали до Лейчестер-сквер, перескочили на Северную линию. Дорога, с ее бесконечными остановками, переходами и прочим, по-видимому, доставляла мисс Лайтфизер огромное удовольствие. Зато Гарри, напротив, и толчея, и длинные переходы, и гулявшие по ним смертоносные сквозняки ужасно раздражали. Он успокоился, лишь сев рядом с Пенелопой в поезд, идущий прямиком на Кентиш Таун. Там им еще предстояло забраться в автобус, который останавливался всего в нескольких сотнях ярдов от Саус Гроув, где жила девушка.
19 часов 00 минут
Квартира мисс Лайтфизер живо напоминала Комптону обиталище его покойных родителей в Бристоле, и сердце у него снова растаяло. Все здесь, начиная с неизбежной комнатной пальмы в начищенном до блеска медном горшке, было типично английским. Чувствовалось, что здесь готовят истинно британский чай и кексы. Впрочем, ни в одной другой точке земного шара не удается стряпать более неудобоваримые пироги и столь поразительные соусы! Нет, эти потрясающие воображение смеси вкупе с крикетом и шотландскими привидениями составляют неотъемлемую собственность Соединенного Королевства. Гарри захотелось обнять Пенелопу и в ее лице — всю старую Англию. Познакомившись в мисс Лайтфизер, молодой человек испытывал куда меньшую тягу к СССР, чем к земле предков своей матери, давшей приют и его отцу.
— Так где же ваша комната, дорогая?
Это было, конечно, грубо, но Комптон твердо решил сразу идти в наступление.
— Пойдемте, я только сниму пальто…
Молодой человек двинулся следом за Пенелопой, чувствуя себя воплощением бога Пана, преследующего одинокую нимфу.
Комнатка Пенелопы, уютная и строгая одновременно, и нравилась, и сразу внушала доверие. Очень добропорядочная комната, как будто нарочно создана для супружеского счастья. Здесь царил безукоризненный порядок. Жених, впервые переступая порог такой комнаты, мог нисколько не тревожиться о будущем. В глубине души, с тех пор как он лишился родителей, Гарри всегда мечтал хоть еще разок провести ночь в подобном доме.
— Пенелопа… — взволнованно пробормотал он.
Но девушка была слишком занята — она снимала шляпку, стараясь не растрепать волосы, а потому ответила не оборачиваясь:
— Ну как, нравится вам моя комната?
Гарри крадучись приблизился к Пенелопе.
— Да, она мне очень нравится, но вы — еще больше, darling! — заворковал он и уже протянул жадные руки, чтобы обхватить девушку за талию, как вдруг сзади послышался голос:
— У тебя гости, Пенни?
Даже если бы Комптона неожиданно кольнули ножом в мягкое место, вряд ли ему удалось бы подпрыгнуть еще выше. Гарри обернулся. На него с улыбкой взирала седая дама. Остолбеневший от изумления молодой человек не мог издать ни звука. Положение спасла Пенелопа.
— Я как раз собиралась представить тебе, мама, мистера Комптона. Но он во что бы то ни стало хотел взглянуть на мою комнату.
Покраснев до корней волос, Гарри начал раскланиваться и, отчаянно путаясь в словах, забормотал нечто довольно бессвязное. По правде говоря, он сейчас предпочел бы оказаться в дырявой лодке посреди Темзы…
— То есть… э-э-э… Добрый вечер, мэм… Я просто хотел взглянуть, понимаете?.. Здравствуйте!.. Гарри Комптон… Меня зовут Гарри Комптон… У вас очень милый дом… Я представитель торговой фирмы — рекламирую новую марку кукурузных хлопьев… Я познакомился с Пенни… то есть с мисс Лайтфизер… вашей дочерью,
насколько я понимаю… в ресторане… уже довольно давно… Мы ездили в Доркинг… Прошу прощения… меня зовут Гарри Комптон…
Седая дама по-прежнему улыбалась.
— Значит, вы ухаживаете за Пенни?
— Простите?.. Что… Ничего подобного! То есть, с вашего разрешения — да!..
— Ну, разрешения надо спрашивать не у меня, а у нее… И вы хотели посмотреть, как Пенни живет? Это вполне естественно и доказывает ваши добрые намерения. Выпьете с нами чаю?
— Да, конечно, с удовольствием… Меня зовут…
— …Гарри Комптон, я уже знаю. Побудьте тут с Пенни, а я пойду заваривать чай.
20 часов 00 минут
Возвращаясь на метро в центр Лондона, Гарри все никак не мог успокоиться — уж слишком велико было разочарование. Сначала он даже подумал, уж не нарочно ли Пенни подстроила ловушку, надеясь таким образом вынудить его жениться, но, поразмыслив, признал, что девушка вовсе не пыталась заманить его в гости и это он сам почему-то вообразил, будто миссис Лайтфизер уже переселилась в мир иной. Нет, во всем виновата лишь невероятная наивность Пенни, ровно ничего не понявшей в маневрах своего воздыхателя. Да, не очень-то умна бедняжка Пенни, зато как хороша!.. По мере того как самолюбие успокаивалось, Комптон находил в девушке все больше достоинств и даже его неудача начинала казаться лишним доказательством того, что Пенелопа вполне заслуживает доверия. Непостижимо, где она только жила до сих пор, если все уродства капиталистического мира прошли мимо, нисколько не омрачив ее чистоты?
На Тоттенхем Корт-роуд Комптон вышел из метро и направился в Сохо, на Грик-стрит поговорить с Тер-Багдасарьяном. Навстречу то и дело попадались парочки, и Гарри, глядя на курящих и слишком громко смеющихся женщин, с нежностью вспоминал старомодную квартирку на Саус Гроув, где так заботливо культивировали исконно британские добродетели. Когда-нибудь Пенелопа станет примером для их общих советских друзей, ибо Комптон снова воспылал отвращением к капиталистическому обществу, которое в лице фирмы «Пирл и Клементин» так чудовищно несправедливо обошлось с той, кого Гарри уже считал своей подопечной. Вдвоем они возьмут сокрушительный реванш над существующим порядком вещей, при котором униженные и жалкие бедняки постоянно сталкиваются с непреодолимыми препятствиями. Да, они с Пенелопой докажут мистеру Мак-Миллану, что с его стороны было весьма опрометчиво не обратить на них должного внимания! Настанет день, когда вся Англия будет горько оплакивать совершенную ошибку, раскаиваясь, что не оценила по достоинству Гарри Комптона и Пенелопу Лайтфизер!
Ресторанчик Тер-Багдасарьяна специализировался на восточной кухне. Любители заранее заказывали столики, чтобы отведать барашка по-венгерски, мамалыги по-румынски, болгарской баницы, турецкой дауд-паши, греческих тарато, египетской мехаллабии или советского борща. Тер-Багдасарьян в широкой блузе и феске окидывал клиентов тяжелым взглядом, который многие дамы находили весьма многообещающим, хотя на самом деле армянин испытывал лишь глубокое презрение к этим эксплуататорам народа, чьи аппетиты ему приходилось удовлетворять, несмотря на все свое отвращение. Под набухшими веками мелькали кровавые видения — Тер-Багдасарьян представлял, как все эти люди, вытянув шеи, стоят перед ним на коленях, а он играючи рубит головы чуть заметным движением сабли, запивая каждую казнь хорошим глотком густого пелопоннесского вина, которое очень любил.
Армянин сразу заметил Гарри Комптона, но сделал вид, будто не выделяет его из числа прочих клиентов. Слегка поклонившись молодому человеку, он повел его к отдельному столику.
— Есть новости? — тихо спросил он, протягивая меню.
— И еще какие!
— После ужина зайдите ко мне домой. Ключ я положу в хлебную корзину. Подождите меня в гостиной. — И уже громче он добавил: — Я бы особенно посоветовал вашему вниманию, сэр, — если, конечно, вы его еще не пробовали, — афганское национальное блюдо китчири.
Дабы усыпить бдительность соседей, Комптон поддержал игру.
— Не то чтобы я пытался выведывать секреты вашей кухни, но все же из чего вы делаете это кит… китпи…
— Китчири, сэр! Это рисово-маисовая каша на кислом молоке. Подавая на стол, блюдо заливают очень ароматным соусом.
Привычный к вареной картошке, пирожкам, приготовленным на говяжьем жире, и сыру, всегда имеющему такой вид, будто его случайно забыл на тарелке какой-нибудь рассеянный штукатур, Комптон все же счел, что китчири — настоящая пища для дикарей. Однако пока СССР требует от своих сторонников только таких жертв, им, право же, нечего особенно роптать. Тем не менее при всей жажде самопожертвования (хоть и весьма непостоянной — что верно, то верно), поднеся к губам первую ложку китчири, Гарри Комптон горько пожалел о своем ресторанчике на Стекли-стрит, не говоря уж о том, что Элинор, несмотря на свое физическое несовершенство, все же выглядела гораздо привлекательнее Тер-Багдасарьяна.
21 час 00 минут
У армянина не было жены, во всяком случае — в Лондоне. Возможно, супруга терпеливо ждала его на родине, но так это или не так — знал один Багдасарьян. Сам он, однако, никогда о себе не рассказывал и не терпел ни малейших расспросов о личной жизни. Открыв дверь в жилище армянина, Гарри чуть не задохнулся — в нос сразу шибанул мощный запах перца и чего-то сладкого. Подумав, какой дьявольской кухней, должно быть, тешит себя его коллега по шпионажу, Комптон невольно вздрогнул. В гостиной, где устроился Гарри, тоже стоял на редкость тяжелый дух — смесь восточного табака и испарений каких-то масел. Молодой человек счел это отвратительным. Меблировку составлял диван, на котором, надо думать, нередко возлежал хозяин дома, разнообразные пуфы, ковры и множество подушек всевозможных размеров. Взгляд притягивали блестящие медные подносы: на одном стоял кофейный прибор, на другим — наргиле, на третьем — горшки с розовым вареньем. Медь тускло поблескивала в сумраке, разбрасывая по неопрятной комнате золотистые блики. Тер-Багдасарьян не заставил гостя томиться ожиданием. Очень скоро он вошел в гостиную, и к прочим удушающим ароматам добавился резкий запах прогорклого сала. Это совсем доконало Гарри.
— Немного ракии?
И, не дожидаясь ответа, армянин достал бутылку и бокалы, потом, чокнувшись с молодым человеком, удобно устроился на диване, среди подушек. Закурив наргиле и выпустив первый клуб дыма, он с довольным видом проговорил:
— Выкладывайте, товарищ, я вас слушаю!
Комптон рассказал, какая неудача постигла его в доме сэра Реджинальда Демфри и как он столкнулся со свирепым драконом в обличье кухарки Маргарет Мод Смит. Поведал он и о глубоком унынии, охватившем его после провала, так что сперва он было собрался идти к Тер-Багдасарьяну и отказаться от миссии, выполнить которую явно не в силах.
Наконец Гарри добрался до встречи с Пенелопой и живописал девушку в самых ярких тонах. Не забыл он рассказать и о происшествии в Доркинге, и о том, с каким радостным волнением узнал, что леди Демфри — клиентка Пенелопы, а последняя — член коммунистической партии. В заключение молодой человек признался, что, не отделайся он от такого буржуазного предрассудка, как вера в потусторонние силы, непременно поставил бы в церкви свечку за столь счастливый поворот событий, поскольку теперь благодаря Пенелопе похищение досье «Лавина» снова представляется возможным.
Армянин слушал не перебивая и все это время курил наргиле так невозмутимо, что клубы дыма выбивались изо рта с величайшей размеренностью — Гарри ни разу не заметил, что Тер-Багдасарьян сбился с ритма. Когда молодой человек наконец умолк, армянин вытащил изо рта мундштук.
— Короче, вы втюрились в эту молодую особу?
— Да.
— Вы совершили ошибку, товарищ.
Комптон сразу ощетинился:
— Это еще почему?
— Потому что в нашем ремесле слабость к женщинам — ужасный порок. Рано или поздно самого лучшего шпиона губит именно женщина.
Гарри презрительно расхохотался, желая немедленно дать понять хозяину дома, что в подобных вопросах не ему давать советы такому знатоку.
— Пенелопа никогда бы не…
Но Тер-Багдасарьян бесцеремонно его перебил:
— У каждого из них была своя Пенелопа!
С этой минуты Комптон по-настоящему возненавидел армянина, но тот, не обращая ни малейшего внимания на реакцию собеседника, продолжал:
— Если вы точно описали мне все происшедшее, товарищ, я вынужден с огорчением заметить, что ваша Пенелопа — просто идиотка!
— Но она очаровательна!
— Что ж, значит, очаровательная идиотка!
— Ну и что? Насколько мне известно, женщине совсем не обязательно блистать умом, верно?
— Согласен… при условии, что они действительно глупы, а не только делают вид…
— На что это вы намекаете?
— Да на то, что вся эта история мне очень и очень не нравится, товарищ!
— Почему?
— Причин — куча… Я не люблю чудеса… Почти всегда это ловушки. Судите сами. Откуда ни возьмись в самый ответственный момент появляется девица и тут же принимает ваши ухаживания. При этом она несусветно глупа и, как нарочно, работает именно в доме, который нас интересует. И еще более невероятное совпадение — ваша пассия оказывается членом партии! Нет, откровенно говоря, товарищ, мне это решительно не по нутру…
— Пенелопа не умеет притворяться!
— Вот это-то мне бы очень хотелось проверить!
— Хотите, я ее к вам приведу?
— Не раньше чем я сам скажу… Дайте-ка мне ее адрес и место работы. Что касается партии, то я свяжусь с ответственным за прием новых членов.
Багдасарьян тщательно записал все сведения.
— Ладно. Надеюсь, вы ей ни слова не сказали о своей миссии?
Гарри снисходительно пожал плечами:
— Можете не сомневаться, нам было о чем поговорить, не касаясь международной политики!
— Отлично. Я позвоню вам в понедельник, часов в одиннадцать. Сидите в это время дома и ждите звонка. А до тех пор — отдыхайте или флиртуйте — мне все равно. Но никаких действий по собственной инициативе! Ясно?
Воскресенье, вечер
Стараясь загладить дурное впечатление, произведенное, как думал Гарри, его поздним визитом на миссис Лайтфизер, а также в благодарность за чай он приехал к обеим дамам довольно рано и предложил совершить небольшую прогулку втроем. Приглашение было принято с радостью. Они отправились в Хэнли и пообедали на террасе, нависавшей над самой водой. Тая от блаженства, Гарри взирал на Пенелопу и ее мать, все более убеждаясь, что в недалеком будущем они втроем могли бы явить собой классический образец семейного счастья. Молодой человек с величайшим простодушием погружался в эти мирные грезы, как вдруг ему пришло в голову, что он мечтает о буржуазном счастье и тем самым невольно предает идеальный образ «homo soveticus», раз и навсегда взятый за образец, хотя и не виденный воочию. Последнее соображение Комптон, впрочем, отвергал с презрительным смехом, говоря про себя, что христиане тоже никогда не видели Христа, но это не мешает многим из них жить согласно заповеданным им правилам.
На сем Комптон прекратил философствовать. Во-первых, потому что это мешало с должным вниманием ухаживать за дамами, а во-вторых, он не был уверен, что, признав существование Христа, не впал в какой-нибудь «безродный уклонизм». Эпитет «безродный» невольно напомнил Гарри о Тер-Багдасарьяне, которого молодой человек считал самым отвратительным типом, какой только попадался ему в жизни, но Комптон от всего сердца верил, что подобный субъект никак не может походить на идеального советского человека, чей образ запечатлелся в его душе.
В тот день миссис Лайтфизер произвела на молодого человека впечатление замечательной женщины, а Пенелопа, несмотря на ее идиотское хихиканье и порой совершенно ошарашивающие замечания, все больше казалась Гарри самой очаровательной девушкой, на которой здравый умом и телом мужчина может мечтать жениться. Расстались они так дружески, что миссис Лайтфизер предложила Гарри считать их дом своим собственным и попросила разрешения называть его просто по имени. А Пенелопа согласилась завтра поужинать вместе, поскольку за ленчем они никак не смогут увидеться — девушка весь день проработает у леди Демфри.
Понедельник, утро 9 часов 30 минут
Даже познакомившись с Пенелопой, Тер-Багдасарьян ни за что не поддался бы ее чарам — армянин презирал женщин, к какой бы нации они ни принадлежали. Он считал их низшими существами, к тому же особенно опасными во всем, что касается социалистического пути развития человечества, ибо женщина слишком привязана к материальным благам и является на свет со множеством всякого рода комплексов, отвращающих ее от эволюции в сторону коммунального бытия. Однако ресторатор из Сохо обладал богатым жизненным опытом и отлично понимал, что все его предупреждения нисколько не убедят Гарри Комптона. А потому он решил лично провести тщательное расследование.
Для начала Тер-Багдасарьян отправился на Саус Гроув и, выдав себя за полицейского, сообщил консьержке, что пришел к миссис и мисс Лайтфизер. Ему якобы требовалось свидетельство последней насчет одного небольшого происшествия, имевшего место в субботу. Женщина оказалась на редкость разговорчивой и тут же рассыпалась в комплиментах обеим дамам. По ее словам выходило, что во всем Соединенном Королевстве не найти более достойных особ, чем миссис Лайтфизер и ее дочь.
— Вот с кого всем надо брать пример! Правда, мисс Пенелопа, возможно, не вполне… По крайней мере, для своих двадцати трех лет она кажется не совсем… Короче, господин инспектор, вероятно, и так понял, что я имею в виду?
Но армянин решил прикинуться дурачком.
— Честно говоря, нет… Уж не хотите ли вы намекнуть, миссис…
— Беннет.
— …миссис Беннет, что у мисс Лайтфизер, — тут он умело понизил голос, — какие-то порочные наклонности?
— О нет, какие там порочные наклонности! Бедная, милая девочка! Нет, господин инспектор, просто создается впечатление… Заметьте, господин инспектор, я говорю только о впечатлении… что ум ее развился не столь полно, как должен бы в таком возрасте… и взрослая девушка так и осталась совершеннейшим ребенком в умственном отношении… Правда, это ничуть не мешает мисс Пенелопе в работе. Я даже слыхала, что хозяева ее очень ценят. Тем не менее для миссис Лайтфизер это, наверное, тяжкая забота… И потом она, конечно, не может не думать, что произойдет, когда дочь останется одна… Ведь бедняжка мисс Пенелопа верит всякому слову и, стоит ее ласково попросить, сделает что угодно, даже не заподозрив ничего худого… Вы ведь понимаете, не правда ли?
10 часов 00 минут
Поднимаясь по лестнице в квартиру миссис Лайтфизер, армянин вынужден был признать, что первое впечатление довольно благоприятно и, в конце концов, учитывая невероятное везение новичков, возможно, Комптону и впрямь посчастливилось поймать редкую птицу. Особенно Тер-Багдасарьяну понравились слова миссис Беннет о том, что Пенелопа способна на что угодно, если ее ласково попросить, и не станет искать дурного умысла… Может, она согласится стащить досье «Лавина»? Чем черт не шутит…
Узнав, что посетитель из полиции и зачем он пришел, миссис Лайтфизер, к величайшему удивлению мнимого инспектора, разразилась слезами.
— Так я и думала, что рано или поздно это случится, — жалобно причитала она, провожая Тер-Багдасарьяна в гостиную. — Но, клянусь вам, господин инспектор, дочка сделала это без всякого злого умысла… Да бедная девочка и вообще не способна ни на какое зло… Просто послушалась какую-то подружку, которая заговорила об этом как раз тогда, когда с Пенелопой поступили не очень хорошо. Моя дочь осталась таким ребенком! А потому болезненнее, чем другие, воспринимает всякую несправедливость. Вот ее и уговорили записаться в коммунистическую партию. Когда она мне об этом сказала, господин инспектор, я как раз сидела там, где сейчас вы, — под фотографией моего дорогого мужа, погибшего под Дюнкерком… Так вот, меня это совершенно потрясло… даже и передать не могу, до какой степени! Мне показалось, что все Лайтфизеры, жившие в Англии со времен Ричарда Львиное Сердце, обесчещены… Если бы я только знала, как это сделать, непременно пошла бы к этим людям и заставила вычеркнуть мою дочь из списков… Знаете, она ни разу не ходила ни на одно их собрание… Так неужели вы все-таки посадите ее в тюрьму?
Глядя на это жалкое порождение капиталистического мира, Тер-Багдасарьян чувствовал, что его сердце переполняет величайшее презрение. Вот каковы те трусливые рабы, на чьих хребтах акулы-финансисты и бизнесмены сколачивают чудовищные состояния! Нет, в СССР таких точно не встретишь! Там всяк волен поступать как считает нужным, если, конечно, он не враг народа, в каковом случае, само собой, приходится лишать его возможности чинить вред священному делу социализма или подвергать полному перевоспитанию. И это, разумеется, вполне оправдывает помещение подобных особей в трудовые лагеря (для их же блага), тем более что суровая природа Магадана и Воркуты очень способствуют осознанию великой цели, стоящей перед всем обществом.
10 часов 30 минут
Садясь в метро на Кентиш Таун, армянин уже почти не сомневался, что имеет дело с двумя первостатейными дурами, с чьей помощью он, возможно, сумеет выполнить задание шефа. Однако для очистки совести он все-таки решил съездить на Монтегью-стрит к «Пирл и Клементин». Сам не зная почему, он заявил, что хочет побеседовать именно с последней.
Обнаружив, что «Клементин» вовсе не женщина, а сорокалетний бородач, которого визит полицейского явно поверг в состояние крайнего нервного напряжения, Тер-Багдасарьян испытал что-то вроде легкого шока. Когда же выяснилось, что «инспектора» интересует мисс Лайтфизер, Клементин в свою очередь не смог скрыть удивления.
— Пенелопа Лайтфизер, инспектор? Но это самая тихая, доброжелательная, услужливая и воспитанная из всех моих служащих! Впрочем, не будь это так, неужели, вы думаете, я посылал бы ее на дом к особам высшего света, которых имею честь одевать?
— Не сомневаюсь, сэр… Но речь идет лишь о небольшом, чисто конфиденциальном расследовании… по просьбе ее матери, написавшей в наше министерство. Миссис Лайтфизер хочет быть уверенной в безупречном поведении своей дочери.
— В таком случае, инспектор, мы с моим компаньоном готовы выступить гарантами исключительного благонравия мисс Лайтфизер. Тем более что большинство наших клиенток — истинные леди, инспектор! — настаивают, чтобы именно мисс Пенелопа приезжала к ним домой подгонять готовую вещь по фигуре. Я полагаю, это достаточно солидная гарантия, не так ли?
— Бесспорно, сэр, и я искренне благодарю вас. Ах да, я слышал, будто мисс Лайтфизер не совсем… как бы это сказать… Короче говоря, правда ли, что она… несколько инфантильна?
Клементин снисходительно улыбнулся.
— Наша Пенелопа и в самом деле звезд с неба не хватает, но это же не преступление, верно? И потом умные люди слишком часто отравляют нам жизнь, чтобы грустить из-за того, что не все на них похожи!
Покинув Монтегью-стрит, Тер-Багдасарьян позвонил Комптону и приказал немедленно явиться в бар «Клен и фонарь», расположенный на Босуэл-стрит, всего в двух шагах от его дома.
11 часов 00 минут
Гарри слушал армянина, потягивая джин-фиц[48].
— Вы были правы, товарищ… похоже, вам и в самом деле удалось откопать клад. Все сходятся во мнении, что Пенелопа несколько отстала в развитии и при желании ее можно подбить на что угодно.
Молодой человек покраснел — он явно думал не о политике.
— Стало быть, колебаться нечего… Сегодня же вечером приведите ее ко мне в ресторан. Вы нас познакомите… Потом я приглашу вас в гости выпить ракии и расскажу ей какую-нибудь байку (за это время я придумаю историю потрогательнее). Слушайте хорошенько: надо непременно добиться, чтобы эта девчонка выяснила, где Демфри хранит досье «Лавина». Если у нее это получится, попросим потихоньку стащить досье… а потом сообщим о ней в полицию.
— Что?!
— Успокойтесь! Когда Ярд обо всем узнает, мы уже будем в Москве!
— Но… как же Пенелопа? Что сделают с ней?
— Понятия не имею, да и плевать… Это ограниченная маленькая капиталистка, набитая предрассудками и неисправимая. Именем Советского Союза я запрещаю вам в нее влюбляться! Если хотите сделать ее своей любовницей и малость поразвлечься — ваше дело, но не более того. Иначе нам придется считать неисправимым и вас тоже… и предоставить заботу о вашем будущем Скотленд-Ярду. До вечера, товарищ!
11 часов 15 минут
Сидя за пятым джин-фицем, Гарри все пытался внушить себе, что никакие личные чувства ничего не значат по сравнению со всемирной победой коммунизма, но все попытки оставались тщетными, поскольку молодому человеку явно не хватало внутренней убежденности. Уготованная Пенелопе судьба приводила его в негодование. Воспользоваться нежными чувствами девушки к нему, Гарри, чтобы отправить ее до конца дней в тюрьму, — может, и редкостно ловкий ход с марксистско-ленинской точки зрения, но с обычной человеческой — гнуснейшая подлость. Меж тем Петр Сергеевич Милукин, он же Гарри Комптон, еще недостаточно пропитался доктриной, чтобы не отдавать себе в этом отчета. На шестом джин-фице он решил порвать с Багдасарьяном и бежать с Пенелопой от возмездия советской разведки. Однако подсчитав, сколько он должен бармену, Комптон сообразил, что денег у него практически не остается, профессии — никакой, а следовательно, далеко не убежишь. Тогда он смирился с необходимостью принести Пенелопу в жертву на алтарь пролетарского рая и в утешение заказал седьмой джин-фиц, после чего ход его мыслей снова изменился.
Вернувшись к себе, Гарри сразу упал на кровать и погрузился в сон, благодаря джин-фицу исполненный самых утешительных видений. Тер-Багдасарьян, немедленно превратившийся в принца из «Тысячи и одной ночи», признался, что просто хотел испытать его и, раз уж его страсть к Пенелопе так сильна (во сне молодой человек совершенно запамятовал, что собирался пожертвовать мисс Лайтфизер), он сам обвенчает их в Самарканде в присутствии Хрущева, Титова и Гагарина — мистер Мак-Миллан извинился, что не сможет приехать. В знак общего признания заслуг Петра Сергеевича Милукина, или Гарри Комптона, Англия дарует ему отпущение грехов, а Советский Союз награждает званием Героя. Все это происходит на глазах умиленной матушки Гарри, ставшей домоправительницей на даче Хрущева, и гордого сыном папеньки, довольно неожиданно превратившегося в митрополита Московского. А миссис Лайтфизер с зонтиком в руке дирижирует балетом, устроенным звездами Большого в честь Пенелопы и Гарри.
Понедельник, 16 часов
Узнав о намерении мужа устроить торжество, леди Демфри позвонила в «Пирл и Клементин» и попросила прислать на выбор несколько готовых вечерних туалетов. Они договорились также, что мисс Лайтфизер приедет на Де Вере Гарденс и подгонит по фигуре выбранное Барбарой платье. Итак, в девять часов утра как всегда улыбающаяся Пенелопа переступила порог особняка, Розмери Крэпет проводила ее в малую гостиную, и почти тотчас же туда явилась леди Демфри. В час дня обеим дамам подали ленч, и Барбара, расспрашивая Пенелопу о житье-бытье, в конце концов вынудила ее поведать о субботних приключениях. Девушка пропела настоящий панегирик Гарри Комптону, так что слушавшая ее с большим интересом леди Демфри вконец растрогалась и заявила, что с удовольствием познакомилась бы с молодым человеком, которого мисс Лайтфизер живописует столь необычными красками.
В четыре часа, когда обе дамы все еще занимались кройкой, шитьем и примерками, Розмери доложила о Дороти Фаррингтон. Леди Демфри, мгновенно утратив хорошее настроение, отправилась встречать супругу второго помощника своего мужа. Правда, она сама вызвала Дороти, намереваясь поручить ей на предстоящем рауте довольно незначительную роль, — таким образом Барбара убивала сразу двух зайцев: во-первых, согласившись, Дороти и в самом деле оказала бы ей услугу, а во-вторых, из ближайшего окружения выпадала особа, которую Барбара считала слишком незначительной и к тому же опасной из-за ее свежести и жизнерадостного нрава.
— Милая Дороти, вы знаете, как я к вам привязана…
— Знаю и благодарю вас за это, леди Демфри.
— Реджинальд никому так не доверяет, как вашему мужу… Короче говоря, вы для нас больше чем друзья… мы считаем вас почти родней, а потому нисколько не сомневаемся, что вы всегда готовы прийти на помощь…
— И вы совершенно правы, леди Демфри!
— Не так ли? Вот поэтому-то я и подумала, что вы не откажетесь в среду вечером, во время приема, одним из лучших украшений которого вы, несомненно, станете, моя дорогая, немного приглядывать за пальто… Я решила устроить раздевалку в зеленой комнате. Разумеется, речь идет вовсе не о том, чтобы превратить вас в гердеробщицу…
— О, разумеется! — повторила уязвленная Дороти, и прозвучавшая в ее голосе горечь весьма порадовала леди Демфри.
— Нет, я прошу вас лишь поглядывать время от времени, все ли в порядке, и очень рада, что вы согласны. Впрочем, я в вас никогда не сомневалась. Такие подруги, как мы, должны помогать друг другу. А теперь — не хотите ли посмотреть на мое новое платье? Мисс Лайтфизер его как раз заканчивает, и мы будем рады выслушать ваше мнение.
Кипя от обиды, Дороти Фаррингтон пошла за хозяйкой дома. Сейчас она мечтала только об одном — чтобы леди Демфри хватил удар и она сию секунду упала мертвой!
16 часов 30 минут
Марджори Рутланд явилась на Де Вере Гарденс точно в назначенное время, и хозяйка дома в очередной раз оценила ее такт.
— Вы намного моложе меня, Марджори, — проговорила Барбара, оставшись с гостьей наедине.
— По виду никогда не скажешь, леди Демфри!
— Какая ерунда! Вы знаете, как я вас люблю, Марджори, и какую симпатию питаю к вашему мужу Герберту…
— Поверьте, мы тоже искренне к вам привязаны, леди Демфри.
— Не сомневаюсь, Марджори. Вот эта-то взаимная симпатия и подсказала мне мысль позвать вас и предложить на выбор любое из моих вечерних платьев.
— Но, леди Демфри…
— Между нами ложный стыд неуместен, Марджори. Мне известно о ваших затруднениях, а я очень хочу, чтобы в среду на приеме вы заняли подобающее вам место. И ни слова больше — а то рассержусь!
17 часов 00 минут
Леди Демфри, Марджори Рутланд, Дороти Фаррингтон и Пенелопа Лайтфизер пили чай. За столом прислуживала Розмери Крэпет. Все слушали рассказ Барбары о том, как ее взволновала нежная забота мужа и его желание торжественно отметить тридцатую годовщину их свадьбы.
— Желаю каждой из вас в свое время испытать подобное удовлетворение, — проникновенно заявила леди Демфри, завершая повествование.
Растроганная Розмери едва не уронила слезу в блюдо с ячменными лепешками, которые она передавала Дороти Фаррингтон. Зато последняя, все еще переживая, что ей придется изображать гардеробщицу, не удержалась от язвительного замечания:
— Даже действуя из лучших побуждений, мужчины всегда остаются эгоистами и пекутся в первую очередь о собственных интересах. Мне бы не хотелось разочаровывать вас, леди Демфри, но, собираясь отпраздновать годовщину вашего союза, сэр Реджинальд думал не только о вас, но и о себе, и… кто знает, возможно, в большей степени именно о себе…
В тот же миг Барбара по-настоящему возненавидела миссис Фаррингтон и дала себе клятву отомстить всеми доступными ей средствами. Вне себя от досады и думая лишь о том, как бы доказать собственную правоту, Барбара Демфри воскликнула:
— Значит, по-вашему, сменив шифр домашнего сейфа и запечатав его моим именем, сэр Реджинальд тоже думал исключительно о себе?
Марджори и Пенелопа задохнулись от восторга, Розмери застыла, по-дурацки открыв рот, но терзавший Дороти бес продолжал толкать ее к весьма прискорбным и предосудительным крайностям.
— Ну, в сейфах хранят всего-навсего деньги…
Барбара не могла стерпеть столь обидное для нее недоверие.
— Что ж, дорогая моя, вот тут-то вы и заблуждаетесь! Реджинальд сменил шифр сейфа как раз потому, что запер там сверхсекретное досье. И, нравится вам это или нет, но теперь мое имя охраняет тайну, от которой зависит судьба всего свободного мира!
Совершенно уничтоженная Дороти Фаррингтон умолкла, зато Барбара упивалась полным триумфом.
— Розмери, — сладко проговорила она, — налейте этим дамам еще немного чаю…
17 часов 30 минут
К половине шестого Гарри покинул Самарканд и, открыв глаза, снова оказался в Лондоне. Возвращение к действительности его немного разочаровало — на душе скребли кошки. Чтобы отделаться от угрызений совести, молодой человек решил напустить на себя крайний цинизм. В конце концов, говорил он себе, было бы непроходимой глупостью жертвовать собой ради этой Пенелопы, с которой я едва знаком. Однако ему так и не удалось настроиться соответствующим образом, а когда пришло время ехать за девушкой в Кенсингтон, по охватившим его радости и нетерпению молодой человек окончательно понял, насколько тщетны все его усилия.
18 часов 00 минут
Ровно в шесть часов вечера Гарри прогуливался по Де Вере Гарденс, ожидая, пока из особняка Демфри выйдет Пенелопа. Увидев его, девушка улыбнулась, и у Комптона сразу перехватило дыхание — если бы она только знала… Бок о бок они направились в сторону Челси. Пенелопа болтала о том о сем, рассказывала о чае у леди Демфри и о любезности горничной, обещавшей пустить ее на прием вместе с дополнительным персоналом. Прием, объяснила она, сэр Демфри устраивает по случаю тридцатой годовщины своей свадьбы. Комптон навострил уши — уж не вырисовывается ли тут чудесная возможность проникнуть в особняк Демфри? Он лицемерно вздохнул:
— Везет вам, Пенелопа… Вот мне ни разу не удалось даже войти в такой шикарный дом…
Пенелопа сразу расстроилась.
— О, Гарри… Я спрошу Розмери, нельзя ли мне взять вас с собой… я… я… скажу ей, что вы мой близкий друг… мой жених…
— Но я очень надеюсь и в самом деле им стать, дорогая!
— С ума сойти, как мы спешим, правда?
— Куда?
И снова в безмятежности лондонского вечера послышался глуповатый смешок Пенелопы.
— Ну и забавный же вы парень, Гарри!.. Позавчера мы впервые заговорили друг с другом, а сегодня вы уже хотите быть моим женихом!
Да, обманывать это несчастное дитя — просто грешно!..
— А что вы скажете, Пенелопа, если я предложу вам поужинать у одного моего друга? Он держит ресторанчик в Сохо…
— Я, конечно, скажу «да», но мама…
— А может, вы ей позвоните и попросите разрешения?
— Вот здорово!
Немного поколебавшись, миссис Лайтфизер дала согласие, но заявила, что поручает дочь чести Гарри Комптона, которому всецело доверяет. Молодой человек на другом конце провода густо покраснел, испытывая к себе все большее отвращение. То, что он делает, по-настоящему мерзко! А что станется с милейшей старушкой миссис Лайтфизер, когда ее дочь пожизненно упрячут в тюрьму?
19 часов 00 минут
Тер-Багдасарьян встретил Пенелопу по-отечески ласково, но это не помешало Гарри счесть, что он поразительно напоминает сказочного людоеда. Армянин настоял на том, что сам угостит их ужином, и предложил молодым людям такие пряные блюда, что их пришлось хорошенько сдабривать пелопоннесским вином. Попробовав его, мисс Лайтфизер сначала поморщилась, но быстро оценила напиток.
20 часов 30 минут
После ужина Комптон повел доверчивую Пенелопу в обиталище господина Багдасарьяна. Сие странное жилище не только не удивило барышню, но, напротив, привело в восторг. Она трогала подушки, рассматривала медные подносы, и в душном полумраке гостиной то и дело слышался дребезжащий смешок. Гарри хотелось плакать.
После кофе и ракии Тер-Багдасарьян счел, что, судя по зрачкам, Пенелопа достигла нужного уровня восприятия и благодаря природной глупости готова поверить самым невероятным россказням. Он положил огромную лапищу на пальчики мисс, слегка потерявшейся в тумане от столь же различных, сколь и обильных возлияний, и скорее пророкотал, чем проговорил:
— Мисс Лайтфизер, с тех пор как познакомился с вами, я все больше верю в небесную благодать.
Немного смущенная Пенелопа ответила лишь глупым хихиканьем, и Гарри стиснул зубы, боясь вскрикнуть от нервного напряжения.
— Представьте себе, когда Гарри, которого я люблю, как родного сына, потому что мы с его отцом были почти братьями… так вот, когда он рассказал мне о вас, я сначала не обратил особого внимания…
— А из какой страны вы родом, мистер Багдасарьян?
— Из какой… Из Армении, дитя мое.
— Вам здорово повезло!.. Мне бы так хотелось побывать в Южной Америке!
Мужчины растерянно переглянулись.
— В вашей стране есть гаучо, мистер Багдасарьян?
Ресторатор начал потихоньку терять терпение.
— Нет, мисс, нет… В Армении нет никаких гаучо, и она вовсе не в Южной Америке!
— Вы уверены?
— Уве…
Тер-Багдасарьян попытался восстановить утраченное душевное равновесие, кляня про себя капиталистический режим, дающий детям подобное образование. Не подозревая о том, что творится в голове у хозяина дома, Пенелопа кокетливо погрозила ему пальчиком.
— Уж не разыгрываете ли вы меня, мистер Багдасарьян? Потому что если Армения не в Южной Америке, то где же ей быть?
— Где? Да в Малой Азии, мисс, или на Ближнем Востоке, если вам так больше нравится. Во всяком случае, частично…
— На Ближнем Востоке? Значит, у вас есть гарем, мистер Багдасарьян?
Армянин издал что-то вроде приглушенного рычания, вскочил и бросился на кухню. Там, подставив голову под кран с холодной водой, он закрыл глаза и прочел наизусть первую главу «Детской болезни левизны в коммунизме». Немного успокоившись, он вернулся в гостиную.
— Если хотите, мисс, мы поговорим о географии как-нибудь в другой раз. А пока я хотел бы рассказать вам об очень, очень большой услуге, которую вы можете оказать Гарри… Эта услуга навсегда приковала бы его к вам узами благодарности, даже если бы наш молодой человек не испытывал к вам тех нежных чувств, о которых он мне поведал… Я думаю, не стоит углубляться в эту тему, вы и сами все знаете, мисс Лайтфизер…
Пенелопа снова хихикнула, и Тер-Багдасарьян, превозмогая искушение ее стукнуть, сжал кулаки.
— Представьте себе, мисс, в жизни Гарри есть одна тайна… Он не решился признаться, опасаясь, что это вас оттолкнет. Дело в том, что его отец сидел в тюрьме…
Мисс Лайтфизер тихонько вскрикнула от ужаса и удивления. Комптон хотел было возмутиться, но суровый взгляд Багдасарьяна отбил у него всякую охоту спорить.
— Без вины, мисс… даю слово… Однако, судя по тому, что мне рассказывал Гарри, вы тоже, мисс, стали жертвой вопиющей несправедливости?
— О да! У «Пирл и Клементин»! Представьте себе, Вирджини Максвелл…
— Знаю, мисс, знаю, но не будем смешивать две разных истории, иначе мы совсем запутаемся! Так вот, вернемся к отцу Гарри… У одного человека есть доказательство его невиновности, но он не хочет представить бумаги суду, потому что боится повредить могущественным людям… Но Гарри считает необходимым обелить имя отца… Это ведь естественно, не так ли?
— Конечно… И я убеждена, что он своего добьется!
— Если вы ему поможете, мисс, — непременно!
— Я? Но что…
— Бумага, где черным по белому написано, что отец Гарри невиновен… Гарри поклялся во что бы то ни стало отобрать бумагу у того, кто прячет ее, не имя на это никакого права…
— Правильно!
— Я счастлив видеть, мисс, что Гарри не ошибся и вы действительно благородная девушка! Позвольте мне поблагодарить вас от имени моего друга Комптона, чья жена умерла с горя, не имея возможности передать единственному чаду незапятнанное имя…
— Не надо, мистер Багдасарьян… Я чувствую, что сейчас заплачу!
— Нет, о нет! Прошу вас! Человек, у которого хранится бумага, нужная нам, чтобы восстановить честь Гарри, — это сэр Реджинальд Демфри.
— Тот самый, на чью жену я сейчас работаю?
— Совершенно верно!
Комптон счел, что Тер-Багдасарьян явно перебарщивает. Никогда Пенни не поверит в такую нелепую историю! Должно быть, подобные сомнения терзали и армянина, ибо он не отводил глаз от мисс Лайтфизер, мучительно раздумывая, как она отреагирует. Но девушка ограничилась лишь одним-единственным изумленным возгласом:
— Бывают же такие совпадения!
Мужчины отозвались таким вздохом, что Пенелопа явственно ощутила дуновение ветра и решила, что по квартире Багдасарьяна гуляют сквозняки. Армянин взял мисс Лайтфизер за руку и наклонился, видимо желая говорить как можно убедительнее.
— Вам достаточно будет осторожно понаблюдать за сэром Демфри и попытаться угадать, где он хранит важные бумаги…
Пенелопа опять хихикнула.
— Да в сейфе же, конечно!
— Очень может быть, но самое сложное — узнать шифр…
— Но я его и так знаю!
— Что? — в один голос воскликнули Багдасарьян и Комптон.
Пенелопа во все глаза смотрела на мужчин, радуясь, что сумела их удивить.
— Это «Барбара», имя леди Демфри.
Армянин ушам своим не верил.
— Вы… вы уверены?
Мисс Лайтфизер объяснила, каким образом ей удалось узнать шифр сейфа, и Комптон решил, что само Небо на их стороне.
— Послезавтра вечером, когда у Демфри будет прием, я попытаюсь забрать бумагу, которая вас так интересует, — добавила девушка.
— Я думаю, лучше попытаться провести в дом Гарри и предоставить столь деликатную работу ему…
— Договорились! Я попрошу Розмери, горничную Демфри, помочь нам. Уверена, что ее это очень позабавит!
Тер-Багдасарьян бросил на Комптона полный отчаяния взгляд.
— Ни в коем случае! Наоборот, все это надо проделать как можно незаметнее, так, чтобы никто ничего не заподозрил. Вы меня понимаете?
— Вроде бы да.
— Значит, мы можем положиться на вас?
— Я сделаю все, что смогу.
— От имени его матери — бедной святой женщины! — и его отца — нашего дорогого мученика! — я благодарю вас, мисс Лайтфизер… Гарри будет вам обязан больше чем жизнью! А теперь, мой мальчик, вот вам три фунта… Пойдите, потанцуйте немного со своей милой, а потом отвезите ее домой.
21 час 30 минут
В предвкушении вечера, который благодаря неожиданной щедрости Тер-Багдасарьяна обещал пройти великолепно, Гарри Комптон пытался заглушить голос совести, все громче и настойчивее звучавший в его сердце. Ощущая тепло Пенелопы, доверчиво державшей его под руку, молодой человек очень хотел по крайней мере в ближайшие несколько часов не терзаться стыдом и забыть о преступлении, которое он должен был совершить против этой бесхитростной девушки, несмотря на то что она его любит (в этом Гарри не сомневался), а он любит ее. Да, Комптон мечтал лишь наслаждаться тем, что он молод, что рядом красивая девушка, а в кармане есть немного денег. Однако невзирая на это страстное желание повеселиться во что бы то ни стало, Гарри вряд ли добился бы успеха, знай он, что, как только они с Пенелопой свернули с Грик-стрит в сторону Сохо-сквер, от стены отделилась какая-то тень и скользнула следом. А уж если бы Гарри Комптону кто-нибудь поведал, что эта тень — не кто иной, как инспектор Эверетт Картрайт, можно поклясться, что страх мгновенно сменил бы его наигранную веселость.
22 часа 00 минут
По предложению Пенелопы они отправились на бал в «Веселого шотландца», дансинг на Кентиш Таун, где собирались в основном мелкие торговцы и служащие. Сначала Гарри скорчил гримасу, но вовремя вспомнил, что располагает всего тремя фунтами, а с такой суммой в кармане было бы довольно затруднительно пригласить Пенелопу в какой-нибудь ресторан Майфэйра пить шампанское.
Едва войдя в «Веселого шотландца», молодые люди еще раз позвонили миссис Лайтфизер узнать, не возражает ли она против того, чтобы они часок-другой потанцевали. Мать Пенелопы отнюдь не выразила восторга, но, как она сама заметила, девочка так мало отдыхает и развлекается, что ее невозможно не понять. Стало быть, миссис Лайтфизер санкционировала отступление от правил, при условии, что Гарри приведет Пенелопу домой не позже полуночи. Молодой человек обещал.
С первого же танца Комптон влюбился пуще прежнего. Как обидно жертвовать такой очаровательной девушкой! Лавируя между другими парочками и усердно избегая столкновений, Гарри мечтал, как он вырывает Пенелопу из когтей британской полиции, побеждает Интеллидженс Сервис, проводит за нос Адмиралтейство и высаживается в Москве с досье «Лавина» в одной руке и Пенелопой — в другой.
Как только молодые люди вернулись за свой столик, какой-то гигант пригласил Пенелопу на вальс. Немного поколебавшись, девушка, к величайшей досаде Гарри, дала согласие, и Комптон проводил ее ревнивым взглядом. Заметив, что танцор прижимает к себе Пенелопу недостойным цивилизованного человека образом и даже — какой скандал! — позволил себе опустить левую руку намного ниже талии, Гарри чуть не сорвался с места. Когда Пенелопа снова оказалась рядом, он не стал скрывать негодование:
— Этот тип вел себя совершенно недопустимо!
— Правда?
— Я запрещаю вам, Пенелопа, — слышите? — запрещаю вам танцевать с этой дурно воспитанной гориллой!
Несколько танцев они исполнили вместе, а потом колосс опять явился приглашать Пенелопу:
— Вы не хотите станцевать это ча-ча-ча, мисс?
— Да, но не с вами.
Задетый за живое парень выпрямился:
— А могу я узнать почему?
— Потому что мой друг считает вас дурно воспитанной гориллой! — объяснила Пенелопа, указывая пальцем на Гарри.
Девушка говорила довольно громко, так что ее прекрасно слышали за соседними столиками, и все разговоры мигом умолкли. Тот, кого сравнили с гориллой, с шумом набрав полную грудь воздуха, повернулся к Гарри:
— Значит, если я ее правильно понял, вы принимаете меня за большую обезьяну?
Комптон не мог отступить, особенно в присутствии любимой девушки, но с невольным почтением вспомнил о Тер-Багдасарьяне и его взгляде на
женщин.
— Вот именно!
— Может быть, вы согласитесь выйти со мной на улицу и дать кое-какие дополнительные пояснения?
— Весьма охотно.
И Комптон, величественно повернувшись к Пенелопе, изрек:
— Подождите меня минутку, дорогая… я только отправлю этого субъекта в зоопарк, откуда он, по-видимому, сбежал!
Это было очень смело, но безрассудно. Через десять минут колосс снова подошел к Пенелопе:
— Если хотите, можете идти подбирать ошметки… в противном случае — за моим столиком есть свободное место.
Девушка встала.
— Прошу прощения, сэр… — робко проговорила она.
И, ухватив за горлышко пустую бутылку из-под шипучего вина, с размаху опустила ее на голову колосса. Тот без звука рухнул на пол. Тут же подошел официант и, с самым невозмутимым видом подхватив незадачливого ухажера под мышки, оттащил во дворик, где и положил рядом с Комптоном. Пенелопа немедленно начала приводить Гарри в чувство, а официант, на которого решительность мисс Лайтфизер произвела неизгладимое впечатление, помог ей дотащить молодого человека до такси, после чего Пенелопа и ее возлюбленный отправились на Саус Гроув.
23 часа 00 минут
Миссис Лайтфизер поблагодарила шофера, дотащившего Гарри до лестничной площадки, и принялась врачевать раны верного рыцаря своей дочки. Бровь рассечена, повреждена скула, из обеих ноздрей разбитого носа сочилась кровь, а один из нижних резцов исчез… Миссис Лайтфизер в свое время работала медсестрой, поэтому она быстро и умело обработала Гарри физиономию и дала выпить немного виски, но молодой человек окончательно пришел в себя, лишь почувствовав, что хозяйка дома (Пенелопа удалилась к себе в комнату) его раздевает. Оскорбленная стыдливость мигом привела Комптона в чувство.
— Миссис Лайтфизер… что… вы делаете?
— Вы же не собираетесь спать одетым, я полагаю?
— Где спать?
— В комнате моего покойного Эдварда… Теперь она стала комнатой для гостей… Вы наденете одну из его пижам — я их и теперь храню.
— Я… я не хотел бы вас стеснять…
— Надеюсь, вы не думаете, что я выпущу вас на улицу в таком состоянии?
— Вы очень любезны, миссис Лайтфизер, но… если вы не возражаете, я разденусь самостоятельно.
Когда Гарри улегся в кровать, на которой некогда спал отец Пенелопы, его охватила такая нежность, что даже боль отступила. В тот же миг дверь отворилась и в комнату вошла мисс Лайтфизер в домашнем халатике и с подносом в руках. Девушка заставила Комптона проглотить целый стакан отвара ромашки и две таблетки аспирина. Молодой человек сейчас заглотил бы что угодно и даже с признательностью вспомнил того жуткого типа — ведь именно благодаря полученной трепке он обрел возможность насладиться минутами такой домашней близости с Пенни.
— Дорогая, — проговорил он, допив лекарство, — у меня остались довольно смутные воспоминания… Мне показалось, будто там, во дворике, горилла лежал рядом со мной… Так это или нет?
— Да, верно… Официант вытащил парня на улицу, надеясь, что на воздухе тот скорее очухается. Он был в полной отключке.
— Но кто же его…
— Я.
— Вы?
— Да… Бутылкой, которую вы заказали, помните? Мне, наверное, не следовало так поступать, но… когда он пришел насмехаться… и потом на какое-то мгновение мне показалось, что этот тип вас убил… Ну, я и схватила бутылку.
Гарри пришел в такое восхищение, что приподнялся и, забыв обо всех правилах британского хорошего тона, обхватил Пенелопу за талию, прижал к себе и с чувством расцеловал в обе щеки. Девушка, испуганно вскрикнув, отскочила.
— Мистер Комптон! Что с вами?
— Я вас люблю, Пенни!
— Это вовсе не причина…
Гарри, напротив, полагал, что причина превосходна, но не стал смущать это невинное дитя.
— Простите меня, Пенни, и дайте руку!
Девушка протянула руку, и Комптон тут же завладел ею.
— А теперь сядьте на стул рядом со мной.
Пенелопа выполнила и эту просьбу.
— Я так счастлив, Пенни…
Дурацкий смешок взмыл к потолку и долго еще вибрировал в комнате, но Гарри уже преисполнился решимости отныне считать его весьма обаятельным.
— Пенни, дорогая, вы потрясающая девушка!
Она снова фыркнула… можно подумать, и впрямь не умеет ничего другого… кроме как бить бутылки о черепа нахалов!
— Как вы думаете, Пенни, если однажды я попрошу вас стать моей женой, вы согласитесь?
— В тот день я и отвечу вам, Гарри…
Теперь молодой человек твердо знал, что не позволит Тер-Багдасарьяну играть жизнью этой девушки. Предать Великобританию — еще туда-сюда, но мисс Лайтфизер — никогда! И Комптон пообещал самому себе открыть Пенелопе красоты марксизма-ленинизма. Он не сомневался, что сумеет уговорить девушку порвать с капиталистическим миром и поехать вместе с ним вкушать радости пролетарского рая. Кроме того, он испытывал бешеное желание попробовать икру, при воспоминании о которой в глазах его отца всегда загорался огонек. А уж если в СССР не едят икру, то где же тогда?
Вторник, утро 10 часов 00 минут
Гарри Комптон открыл глаз (разумеется, тот, который ему не подбили вчера вечером), но, не узнав окружающей его обстановки, снова зажмурился. Однако это движение вызвало острую боль во втором глазу и, таким образом, молодой человек убедился, что больше не спит. В легком обалдении он приподнялся, сел на кровати и, узрев в зеркале свою распухшую физиономию, содрогнулся. Неужели это кошмарное видение — его собственная голова? Однако, осторожно ощупав лицо, он убедился, что никаких иллюзий на сей счет питать не следует. Лихо же обработала его та горилла на балу в Кентиш Таун! Из-за двери доносился звон кухонной посуды, а в комнату проникал аппетитный запах яичницы с беконом, от которого у человека, решившего отказаться от Англии, но никак не от ее традиционных завтраков, потекли слюнки.
Не подозревая, какой опасности подвергается его моральный настрой, Гарри осматривал обстановку, явно не менявшуюся со времен покойного Георга V. На стене — несколько сувениров с южных пляжей, в том числе из Брайтона — этой Мекки Соединенного Королевства и, бесспорно, самого «фотографируемого» города во всей Великобритании. Кроме того, молодой человек узрел довольно оригинальное пастельное изображение хризантем. На маленькой резной этажерке стояли два горшочка для крема и статуэтка королевы Виктории. На камине под стеклянным колпаком, защищавшим их от разрушительного воздействия времени, красовались, по всей видимости, очень старинные часы с британским львом, величественно положившим лапу на весь земной шар. Два кресла и столько же стульев — явно не чиппендейсловские, а подделка. Перед очагом — тканый экран с изображением каких-то негров, не нашедших общего языка с крокодилом. С фотографии как раз напротив кровати какой-то солдат сурово смотрел на Гарри Комптона. Однако вопреки собственному желанию молодой человек чувствовал себя как рыба в воде в этом строгом и удобном обрамлении, символизировавшем мирное течение жизни и череду поколений людей хоть и незаметных, но в самой этой непримечательности черпавших ощущение приятной защищенности.
Убаюканный теплом домашней атмосферы и еще не совсем пришедший в себя от полученных тумаков, Гарри все глубже соскальзывал в самый что ни на есть уклонистский буржуазный конформизм. Ах, как далеко он ушел от досье «Лавина», этот поклонник Пенелопы Лайтфизер! В полудреме он видел себя самого постаревшим на несколько лет, и если он оказался в постели один (а Гарри унаследовал от отца континентальную склонность к совместному супружескому ложу), то только потому, что его любящая жена Пенелопа уже встала готовить завтрак и будить детишек, чтобы они не опоздали в школу. Мальчика зовут Гарольд, а девочку — Петула, она очень похожа на мать и обещает вырасти почти такой же красивой. Накануне малыши слишком перевозбудились и их с трудом удалось отправить в постель. А все потому, что вчера после уроков им сообщили, что оба будут участвовать в рождественской пантомиме. Нежась в постели, Гарри думал, что непременно подарит Пенни платье, чтобы она пошла на праздник в обновке… Мало-помалу мечтатель снова погружался в сон, но не успел он заснуть окончательно, как вдруг из глубины подсознания раздался жуткий голос:
«Неужто это тебя, Петр Сергеевич Милукин, радует подобное будущее? И зачем же ты столько всего учил, если ведешь себя подобно колониалистам времен трансваальской войны? А знаешь ли ты, что на тебя устремлено око СССР? Что досье «Лавина» может стать пьедесталом, на котором тебе воздвигнется слава в веках? Да как ты смеешь предпочитать старые, капиталистические предрассудки, которые отвращают еще неразвитые умы от простых истин марксизма-ленинизма? Петр! Если ты чист душой и достоин, чтобы в один прекрасный день тебя перед всем Верховным Советом поцеловал в губы товарищ Хрущев или его преемник, немедленно плюнь на все, что тебя сейчас окружает, поскорее оденься и беги, ни с кем не попрощавшись! Ты ничем не обязан этим женщинам, благодаря одной из которых тебя чуть не прикончили! Помни, что обе они — рабыни эксплуататорского капиталистического режима! Спасайся, Петр!»
Гарри уже опустил одну ногу на пол, но в дверь постучали. Молодой человек поспешно юркнул под одеяло.
— Входите…
Миссис Лайтфизер посмотрела на него с материнской улыбкой.
— Ну, я вижу, вы снова приобрели человеческий вид.
Припомнив отражение в зеркале, Гарри решил, что у хозяйки дома, должно быть, весьма странные знакомые, если такое личико кажется ей нормальным.
— Удалось вам поспать?
— Да, миссис Лайтфизер, благодаря вам и… Пенелопе. Ее нет дома?
— Пенни уехала работать в Кенсингтон, но я обещала ей не отпускать вас до ее возвращения… Впрочем, уже больше десяти часов. Идите завтракать. Вы любите хорошо прожаренные яйца?
— Если можно…
Такая забота потрясла молодого человека до глубины души.
— Очень красивая комната, — заметил он, желая сделать приятное хозяйке дома (в конце концов, политические взгляды не мешают быть вежливым).
Но Гарри к тому же говорил совершенно искренне. Миссис Лайтфизер, сложив руки, села рядом.
— Да… это наша с Эдвардом комната… Я перебралась в другую, узнав о его смерти… Просто не могла жить здесь одна, понимаете?
Сентиментальный Комптон почувствовал комок в горле, а потому лишь кивнул в знак сочувствия.
— Знаете, мистер Комптон, мой муж был замечательным человеком, и я очень хотела бы, чтобы моя Пенелопа встретила такого же. Мистер Комптон…
— Да, миссис Лайтфизер?
— Вы любите мою Пенелопу?
— Думаю, что да, миссис Лайтфизер.
— До такой степени, что хотите жениться?
— Думаю, да, миссис Лайтфизер.
— Она хорошая девочка… К несчастью, она не… как бы это сказать?.. не слишком хитра… Вы понимаете, что я имею в виду?
— Очень хорошо понимаю, миссис Лайтфизер.
— И… вас это не смущает?
— Нисколько, миссис Лайтфизер.
— Мне многие и довольно часто говорили, что Пенелопа порой ведет себя как умственно отсталая, но я отказывалась верить до тех пор, пока она не записалась в коммунистическую партию…
Возмущение оказалось сильнее него, и Гарри не выдержал:
— Значит, вы думаете, что только полный идиот может вступить в коммунистическую партию? Так, миссис Лайтфизер?
Тон Комптона поразил старую даму.
— А вы разве не согласны со мной? — удивленно спросила она.
Гарри опустил голову и чуть слышно пробормотал «да», мысленно прося прощения за подобное ренегатство у духов Ленина, Маркса и прочих прародителей нынешних, прежних и будущих несгибаемых коммунистов.
11 часов 00 минут
В кабинете адмирала Норланда, где присутствовал также и сэр Реджинальд Демфри, инспектор Картрайт докладывал о результатах своего расследования:
— Разумеется, все, что я вам расскажу, строго конфиденциально… Малейшая нескромность может разрушить все наши планы.
Адмирал и сэр Реджинальд Демфри заверили, что на них вполне можно положиться.
— Мы знаем, что служащий советского посольства Баланьев часто встречается с хорошо известным нашим службам человеком — неким содержателем ресторанчика в Сохо. Это армянин с очень дурной репутацией. Мы подозреваем, что именно ему Баланьев поручает практическую сторону всех задуманных им преступлений. Фамилия ресторатора — Тер-Багдасарьян. Наиболее трудные операции всегда ведет Баланьев. Однако мы подумали, что он вряд ли доверит похищение досье «Лавина» уже известному нам агенту вроде Багдасарьяна и, скорее всего, попытается использовать темную лошадку. Поэтому мы стали следить за Баланьевым и Багдасарьяном. Слежка за первым не привела ни к чему. Должно быть, он догадывается о наблюдении и боится вывести нас к мозговому центру всей операции, тому, кто все решает, все организует и о ком нам до сих пор не удалось узнать ровно ничего.
Сэр Реджинальд Демфри испытывал столь глубокое доверие ко всем британским государственным институтам, что никак не мог спокойно допустить признания в собственном бессилии со стороны сотрудника Интеллидженс Сервис.
— Но как это может быть, мистер Картрайт?
— Это очень сильный противник, сэр. Зато с Багдасарьяном нам повезло гораздо больше. Однажды мы выследили его по дороге в Бристоль, откуда он вернулся в сопровождении молодого человека весьма приличного вида. Проведенное на месте расследование показало, что это британский гражданин, сын белорусского беженца, получившего у нас убежище. Поэтому молодого человека зовут Петр Сергеевич Милукин. Наши догадки окончательно подтвердились, когда Милукин поселился в Блумсбери и, использовав поддельные документы, стал называться Гарри Комптоном.
Адмирал стукнул по столу:
— Ничего не понимаю во всех этих маневрах! Почему вы не арестуете этого типа?
— Чтобы его не заменили кем-то, кого окажется труднее выследить. Честно говоря, мы очень рассчитываем, что этот дебютант, наделав ошибок, заставит раскрыться своих хозяев. А мы пока подождем. Кроме того, сведения о Комптоне, полученные из Бристоля, нас очень обнадежили. Судя по всему, это на редкость простодушный малый, которого втянули в авантюру в минуту раздражения и досады… Похоже, он не слишком серьезно воспринимает свою миссию, но бессознательно использует временные преимущества, которые ему предоставляют.
— А что навело вас на мысль, будто молодой человек несерьезно относится к возложенной на него задаче? — удивился сэр Реджинальд.
— Самое старое в мире доказательство: он влюблен, сэр!
— Правда?
— Да, и влюблен в девушку, которая пользуется отличной репутацией как в своем квартале, так и на работе… Это мисс Пенелопа Лайтфизер.
Демфри вздрогнул:
— Что вы сказали?
— Мисс Пенелопа Лайтфизер.
— Лайтфизер… кажется, я слышал эту фамилию…
— Конечно, сэр. Так зовут молодую особу, которая работает у вашей супруги.
— Вот оно что! Но тогда…
— О да, сэр… Наш Комптон, несомненно, любит мисс Лайтфизер — еще вчера вечером он полез из-за нее в драку, заранее зная, что будет избит. Однако поскольку Комптон водил девушку к Багдасарьяну, можно сделать вывод, что ее положение в вашем доме, сэр, не оставляет его равнодушным… Думаю, именно благодаря мисс Лайтфизер молодой человек надеется добраться до вашего сейфа.
12 часов 30 минут
Это утро, проведенное Гарри Комптоном в маленькой квартирке на Саус Гроув, было одним из самых приятных за все двадцать восемь лет его существования, и, когда вернулась Пенелопа, молодой человек счел вполне естественным разделить с дамами ленч. Миссис Лайтфизер слыла превосходной кулинаркой — то есть все тщательно варила и подавала к мясу и овощам ассортимент соусов, способный пробудить аппетит у самых угрюмых жителей Соединенного Королевства. После ленча Гарри попросил у миссис Лайтфизер разрешения поговорить с Пенелопой наедине. Получив согласие, девушка отвела воздыхателя в свою комнату, но позаботилась оставить дверь приоткрытой.
— Пенелопа, дорогая… надо…
— Нет, подождите! Сначала моя очередь! Я видела Розмери — она согласна встретить нас обоих завтра вечером и провести на прием к Демфри… Сколько же роскошных туалетов мы увидим! Вы довольны?
— Еще бы!.. Пенелопа, у меня произошел серьезный разговор с вашей матерью.
— С мамой? А о чем?
— Мы говорили о вас, Пенни. Я сказал, что люблю вас так, что готов жениться, если вы не против.
— О Гарри! Уж не просите ли вы случайно моей руки?
— Да, я и в самом деле прошу вашей руки, Пенни, но не случайно, а по зрелом размышлении.
— Вот уж не знаю, плакать или смеяться.
И то и другое было бы крайне неприятно, и Гарри попросил девушку не нервничать.
— Осторожно, Пенелопа!
— Осторожно… с чем?
— Я пока еще не просил вашей руки.
— Но я думала…
— Нет. Сначала надо прояснить несколько вопросов. Если мы станем мужем и женой, Пенелопа, согласны ли вы жить в России?
— У царя?
— Как это, у царя? Но, послушайте, там уже сорок пять лет нет никакого царя!
— Жаль…
— Почему?
— Из-за троек…
— Прошу вас, Пенелопа, давайте говорить серьезно! Вы знаете, что наш разговор может иметь неисчислимые последствия?
— Решительно, я чувствую, что сейчас заплачу…
— Сдержитесь, Пенелопа, сейчас не время!
— Вы думаете?
— Уверен!.. Но вы мне не ответили… Вы поедете со мной в Россию?
— Почему бы и нет? По-моему, путешествовать должно быть очень приятно…
— Ну а жить там все время?
— С вами и с мамой?
— Если ваша матушка согласится нас сопровождать, я с удовольствием увезу и ее.
— Тогда я согласна, Гарри.
— Только… есть одно условие… Сначала я должен забрать у сэра Демфри досье, касающееся моего отца.
— Мы его заберем!
— Дорогая! Верьте мне, и Англия горько пожалеет, что не оценила вас по достоинству!
— О!
Гарри пребывал в такой экзальтации, что не соображал толком, что говорит.
— Поймите меня, дорогая! Я презираю англичан, шотландцев и валлийцев! Это не их кровь, а кровь запорожских казаков течет в моих жилах!
Испуганная девушка, приоткрыв рот, наблюдала, как Комптон жестикулирует, раздумывая, уж не повредил ли колосс из дансинга ему мозги.
— Но, Гарри, я ведь англичанка…
— Выйдя за меня замуж, вы перестанете быть ею!
— Почему?
— Потом объясню!
— О Гарри, я больше ничего не понимаю, а в таких случаях я всегда плачу.
— Нет, Пенни, вам следовало бы петь и танцевать!
Теперь она уже не сомневалась, что молодой человек тронулся умом.
— Может, вам лучше снова лечь, Гарри?
Тошнотворный прагматизм! Все вдохновение Гарри мигом улетучилось.
— Что вы сказали?
— Вам надо лечь, мама поставит вам горчичник…
— Горчичник? Разве вулкану ставят горчичники?
— Какому вулкану?
— Мне!
— Господи! Вы принимаете себя за вулкан?
— Да, Пенелопа, я вулкан и пылаю из-за вас!
Перепуганная девушка отступила. Комптон, уже не владея собой, бросился ее целовать, но в ту же секунду его подсознание, вымуштрованное по всем правилам строжайшего пуританизма, возмутилось, и молодой человек так и застыл, обнимая воздух и не соображая толком, что делать. Сказывалось материнское воспитание. Но вдруг, словно негодуя, что в столь важный момент ее задвигают на второй план, кровь отца Петра Сергеевича Милукина дала о себе знать с неистовством, достойным героев Достоевского. Гарри бросился на колени перед своей милой и, обхватив ее ноги, начал рыдать, стонать и каяться с чисто славянским мазохизмом.
— Пенелопа Лайтфизер, я прошу у вас прощения… — Он не называл ее на «ты», поскольку в английском языке эта форма отсутствует, что несколько портит задушевность такого рода исповедей. — Я негодяй! Я злоупотребил вашим гостеприимством!.. Я обманул вашу мать, эту святую женщину!.. Обманул вас! Гоните меня отсюда пинками, и я буду счастливейшим из людей! Прикажите мне утопиться в Темзе, и я побегу туда, благословляя ваше имя! Пенелопа, сам ад еще не порождал более гнусного чудовища, чем я!
Зарывшись лицом в юбку девушки, Гарри рыдал, икал, душераздирающе стонал — короче, отцовская кровь окончательно возобладала над материнской. Мисс Лайтфизер, само собой разумеется, не могла понять столь странных проявлений чувств и не знала толком, то ли смеяться, то ли звать на помощь.
— Может, вы встанете, Гарри? — робко предложила она. — Кажется, такое поведение не вполне прилично, правда?
— Я не поднимусь, пока вы меня не простите!
— Но что я должна вам… простить, Гарри?
— То, что меня зовут вовсе не Гарри!
— Так вас зовут не…
— Нет, жестоко обманутое невинное создание! Меня зовут Петр Сергеевич Милукин!
— Это… это очень красиво…
Не без отвращения, но зато слегка успокоившись, молодой человек встал. Оставалось лишь смириться с неизбежным, и Гарри в знак полного непонимания развел руками:
— Ей бы следовало плюнуть мне в лицо! Топтать ногами! А она говорит, что это очень красиво!
— А вам разве не нравится фамилия Милукин?
Комптон окончательно запутался. Отчаяние сменилось бешеным желанием объяснить и убедить. Не думая о последствиях, ему хотелось разбить, сломать этот непрошибаемый панцирь наивности, окружавший Пенелопу подобно водолазному колоколу, и заставить девушку взглянуть правде в глаза, какой бы отвратительной ни оказалась эта правда.
— Пенни… Умоляю вас, послушайте меня и попытайтесь понять! Я вас не стою… Подчиняясь этому подонку Багдасарьяну, я хотел воспользоваться вашей наивностью, но я люблю вас, Пенни! Да, люблю и особенно хорошо понимаю это именно теперь, когда так явственно отдаю себе отчет, что вы можете лишь презирать меня!
— Почему?
— Потому что я самое подлое создание, которое вы только можете представить!
Британский здравый смысл подсказывал мисс Лайтфизер не слишком доверять крайностям.
— А вы уверены, что не преувеличиваете, мистер Комптон?
— Преувеличиваю? Но я же шпион! Понимаете? Шпион!
— Шпионы мне тоже очень нравятся…
В тот же миг лирический порыв Петра Сергеевича Милукина внезапно иссяк.
— Вам нравятся шпи… — пробормотал он.
— В кино это всегда на редкость привлекательные джентльмены…
Теперь, когда невозмутимость Пенелопы заразила и его, к Гарри вернулось утраченное хладнокровие, и он с ужасом сообразил, какую опасную чушь болтает уже добрых полчаса. Комптон и так предал Англию, которой был обязан решительно всем, а теперь еще и изменил СССР, и все это — впустую! Его охватило непреодолимое желание умереть. Молодой человек полагал, что больше не имеет права на жизнь. В ту же секунду он подскочил к Пенелопе, с чувством расцеловал в обе щеки и, отстранившись, трагическим тоном изрек:
— Прощайте, Пенелопа… Я бы хотел сделать вас счастливой, но это невозможно. Теперь все погибло! Я проклят! Остается лишь исчезнуть…
И, оттолкнув миссис Лайтфизер, явившуюся проверить, куда запропастились молодые люди, он бросился к двери, распахнул ее и умчался прочь. Старая дама со свойственной ей флегмой спокойно заметила:
— Слишком пылкий молодой человек, правда?
13 часов 30 минут
Когда Гарри Комптон выскочил из подъезда дома, где жили дамы Лайтфизер, Эверетт Картрайт только что сменил на посту коллегу. Инспектор Интеллидженс Сервис последовал за молодым человеком. Один за другим они сели в метро на Кентиш Таун, на Черринг Кросс пересели с Северной линии на Дистрикт Лайн. Наконец Комптон вышел на Патни Бридж и направился к докам, по всей видимости твердо решив броситься в воду. Однако в самый ответственный момент Картрайт схватил его за руку.
— Куда это вы собрались, мой мальчик?
— В ад, отпустите меня!
— Не принуждайте меня лупить вас по голове, дабы поставить мозги на место! Мне это было бы тем более неприятно, что ваше лицо, кажется, и так не совсем в порядке…
— Отвяжитесь, или я сам вас стукну!
— И сделаете глупость… Меня лучше не сердить… Но, послушайте, в вашем возрасте не кончают жизнь самоубийством!
— Да, если ты последняя сволочь!
— Ну, раз вы отдаете себе в этом отчет, дело не так безнадежно, как вам кажется.
Эти слова, по-видимому, тронули Гарри.
— Вы и в самом деле так думаете?
— Да.
— Спасибо. Кроме того, у меня еще остается возможность искупить вину…
Инспектор испугался, как бы рвение этого странного молодого человека и его внезапные угрызения совести не загубили всю операцию, так тщательно подготовленную Интеллидженс Сервис. Но каким образом отговорить его от намерения вернуться на правильную стезю, не возбудив подозрений? Не зная, что предпринять, Картрайт предложил Комптону выпить.
— Не каждый день выпадает случай спасти кому-нибудь жизнь… По-моему, это надо отметить… И потом я знаю одного молодого человека, который наложил на себя руки только потому, что в нужный момент не нашлось никого, кто сумел бы его отговорить и доказать, что жизнь — очень стоящая штука…
Не знай Эверетт Картрайт о тайной деятельности Комптона, он бы ровно ничего не понял в аллегорических объяснениях молодого человека. Тот нес какую-то ахинею о матери-кормилице, которую он предал ради другой матери, на сей раз — идеологической, хотя обе они — не женщины… Потом стал восторгаться Пенелопой, невинной жертвой, чья доверчивость превосходит все возможные границы. Так вот, он, Комптон, оказался таким мерзавцем, что вознамерился использовать эту наивность и нежные чувства девушки в не слишком благовидных целях. Меж тем для Пенни все это могло бы закончиться пожизненным тюремным заключением… А ведь она, бедняжка, ровно ничего не понимает и даже не догадывается, во что ее втягивают!
— А теперь, когда вам все известно, скажите, думаете ли вы по-прежнему, что я должен жить?
— По возрасту я гожусь вам в отцы… А потому позвольте уверить вас, что никогда не следует пытаться угадать, куда ведет нас судьба. Пути Господни неисповедимы… И, по-моему, противиться бесполезно.
— Так вы считаете, мне надо продолжать в том же духе?
— Да! Пока явственно не угадаете, не почувствуете, в чем ваш долг…
Проводив своего подопечного до станции метро Патни Бридж, Картрайт немедленно позвонил адмиралу Норланду и рассказал обо всем происшедшем. Норланд ответил, что этот Милукин, или Комптон, начинает ему нравиться и было бы очень жаль, если бы та или иная из враждующих сторон поспешила отправить его в лучший мир.
Немного взбодрившись после разговора с Картрайтом, Гарри стал обдумывать положение, ничего не смягчая, но стараясь мыслить трезво. Согласившись работать на Багдасарьяна, он, бесспорно, поступил гнуснейшим образом, во-первых, по отношению к Англии, где нашел пристанище его отец, а во-вторых, — к очаровательной Пенелопе и ее матери. Открыв же Пенелопе истинный характер своей деятельности, он изменил Багдасарьяну, благодаря щедротам которого жил в последние месяцы, не заботясь о завтрашнем дне. Короче, как ни крути, вел он себя премерзко. Гарри обуревала великая жажда самопожертвования. И перед смертью (а молодой человек вовсе не думал отказываться от своих мрачных замыслов) он твердо решил хотя бы отчасти искупить содеянное зло.
15 часов 00 минут
В ресторане на Грик-стрит Комптону сообщили, что Тер-Багдасарьян у себя дома. Он отправился туда. Армянин не любил, когда нарушали его сиесту, и встретил гостя весьма нелюбезно.
— Я уже просил вас, товарищ, никогда не приходить сюда без спросу. Может, надо разговаривать в приказной форме, чтобы до вас дошло?
Но и Гарри пребывал далеко не в радужном настроении.
— Вот что, Багдасарьян, послушайте меня хорошенько: плевать я хотел на ваши приказы!
Армянин, выронив наргиле, вскочил с дивана.
— Что? Что вы сказали? Что вы посмели сказать?
— Повторяю: я больше не считаю вас своим шефом, потому что решил покончить с этим ремеслом!
— Так-так…
Багдасарьян налил себе немного кофе, забыв предложить гостю.
— Но, как порядочный человек, я пришел сказать, что невольно вас предал.
Вне себя от волнения, армянин не заметил, что кофе льется мимо чашки, нанося непоправимый урон шелковой наволочке. Наконец он с трудом выдавил из себя:
— Я… н-не… п-понимаю…
Комптон рассказал о вчерашней схватке с гориллой и о полученных ранах, следы которых еще виднелись на его лице, о гостеприимстве миссис Лайтфизер, о нежной заботе обеих женщин и об угрызениях совести, охвативших его при мысли, что он отплатит за все это черной неблагодарностью, и, наконец, о своей исповеди. О попытке самоубийства Комптон умолчал.
Армянин, с трудом оправившись от потрясения, пришел в дикую ярость:
— Так я и знал! Я это предвидел! Я не хотел с вами связываться и был совершенно прав! А все — кровь вашей чертовой матери-англичанки!
— Извольте говорить о моей матери в другом тоне, или я вам морду разобью!
Тер-Багдасарьян покосился на молодого человека.
— Вот как, вы разобьете мне морду?
Молниеносным движением он выхватил из кармана внушительный нож, нажал на кнопку и выбросил длинное, острое, как бритва, лезвие.
— Мне было бы очень любопытно взглянуть, как вы это сделаете, Петр Сергеевич!
Гарри тут же умолк — в глубине души он смертельно боялся армянина. Но тот, видимо, пришел в себя и снова убрал нож.
— Ссориться — бесполезно, — заявил он. — А вот меры принять необходимо… Как эти женщины отреагировали на ваши слова?
— Как миссис Лайтфизер — не знаю, а Пенелопа призналась, что любит шпионов. Думаю, она мне не поверила.
— Вы полагаете, они заявят в полицию?
— Нет, ни в коем случае!
— А вы не упоминали… обо мне?
— Я… кажется, да…
— В каких словах?
— Боюсь, не слишком лестных…
Окончательно взяв себя в руки, армянин снова сел на диван, закурил наргиле и стал спокойно пускать колечки. Помолчав минуту-другую, он бесстрастно заметил:
— Петр Сергеевич Милукин, вы не можете не знать, какая судьба ожидает предателя…
— Да.
— Тогда самое умное, что вы можете сделать, — это приготовиться к смерти.
— Я готов.
Багдасарьян метнул на него быстрый взгляд.
— Это не так просто, как вы, по-видимому, воображаете, товарищ…
— То есть?
— Мне было бы несложно вас убить, но я отказываюсь действовать по собственной инициативе… Такие вещи решают наверху.
— Так позвоните шефу! Чего канителиться-то?
Армянин пожал плечами:
— Я не знаю шефа, Гарри Комптон.
— Не морочьте мне голову!
— Я знаю лишь человека, от которого получаю приказы, но над ним есть другой, и его мало кто из нас видел… во всяком случае, не я… А от него-то в конечном счете и зависит ваша судьба.
Багдасарьян производил впечатление человека медлительного, но сейчас он одним прыжком соскочил с дивана.
— Сидите здесь, Петр Сергеевич, и ждите моего возвращения!
— А куда, по-вашему, я мог бы уйти?
16 часов 30 минут
В помещении за лавкой бакалейщика, оказывавшего им гостеприимство, Тер-Багдасарьян, сидя напротив улыбающегося Федора Александровича Баланьева (причем от этой улыбки у него кровь стыла в жилах), пересказывал исповедь Комптона. Дослушав до конца, русский вздохнул:
— Все это крайне неприятно, дорогой Багдасарьян… во-первых, из-за ваших планов, которые, по-моему, оказались под угрозой… а во-вторых, потому что нам, очевидно, придется избавиться от целого ряда товарищей…
Армянину показалось, что его сердце сжала ледяная рука.
— Эти бристольские информаторы — просто болваны! Как они могли рекомендовать нам этого типа? Ладно, пусть поучатся, что такое чувство ответственности, в Сибири! И я сильно опасаюсь, дорогой Багдасарьян, как бы вам не пришлось их сопровождать…
— Мне?
— Вы продемонстрировали весьма прискорбное отсутствие чутья, дорогой Багдасарьян… я бы даже сказал, пагубное…
— Но как же я мог предвидеть, товарищ комиссар, что этот тип так стремительно впадет в мелкобуржуазную сентиментальность?
— Дорогой Тер-Багдасарьян, вам не хуже моего известно, что в нашей стране дар предвидения — необходимое условие выживания… Если я доложу о вашем промахе, дорогой Тер-Багдасарьян, наверняка найдутся люди, которые припомнят, что до тысяча девятьсот пятьдесят третьего года у себя в Ереване, в своей родной Армении, вы никогда не упускали случая воспевать Сталина… Помните, дорогой Тер-Багдасарьян, с каким энтузиазмом вы воспринимали культ личности?
— Так то до пятьдесят третьего, товарищ комиссар!
— Вся сила нашего законодательства в том, что оно не признает давности лет в отношении преступлений против государства. Вам очень нравится в Лондоне, Тер-Багдасарьян?
— Честно говоря…
— Ну да, ну да… Я слыхал, что ваш ресторан процветает и вам удается выжимать немало денег из этих свиней капиталистов-империалистов?
— Не больше, чем позволяет закон, товарищ комиссар!
Баланьев дружески хлопнул армянина по ляжке:
— Ох уж этот Багдасарьян!.. Боитесь ведь, что я отзову вас домой именем Партии?.. Жаль было бы покидать такое уютное гнездышко в Сохо и возвратиться в Армению… а то и оказаться в старой доброй Темзе, не так ли, дражайший?
— Вне всякого сомнения, товарищ комиссар.
— В таком случае, дорогой Тер-Багдасарьян, поскольку мы не можем медлить с похищением досье «Лавина», вот что вам придется сделать… и добиться успеха, если, конечно, вы не жаждете навлечь на себя крупные, очень крупные неприятности…
17 часов 30 минут
Гарри Комптон уже начал подумывать, что ожидание слишком затянулось. Армянин ушел больше часу назад. Внезапно тот вырос перед ним, хотя молодой человек не слышал, как он вернулся. Гарри сразу заметил расстроенный вид ресторатора, чье дурное настроение немедленно сказалось на нем.
— По вашей вине, Петр Сергеевич Милукин, я рискую погибнуть самым скверным образом, а главное — гораздо раньше срока. И только потому, что на меня возлагают ответственность за все ваши глупости! Но имейте в виду, я вовсе не собираюсь умирать! Я виделся с тем человеком. Излишне говорить, что он крайне недоволен вами, но операция уже начата, и мы никак не можем изменить ее ход. Все уже размечено, и главные действующие лица получили предупреждение. А потому волей-неволей вам придется продолжать и добыть для нас досье «Лавина».
— Я отказываюсь!
— Отказываетесь, Петр Сергеевич?
— Я чувствую, что не гожусь в шпионы, и, кроме того, в конечном счете, пожалуй, предпочту жить в Англии, а не в СССР.
— Правда? А вам не кажется, что это решение малость запоздало?
— Во всяком случае, никто и ничто не заставит меня передумать!
— О, вы ошибаетесь, Петр Сергеевич… Я это сделаю!
— Вы? И каким же образом?
— Да очень простым, Петр Сергеевич. При первой же попытке неподчинения с вашей стороны, при малейших признаках дурных намерений очаровательная мисс Лайтфизер отправится в мир иной!
— Вы не посмеете!
— Еще как посмею, дорогой Петр Сергеевич! А чтобы доказать вам, что мы ни перед чем не отступим, сегодня вечером, когда вы поведете свою Пенелопу в кино, я прикончу ее драгоценную мамашу.
— Но… за что?
— Да просто потому, что она имела несчастье слышать ваши излияния. Добавлю кстати, что, если вы тем или иным способом помешаете мне выполнить эту миссию, мое место немедленно займет другой, но начнет он с мисс Лайтфизер, а уж потом отправит дорогую старую маму следом за дочкой. У нас тоже есть культ семьи, ясно?
— Какой же вы подлец, Багдасарьян!
— А иначе как бы я выжил, кретин несчастный?
— А что, если я вас убью?
— Даже если бы у вас это вышло, в чем я глубоко сомневаюсь, это означало бы приговорить к смерти мисс Лайтфизер. Никто не заставлял вас перейти на нашу сторону, Петр Сергеевич Милукин, так ведь? Нам и в голову не приходило вас искать. Нет, вы пришли к нам сами, по доброй воле, отлично зная, что обратного пути нет. Если бы вы внимательно изучали марксизм-ленинизм, ни за что не поддались бы каким-то жалким угрызениям, порожденным религией, этой служанкой капитализма. В борьбе, которую мы ведем, нам нужны не любители романов-фельетонов, а люди, свободные от всяких реакционных предрассудков. Вы заявили, будто принадлежите к числу последних, и мы вам поверили. А у нас не принято допускать даже мысль о возможной ошибке. И зарубите это себе на носу, Петр Сергеевич. Вы станете Героем Советского Союза и при желании сможете сделать мисс Лайтфизер достойной гражданкой нашей страны!
— Но как же ее мать?
— О ней больше и речи быть не может! Вы неблагодарны, дорогой товарищ… Вас, между прочим, избавляют от будущей тещи… Следовало бы спасибо сказать, разве нет? Подумайте обо всех тех, кто был бы счастлив, окажи мы им подобную услугу!
20 часов 00 минут
Гарри Комптон чувствовал, что встретиться с матерью Пенелопы — выше его сил. Ни за что он не сможет беззаботно болтать с этой славной женщиной, зная, что ее в ближайшие несколько часов убьют. Как же он посмотрит ей в глаза? Каким образом, пригласив Пенелопу в кино, смотреть, как девушка прощается с матерью, нисколько не догадываясь, что больше не увидит ее живой? Гарри опасался, что не сможет скрывать правду, весь вечер проведя наедине с девушкой. А возвращение?.. Посмеет ли он проводить ее и поддержать в ту минуту, когда она обнаружит тело миссис Лайтфизер? Это будет тем ужаснее, что Тер-Багдасарьян наверняка пустит в ход нож… И однако Гарри должен выдержать это кошмарное испытание ради спасения Пенелопы. Он слишком хорошо знал, что те люди ничего не забывают и не прощают.
Молодой человек поднимался по лестнице очень медленно. Он задыхался, в горле пересохло от мучительной тревоги, сердце стучало как бешеное — Гарри нес свой незаметный со стороны крест и пошатывался под его тяжестью. И однако он жаждал, чтобы лестница никогда не кончилась.
Миссис Лайтфизер и ее дочь встретили молодого человека так спокойно и мило, будто и не было никакой нелепой сцены исповеди, достойной самого скверного выступления провинциальной труппы. К несчастью, при виде старой дамы Гарри ощутил непреодолимое желание снова упасть на колени, на сей раз — прося благословения. Десятки поколений Милукиных не желали оставить в покое своего потомка.
— Вы уже пили чай, дорогой Гарри?
И они решили убить такую милую женщину! Волна негодования подняла Гарри со стула.
— Нет, миссис Лайтфизер…
— В таком случае Пенни сейчас приготовит вам чашечку, и вы отведаете вот этого кекса… Это я его пекла… Получилось не слишком удачно, но я поняла, в чем ошибка, и в следующий раз сделаю лучше…
В следующий раз!.. Комптон едва не взвыл от горя! Бедная добрая миссис Лайтфизер, ей больше не представится случая испечь кекс! Молодой человек так страдал, что даже не поблагодарил Пенелопу за чай и позволил ей бросить в чашку три куска сахара, хотя всегда пил несладкий. Как бы ему хотелось увидеть Багдасарьяна связанным по рукам и ногам и медленно, потихонечку вытянуть из него все жилы в отместку за муки, которые он, Гарри, сейчас испытывал!
Когда миссис Лайтфизер заговорила с ним о давно задуманном ею путешествии в Девон, Комптон не выдержал и под влиянием горячей милукинской крови снова плюхнулся на колени на глазах у изумленных женщин. Драматизм сцены несколько сглаживало то обстоятельство, что Гарри и миссис Лайтфизер разделял стол, так что старая дама видела лишь голову и плечи Комптона.
— Вы плохо себя чувствуете, мистер Комптон?
— Простите! Простите меня!.. Если вы меня не простите, я сейчас же выброшусь в окно!
Миссис Лайтфизер посмотрела на Пенелопу. Девушка улыбнулась.
— Не пугайся, мама, я думаю, у него такая привычка, — мягко объяснила она. — Сначала это очень удивляет, но в конце концов, наверное, можно привыкнуть.
— Но, дорогая, он что, и в обществе ведет себя так же?
— До сих пор ничего подобного не случалось, мама.
Пенни глупо хихикнула и, подойдя к Гарри, положила руку ему на плечо.
— Лучше сядьте, Гарри. Тогда вам будет гораздо удобнее пить чай, правда?
В глубине души Комптон смутно надеялся, что они поймут, но, услышав прозаическое замечание Пенелопы, понял, что ошибался.
— За что же вы просили прощения, мой мальчик? — спросила миссис Лайтфизер.
— За все глупости, которые я наболтал вашей дочери сегодня утром!
Пенелопа снова рассмеялась.
— Надеюсь, вы не воображаете, будто я поверила всем вашим россказням, Гарри? Мама, Гарри пытался внушить мне, будто он шпион, предает Англию и на самом деле его зовут не Гарри Комптон, а Петр… уж не помню, как дальше. По-моему, он называл фамилию какого-то танцора.
Старая дама сурово покачала головой:
— Вероятно, наш молодой человек немного переел, или же это последствия вчерашней драки.
Вконец расстроенный Комптон встал, мысленно отдавая должное проницательности Никиты Хрущева, — ослепление империалистов и в самом деле граничит с полной слепотой! Внезапно он почувствовал, что совершенно обессилел и в то же время успокоился. Неверие Пенелопы гарантировало неоценимую помощь в осуществлении его миссии, именно потому что девушка ни о чем не догадывалась. Ах, если бы только Багдасарьян не решил прикончить миссис Лайтфизер!.. Сообразив, что эту несчастную убьют, считая опасной, в то время как она ровно ничего не знает, Гарри пришел в ужас. В первую минуту ему захотелось бежать к Багдасарьяну и поклясться, что произошла ошибка, что подозрения ни на чем не основаны и убийство совершенно бессмысленно, но, увы, молодой человек заранее знал, что все попытки уговорить армянина обречены на провал. Его сообщники не признавали права на жалость точно так же, как и на ошибку. Короче, Гарри только лишний раз выставил бы себя на посмешище. Про себя он с горечью упрекал обеих женщин в недостатке сообразительности и пытался отбросить угрызения совести. В конце концов, невозможно помешать людям идти навстречу своей судьбе…
— Я согласен с вами, миссис Лайтфизер, должно быть, я был не в своей тарелке… Простите мне эту дурацкую выходку…
— Я уже забыла о ней, мой дорогой мальчик. Вы, случайно, не собирались пригласить куда-нибудь Пенни?
Можно подумать, она сама хочет облегчить Тер-Багдасарьяну исполнение его мрачных намерений.
— С вашего разрешения, миссис Лайтфизер… И если Пенни не
против.
Славная женщина с улыбкой потрепала Пенелопу по щеке.
— Пенни всегда не прочь погулять, правда, дорогая?
Дребезжащий смех барышни снова нарушил вечернюю тишину, и Гарри, чьи нервы уже разболтались до предела, вдруг с тревогой подумал, как отнесутся будущие московские друзья к блеянью его супруги.
— А куда вы хотите повести Пенни, мистер Комптон?
— Сейчас все только и говорят о фильме «Аламо». Он идет целых три часа, но, по отзывам, это потрясающе…
В первую очередь он хотел как можно дольше побыть с Пенелопой вне дома, чтобы не мешать армянину.
— Но это, кажется, фильм о войне? Я слышала, он ужасающе натуралистичен… А я терпеть не могу кровь, — заметила миссис Лайтфизер.
Нет, это уже было больше, гораздо больше, чем мог вынести Комптон. Эта несчастная не выносит вида крови! А ведь скоро она увидит свою собственную! Однако Гарри все же полагался на ловкость Тер-Багдасарьяна и надеялся, что милая старая дама умрет, не успев толком понять, что с ней произошло. Он встал.
— Не то чтобы я пытался вам указывать, Пенелопа… но, если мы не хотим пропустить начало, по-моему, лучше поторопиться. Нам ведь еще надо добираться до Черринг Кросс…
21 час 00 минут
Инспектор Картрайт очень устал. Когда Комптон и мисс Лайтфизер вышли из дома, он охотно поручил заботу о них сменившему его на дежурстве коллеге, а сам, немного отдохнув, толком не зная почему, отошел в другой конец улицы выкурить сигарету. Около десяти часов он уже собирался позвонить жене и предупредить, что возвращается домой, как вдруг заметил приближающегося Тер-Багдасарьяна. Картрайту сразу расхотелось спать. Что привело армянина в этот квартал? Инспектор не верил в случайные совпадения и, когда Багдасарьян исчез в подъезде дома, где жили мать и дочь Лайтфизер, бросился звонить по телефону, но уже вовсе не жене.
Желая остаться незамеченным, Багдасарьян подождал, пока консьержка выйдет в соседний дом, и только тогда проскользнул в подъезд. По лестнице он взбежал с довольно неожиданной для такого грузного мужчины прытью. При этом он умел передвигаться совершенно бесшумно. Добравшись до двери миссис Лайтфизер, армянин хотел было позвонить, но одумался и тихонько постучал. Прежде чем в коридоре послышались шаги, ему пришлось повторить маневр несколько раз.
— Что там такое? — спросил скорее удивленный, нежели испуганный голос старой дамы.
— Полиция, миссис Лайтфизер… Это инспектор, который уже приходил спрашивать о вашей дочери…
— А, ладно…
Старушка сняла множество цепочек и пригласила войти того, кто собирался стать ее убийцей.
— Господин инспектор! В такой час? Надеюсь, вы не принесли мне дурные новости?
— Кто может знать, что он несет с собой, миссис Лайтфизер?
Отвечая, Багдасарьян закрыл за собой дверь.
— Мисс Лайтфизер нет дома?
— Нет, она ушла с другом в кино.
— Отлично… Нам совершенно незачем торопиться… Не знаю, как вы, мэм, а я терпеть не могу, когда меня подталкивают.
— Согласна с вами, инспектор. Когда вы постучали, я как раз собиралась пить чай… Хотите составить мне компанию?
— Почему бы и нет?
Они перешли в гостиную, и старая дама предложила гостю сесть в кресло напротив нее.
— Рецепт заварки я получила от бабушки, — объяснила она, наливая чай. — Надеюсь, вам понравится.
— Во всяком случае, пахнет очень хорошо.
Оба пили чай с видимым удовольствием. Наконец армянин, удовлетворенно вздохнув, опустил чашку.
— Восхитительно, миссис Лайтфизер… Как жаль…
— Простите?
— Жаль, что мне предстоит выполнить столь неприятную миссию. Но в вашем возрасте, миссис Лайтфизер, вам наверняка известно, что, если дело решенное, ничего не изменишь…
— Боюсь, я не очень хорошо вас понимаю…
— Вы боитесь смерти, миссис Лайтфизер?
— Смерти? Не думаю… Но могу я узнать, с какой целью вы задали мне подобный вопрос?
— Потому что я пришел сюда убить вас, миссис Лайтфизер.
— А?
— Я очень надеюсь, что вы не станете портить дело криками или любыми другими попытками такого рода… Если вы согласитесь вести себя разумно, я покажу вам, что более опытного в этом деле человека трудно найти. Не стану утверждать, будто смерть от моей руки — удовольствие, но, в конце концов, при разумном подходе вы практически ничего не почувствуете.
Старая дама как будто бы не особенно испугалась. Она допила чай, поставила чашку на блюдце и аккуратно вытерла губы.
— Хотите кусочек кекса, господин инспектор?
При всем своем хладнокровии Багдасарьян слегка растерялся.
— Но, миссис Лайтфизер, разве вы не поняли, что я…
— Да-да! Вы пришли меня убить, правильно? Отлично. Я думаю, вы приняли все возможные меры, и мои попытки спастись ровно ни к чему бы не привели? Согласитесь, однако, что это вовсе не повод лишать меня последнего наслаждения в этой жизни — например, съесть вот этот кусочек кекса…
Армянин поклонился.
— Позвольте заверить вас, миссис Лайтфизер, что вы были бы достойны родиться в Советском Союзе и что я глубоко сожалею о печальном долге, который мне предстоит выполнить.
— Я совершенно не понимаю, при чем тут Советский Союз, но, вероятно, задавать вопросы — слишком поздно. Тем не менее мне хотелось бы узнать от вас, какую ошибку я совершила и кому причинила вред. Короче говоря, чем я заслужила такое наказание?
— Это не наказание, миссис Лайтфизер, и мне было бы в самом деле досадно, если бы вы рассматривали свое исчезновение именно так. Вы падете, как солдат… потому что случаю было угодно сделать так, чтобы вы появились на свет здесь, а не там… Скажем, вы умираете по причинам международного характера, миссис Лайтфизер.
— Удивительно… Мой отец был йоркширским пастором, мать — учительницей… Муж торговал шерстью в Манчестере… Вот уж никогда бы не подумала, что такие незаметные люди с их более чем обыденным существованием способны бросить тень на кого-то или что-то в международном масштабе! Я не смею сказать, что довольна ожидающей меня судьбой, но, прошу прощения, она мне немного льстит… Жаль, что никто, кроме нас с вами, об этом не догадывается…
— Позвольте признаться, миссис Лайтфизер, что вы нравитесь мне все больше и больше…
— Я очень тронута, мистер…
— Тер-Багдасарьян.
— Мистер Багдасарьян, а моя дочь? Вы и ее тоже…
— Нет-нет! Напротив! Я обещаю, что вашу дочь ждет очень счастливая судьба. Даю вам слово!
— Благодарю. Для матери это самое главное, не так ли?
— Для капиталистической матери — конечно… Вы согласны предупредить меня, когда подготовитесь?
— А вы спешите?
— Не то чтобы очень, но все же… слишком задерживаться было бы не совсем естественно, правда?
— Разумеется. Но все же давайте допьем чай, хорошо?
— С удовольствием.
Миссис Лайтфизер вылила в чашку гостя почти всю заварку. Получилось слишком крепко.
— О, прошу прощения… Мне следовало бы подлить горячей воды. Но если положить побольше сахара…
— Я обожаю очень сладкий чай.
Багдасарьян положил четыре куска сахару, но тем не менее чай показался ему горьковатым. Полагая, что жертва никуда не денется, он попросил:
— Когда вам угодно, чтобы я приступил к делу, миссис Лайтфизер?
— Я прошу отсрочки всего на двадцать минут — надо же приготовиться к столь неожиданному уходу из этого мира! Вы позволите?
— Договорились, но не больше двадцати минут, хорошо?
— Я думаю, что вполне хватит…
Полночь
Все три часа, что перед его глазами развивалась эпопея Аламо, Гарри переживал настоящую агонию. Он смотрел, как Джон Вэйн и его друзья падают под ударами мексиканцев, но видел лишь миссис Лайтфизер. Каждая шпага, вонзающаяся в тело, каждое копье, пробивающее грудь, наводило на мысль о ноже Тер-Багдасарьяна, который творил в это время свое кровавое дело. Каждое пятно крови, каждая рана внушали ему мысль об иной крови, об иной ране. Виски у него вспотели, и Пенелопу, которую молодой человек держал за руку, сначала удивил, а потом и встревожил его лихорадочный жар. В конце фильма женщина с детьми — единственные, кто остался в живых после резни, — уходят куда-то вдаль, и Комптон усмотрел в этом намек на то, что произойдет с его любимой, когда она обнаружит труп матери. Гарри невольно всхлипнул, но соседи отнесли это на счет фильма. Его сочли человеком на редкость чувствительным, а Пенелопа нежно сжала пальцы, чтобы успокоить. Но это проявление любви еще больше огорчило Комптона, усугубив угрызения совести. Выходя из кино, он куда больше напоминал фонтан, нежели соблазнителя. В метро по дороге в Кентиш Таун, а потом в автобусе Пенни не удалось вытянуть из своего спутника ни единого слова. Она терялась в догадках, что происходит с Гарри, и в конце концов сочла, что молодой человек ни с того ни с сего вдруг на нее рассердился.
Среда, утро 0 часов 45 минут
У подъезда дома на Саус Гроув любопытные не толпились — значит, преступление еще не обнаружилось.
Гарри взмолился, чтобы какой-нибудь природный или рукотворный катаклизм — землетрясение или взрыв атомной бомбы — избавил его от необходимости пережить ближайшие часы. Поднимаясь по лестнице следом за Пенелопой, он думал, что каждый шаг приближает их к окровавленному трупу. Как отреагирует на это девушка? Упадет в обморок? Или взбудоражит громкими криками сначала весь дом, а потом и квартал? Помимо того Комптона очень тревожил допрос, который не преминут учинить инспекторы уголовного отдела Ярда, когда он сообщит об убийстве. Только бы сохранить хладнокровие и выглядеть лишь огорченным, не давая им оснований заподозрить его в преступлении или по меньшей мере соучастии.
Пенелопа сунула ключ в замок и тихо открыла дверь. К огромному удивлению девушки, Гарри оттолкнул ее и вошел первым. Он не хотел, чтобы Пенни без всякой подготовки увидела такое зрелище, как труп ее зарезанной матери… Она недоуменно посмотрела на молодого человека и уже хотела задать вопрос, но Комптон решительно поднес палец к губам, требуя тишины. Оробевшая Пенелопа замерла. Гарри прислушался и вдруг почувствовал, что волосы у него на затылке встают дыбом.
— Ну, дети мои, приятно провели вечер? — спросил хорошо знакомый голос.
Не в силах произнести ни звука, Гарри повернулся и узрел улыбающуюся миссис Лайтфизер. Неужели Багдасарьян не приходил? С души молодого человека свалился огромный камень, и все его существо охватила радость. Комптон подошел к старой даме и, с необычным пылом сообщив, как он счастлив снова ее увидеть, сжал ее руки, короче говоря, так бурно выражал свой восторг, что Пенелопа начала всерьез опасаться нового припадка самобичевания.
— Мама, пожалуйста, приготовь поскорее чашечку чаю, а то как бы у него опять не началось… Предупреждаю: если он сейчас рухнет на колени и начнет просить у тебя прощения, я завою!
Гарри поклялся, что ничего подобного ей не грозит и что в ожидании чая он положит свои вещи на кровать, в которой провел прошлую ночь. В самом жизнерадостном расположении духа Комптон вошел в комнату для гостей, включил свет и бросил пальто на покрывало, а заодно и на лежавшего в постели Багдасарьяна. Увидев последнего, молодой человек остолбенел, раздумывая, уж не начались ли у него галлюцинации. Потом он тихонько коснулся лица армянина, но тот даже не вздрогнул. Гарри решил, что он мертв, но мерное подрагивание покрывала свидетельствовало, что убийца просто-напросто спит глубоким сном. Может, и сам Комптон видит все это во сне? Может, и бешенство Багдасарьяна, и обещание убить миссис Лайтфизер — лишь кошмарные видения? Нет! Армянин ясно сказал, что прикончит мать Пенелопы, пока последняя вместе с Гарри будет сидеть в кино. Так в чем дело? Как объяснить, что старая дама еще жива и — что уж совсем невероятно! — Багдасарьян мирно спит в комнате для гостей?
Миссис Лайтфизер седьмой или восьмой раз за сегодняшний день разливала чай, когда в гостиной появился позеленевший от волнения и вконец сбитый с толку Гарри.
— Та-та-там… му-мужчина, — пробормотал он, указывая на дверь комнаты, из которой только что вышел. — И он спи-пи-пит!
Эта новость, при всей ее неожиданности, ничуть не взволновала Пенелопу, а ее мать с обычной невозмутимостью заметила:
— Да, знаю, это я его там уложила… Пейте чай, пока он не остыл, Гарри.
Комптон, как автомат, механически плюхнулся на стул, уже вообще ничего не соображая. То, что он видел и слышал, превосходило всякое понимание. У бедняги возникло столь явственное ощущение собственной отрешенности от происходящего в этом доме, что он начал всерьез подумывать о сложнейшей теме фантастических романов — параллельных мирах.
— Ну, что же вы не пьете чай?
Миссис Лайтфизер улыбалась.
— Послушайте, миссис Лайтфизер, тот человек, что спит в гостевой комнате…
— Сумасшедший.
— Сумасшедший?
Интересно, кто тут над кем издевается?
— Этот тип уже приходил на днях расспрашивать о Пенни. Признаюсь, он и тогда показался мне странноватым, а сегодня вечером почти сразу после вашего ухода… явился опять. Я сразу поняла, что у бедняги не все в порядке с головой… Подумать только, он заявил, будто пришел меня убить!
Комптон привстал со стула:
— Он… он сказал вам такое?
— Да! И угадайте почему? Потому что моя смерть, видите ли, представляется необходимой в международном плане! Представляете?
— И что же вы тогда сделали?
— Предложила ему выпить чаю, предварительно растворив в нем несколько таблеток снотворного, которое мне выписал врач… Надеюсь, я не переусердствовала… Так или этак, но мне это показалось лучшим выходом из положения, чем беспокоить соседей.
Гарри ужасно хотелось расхохотаться, но он сдержался, понимая, что стоит дать себе волю — и он будет смеяться без удержу несколько часов. Тер-Багдасарьян, перед которым дрожало от страха столько людей, не сумел напугать старую англичанку! Он нес с собой смерть, а ему предложили чайку! С этой-то минуты Петр Сергеевич Милукин — он же Гарри Комптон — признал, что окончательная победа Советского Союза над старыми, маразмирующими странами капиталистической Европы, возможно, не так уж неизбежна, как он воображал до сих пор.
Вполне успокоенный на сей счет, Гарри вернулся к Тер-Багдасарьяну. Тот продолжал спать глубоким сном и, по-видимому, вряд ли мог очухаться в ближайшие несколько часов. Но как он отреагирует на все случившееся потом? Комптон достаточно хорошо знал армянина. Следовательно, его долг — не оставлять обеих женщин на произвол разъяренного убийцы, о чем молодой человек и сообщил миссис Лайтфизер.
— Я не могу спокойно уйти, пока этот тип у вас…
— Сам он не сможет выйти из квартиры, а у вас, по-моему, не хватит сил унести его на руках. Верно?
Гарри не стал возражать.
— А если он вернется к своим дурацким замыслам?
— Да нет же, нет… Наверняка к утру придет в себя.
— Не уверен.
— Вы так беспокоитесь из-за Пенни?
— Конечно… Да и за вас, впрочем, тоже…
— Очень мило с вашей стороны… Я бы предложила вам остаться, но только не представляю, где уложить…
— Пустяки! Я устроюсь в той же комнате в кресле. Таким образом, когда этот тип проснется, я буду на месте.
— Как хотите.
Миссис Лайтфизер понесла на кухню посуду, а Пенелопа тут же подошла к Комптону.
— Дорогой, — кокетливо заметила она, — вы уже сами не знаете, что выдумать?
— Простите?
— Думаете, я не узнала вашего друга?
— Так вы… вы входили в… комнату?
— О, просто заглянула! Это вы сочинили сценарий?
— Какой сценарий?
— Да чтобы снова здесь переночевать! Но зачем столько сложностей? Гораздо проще было бы попросить маму. И потом, вам следовало бы попросить своего друга не напиваться, когда ему дают такое поручение.
— А вы считаете, что он напился?
— Чем же еще объяснить всю ту чепуху, которую он наплел маме?
Гарри понял, что любые проблемы бывают серьезными только в том случае, если вы сами считаете их таковыми. С точки зрения не слишком проницательных жительниц Лондона, дьявольские махинации агентов советской разведки выглядели всего-навсего шутками дурного тона. И возможно, здесь кроются ростки новой политической философии — ничего не принимать всерьез, решил молодой человек.
Когда миссис Лайтфизер и ее дочь легли спать, Гарри отправился в комнату, где Тер-Багдасарьян вкушал самый что ни на есть реакционный покой. Молодой человек опустился в кресло под фотографией покойного мистера Лайтфизера, прося этого бесплотного покровителя вдохнуть в него, Комптона, хоть капельку мужества, проявленного им в Дюнкерке, чтобы достойно поговорить с армянином, когда тот проснется. Однако скоро усталость взяла верх над боевым задором, и Гарри, почувствовав, что засыпает, прилег рядом с Багдасарьяном. В конце концов, с какой стати тот должен единолично пользоваться кроватью?
Тишина и покой снизошли на этот дом, где Запад и Восток мирно почивали рядом, правда даже не подозревая об этом.
7 часов 00 минут
Сначала миссис Лайтфизер, а потом и Пенелопа, надев домашние халаты, прислушивались, не раздастся ли какой-нибудь звук из комнаты, где спали их гости. Потом миссис Лайтфизер удалилась на кухню, а Пенелопа пошла в ванную.
Багдасарьян начал потихоньку возвращаться к действительности. Сначала он не заметил ничего необычного, и глаза безотчетно скользили по незнакомой обстановке комнаты. Решив, что все еще спит, он снова прикрыл веки. Поворачиваясь, Багдасарьян наткнулся на Гарри Комптона. Ощущение, что он не один в постели, вернуло армянина на много лет назад, в те времена, когда подле него еще была нежная Лейя. Улыбнувшись воспоминаниям юности и все еще не открывая глаз, Багдасарьян запечатлел нежный поцелуй на лице Комптона, который в свою очередь видел во сне Пенелопу, а потому ответил на ласку с величайшим пылом. Этот поцелуй разбудил обоих мужчин. Обнаружив, что они лежат в постели обнявшись, Багдасарьян и Комптон сначала застыли от удивления, потом одновременно отпихнули друг друга. В глазах у обоих зажглось одинаковое негодование, губы искривила сердитая гримаса. Багдасарьян первым пришел в себя:
— Это еще что такое? Какая муха вас укусила?
— А вас?
— И для начала — какого черта вы забрались в мою постель?
— А вы?
— Что? Но…
Снова оглядев комнату, армянину пришлось признать, что он не у себя дома.
— Где я?
— У несчастной, которую собирались убить!
К ресторатору из Сохо сразу вернулась память, но понять, что все-таки с ним произошло, он пока не мог. Какая череда непостижимых случайностей привела его в постель в доме той самой женщины, которую он хотел прикончить?
— Что со мной стряслось?
Комптон рассказал, а армянин покраснел от смущения.
— Короче, если я вас правильно понял, меня провели, как мальчишку?
— Да, но миссис Лайтфизер даже не подозревает об истинном положении дел. Она не поверила ни единому вашему слову. Теперь вы не можете ничего предпринять против нее. Впрочем, это значило бы совершенно напрасно рисковать еще раз — все ваши угрозы не произвели никакого впечатления. Вас считают просто психом и думают, что у вас был припадок.
— Припадок? Ладно, это мы еще обсудим… А пока мне надо смываться. Поглядите, свободна ли дорога.
Гарри послушно вышел из комнаты и обнаружил, что в гостиной пусто. Он сделал знак Багдасарьяну, что тот может идти. Последний поручил молодому человеку объяснить его бегство раскаянием и боязнью после вчерашней сцены показаться на глаза миссис Лайтфизер. Кроме того, он приказал Гарри как можно скорее зайти к нему на Грик-стрит.
Багдасарьян на цыпочках выскользнул из комнаты. Он уже добрался до двери в коридор, ведущей на лестничную площадку, как вдруг, услышав за спиной «ку-ку!», застыл на месте. Нервно обернувшись, армянин увидел Пенелопу. Девушка, как всегда, заливалась дурацким смехом.
— Вас застукали с поличным!
Это выражение всегда порождало у Багдасарьяна множество комплексов, а потому ему страшно захотелось вытащить нож и отрезать этой глупой курице голову.
— Так вы решили сбежать, не попрощавшись с мамой?
Багдасарьян терпеть не мог подобных ситуаций. Он промолчал.
— И потом, — продолжала Пенелопа, — насчет полицейского вы явно загнули! Вы такой же полицейский, как Гарри — шпион!
Ресторатор из Сохо побледнел как смерть, подумав, что ему чертовски повезет, если эта идиотка не ухитрится еще до вечера отправить его в лапы Ярда.
— Вы ведь сговорились с Гарри, да? Признайтесь!
Немного поколебавшись, Багдасарьян уцепился за протянутую ему соломинку.
— Что ж, да, правда! Только не говорите об этом своей матери — мне будет слишком стыдно!
Уговаривая Пенелопу, армянин пытался сообразить, о чем, по мнению барышни, они с Гарри могли сговориться…
Гарри вошел в столовую в тот момент, когда Пенелопа дружески махала рукой Багдасарьяну, удиравшему из ее дома так, будто за ним гналась вся британская контрразведка. От такого зрелища у Гарри пересохло в горле. При виде молодого человека Пенни опять разразилась своим невыносимым смехом и, подойдя поближе, похлопала поклонника по щеке.
— Он мне во всем признался! — заявила девушка. — Так что вам не стоило скрытничать!
— Он вам во…
У Комптона подогнулись колени, и он вцепился в стол, чтобы не упасть. Ни о чем не догадываясь, девушка продолжала болтать:
— Не понимаю, что вас толкнуло на такие крайности! И моя бедная мама… зачем понадобилось с ней так обращаться?
Армянин, очевидно, покаялся! Но, если так, возможно, он свалил вину на него, Гарри, а тогда — прости-прощай радужные мечты о совместном с Пенелопой будущем!
— Клянусь вам, я ничего подобного не хотел… но уж если ему что втемяшилось в голову… О, я понимаю, вы мне не верите! Что ж, ладно… все ясно… Позвольте мне уйти… Я вас больше не увижу…
— Ну-ну, все это не так уж страшно!
Комптон окончательно перестал понимать что бы то ни было. Право же, только в капиталистической стране девушка могла счесть «не такой уж страшной» попытку прикончить ее собственную мать! Подобная черствость так возмутила Гарри, что, предложи ему сейчас кто-нибудь подбросить бомбу в Букингемский дворец, он бы это сделал!
— Прощайте, Пенелопа! — гордо проговорил молодой человек.
И он твердым шагом направился к двери.
— А как же ваш завтрак?
Следовало, конечно, ответить, что без завтрака он обойдется, но, на беду, Комптону страшно хотелось есть, а потому он вернулся.
— Я не могу снова сесть за стол в вашем доме, пока вы меня не простите! — заявил Гарри.
— Ну разумеется, я вас прощаю! До чего ж вы забавный! Вечно просите прощения, но при этом никогда не объясняете за что!
9 часов 00 минут
У ворот особняка сэра Реджинальда Демфри, где ей предстояло опять провести весь день, чтобы леди Барбара предстала перед гостями в безукоризненно сшитом платье, Пенелопа распрощалась с совершенно сбитым с толку Гарри Комптоном.
— Прием начнется в семь… Приходите в половине седьмого, и я вас проведу в дом… А теперь мне пора!
Душераздирающий хрип, исторгшийся, казалось, из глубины души молодого человека, произвел на Пенелопу сильное впечатление.
— Вам плохо, Гарри?
— Пенелопа… умоляю вас, постарайтесь меня понять… Я подонок!.. Я проклят!
Мисс Лайтфизер испугалась, как бы ее спутник снова не упал на колени, что не преминуло бы вызвать среди прохожих некоторое оживление.
— Вы мне все объясните вечером, Гарри… До свидания!
— Пенелопа!.. Что бы ни случилось, помните, что я люблю вас и в этом мое единственное оправдание!
— Ладно… И не забудьте съесть за ленчем хороший бифштекс — он вам чертовски необходим!
Глядя, как Пенелопа исчезает в особняке Демфри, Комптон чувствовал себя несчастнейшим из людей. Что за сквозняк у нее в голове! Пенелопа ничего не понимает, ничего не замечает и ничего не слушает! Скажи он, что Тер-Багдасарьян обещал отрезать ей голову, Пенелопа только рассмеялась бы, сочтя это милой шуткой! Гарри Комптону казалось, что он никогда не поймет женщин. А потом его охватила ярость. Он пошел прочь, обращаясь к воображаемому собеседнику и бешено жестикулируя на ходу. Раз все подталкивают его к преступлению — что ж, он украдет досье «Лавина»! Один или с Пенелопой он покинет Англию! Коль скоро никто не желает слушать его излияний, он готов стать отщепенцем, отверженным!
На этой стадии размышления Гарри были прерваны. Почувствовав, что его кто-то тянет за рукав, молодой человек обернулся. На него сурово взирала женщина лет пятидесяти, одетая как квакерша.
— В девять часов утра! — отчеканила она. — Вы и в самом деле перебарщиваете, молодой человек!
Похоже, само Провидение судило Гарри блуждать в мире загадок. Он обалдело уставился на эту пожилую англичанку в очках.
— Чего вам от меня надо?
— Я могла бы быть вашей матерью!
— Только этого не хватало!
— Поэтому я говорю вам, как сыну: и не стыдно вам пить? Разве вы не знаете, что невоздержанность — мать всех пороков? Подумайте, какой пример вы подаете…
— Вы что, совсем спятили?
— Наглец!
— Наглец? Кто вас звал? По какому праву вы меня оскорбляете? Назови вы меня шпионом, я бы еще понял! Но пьяница — это уж слишком! Потому что я шпион, понятно вам? Шпион, а не пьяница!
— Да-да… конечно… Я как-то не заметила… И где были мои глаза? Да, шпион, совершенно верно… вылитый шпион… Но, знаете, я всегда с большой симпатией относилась к шпионам…
Вытаращив глаза и продолжая болтать, квакерша осторожно пятилась от Гарри. Наконец, оказавшись достаточно далеко и сочтя себя в полной безопасности, она завопила так, что полицейский, который, подобно розовым фламинго, спал стоя, чуть не рухнул от удивления. Очухавшись, он подскочил к женщине, и та указала ему на спокойно удаляющегося Гарри:
— Этот… молодой человек… Он сумасшедший!
Констебль бросился за Комптоном и хлопнул его по плечу.
— Прошу прощения, сэр… но вон та дама заявила…
— Передайте ей, чтоб занималась своими делами и не совала нос в чужие.
— Вы с ней знакомы?
— Первый раз в жизни вижу! Она остановила меня посреди улицы, чтобы сообщить, будто я пьян и должен подумать о своей матери! Мне бы очень хотелось знать, что ей до того, думаю я о матери или нет!
Полицейский ничего не понимал, однако он видел, что молодой человек не пьян, не замечал никаких признаков сумасшествия. В это время к ним приблизилась квакерша и, остановившись в двух метрах от Комптона, спросила:
— Ну как, вы его арестуете?
— Не вижу причин.
— Но он же шпион!
Больше всего на свете страж порядка ненавидел, когда над ним издеваются.
— Давайте сразу разберемся! — сурово заметил он. — Вы обвинили этого молодого человека в пьянстве, потом сообщили мне, что он сумасшедший, а теперь утверждаете, будто он шпион!
— Но он сам мне признался!
— Правда? Что ж, я тоже сделаю вам одно признание: у меня руки чешутся отвести вас в участок за скандал в общественном месте!
Возмущенная дама чуть не подавилась вставной челюстью, но решительный вид констебля побудил ее как можно скорее убраться восвояси. Уходя, она поклялась себе написать премьер-министру о том, что в ряды полиции Ее Величества проникли коммунисты.
Что до Гарри, то всю дорогу до Блумсбери он смеялся над нелепостью происшествия. В самом деле, его чуть не арестовали по совершенно вздорному обвинению, но стоило признаться в настоящем преступлении, как его оставили в покое! Должно быть, это один из образчиков внутренних противоречий капитализма!
10 часов 00 минут
Дома у Гарри наконец нашлось время немного привести себя в порядок. Последние приключения отбили у него охоту бунтовать, и молодой человек смирился с необходимостью разыгрывать шпиона. Он собирался лечь спать, чтобы набраться сил для подвига, который ему предстояло совершить нынче вечером в доме сэра Реджинальда Демфри. Комптон уже коснулся коленом своего ложа, как вдруг в дверь постучали. Гарри тихонько выругался и босиком пошел открывать.
— Кто там?
— Отоприте, Комптон!
Багдасарьян!.. Гарри впустил армянина.
— По-моему, я приказал вам зайти ко мне!
— Я слишком устал… и, как видите, собирался лечь.
И Комптон, не обращая больше внимания на гостя, скользнул под одеяло. Багдасарьян сел рядом.
— Хороший шпион не ведает усталости! — заявил он.
— Значит, из меня никогда не получится хороший шпион!
Армянин бросил на Гарри подозрительный взгляд.
— Кажется, вы слишком легко примирились с этой мыслью.
— Разве это не самое мудрое решение?
— Самым мудрым будет добиться успеха сегодня вечером, если, конечно, вы хотите еще немного пожить…
— Ах, вы пришли только для того, чтобы мне это передать?
— Нет… Предупреждение исходит от меня лично. Провалите только операцию, Комптон, — и я убью вас собственными руками.
Поклонник Пенелопы хмыкнул.
— У вас весьма своеобразная манера поднимать настроение!
— Плевать мне на ваши настроения! Я хочу одного — спасти свою шкуру.
— Не понимаю…
Только сейчас Комптон заметил, что у его гостя очень озабоченный вид.
— Я звонил своему шефу… и уверил его, будто миссис Лайтфизер мертва. К счастью, он не стал спрашивать подробностей… Однако рано или поздно правда все равно выплывет…
— И вы полагаете, что для вашего здоровья полезнее в тот день оказаться вне пределов досягаемости?
— Или заблаговременно вручить ему досье «Лавина».
— Ясно…
— Поэтому вам необходимо сегодня вечером выполнить задание, иначе, как ни грустно, мне придется ликвидировать всех троих: миссис Лайтфизер, ее дочь и вас, а уж потом идти докладывать о провале… Я вовсе не жажду сдохнуть в Сибири, товарищ!
— Как я вас понимаю!
— Вы что, издеваетесь надо мной?
— Нет, для этого я слишком сонный… Уходя, не забудьте запереть дверь. Спокойной ночи!
Багдасарьяна душила ярость, но, немного поколебавшись, он все же взял себя в руки.
— Мы еще увидимся, Комптон!
— Увы!
Среда, вечер 17 часов 30 минут
Те, кто проходили по Де Вере Гарденс мимо особняка сэра Реджинальда Демфри, сразу понимали, что там происходит что-то необычное. Во всех окнах ярко горели люстры. По дому, словно выделывая па какого-то нескончаемого балета, деловито метались темные фигуры. Розмери Крэпет в черном шелковом платье и кружевном чепце несколько раз выходила на крылечко, поражая своим торжественным видом подруг и коллег из соседних домов. Как всегда величественный Уильям Серджон сменил ливрею шофера на одеяние дворецкого. Но никто из посторонних не подозревал, что в эти минуты всеобщего лихорадочного возбуждения ни Серджон, ни Розмери не осмелились бы даже близко подойти к кухне, где миссис Смит трудилась вместе с двумя приглашенными по такому случаю помощницами. Маргарет Мод не терпела ни малейшего шума или слова, способного отвлечь ее от дела. Кухарка сочла бы это неуважением к собственной особе и нарушением этикета, которым очень дорожила. Серджон давал указания официантам и придирчивым взглядом изучал их внешний вид. Один из них — к огромному неудовольствию дворецкого, закоренелого расиста, не выносившего не только людей других рас и цвета кожи, но и всех представителей рода человеческого, которые родились или живут за пределами его острова, — казался выходцем с Востока, однако, задав несколько вопросов, Серджон убедился, что парень дело разумеет.
Леди Демфри одевалась с помощью Пенелопы, румянилась, причесывалась и трещала без умолку, то стеная, что этот прием, она чувствует, получится неудачным, то уверяя, что сегодня вечером ее ждет настоящий триумф (причем все это — без малейших переходов!).
Надев свой лучший костюм и слишком узкие, зато начищенные до блеска ботинки, Гарри убедился, что еще не потерял обретенного за долгие годы работы в гостинице умения безукоризненно завязывать галстук. Теперь можно было ехать на встречу с Пенелопой, на Де Вере Гарденс. Перед уходом Комптон грустно оглядел знакомую обстановку комнаты. Сколько он ни перебирал в памяти образы самых знаменитых и любимых актеров в роли шпионов или гангстеров, пытаясь обрести их раскованность, все его существо сжималось от непреодолимого страха. Гарри расправил грудь, воображая, как выглядели бы на его месте Витторио де Сика, Кэри Грант и Курт Юргенс, но вынужден был признать, что между вымыслом и реальностью лежит огромная пропасть. Молодой человек с нежностью вспоминал проведенные в Бристоле счастливые годы, друзей, которых он бросил по глупости, только из-за того, что шлея попала под хвост… Правда, зато теперь у него есть Пенелопа, но… надолго ли? Если его через несколько часов арестуют и приговорят к двадцати годам каторжных работ, мисс Лайтфизер наверняка даже не навестит его в тюрьме, тем более что станет, конечно же, презирать обманщика, прикинувшегося честным влюбленным. А о том, что Гарри пытался рассказать правду и попросить прощения, девушка неизбежно забудет. Комптон закрывал за собой дверь с таким чувством, будто опускал могильную плиту.
На пороге дома он столкнулся с хозяйкой, миссис Пемсбоди.
— Чудесный день, правда, мистер Комптон?
Вздох Гарри растрогал бы и самую бесчувственную душу.
— Для кого как, миссис Пемсбоди, для кого как…
— Ах, дорогой мистер Комптон, вы, кажется, не очень-то веселы? И однако в вашем возрасте…
— В моем возрасте, миссис Пемсбоди, постоянно спрашиваешь себя, дадут ли тебе время состариться!
Леди немного растерялась.
— Я не совсем понимаю вас, мистер Комптон…
— Да просто было бы большой глупостью считать, что, раз ты молод и здоров, у тебя есть будущее.
— Но мне кажется…
— Нет, миссис Пемсбоди, нет! Порой нас вынуждают совершать отчаянные поступки, цена которых — смерть… Ах, миссис Пемсбоди, мы всего лишь прах на этой земле!..
На мгновение остолбенев от столь странного кредо, домовладелица быстро пришла в себя и решила дружески пожурить своего жильца.
— Ну что за гадкие мысли, мистер Комптон! Знаете, чего вам не хватает? Вы должны познакомиться с хорошенькой девушкой, которая в один прекрасный день станет миссис Комптон!
— Я уже познакомился, миссис Пемсбоди… Ее зовут Пенелопа.
— Это… как бы сказать?.. несколько неожиданно, но очень мило… Красивая девушка?
— Да, из нее получится очаровательная вдова…
В начале седьмого леди Демфри наконец покончила с одеванием и стала носиться по всему дому, мешая тому, распекая другого, и только на кухню не рискнула зайти ни разу. Барбара ссылалась на то, что боится посадить на новое платье какое-нибудь пятно, однако на самом деле просто опасалась дурного настроения миссис Смит. Преданная Марджори Рутланд пришла пораньше на случай, если понадобится ее помощь. Барбара расцеловала ее, обласкала, осыпала благодарностями и заявила, что все должны брать с нее пример. Сэр Реджинальд, рано приехавший из Адмиралтейства, готовился к очень неспокойному вечеру. Ему придется выполнять все указания инспектора Картрайта, который тем временем прятался снаружи и наблюдал за передвижениями вокруг дома, чтобы сразу пойти следом за первым же человеком, который выйдет из особняка Демфри. В четверть седьмого Пенелопа вышла встречать Гарри. Он не заставил себя ждать.
18 часов 30 минут
Мисс Лайтфизер взяла Комптона за руку и потащила за собой в комнату, где леди Демфри устроила гардероб. Как только они туда вошли, появилась хозяйка дома.
— А, Пенелопа!.. Но… кто этот молодой человек?
— Ох, леди Демфри, мне очень стыдно… Я хотела спросить у вас разрешения, но потом замоталась и — совсем из головы вон… Гарри никогда не видел большого приема… и я осмелилась провести его с условием никому не попадаться на глаза… Очень прошу вас простить меня…
Барбара пребывала в той легкой эйфории, какую испытывают перед триумфом будущие победители.
— Если не ошибаюсь, это тот самый внимательный молодой врач, который звонил мне в субботу, заботясь о вашем здоровье, Пенелопа?
— Да, это действительно он.
Леди Демфри рассмеялась.
— Надо будет заняться вами… Молодой человек, Пенелопа — настоящая жемчужина, и, предупреждаю, я буду очень требовательна к ее будущему супругу! Я бы, конечно, предпочла, чтобы мисс Лайтфизер попросила разрешения, прежде чем ввести вас в мой дом, но, в конце концов, любовь всегда пренебрегала элементарными правилами… Сидите спокойно и, главное, не показывайтесь на глаза гостям. Если хотите, Пенелопа, можете помогать здесь, в раздевалке, миссис Фаррингтон. Ваш кавалер принесет вам шампанского и сандвичей… Впрочем, влюбленные всему предпочитают тишину и одиночество!
И Барбара грациозно выплыла из раздевалки.
— По-моему, вы меня так скомпрометировали, Гарри, что теперь просто обязаны просить моей руки! — заметила Пенелопа.
— Я бы очень этого хотел, Пенни, но не могу!
— Не можете? Уж не женаты ли вы, случаем?
— Женат? О нет, гораздо хуже!
— Ну, раз вы снова начали говорить загадками…
Гарри взял девушку за руки и хорошенько встряхнул.
— Дорогая, вы не знаете, кто я такой! Попросив вас стать моей женой, я был бы мерзавцем, а если бы вы согласились — мошенником! Я не достоин чистить вам обувь!
Мисс Лайтфизер вздохнула, очевидно примирившись с неизбежным.
— Опять начинается… Интересно, когда мы вместе поедем в Бат…
— Нет, в Дартмур — вот куда мне придется поехать! И куда меня отправят! Поклянитесь мне, Пенелопа, сохранить обо мне не слишком дурное воспоминание, эта мысль будет согревать меня долгими ночами в темнице…
— Могу поклясться вам только в одном, Гарри: если вы не успокоитесь, в конце концов это сыграет с вами очень скверную шутку!
— Успокоиться, когда я, быть может, доживаю последние часы?
Молодой человек упал на колени перед Пенелопой, чем совершенно потряс Розмери Крэпет, сопровождавшую Дороти Фаррингтон.
— Не обращайте внимания, Розмери, — с улыбкой проговорила мисс Лайтфизер, — и вы тоже, миссис Фаррингтон… Просто у него такая привычка… Никак не могу отучить!
Придя в себя, Розмери воскликнула:
— А ведь я его узнаю! Это тот самый молодой человек, который на днях предлагал новые кукурузные хлопья миссис Смит! Это ваш поклонник, мисс Лайтфизер?
— Э-э-э… да…
— Тогда понятно, зачем ему понадобилось выкидывать такой дурацкий фортель! Плевать он хотел на кукурузные хлопья! Бедняга надеялся увидеть вас, а я отвела его прямиком к миссис Смит! Представляете, какое разочарование?
Женщины весело рассмеялись, а бедолага Гарри встал с самым жалким видом. Узнав, что Пенелопа и ее кавалер собираются ей помогать, Дороти Фаррингтон вновь обрела хорошее настроение.
20 часов 00 минут
Все гости уже собрались, и прием был в разгаре. Барбара, обведя зал хозяйским глазом, убедилась, что праздник удался. Уильям Серджон с удовольствием отмечал, что персонал на должной высоте, причем наемные официанты держатся достойно и прислуживают очень ловко. Буфет, где царил сам дворецкий, наблюдая, чтобы там всего хватало, пользовался у гостей большой популярностью. Только Марджори Рутланд скучала, жалея, что не может насладиться бриджем с неограниченными ставками. Ее супруг разговаривал с коллегами, и Марджори без труда угадывала, что он излагает длинный перечень своих повседневных забот. Бедный Герберт… мысли о нем всегда вызывали у Марджори угрызения совести, достаточно сильные, чтобы отравить удовольствие, но не настолько, чтобы заставить ее отказаться от привычного образа жизни. Дональду Фаррингтону, видимо, удавалось позабавить окружавших его сурового вида мужчин. Его жена Дороти все реже заглядывала в раздевалку. Мужчины за ней ухаживали, и это изрядно бесило леди Демфри, следившую за Дороти ревнивым взглядом. Встретив адмирала Норланда с супругой, сэр Реджинальд удалился к себе в кабинет спокойно выкурить сигару. Он терпеть не мог приемов и считал их не более чем тяжкой повинностью. Наблюдая за Дороти, Барбара вдруг вспомнила о двух молодых людях в раздевалке и приказала одному из официантов отнести им бутылку шампанского и тосты.
Пенелопа и Гарри, несмотря на то что им было очень хорошо вместе, уже стали немного скучать в набитой мехами комнате и обрадовались возможности выпить и подкрепиться, однако узнав в стильном официанте Тер-Багдасарьяна, помрачнели. Мисс Лайтфизер первой пришла в себя от удивления и разразилась своим громким блеянием, способным настроить на воинственный лад даже самых кротких. Наконец, отсмеявшись и переведя дух, она повернулась к армянину:
— Ну, с вами не соскучишься! Это просто невероятно! Вы, видно, раньше были артистом? Надо ж, переодевание за переодеванием! Блеск!
И снова мерзкое хихиканье прокатилось по чудесным мехам, раскинутым по всей комнате. Тер-Багдасарьян взирал на всю эту роскошь презрительным взглядом истинного марксиста-победителя, уверенного, что, по завершении своей миссии, он еще прогуляется по кладбищу капитализма.
— Заставьте ее умолкнуть, Гарри! Сейчас не время разыгрывать клоунов!
Потрясенная Пенелопа мгновенно переменилась в лице. Оттолкнув Гарри, она стала наступать на армянина.
— Это меня вы посмели назвать клоуном?
— Послушайте, мисс Лайтфизер…
— Знаете, если бы мама услышала, что вы разговариваете со мной в таком тоне, ни за что я не согласилась бы оказаться на вашем месте!
— Ваша матушка…
— Запрещаю вам дурно говорить о моей маме, Багдасарьян! Папа погиб в Дюнкерке вовсе не для того, чтобы какой-то паша оскорблял членов его семейства! Я вам не гурия!
Тер-Багдасарьян, прикрыв глаза и стиснув челюсти, пытался вернуть себе хладнокровие, воображая, как бы он приказал набить из этой идиотки чучело или положить ее на муравейник. Однако, поскольку подобные нравы еще не получили распространения в Соединенном Королевстве, а тем более в доме сэра Реджинальда Демфри, армянин снова открыл глаза и слабым голосом взмолился:
— Гарри… примите меры! И поскорее… Иначе я ни за что не отвечаю!
Гарри по-братски обнял вздрагивающие от негодования плечики Пенелопы.
— Дорогая… не забывайте, мы пришли сюда, чтобы восстановить честь моего отца.
Напоминание, очевидно, растрогало девушку, и она
умолкла. Багдасарьян подмигнул тому, кого все еще упорно считал сообщником.
— Мисс Лайтфизер, я не могу долго здесь оставаться… Я пришел лишь напомнить вам про обещание. Сейчас, похоже, все крутятся у буфета, и путь к сейфу, наверное, свободен. Не забывайте, что честь отца Гарри в ваших руках или, по крайней мере, очень скоро будет, если хорошенько захотеть…
— Но как я узнаю нужный документ?
— На конверте должна быть надпись «Лавина». Впрочем, Гарри, вам все объяснит. До скорого и желаю удачи!
Армянин ушел, и Пенелопа хотела сразу отвести Комптона в кабинет сэра Реджинальда Демфри, но, к ее удивлению, молодой человек туда вовсе не рвался.
— Да ну же, Гарри! Речь как-никак идет о вашем отце, верно?
— Пенелопа, это невозможно…
— Что невозможно?
— Я не могу, дорогая, не могу…
— Что с вами, Гарри?
— Угрызения совести!
— Угрызения? А почему?
— Потому что я вас люблю.
— Вас очень трудно понять, Гарри…
— О нет!
— Да-да! Подумайте о своем отце!
— Именно потому, что я о нем думаю… мне так стыдно!
Пенелопа с сожалением пожала плечами:
— Так мы никогда ничего не добьемся!.. Гарри, вам не следовало угощать меня «яблочным ежиком» в ту субботу!
— Почему?
— Никто еще не угощал меня «яблочным ежиком»… И, вполне понятно, я вообразила… А уж мама так будет разочарована…
Комптон обнял девушку.
— Пенни, дорогая, продолжайте в том же духе — и я сделаю что угодно!
— Тогда возьмем досье и восстановим репутацию вашего папы!
Молодой человек больше не возражал. Против судьбы не пойдешь. Смирившись с неизбежным, он пошел следом за Пенелопой в полной уверенности, что девушка, нисколько того не желая и даже не догадываясь, ведет его прямиком в темницы Скотленд-Ярда.
Увидев, что в кабинете сэра Реджинальда темно, Гарри немного успокоился.
— Вы знаете, где расположен сейф? — прошептал он.
— Нет.
— Тогда придется включить свет.
Немного пошарив в потемках, молодой человек в конце концов нащупал выключатель, да так и замер, не в состоянии шевельнуться и лишь испуганно тараща глаза, — в кресле сидел сэр Реджинальд и с улыбкой взирал на молодых людей.
— Мисс Лайтфизер, если не ошибаюсь? — спросил девушку хозяин дома.
— Да… добрый вечер, сэр…
— Добрый вечер, мисс…
— Ваш праздник удался на славу…
— Благодарю. А могу я спросить, кто этот джентльмен?
— Мой… э-э-э… мой…
— Понимаю.
— Его зовут Гарри Комптон.
— Правда?
— Да, сэр… во всяком случае, я так думаю… потому что недавно он уверял, будто его зовут уж я не помню как, но нельзя же верить всем его россказням…
Гарри взмок, как мышь. Что еще выболтает эта идиотка? Зато сэра Реджинальда сцена, по всей видимости, очень забавляла.
— Даже так, мисс?
— Представьте себе, Гарри пытался уверить меня, будто он не торгует кукурузными хлопьями, а… Готова спорить на что угодно, не догадаетесь!
Демфри, запомнивший фамилию молодого человека, чуть не ответил, но вовремя прикусил язык.
— Право, должен признать, что…
— Шпион!
Гарри оцепенел. Это конец… Заявить такое человеку, который по долгу службы не может не опасаться шпионов! Настоящее убийство! Комптон подумал о Самсоне, некогда преданном Далилой… Очень похоже, вот только он в отличие от древнего героя явно не в состоянии сокрушить стены Скотленд-Ярда… Но сэр Реджинальд только улыбнулся молодому человеку.
— Что за странная мысль?
Гарри хотелось ответить, выдумать хоть что-нибудь, но он не мог издать ни звука — парализованные страхом мускулы отказывались повиноваться. Пенелопа поспешила на помощь:
— Он очень застенчив, сэр… А стоит чуть-чуть повысить голос — вообще падает на колени, клянется, что недостоин жить, и просит прощения…
— Очень интересно, правда?
— Да, я думаю, нам придется сходить к психиатру. Извините, что мы вас побеспокоили, сэр, но мы думали, что в кабинете никого нет. Мы зайдем сюда попозже, сэр.
Комптон, который начал было переводить дух, снова задохнулся от страха. На сей раз он уже не сомневался, что пропал. Но сэр Реджинальд с самым добродушным видом встал.
— Если вам надо посекретничать, охотно уступаю место, тем более что мне все же надо выйти к гостям, иначе леди Демфри по-настоящему рассердится.
Не желая уступать хозяину дома в любезности, Пенелопа сделала изящный книксен.
— Глядя на вас, сэр, никогда не поверишь, что вы способны на нечестный поступок!
Сэр Реджинальд уже подошел к двери, но, услышав слова девушки, удивленно обернулся:
— Простите?
Гарри хотелось стукнуть чем-нибудь Пенелопу по голове и хотя бы так заставить умолкнуть. А она меж тем продолжала:
— Представляете, что должен испытывать молодой человек, если его отца ни за что ни про что посадили в тюрьму?
— Вероятно, это очень грустно, но не понимаю, почему вы задали подобный вопрос именно мне.
— А разве не в ваших силах восстановить честное имя отца Гарри?
— В моих силах?
Комптон слегка покачнулся и рухнул ничком без сознания. Когда он снова пришел в себя, сэр Реджинальд поддерживал его голову, а Пенелопа пыталась влить в рот виски. Увидев, что Гарри открыл глаза, сэр Реджинальд выпрямился:
— Ну, я вижу, он спасен… А теперь мне пора идти. Мы еще вернемся к этому разговору, мисс Лайтфизер… Если же вам что-нибудь понадобится — позвоните.
Сэр Демфри вышел, а Пенелопа с тревогой спросила Гарри:
— Что с вами?
— Не знаю…
Он с трудом встал.
— Ладно, покончим с этим… Мы пришли, чтобы взять досье, а? Ну так возьмем его и убежим!
Молодые люди подошли к сейфу.
— Вы, кажется, знаете шифр?
— Барбара…
— Отлично…
Через несколько секунд дверь сейфа бесшумно открылась. Комптон схватил толстый пакет, плохо прикрытый другими бумагами. На конверте была крупная надпись «Лавина». На сей раз Гарри сам взял Пенелопу за руку и повел за собой. Страх неожиданно придал молодому человеку решительности, и по возвращении в раздевалку он непререкаемым тоном заявил:
— Вы, дорогая, оставайтесь здесь. Я не хочу компрометировать вас еще больше. А сам я попробую разыскать Багдасарьяна.
И, прежде чем девушка успела ответить, Комптон ушел. Не заботясь о том, что его костюм мало подходит для такого приема, Гарри к легкому недоумению гостей, появился в гостиной. Уильяма Серджона чуть не хватил удар, тем не менее он мужественно бросился спасать положение. Молодой человек почувствовал, как его схватили за шиворот и в мгновение ока перенесли в холл. Только там дворецкий развернул его и смерил угрожающим взглядом:
— Кто такой?.. А… торговец хлопьями!
Комптон не успел ни возразить, ни даже сказать, что выронил в гостиной пакет. Один мастерский удар — и, вылетев в парк, Комптон лег отдыхать на мягкой траве газона.
— А если вы еще хоть раз переступите порог этого дома — я вам шею сверну!
21 час 00 минут
Гарри все не возвращался, и Пенелопа уже начала терять терпение. Наконец она проскользнула на порог гостиной, где располагался буфет. Встретившись глазами с армянином, девушка знаками показала ему, что хочет поговорить. Тот поставил на поднос несколько бокалов и последовал за ней в раздевалку.
— В чем дело? И где Комптон?
— Разве вы его не видели?
— Нет. Так он не с вами?
— Гарри ушел, после того как мы вместе забрали из сейфа пакет.
Армянина охватил панический страх.
— Вы… вы забрали досье «Лавина»?
— Разумеется… Надо было всего-навсего открыть сейф, а раз я знаю шифр…
Багдасарьян, чувствуя, что задыхается, ослабил воротничок.
— И вы никого… не встретили?
— Да… сэра Реджинальда Демфри… Я, правда, вежливо попросила его отдать бумагу и таким образом избавить нас от необходимости воровать… ведь это нехорошо, правда?
Агенту Москвы казалось, что он грезит наяву и весь этот кошмар — лишь плод его разгоряченного воображения.
— И… и он… согласился? — спросил Багдасарьян вдруг охрипшим голосом.
— Не успел! Гарри упал в обморок, а когда пришел в себя, сэр Реджинальд оставил нас и спустился к гостям.
— А пакет? Где он?
— Гарри его забрал, сказав, что отнесет вам, хотя я совершенно не понимаю почему.
Теперь страх в душе Багдасарьяна сменился бешеной злобой — злобой шпиона, чувствующего, что его провел за нос двойной агент. С трудом сдерживая бешенство, армянин стал ругаться на всех известных ему языках. Мисс Лайтфизер поняла несколько слов и легко догадалась о смысле остальных.
— О, мистер Багдасарьян, при даме! Это неприлично! — заметила она тоном хорошо воспитанной барышни.
— Неприлично, да? Может, по-вашему, то, что сделал он, лучше?
— Он?
— Ваш Комптон!
— А что он такого сделал?
— Просто-напросто прикарманил досье и побежал продавать другим!
Пенелопа издала дурацкий смешок, который, по мнению Багдасарьяна, оправдал бы ее убийство с точки зрения любого нормального мужчины.
— Вы сами не знаете, что говорите, мистер Багдасарьян! Раз эти бумаги касаются отца Гарри, вполне естественно, что он оставил их у себя. Честно говоря, не понимаю, кто бы стал покупать чужие семейные тайны!
Армянин повернулся спиной к этой идиотке, но, уходя, он самым зловещим тоном предупредил:
— От души желаю вам, чтоб Комптон ждал сейчас меня дома, иначе вы станете вдовой, так и не успев выйти замуж!
И, сочтя дополнительные объяснения излишними, Тер-Багдасарьян, по-прежнему с подносом в руках, снова вышел в гостиную, где немедленно столкнулся с разгневанным Уильямом Серджоном.
— Ну, где это вас носило? — осведомился дворецкий.
— А вам какое дело?
— Нет, вы только поглядите, что за манеры! Да вы понимаете, с кем разговариваете?
— С лакеем капитализма!
И пока Серджон, потрясенный столь неожиданным выпадом, впервые нанесенным ему за тридцать лет безмятежного служения, переводил дух, армянин сунул ему в руки поднос и удалился. Выйдя из дому, он, даже не подозревая о том, прошел меньше чем в полуметре от бедняги Комптона, который только-только начал приходить в сознание, поймал такси и отправился в Сохо.
Гарри потихоньку выпрямился и осторожно ощупал челюсть, опасаясь, что она сломана. Этот Серджон — ужасный хам и к тому же бессовестно застал его врасплох, а потому Комптон поклялся себе взять сокрушительный реванш. Но пока следовало поскорее идти к Пенелопе — девушка наверняка уже волнуется. О досье «Лавина» Гарри совершенно забыл. Итак, он снова проскользнул в дом сэра Демфри и, прячась за вазонами с комнатными растениями, расставленными по обе стороны холла, добрался до лестницы, ведущей к раздевалке. Пенелопа по-прежнему охраняла меха, и Гарри поведал ей о своем грустном приключении. Девушка в свою очередь рассказала о разговоре с Тер-Багдасарьяном, и только тут до Гарри дошло, что он потерял вожделенное досье. Молодой человек не знал, что ему делать: то ли искать пакет, то ли ехать к Багдасарьяну и объяснять, что произошло. Комптон гораздо больше дорожил жизнью, чем досье «Лавина», а потому избрал второе решение. Вместе с Пенни он вышел из раздевалки, но тут же чуть не наткнулся на Уильяма Серджона, который, заменяя Багдасарьяна, сам разносил прохладительные напитки. От неизбежной встречи Гарри спасла лишь быстрота реакции — он вовремя успел отскочить в тень. Однако когда дворецкий достиг порога гостиной, молодой человек подкрался сзади и, призвав на помощь всю свою досаду, отвесил ему великолепный пинок. Внезапная стремительность Серджона несколько поразила сэра Реджинальда Демфри, испуганные леди и джентльмены поспешили очистить проход, и бедняга дворецкий, пролетев большую часть гостиной, распластался у ног леди Демфри, зарывшись лицом в поднос.
— Неужели это вы, Серджон? — удивленно осведомилась хозяйка дома.
— Да, миледи, — жалобно донеслось с полу.
— Вот уж никогда не ожидала от вас, Серджон! — сухо подвела итог невероятной сцене Барбара.
Полумертвый от стыда дворецкий побежал спасаться на кухню, но по дороге его остановил какой-то американец.
— Вы были просто великолепны, старина! Ни разу не видел ничего подобного! Как вам это удалось?
21 час 30 минут
Как всегда осторожный, Тер-Багдасарьян не стал называть шоферу адрес и велел остановить машину на Сохо-сквер. Однако в квартире его ожидало новое потрясение. Включив свет, армянин с удивлением обнаружил на диване улыбающегося Федора Александровича Баланьева.
— Как… как вы сюда вошли?
— Не задавайте глупых вопросов, дражайший. Какой смысл работать в тайной полиции, если ты не в состоянии войти куда угодно?
— Разумеется…
— Но ваш вопрос, дорогой Багдасарьян, наводит на мысль, что вы не ожидали увидеть меня здесь…
— В самом деле… Насколько я знаю, мы не договаривались о встрече.
— А вы что, полагаете, будто я должен испрашивать аудиенции у тех, кому плачу?
Разговор начинался не блестяще… Армянин попробовал разрядить атмосферу:
— Послушайте, товарищ…
— Нет, это вы меня послушайте, голубчик! Где досье «Лавина»?
— Я должен вам рассказать…
— У вас оно или нет?
— Нет.
— Странно!
— Ничего странного, товарищ, наоборот, самая банальная история…
— Уж позвольте мне, дражайший, самому выбирать, каких определений заслуживает ваш провал… Я вас слушаю. Расскажите мне, что произошло. Я обожаю сказки, а у армян такое живое воображение…
И Тер-Багдасарьян стал объяснять, каким образом ему открылось, что Гарри Комптон — двойной агент.
22 часа 00 минут
Комптон и Пенелопа вышли из такси у северного въезда на Грик-стрит. Сквозь ставни на окнах гостиной Багдасарьяна просачивался свет, и молодые люди, замедлив шаг, стали совещаться, как им себя вести, если армянин окажется в дурном расположении духа. Обнаружив, что дверь не заперта, Гарри очень удивился. Он, конечно, не мог угадать, что, испуганный внезапным вторжением Баланьева, ресторатор забыл обо всем на свете, но решил войти один, оставив Пенелопу на лестничной площадке. Если же разговор примет благоприятный оборот, он всегда успеет ее позвать.
Слушая Тер-Багдасарьяна, Федор Александрович Баланьев курил одну за другой легкие сигареты. Наконец армянин умолк.
— Вы, дражайший, совершили крупную, очень крупную ошибку, принимая меня за дурака, — с нехорошей улыбкой процедил Баланьев.
— Но, товарищ, я никогда не…
— Молчать!
И тут глазам перепуганного ресторатора предстал совершенно другой Федор Александрович. С перекошенной от ненависти физиономией он наклонился к хозяину дома:
— Заткни свою поганую глотку, грязный армяшка!
Багдасарьян, смертельно побледнев, медленно привстал.
— Сидеть!
Но Багдасарьян продолжал подниматься, глядя русскому в глаза. Рука его скользнула в карман за ножом, но Баланьев оказался проворнее. Он выхватил револьвер и наотмашь стукнул ресторатора по лицу. Тот, глухо всхлипнув, упал на стул и закрыл лицо руками. Баланьев выпрямился.
— Мне очень жаль, дражайший, но вы, очевидно, плохо понимаете ситуацию… Не вам обвести вокруг пальца Федора Александровича, Багдасарьян! Живо давайте сюда досье «Лавина»!
— У меня его нет!
— Боюсь, голубчик, как бы вам не пришлось провести несколько очень неприятных минут… Я ничего не забыл из того, чему меня когда-то учили, и умею развязывать языки даже самым упрямым… Да, кстати… Я звонил миссис Лайтфизер, которую вы вчера убили. Должно быть, по недосмотру меня связали с миром иным, поскольку она сама сняла трубку… Ну, что вы можете сказать на это, дорогой Багдасарьян?
— Я вам все объясню…
— Слишком много объяснений, дорогой Багдасарьян, а я плачу вам совсем не за них…
— Но в конце-то концов…
Внезапно Баланьев влепил ресторатору такую затрещину, что тот содрогнулся.
— С этой минуты, дорогуша, ты отвечаешь только на мои вопросы, ясно? Где ты спрятал досье «Лавина»? Кому собирался его продать? Почему обманул меня, уверив, что убил эту англичанку? А теперь я жду разумного ответа, иначе не доживешь до утра.
Тер-Багдасарьян покрылся холодным потом. Он прекрасно понимал, что волей обстоятельств угодил в тупик, из которого невозможно выбраться.
Именно в этот поворотный момент Комптон, с его обычным чутьем, решил войти в гостиную. Нельзя сказать, однако, что его появление осталось незамеченным: Гарри споткнулся об одну из подушек и едва не получил пулю от удивленного столь неожиданным вторжением русского. Зато Багдасарьян при виде своего сообщника испытал такую же бурную радость, какую, несомненно, ощутил бы при Ватерлоо Наполеон, появись на поле битвы Груши вместо Блюхера.
— Гарри, наконец-то! — воскликнул он.
— Молчать! — приказал Баланьев. — Комптон, я полагаю?
Молодой человек смотрел на него, раздумывая, не это ли главный босс, о котором однажды упоминал Багдасарьян.
— Да.
— Вы принесли досье «Лавина»?
— Нет.
— Почему?
— Я его потерял.
— Ну да?
Настал черед Гарри пуститься в объяснения. Он подробно описал неприятное происшествие, случившееся с ним по вине дворецкого, и как он отомстил этому последнему.
— Это все, что вы могли придумать?
— Прошу прощения…
— Я хотел сказать, мистер Комптон, что, если вы надеялись обмануть меня такой невероятной чушью, значит, у вас совершенно ложное представление о гражданах СССР вообще и представителях его тайной полиции в частности! Вы, несомненно, умрете очень молодым, дорогой мистер Комптон…
— А почему?
— Из-за вашей же оплошности! Садитесь на диван!
Гарри выполнил приказ.
— Вы тоже, Багдасарьян, и держите руки на затылке!
Армянин сел рядом с Комптоном, а Баланьев, обогнув стол, встал перед обоими пленниками, но спиной к двери.
— Один из вас обманул меня… а возможно, и оба… Даю вам полчаса. Если за это время никто не скажет правды, я сначала прикончу молодого человека, а потом предоставлю вам, дорогой Багдасарьян, еще полчаса отсрочки. После чего, коль скоро вы не перестанете упорствовать в молчании, могу пообещать два-три часа таких развлечений, что… Но ни слова больше… если только кто-то из вас не решится сделать признание!
Пенелопа слышала весь разговор. Она не могла вынести, чтобы этот тип так жестоко обращался с Гарри, а потому в свою очередь тихонько толкнула дверь. Девушка передвигалась намного бесшумнее, чем ее милый, и подкралась к русскому так, что он даже не заподозрил постороннего присутствия у себя за спиной. Зато армянин, как, впрочем, и Комптон, прекрасно видел Пенелопу, но у него хватило самообладания даже не моргнуть глазом. Мисс Лайтфизер немного беспокоило лишь то, что у нее нет оружия, но, взглянув на Багдасарьяна, она поняла, что тот выжидает удобного случая броситься на русского. Пенелопа рассмеялась. Баланьев вздрогнул и обернулся. В ту же секунду на него налетел армянин, сорвавшийся с дивана со скоростью пушечного ядра. Нож Багдасарьяна свершил месть прежде, чем обнявшиеся молодые люди сообразили, что произошло. Федор Александрович Баланьев тоже не успел ничего понять и просто исчез из мира живых. Однако, увидев, что Багдасарьян поднимается с окровавленным ножом в руке, Гарри и Пенелопа правильно оценили ситуацию, и девушка чуть не закричала. Но Комптон вовремя закрыл ей рот рукой.
— Отличная реакция, Комптон, — похвалил его армянин. — Вы спасли ей жизнь. Мне было бы очень досадно убивать вас, мисс Лайтфизер, поскольку именно благодаря вам мне удалось изменить положение в нашу пользу. Но послушайте доброго совета: угомонитесь! Имея на руках покойника, я не слишком склонен понимать шутки! А теперь вы поможете мне избавиться от него. И не забудьте, Гарри, что потом нам с вами предстоит серьезный разговор… Должны же мы выяснить, где сейчас досье «Лавина»!
22 часа 30 минут
А досье меж тем было в руках у леди Демфри, которой его передал один из гостей, сообщив, что обнаружил пакет на полу, за дверью. Судя по надписи на конверте, добавил гость, там должно быть что-то важное. Барбара поглядела на пакет и, увидев надпись «Лавина», сразу вспомнила признания мужа. Она поискала глазами Реджинальда — тот оживленно беседовал с адмиралом Норландом, Гербертом Рутландом и Дональдом Фаррингтоном. Леди Демфри подошла к этой группе и шаловливо похлопала мужа по плечу. Тот обернулся:
— Барбара?.. Вам что-нибудь нужно, дорогая?
— Пристыдить вас!
— Простите?
— Стоило говорить мне об этом досье «Лавина» как о чем-то сверхважном, если оно у вас валяется на полу в гостиной…
И леди Демфри с торжествующим видом показала мужу большой перепачканный пакет. Герберт Рутланд выронил бокал шерри, забрызгав платье стоявшей рядом дамы. От удивления та мигом забыла о благоприобретенных манерах и, снова заговорив как истинная кокни, выложила первому помощнику сэра Реджинальда все, что о нем думает. Тем временем адмирал Норланд с пристрастием спрашивал шефа отдела «Д», всегда ли он имеет обыкновение превращать секретные документы государственной безопасности в коврики для гостей. Дональд Фаррингтон, чуть не захлебнувшись джин-фицем, мечтал лишь поскорее убраться в укромный уголок и вдоволь нахохотаться. Если сэр Демфри и Норланд прекрасно знали, что разыгрывают комедию, то прочие, не подозревая об истинном положении вещей, подумывали, уж не повредился ли, часом, в уме их непосредственный шеф. Хозяин дома с самым сконфуженным видом попросил у адмирала разрешения снова положить документ в сейф и немедленно начать расследование, чтобы выяснить, каким образом досье оказалось в гостиной. Однако Норланд пожелал его сопровождать.
— Вы должны понять, дорогой мой, что я хочу сам убедиться, какие меры вы примете, дабы уберечь документ от нескромных взглядов.
Как только они отошли, Фаррингтон спросил Рутланда:
— Ну, что вы об этом думаете?
— Я просто уничтожен… Никогда бы не подумал, что сэр Реджинальд способен на такое легкомыслие… такое преступное легкомыслие… И меня поражает, как это адмирал счел возможным по-прежнему оставить досье на его попечении…
— Да… И, если хотите знать мое мнение, у этого невероятного происшествия должно быть объяснение…
— Какое же?
— Дорогой мой, досье не могло явиться сюда самостоятельно, не так ли? А если сэр Реджинальд не носил пакет при себе, значит, кто-то его украл, но по дороге потерял…
— Будь это так, сэр Реджинальд отреагировал бы гораздо более бурно, да и адмирал не ограничился бы ворчанием…
— Ну, я думаю, адмирал пошел провожать нашего шефа вовсе не для того, чтобы поздравить. Вот любопытно было бы послушать, что он скажет!
А Норланд в это время как раз спрашивал у сэра Реджинальда, что бы это значило.
— Дорогой друг, нам все же не следует считать противников дураками! Леди Демфри так рекламировала свою находку, что, если у вражеской разведки в доме есть соглядатаи и если они не полные кретины, должны были сообразить, что документ, которым пренебрегают до такой степени, наверняка с сюрпризом. По-моему, наш план окончательно провалился. Но что, черт возьми, могло произойти?
Сэр Реджинальд недоуменно развел руками:
— Ничего не понимаю! И однако я видел молодого дурня по фамилии Комптон, о котором нам рассказывал Картрайт, а с ним очаровательную гусыню, швею моей супруги… Кстати, юная особа забросала меня вопросами, в которых я ровно ничего не понял…
Адмирал нахмурился. Сейчас он нисколько не напоминал любезного старого джентльмена, минуту назад улыбающегося в гостиной.
— Демфри, вы не можете не понимать, что подобного объяснения недостаточно, — сухо заметил он. — Досадно, что ловушка захлопнулась, так и не сработав. И нам придется изложить очень веские причины такого фиаско. Положите досье обратно в сейф и давайте вернемся к гостям…
В холле сэра Реджинальда поджидал Уильям Серджон, которому не терпелось извиниться за свое странное поведение. Дворецкий рассказал, что на него напали сзади и он не видел обидчика, но почти не сомневается, кто нанес его репутации такой урон. Наверняка это некий торговец кукурузными хлопьями, которому уже удалось сегодня тайком пробраться в дом. Адмирал и сэр Реджинальд мгновенно навострили уши.
— Где этот тип?
— Я его вышвырнул вон, сэр, и, должен признать, довольно резко… И еще я вынужден сообщить, что один из нанятых официантов повел себя довольно странно непосредственно после моей стычки с тем парнем. На одно из моих замечаний он ответил ужасной грубостью и, сунув мне в руки поднос, убежал. Однако мне бы очень не хотелось, чтобы леди Демфри сочла, будто мне по собственной воле вздумалось изображать в гостиной каскадера… Для меня это вопрос чести, сэр!
— Успокойтесь, Серджон… Мы по-прежнему полностью вам доверяем.
— Спасибо, сэр.
И успокоенный дворецкий вернулся к своим обязанностям.
— Ну, адмирал, что вы скажете об этой истории?
— Что досье и вправду могли выронить во время драки.
— У меня сложилось такое же впечатление.
— В таком случае, его снова попытаются украсть… Подождем. К тому же ничего другого нам все равно не остается.
23 часа 00 минут
Они завернули труп Федора Александровича Баланьева в старый испорченный ковер, извлеченный Тер-Багдасарьяном из погреба. Пенелопа поддерживала бодрость духа с помощью ракии и все время хихикала, так что армянин начал всерьез подумывать, не отправить ли эту невыносимую идиотку следом за комиссаром Баланьевым, причем не откладывая в долгий ящик. Багдасарьян больше не мог ее выносить. И как только Гарри пришло в голову связать свою судьбу с такой девушкой? К счастью, у него есть Багдасарьян, который разрушит эти глупые матримониальные планы! Девица видела, как он убил Баланьева, и тем самым подписала себе смертный приговор. Еще до рассвета с ней будет покончено, а если Гарри вздумает противиться, составит ей компанию, только и всего! Но прежде чем устроить эту небольшую чистку, надо снова завладеть досье «Лавина». В отличие от покойного Баланьева армянин поверил искренности Комптона. Такую глупую историю выдумать невозможно!
— А теперь что вы собираетесь с ним делать?
Ресторатор мрачно посмотрел на мисс Лайтфизер.
— Избавиться как можно скорее. Вас это удивляет?
— Нет… но вам и в самом деле непременно нужно было его убить?
— А вы как думаете?
— Я думаю, что убивать ближнего — очень нехорошо!
— Замолчите! Мне от вас плакать хочется!
— Так, может, вам бы полегчало?
Если бы Комптон не бросился между ними, эта минута могла стать для Пенелопы последней.
— Единственное, что облегчило бы мне душу, — это увидеть вас лежащей рядом с ним! — прорычал Тер-Багдасарьян.
— О, мистер Багдасарьян, как вы можете? По-моему, это было бы и неприлично, и против всех правил гигиены!
Армянин схватил вазу и, несмотря на то что очень ею дорожил, грохнул об пол. Шум его уже не волновал. Потом, словно вдруг обессилев, ресторатор плюхнулся на диван.
— Комптон, — жалобно простонал он. — Нарочно она, что ли?
— Нет, я думаю, это врожденное…
— Чудовищно, просто чудовищно, что такое может существовать на свете! И угораздило же вас откопать столь уникальный экземпляр!
Мисс Лайтфизер, слегка пошатываясь, вдруг встала на цыпочки и издала такое пронзительное «Юпи!», что мужчины испугались, как бы отголоски не достигли самого Скотленд-Ярда. Оба одновременно подскочили к девушке и снова усадили на диван. Армянин непременно хотел заткнуть ей рот, но Гарри воспротивился, и дело едва не дошло до драки. Пенелопа подзадоривала Комптона:
— Вперед, дорогой! Не позволяйте этому паше себя оскорблять! На вас смотрит вся Англия! Заставьте его вернуться домой в Южной Америку!
Багдасарьян с Комптоном поняли всю тщетность своих усилий. А мисс Лайтфизер, как только на нее перестали обращать внимание, успокоилась. Они выпили еще немного ракии.
— Сидите тут, — приказал Багдасарьян. — Я подгоню к дому машину, и мы перенесем туда… гм… сверток.
— А куда вы его повезете, мистер Багдасарьян? — полюбопытствовала Пенелопа.
— На прогулку, мисс!
— Вот странно-то!
Армянин поспешно ушел, опасаясь поддаться искушению и хорошенько избить Пенелопу. Нервы у него так развинтились, что ресторатор забыл поглядеть, не следят ли, случайно, за домом. Весьма опасная неосторожность, ибо инспектор Картрайт и его помощник Батлер ускользнули от бдительного ока армянина только благодаря мисс Лайтфизер, слишком занимавшей его мысли. Притаившись в темноте подъезда, инспектор Картрайт вздохнул:
— Чуть не влипли!
— Как, по-вашему, шеф, куда он пошел и что это значит?
— Я полицейский, дорогой мой, а не ясновидящий. Нам остается только ждать, тем более что прочие по-прежнему в доме.
Ждать пришлось недолго. Возле дома ресторатора бесшумно затормозила машина. За рулем сидел сам Багдасарьян. Он вернулся в дом и снова вышел, с помощью Комптона неся длинный тюк. Мисс Лайтфизер шла следом. Полицейские услышали, что она смеется, и это их несколько озадачило. Как только машина ресторатора тронулась с места, Картрайт потянул помощника за рукав:
— Скорее! Мы не должны упускать их из виду!
Они бросились к спрятанной чуть поодаль полицейской машине и поспешили в погоню, ориентируясь на мерцающую вдали заднюю фару.
— Интересно, что они везут и куда? — спросил Батлер.
— Послушайте, дорогой мой, неужели у вас совсем нет воображения? Ну, сделайте над собой небольшое усилие! Их было четверо. Из дома вышли трое, неся нечто, по длине и объему весьма напоминающее труп. Вывод: по неизвестной мне причине Федор Александрович Баланьев окончил земное существование, а поскольку это личность, которой советское посольство очень и очень дорожит, мы вправе думать, что Багдасарьян хочет как можно скорее избавиться от трупа. А в таком случае больше всего подходит наша старая добрая Темза…
Следом за машиной Багдасарьяна полицейские выехали на Трафальгарскую площадь и, миновав Уайтхолл, свернули на Милбэнк, к набережной реки.
— Ну, что я вам говорил, Батлер?
Картрайт по рации связался с речной полицией и патрульными машинами, приказав всем держаться начеку, чтобы в любой момент подъехать к указанному месту. А пока он велел потихоньку двигаться в сторону Баттерси. Что касается речной полиции, то ей предстояло выловить уже опознанное тело, а там видно будет. Картрайт добавил, что было бы неплохо остановить по дороге машину Багдасарьяна, но якобы ничего не заметить, и, таким образом, лишь еще больше смутить беглеца. В подобной ситуации человек непременно сделает какую-нибудь глупость.
23 часа 20 минут
Тер-Багдасарьян усадил Пенелопу рядом с собой, а Комптон устроился сзади. Под ногами у него лежало тело Баланьева. Все трое предпочли бы сейчас оказаться очень далеко отсюда, но, как говорится, взялся за гуж… И вот, когда они подъезжали к Лэмбету, раздался резкий свисток. У Багдасарьяна и его спутника кровь застыла в жилах. Впереди стояла полицейская машина, и два констебля сделали им знак притормозить. Сначала Багдасарьян хотел было сбить стражей закона, но понял, что тогда его уже ничто не спасет, а потому со свойственным жителям Востока фатализмом остановился. Констебль подошел к машине и, просунув в окно голову, вежливо поздоровался:
— Добрый вечер…
Багдасарьян издал некий сдавленный хрип, который мог бы принять за приветствие лишь человек с очень богатым воображением, а Комптон, в полуобмороке от страха, до крови кусал губы, чтобы не взвыть. Такое поведение могло бы очень удивить полицейского, если бы мисс Лайтфизер, чьи губы оказались в нескольких сантиметрах от лица «Бобби», не чмокнула его в нос. Блюститель порядка на мгновение опешил.
— Не слишком ли вы фамильярны, а, барышня? — пробормотал он.
Но Багдасарьян, усмотревший в происшествии возможность выкрутиться, чуть-чуть принужденно засмеялся.
— Она у нас ужасная проказница!.. Не обижайтесь, пожалуйста, просто она обожает полицейских!
— Это доказывает, что у девушки хороший вкус… А куда вы едете, джентльмены?
— Я везу дочь к своей сестре, в Патни.
— Отлично… А что у вас в том большом свертке, на полу?
Багдасарьян не сомневался, что сердце у него сейчас остановится, а услышав ответ Пенелопы, почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом.
— Труп, — спокойно объяснила полицейскому девушка.
Гарри, уже во второй раз за вечер потерявший сознание, совершенно утратил интерес к дальнейшим приключениям. Что до армянина, то, судорожно вцепившись в руль, он ждал приказа выйти из машины и с ужасом думал об окровавленном ноже, покоившемся в правом кармане его пиджака. А еще он жалел, что давным-давно не свернул шею этой отвратительной мисс Лайтфизер. Но полицейский рассмеялся.
— Так, вы говорите, проказница? А что за труп, мисс? Уж не сочтите за нескромность…
— Советского шпиона! Хотите взглянуть?
Теперь Багдасарьян точно знал, что не страдает никакими сердечными заболеваниями, — иначе он бы уже умер. А полицейский, согнувшись в неудержимом приступе хохота, отошел от машины.
— Потрясающая девушка! — крикнул он. — Поезжайте!
Армянин был в таком состоянии, что, несмотря на полученное разрешение, никак не мог нажать на газ. Однако в конце концов ему это удалось. Констебль Джон Крамми все еще держался за бока, когда к нему подошел сержант Гарри Абрамс.
— Эй, Крамми, что у вас за вид!
— Ох, сержант, это слишком забавно!
— Правда?
Желая разделить удовольствие с сержантом, Джон Крамми поведал о происшествии и повторил комичный ответ девушки. Абрамс в свою очередь посмеялся.
— Но самое смешное от вас ускользнуло, Крамми, — наконец заметил он.
— И что же это, сержант?
— А то, что ответ барышни был чистейшей правдой!
— Что???
— Эти типы действительно везли с собой труп человека, которого только что прикончили!
И сержант, хохоча до слез, продолжал обход, оставив констебля Крамми с помутневшим взором и вдруг пересохшим горлом размышлять над превратностями этого мира, чьим законам он всегда так преданно служил и которые сержант Гарри Абрамс вдруг пошатнул одним-единственным замечанием.
23 часа 30 минут
Как только они отъехали достаточно далеко от полицейских, Багдасарьян набросился на мисс Лайтфизер:
— Вы, часом, не сошли с ума?!
— Я? О, мистер Багдасарьян, что за странные мысли приходят вам в голову!
— Мне? Так это мне в голову приходят странные мысли, да? А рассказывать легавым, что мы таскаем с собой жмурика, по-вашему, нормально, а?
— Но это же правда!
— Ну и что?
— А то, что мама учила меня никогда не врать!
— Лучше б ваша мама дала вам немного мозгов!
Комптон начал потихоньку приходить в себя.
— Где мы? В полицейской машине?
— Теперь вам вздумалось поострить? — буркнул армянин.
— К-кажется, я на какое-то время… потерял сознание…
— Вам крупно повезло!
Они проехали через мост Воксхолл, свернули направо и еще раз направо и по Найм Элмс Лэйн направились в сторону доков. Проезжая мимо патрульной машины, Багдасарьян значительно снизил скорость, но Пенелопа высунулась из окошка и, поравнявшись в водителем, издала такое звонкое «Ю-пи!», что испуганный полицейский резко крутанул баранку. В ту же секунду резкий свист блюстителей порядка приказал армянину затормозить. Сокрушенный этим новым ударом судьбы, он повиновался, мысленно клянясь, что, если им, паче чаяния, удастся спастись и на этот раз, он заставит Пенелопу умолкнуть навеки. Что до Гарри, тот мечтал снова упасть в обморок и избавиться таким образом от участия в дальнейших событиях. К машине подошел старший сержант и, открыв дверцу со стороны Пенелопы, рявкнул:
— Ну?
Мисс Лайтфизер по обыкновению зашлась дурацким смехом, и старший сержант Арчибальд Макнамара стал разглядывать ее с живейшим интересом.
— Вам нехорошо, мисс?
Пенелопа пощекотала ему подбородок и пару раз мяукнула: «Мяу, мяу…» Тер-Багдасарьян внутренне готовился к пожизненному заключению, Гарри Комптон в очередной раз пожалел о своем отъезде из Бристоля, а сержант Макнамара удивился не меньше, чем если бы увидел Ее Величество танцующей ча-ча-ча в одном из баров Лэмбета. Бедняга судорожно хватал ртом воздух, поразительно напоминая выпавшую из аквариума вуалехвостую рыбку.
— «Мяу-мяу», а? — наконец выдавил он из себя.
Мисс Лайтфизер с самым блаженным видом разразилась своим специфическим смехом, даже отзвуки которого казались вызовом всем законам, управляющим жизнью британских граждан. Старший сержант повернулся к армянину:
— Барышня не в себе?
— Еще как! Совсем крошкой ее во время бомбардировки чуть не похоронило заживо под обломками дома… Бедняжка так и не пришла в себя окончательно…
Добряк Макнамара вздохнул:
— А, ясно… Но я ведь не знал, вот и удивился… Бедная девочка!.. Ну да ладно… А кстати, куда это вы едете все втроем?
Пенелопа сочла нужным внести поправку:
— Вчетвером…
Арчибальд внимательно оглядел всех пассажиров машины.
— Что она болтает? Если глаза меня не обманывают, вас только трое…
Багдасарьян почуял приближение катастрофы, а Гарри Комптон пытался вспомнить все детские молитвы, дабы упросить Господа не забыть о нем и взять под покровительство. А мисс Лайтфизер уточнила:
— Вы забыли о трупе!
— О трупе? О каком трупе?
— О том, который мы везем вон там, сзади!
Макнамара вздохнул:
— Ладно, согласен, мисс, вы перевозите покойников… Что ж, это занятие не хуже любого другого… Я сам в воскресенье на досуге иногда подбрасываю одного-другого… Держитесь, мисс, и постарайтесь уснуть… — И, снова поглядев на армянина, сержант добавил: — Не знаю, куда вы везете эту молодую особу, но советую добраться до места как можно скорее!
Не будь Тер-Багдасарьян приверженцем марксистско-ленинской религии, он бы возблагодарил Всевышнего за счастливое избавление. Чтобы не затягивать разговора и, по возможности, избежать новых эксцентричных выходок со стороны мисс Лайтфизер, ресторатор воздержался от упреков и поспешил скорее тронуться в путь. Он успокаивал себе нервы, представляя, с каким наслаждением свернет Пенелопе шею.
В Челси они переехали через еще один мост, погасив все фары, скользнули в парк Баттерси и остановились в зарослях кустарника. Комптон помог Багдасарьяну подтащить труп Баланьева к берегу. Убедившись, что вокруг нет ни души, они швырнули зловещий груз в воду. Оба мужчины немедленно бросились прочь, не подозревая, что в ту же секунду из тени вынырнула лодка с агентами речной полиции, которым надлежало выловить останки товарища Баланьева.
Снова оказавшись за рулем, армянин с облегчением перевел дух. С одной тяжкой повинностью покончено… хотя и не без труда. Он бросил убийственный взгляд на задремавшую мисс Лайтфизер. Машина тихонько тронулась с места. Девушка вздрогнула.
— Вы отвезете меня домой, мистер Багдасарьян? Мама уже, должно быть, волнуется…
Ресторатор из Сохо хмыкнул про себя. Маменька Пенелопы еще немало понервничает, пока ее не позовут опознавать тело дочери в морг, куда очень скоро отправит эту идиотку он, Багдасарьян!
— Нет, мисс, мы не можем вернуться, пока не выполним свою миссию!
— Вы хотите сказать…
— Да, мы возвращаемся в дом сэра Реджинальда Демфри. Раз мистер Комптон уверяет, что потерял досье именно там, надо попытаться снова его забрать.
Остановив машину на набережной в Баттерси, инспектор Картрайт по рации следил за передвижениями Тер-Багдасарьяна и его спутников. А тем даже в голову не приходило, что с них ни на секунду не спускают глаз. Агенты речной полиции сообщили Картрайту, что тело вытащили из воды. Инспектор, оставив Батлера слушать сообщения по радиотелефону, подошел опознать жертву.
Полицейские развернули ковер и положили тело прямо на камнях набережной. Высокий полисмен отдал инспектору честь.
— Парня ударили ножом, сэр…
Картрайт кивнул.
— Обычная манера Багдасарьяна.
Он нагнулся над мертвым, внимательно оглядел труп и снова выпрямился.
— Милейший Баланьев больше не доставит нашим службам никаких хлопот.
Четверг, утро
Багдасарьян остановил машину на углу Де Вера Гарденс, не подозревая, что несколько полицейских, связавшись по радиотелефону с Картрайтом, уже поджидают его в засаде. В саду армянин в последний раз проинструктировал молодых людей:
— На сей раз о провале не может быть и речи, ясно? Во избежание всяких недоразумений мы поступим так… Мисс Лайтфизер, которая теперь знает, как выглядит досье, отправится за ним и вытащит из сейфа. Комптон будет караулить в коридоре у верхней лестничной площадки. Как только мисс Лайтфизер заберет досье, она передаст его Комптону, а тот, не обращая внимания, видят его или нет, быстро спустится вниз и выскочит в холл, где его буду ждать я. Там он отдаст мне пакет и спокойно выйдет черным ходом. Все понятно?
Пенелопа и Гарри вошли первыми. К счастью, в холле они никого не встретили и беспрепятственно поднялись на второй этаж. У двери кабинета сэра Реджинальда девушка распрощалась со своим милым и невозмутила отправилась за досье. Обнаружив его на прежнем месте, Пенелопа ничуть не удивилась. Мисс Лайтфизер любила порядок, а потому тщательно закрыла дверцу сейфа, прежде чем снова вернуться к Гарри. Тот, не колеблясь, помчался в холл, где его должен был поджидать Тер-Багдасарьян. Должен был, но не ждал, ибо за это время произошло одно не известное Комптону событие. Осторожно проникнув в холл, армянин неожиданно столкнулся нос к носу с дворецким Уильямом Серджоном. Немного поколебавшись, тот дал волю обуревавшему его возмущению:
— Что вы здесь вынюхиваете?
— Послушайте… я сожалею, что вел себя так невежливо…
— Вовремя же вы об этом вспомнили!
— Я думал… что… вдруг еще могу быть вам полезен?
— Нет. Вы оскорбили меня! И я не намерен больше иметь с вами дело. Уходите!
— Послушайте, может…
— Прочь, или я сам вышвырну вас вон!
Кипя от ярости, но боясь устраивать скандал, который наверняка поставил бы его в очень опасное положение, Багдасарьян вышел из дома сэра Реджинальда. Уильям Серджон подбоченясь наслаждался победой, как вдруг на лестнице послышался громкий топот. Дворецкий едва
успел обернуться, когда на него налетел Гарри Комптон и, едва не сбив с ног, сунул в руки большой пакет.
— Держите, а мне пора удирать! — шепнул молодой человек.
И, не ожидая ответа, он исчез в коридоре, ведущем к черному ходу. Окончательно сбитый с толку этой чередой непонятных событий, Серджон тупо вертел в руках пакет с крупной надписью «Лавина». Он так и не решил, что следует предпринять, когда в холле появилась Пенелопа.
— Чудесный вечер, правда, Серджон?
— Без всякого сомнения, мисс, — механически ответил все еще немного ошарашенный дворецкий.
И тут мисс Лайтфизер заметила, что слуга держит в руках досье, которое она передала Гарри. Девушка мягко отобрала у него пакет. Впрочем, Серджон и не думал сопротивляться.
— О, прошу прощения, Серджон, это как раз то, что я искала…
Все это явно превосходило понимание слуги. Он поглядел на собственные пустые руки, потом перевел взгляд на изящную фигурку девушки, уже открывавшей дверь на улицу, и лишь тогда бросился догонять. Едва переступив порог дома, Пенелопа столкнулась с Багдасарьяном. При виде большого пакета в ее руках армянин улыбнулся.
— Давайте скорее! — приказал он.
Но Пенелопа быстро спрятала досье за спину.
— Сначала скажите мне, где Гарри!
— Гарри? Понятия не имею, да и плевать! Живо гоните досье!
— Нет.
— Как так, нет?
— Эти бумаги касаются отца Гарри, верно? Вот я и отдам их только самому Гарри!
— Давайте сюда!
— Нет!
Багдасарьян набросился на девушку и после недолгой борьбы вырвал у нее пакет. Грубо оттолкнув Пенелопу, он повернулся, но тут же узрел кипящего от возмущения Серджона. Дворецкий не стал тратить время на объяснения, а изо всех сил саданул армянина в челюсть. И Багдасарьян под оглушительный звон колоколов, вдруг загрохотавших у него в голове, отправился в страну сновидений. Дворецкий подобрал досье «Лавина».
— Кажется, я подоспел вовремя, мисс!
Однако вместо благодарности, которой он был вправе ожидать, Пенелопа подскочила, выхватила пакет и снова метнулась в дом, но в холле чуть не налетела на леди Демфри.
— Что с вами, Пенелопа? О, досье Реджи…
Вошедший в этот момент Серджон увидел, как мисс Лайтфизер передает пакет хозяйке дома.
1 час 00 минут
— Что ж, дорогой мой Реджинальд, боюсь, сегодня нам уже не на что надеяться… Благодарю за прекрасный вечер… С точки зрения наших планов он, конечно, мог бы получиться намного плодотворнее, но в такой трудной игре всегда возникают непредвиденные осложнения…
Адмирал Норланд прощался с хозяином дома. Оба мужчины как раз обменивались крепким рукопожатием, как вдруг к ним подошла леди Демфри. В руке она держала досье «Лавина».
— Послушайте, Реджи, вы это нарочно? Мне только что снова передали конверт, который я вам сегодня уже приносила…
Реджинальд Демфри и адмирал, вытаращив глаза, созерцали злополучное досье, которое не желало покидать сейф, где его запирали, иначе как для того, чтобы снова вернуться к владельцам. Лица обоих мужчин являли глазам слегка удивленной Барбары образчик самых разных выражений, способных появиться на лице англичанина в минуты крайних потрясений: изумление, гнев, оскорбленное самолюбие. Адмирал первым обрел дар речи, но лишь для того, чтобы изрыгнуть самое чудовищное ругательство, которое только слышали на Де Вере Гарденс со времен основания этого района. Назавтра его обсуждал весь Кенсингтон. Ходили слухи, что о происшествии доложили королеве, и, поскольку Ее Величество, как всем известно, не склонна шутить с правилами хорошего тона, она вроде бы поднимала на совете вопрос об отставке адмирала. Что до леди Демфри, то она на мгновение остолбенела, уподобившись наказанной за любопытство Лотовой жене. Мужу пришлось взять Барбару за руки и несколько раз самым нежным образом назвать по имени, прежде чем ей удалось стряхнуть оцепенение, вызванное несдержанностью адмирала. Однако последний, не обращая внимания на учиненный им переполох, отозвал сэра Реджинальда в сторонку. Как только они оказались в холле, Норланд приступил к суровому допросу:
— Вы что, издеваетесь надо мной, Реджинальд? В таком случае лучше признайтесь сразу!
— Уверяю вас, адмирал, я не…
— Ну да? То, что здесь творится, противоречит всем правилам шпионажа и секретных служб! Клянусь потрохами дьявола, где это видано, чтобы шпион стянул такое важное досье исключительно для того, чтобы сразу отдать законным хозяевам? Меж тем сегодня вечером этот документ дважды украли и оба раза вернули! Вы, надеюсь, не станете отрицать, что либо в начале, либо в конце этого цикла должна быть какая-то аномалия?
— Согласен, адмирал, однако я никак не могу найти этому никаких объяснений…
— И вы думаете, такой ответ удовлетворит Интеллидженс Сервис?
— Я не принадлежу к числу их агентов, адмирал, и, коль скоро я честно исполняю свой долг, мнение этих господ мне совершенно безразлично!
— Да ну же, Реджинальд, успокойтесь!.. Сейчас не время для щепетильности… В конце концов, судьба свободного мира важнее, чем мелкие уколы самолюбия!
— Прошу прощения, адмирал.
— Не будем больше об этом. Послушайте, Реджинальд, раз у нас сложилось впечатление, что противник разгадал наши намерения и не желает попадаться в ловушку, может, сделаем вид, будто планы врага увенчались успехом?
— Простите?
— Объявим, будто во время приема важный документ, известный как досье «Лавина», был похищен из вашего сейфа. Я попрошу вас, Реджинальд, доказать преданность Короне, приняв мнимую опалу, которая внешне будет выглядеть настоящей. Я знаю, как это тяжело, но не сомневаюсь, что Ее Величество, узнав правду, сумеет по достоинству оценить ваше самопожертвование…
— Я к вашим услугам, адмирал…
— Благодарю, Реджинальд. Положитесь на меня, это нисколько не повредит вам, и даже наоборот. Разумеется, нам с вами придется разыграть комедию, ибо никто — слышите, никто, даже наши жены — не должен знать правды!
1 час 30 минут
Тер-Багдасарьян, забыв о свойственной жителям Востока пассивности, метался по всей гостиной, а Гарри и Пенелопа, сидя рядышком на диване, испуганно наблюдали за его перемещениями. Неожиданно армянин замер напротив них.
— Ну, так что все-таки стряслось? — завопил он. — Я никак не могу понять самого механизма этой истории.
— Я забрала досье и, как вы сказали, передала ожидавшему меня Гарри, — робко объяснила Пенелопа.
— Я опрометью бросился вниз по лестнице, — продолжал Комптон, — и, думая, что вручаю пакет вам, по-видимому, сунул его дворецкому.
Багдасарьян с трудом сдержал поток ругательств и лишь мрачно заметил:
— По-видимому, а?
— Во всяком случае, это вас не было на месте!
— Откуда я мог знать, что этот кретин Серджон сунет нос куда не надо?
— Ни один человек не в состоянии предугадать все…
Злясь на то, что ему никак не удается свалить вину за провал на Гарри, Багдасарьян еще больше взъелся на Пенелопу.
— Так или этак, а все погубили вы! — зарычал он. — Знаете, что вы такое? Ходячая катастрофа! И сейчас самое время от вас избавиться!
Мисс Лайтфизер иногда нравилось уточнить, что имеет в виду собеседник.
— Избавиться? Что именно вы хотели этим сказать, мистер Багдасарьян?
Вместо ответа армянин так зловеще хмыкнул, что у Комптона по коже забегали мурашки.
— Вы не тронете ни единого волоска на голове Пенелопы! — воскликнул молодой человек.
— А вы заткнитесь!
— И не подумаю! Я вам не позволю вымещать злобу на мисс Лайтфизер, которая ничуть не виновата в неудачном стечении обстоятельств!
На лице Багдасарьяна появилось такое выражение, что по позвоночнику Гарри заструился холодный пот.
— Даю вам добрый совет, Гарри Комптон: если хотите отпраздновать следующий день рождения, перестаньте разыгрывать из себя буржуазного влюбленного!
Наблюдая за этой сценой, Пенелопа раздумывала, хватит ли у Комптона мужества ее защитить. Эти размышления не давали ей впасть в панику. Молодой человек умирал от страха, но он и в самом деле любил Пенелопу…
— Осторожнее, Багдасарьян, — проговорил он слегка дрожащим голосом. — Я не дам вам поднять руку на мисс Лайтфизер!
— Правда? Должен ли я из этого заключить, что вы нас предали и перешли в реакционный лагерь?
Мисс Лайтфизер, очевидно, не понимала ни слова, но, поскольку речь шла о ее особе, ситуация нравилась ей все меньше.
— Мистер Багдасарьян, вы заявили мне, что документ, который хранится в сейфе у сэра Реджинальда Демфри, затрагивает честь отца Гарри, и я совершенно не понимаю, с какой стати мне следовало передать пакет вам!
— Заглохните, бэби, вы слишком глупы!
— Может, я и глупа, мистер Багдасарьян, но вы не джентльмен!
— Не может быть, мисс! Ах, вы и представить себе не можете, как меня это огорчает!
— Кажется, вы смеетесь надо мной, мистер Багдасарьян?
— Мне тоже так кажется, почтеннейшая мисс Лайтфизер!
Возмущенная девушка направилась к выходу, но армянин одним прыжком преградил ей путь. Если бы не телефонный звонок, дело могло окончиться очень скверно. Однако прежде чем снять трубку, Багдасарьян запер дверь и сунул ключ в карман.
— Багдасарьян слушает!
— Я — тот, от кого получал распоряжения Баланьев.
Армянин почувствовал, что у него перехватило горло. А незнакомый голос продолжал:
— После того, что я видел у Демфри…
— А-а-а… так вы там были?
— Не задавайте идиотских вопросов, Багдасарьян! Вам удалось выполнить свою миссию, и это главное. Я зайду к вам за документом часа в три пополудни. Если до тех пор Баланьев даст о себе знать, скажите, чтоб тоже приехал к этому времени.
— Дело в том…
— Да?
— У меня нет документа…
— Что вы сказали?
Багдасарьян, обливаясь потом, рассказал о невероятной путанице, приведшей к возвращению досье «Лавина» сэру Реджинальду. На другом конце провода наступило долгое молчание.
— Вам должно быть известно, что у нас не любят такого рода приключений… да, те, кто пытается вести двойную игру, очень скоро об этом жалеют… но тщетно.
— Но, уверяю вас…
— Ладно. Не выходите из дома — я перезвоню. До скорого.
Бледный как смерть армянин повесил трубку. Когда мисс Лайтфизер с величайшим простодушием вежливо выразила надежду, что новости не так уж плохи, он долго смотрел на нее не понимая, потом вдруг издал что-то вроде глухого рыдания и выхватил нож.
— На сей раз она получит, что заработала!
Однако, чтобы добраться до Пенелопы, Багдасарьяну пришлось миновать Гарри, а тот, в полной панике от грозящей его возлюбленной опасности, схватил первое, что попалось под руку (а это была великолепная ваза), и расколотил ее о голову ресторатора. Последний ничком рухнул на пол да так и замер.
— Как, по-вашему, вы его убили, дорогой? — безучастно осведомилась мисс Лайтфизер.
Испуганный собственным поступком, а главное — его неизбежными последствиями, Комптон начал заикаться:
— Я… н-не зна-на-наю… Вп-п-прочем, это н-не важно… Н-на-до ли-линять отсюда!
Тем не менее Пенелопа, прежде чем уйти, сочла своим долгом поглядеть на Багдасарьяна и высказать свое мнение:
— Странно, что он принял так близко к сердцу честь вашей семьи, правда?
1 час 50 минут
Следуя наскоро сочиненному сценарию, адмирал Норланд позвал жену, и оба громко распрощались с хозяевами дома. Пока адмирал не выразил намерения уйти, еще никто не смел расходиться. Желая подкинуть противнику ложную приманку, Норланд сделал вид, будто немного колеблется, потом повернулся к сэру Реджинальду:
— Я не могу спокойно уйти, оставив здесь досье, которое уже два раза пытались украсть… Если вы не возражаете, я заберу его с собой.
Сэр Демфри слегка выпрямился с видом человека, оскорбленного публичным выражением недоверия, отвесил легкий поклон и сухо заметил:
— Как вам угодно, адмирал. Сейчас я за ним схожу.
— Буду вам премного обязан, — в тон ему отозвался Норланд.
Никто из присутствующих не сомневался, что Демфри вызвал глубокое недовольство шефа и теперь его планка в Адмиралтействе значительно упадет. С этой минуты все начали потихоньку разбегаться, сначала к удивлению, потом возмущению и, наконец, полному отчаянию леди Демфри. Барбара слишком долго вращалась на светской карусели, чтобы не понять размеров катастрофы, меж тем причины от нее полностью ускользали. Сэр Реджинальд вернулся с таким перекошенным лицом, что все разговоры мгновенно смолкли.
— Реджинальд, что… — пробормотала испуганная леди Демфри.
Однако хозяин дома, не обращая внимания на жену, бросился к Норланду:
— Адмирал… Досье «Лавина» снова похитили, мой сейф распахнут настежь…
В ледяном голосе Норланда чувствовалась так умело дозированная нотка презрения, что подлинность сцены ни у кого не вызвала сомнений.
— Решительно, в вашем доме творятся престранные вещи, сэр Реджинальд Демфри! Завтра в восемь утра зайдите ко мне в кабинет и попытайтесь объясниться. А я немедленно еду предупредить Интеллидженс Сервис.
— Но, адмирал, может быть, вы позвоните отсюда?
— Я с прискорбием вынужден заметить, что не считаю вас вправе давать мне советы, особенно если я об этом не просил!
Норланд вышел, и его жена, чуть не плача от жалости к леди Демфри, поспешила следом. Миссис Норланд была добрейшим существом. После ухода адмирала началось повальное бегство, и вскоре совершенно уничтоженная леди Демфри осталась наедине с мужем, его помощниками и их супругами. После того как Барбара, поникнув в кресле, заявила, что сию секунду умрет от стыда на глазах у своих последних друзей, дабы хоть отчасти смыть позор, запятнавший ее имя, хозяйку дома начали отпаивать виски. Уильяма Серджона так потрясло смятение хозяев, что он, забыв о правилах этикета, рискнул высказать свое мнение, хотя его никто ни о чем не спрашивал. И это была первая бестактность за тридцать лет службы.
— По-моему, это маленькая Лайтфизер…
Леди Демфри обратила к нему затуманенный взор.
— Что вы сказали, Серджон?
— С вашего позволения, миледи, я говорю, что мисс Пенелопа Лайтфизер, должно быть, причастна к похищению, и вот почему…
6 часов 30 минут
Сломленный волнениями этой ночи, с ее чередой опасных и нелепых происшествий, Тер-Багдасарьян спал. На крыльях сна он унесся из мрачного, реакционного Лондона в родную солнечную Армению, где благодаря коммунистическому режиму наступит золотой век… когда-нибудь потом. Но тут волшебный сон оборвался, и Багдасарьян увидел эту невыносимую мисс Лайтфизер и вновь пережил все тревожные испытания, которым она подвергла его наяву, во время перевозки трупа Баланьева. Усталый мозг отказывался работать в привычно оптимистическом направлении, и теперь даже во сне каждая победа оборачивалась поражением. Последнее окончательно воплотилось в образе полицейского, чья десница тяжело опустилась ему на плечо. Страж закона так безжалостно тряс Багдасарьяна, что в конце концов тот проснулся. У постели стоял незнакомый мужчина и сверлил его суровым взглядом. Ресторатор потихоньку пришел в себя.
— Кто вы такой и что вам нужно в моем доме? — с трудом выдавил он.
— Я звонил вам сегодня ночью, и вы сообщили мне о самом жалком провале. Вот я и пришел требовать объяснений.
Тер-Багдасарьяна снова охватил страх.
— Я же вам все рассказал по телефону!
— Не совсем… Например, вы забыли сообщить, по каким причинам не уведомили своего непосредственного начальника, Федора Александровича Баланьева.
— Его не оказалось на месте.
— Правда? И куда же вы звонили?
— В посольство, естественно!
— Вы так неумело врете, Багдасарьян, что, должно быть, и впрямь не в своей тарелке. После двадцати трех часов в посольстве не зарегистрировано ни единого звонка… А знаете, почему вы не звонили Баланьеву, Багдасарьян? Потому что вам было известно о его смерти. А каким образом? Да просто вы же его и зарезали…
— Я?
— Да, вы, Тер-Багдасарьян. Его тело выловили из реки, а на нем нашли почти что ваш автограф. Баланьева ударили ножом… Это ваш почерк!
— Но в конце-то концов, зачем мне было убивать Баланьева?
— Этого я не знаю… но никто не видел Федора Александровича с тех пор, как он вошел сюда, в ваш дом…
— Вы позволите мне встать с постели?
— Какой смысл?
— То есть как это?
— Где лучше всего умереть, как не в постели?
— Умереть?
— Мы всегда безжалостно наказываем предателей, Багдасарьян. Вы достаточно давно на нас работаете, чтобы этого не знать!
— Но я… я вовсе не предатель!
— В таком случае, где досье «Лавина»?
— Я вам уже объяснил, что…
— Да, как же, помню. К несчастью для вас, сегодня утром пресса сообщила об исчезновении документа из дома сэра Реджинальда Демфри.
— Что?!
— Хотите почитать газеты? С вашей стороны, Багдасарьян, разумнее всего было бы признать вину и сказать, где вы спрятали бумаги.
— Но, клянусь, я их не брал!
— Та-та-та! Разве вы уже забыли, что мы не верим клятвам?
— Если вы сказали правду, значит, меня провели Комптон и мисс Лайтфизер!
— Жаль, потому что мы одинаково не любим и дураков, и предателей.
— Дайте мне хоть один шанс!
— В нашей работе это невозможно, Багдасарьян!
Увидев, как к его груди приближается пистолет с глушителем, армянин в первую очередь удивился. Не может быть, чтобы советские коллеги решили избавиться от него таким образом! Он не заслуживает подобного обращения! Три пули, пробившие грудь, так и не умерили негодование Багдасарьяна. Словно обдумывая совершенную только что несправедливость, ресторатор закрыл глаза, а когда открыл — он был снова один. Ужасный огонь пожирал его легкие изнутри, и Багдасарьян понял, что скоро умрет. Однако бешенство дало ему сил дотащиться до телефона и набрать номер Гарри Комптона. Как только молодой человек снял трубку, армянин последним усилием воли заставил себя прохрипеть все, что хотел сказать перед смертью:
— Комптон?.. Это Баг… Багдасарьян… Я умираю… три пули… русские… сволочи. Они… едут к… девчонке… убить… и ее… Попытайтесь успеть рань…
Сквозь густеющий туман ресторатор услышал щелчок на другом конце провода — Комптон положил трубку. Багдасарьян горько улыбнулся. Никому до него нет дела… Можно подыхать!..
Так он и поступил.
7 часов 00 минут
Как только инспектор Картрайт проснулся, ему сообщили о решении адмирала Норланда пустить слух, будто похищение удалось. Не сомневаясь, что у Багдасарьяна вот-вот станет очень жарко, он помчался в Сохо. Дверь была только притворена, и Картрайт, войдя в квартиру, почти сразу наткнулся на тело ресторатора.
— Вчера вечером Баланьев, сегодня утром — Багдасарьян… — вздохнул он. — Похоже, началась большая чистка!
Инспектор позвонил в уголовный отдел, дал все необходимые разъяснения и рванул к Комптону, надеясь поспеть прежде, чем молодого человека тоже отправят на тот свет. Решительно, хитрость адмирала уже начала приносить плоды… Благодаря всеобщей свалке с лиц спадет немало масок, и, кто знает, возможно, они наконец выяснят, кто из окружения сэра Реджинальда предатель и кто руководит сетью советской разведки в Лондоне.
7 часов 15 минут
Гарри вскочил с постели, как только до него дошел смысл слов умирающего Багдасарьяна. Он больше не думал ни о пролетарской революции, ни о победе марксизма, ни о поражении капиталистического мира. Все его мысли занимала Пенелопа, которой грозила смерть от руки убийц Багдасарьяна. Натянув штаны и пиджак, Комптон, как был в тапочках, вылетел на лестницу, стрелой промчался мимо оторопевшей от такой небрежности домовладелицы и что есть духу побежал к метро.
7 часов 30 минут
На вопрос Картрайта, дома ли Гарри Комптон, уязвленная вдова Пемсбоди ответила, что молодого человека, по-видимому, укусил тарантул, ибо пятнадцать минут назад он вылетел из дома как ужаленный, чуть не отшвырнув ее по дороге. Такая грубость тем более удивила домовладелицу, что, по ее словам, Гарри Комптон до сих пор являл собой образец хорошо воспитанного молодого человека. Таким образом, полицейский с облегчением убедился, что Гарри ускользнул от советских убийц. Правда, не исключено, что эти последние, не принимая его всерьез, решили сначала наведаться к мисс Лайтфизер…
— А с тех пор как мистер Комптон ушел, его никто не спрашивал?
— Нет.
7 часов 45 минут
Гарри Комптон пребывал в таком возбуждении, что, мчась по улочке, где жили Пенелопа и ее мать, бормотал про себя страшную клятву — если они осмелятся причинить вред его любимой, Гарри потребует отчета у самого товарища Хрущева, взорвет к чертой бабушке Кремль и Дворец съездов, но непременно отомстит за маленькую англичанку! Теперь Комптон твердо знал, что любит ее больше всего на свете. Молодой человек как сумасшедший зазвонил в дверь, потом, не удовольствовавшись этим, начал стучать кулаком, так что едва не сшиб с ног открывшую дверь миссис Лайтфизер и с разбегу пролетел в коридор.
— Где она?
— Я думаю, у себя в комнате…
Комптон бросился туда и без предупреждения толкнул дверь. Девушка едва успела снова запахнуть халатик. Однако прежде, чем миссис Лайтфизер успела высказать все свое возмущение таким хамским нарушением приличий, Гарри упал на колени и, обхватив ноги Пенелопы, стал покрывать поцелуями ее платье. Обе женщины озадаченно смотрели на него.
— С ним это случается все чаще и чаще… — наконец заметила Пенни.
— Уж не знаю, согласишься ли ты со мной, Пенни, но, по-моему, это ненормально, и, уж если быть совсем откровенной, признаюсь, такое поведение меня настораживает! Как бы зять, который вечно стоит на коленях и бьет себя в грудь, не наделал мне таких же странных внуков — набитых комплексами и похожих на пингвинов!
Мисс Лайтфизер сочла, что сейчас не время для биологических экскурсов, хотя ее очень интересовало, каким таким образом из-за того, что Гарри, по-видимому, постоянно терзают угрызения совести, его дети могут стать похожими на пингвинов. Она положила руку на голову Комптона.
— Лучше бы вы встали, Гарри…
— Не раньше, чем получу от вас прощение!
Пенелопа с огорчением посмотрела на мать, но та лишь руками развела.
— Этому не видно конца! Молодой человек, вам совершенно необходимо сходить к психоаналитику! Должно быть, вас мучают навязчивые сожаления о каком-нибудь проступке, совершенном в раннем детстве. Воспоминание об этом событии могло улетучиться, и осталось лишь чувство вины.
Столь глубокое непонимание лишало Гарри дара речи. Он думал о Багдасарьяне, о его срывающемся голосе и о смертельной опасности, о которой его предупредил армянин. В полном отчаянии от собственной беспомощности, молодой человек встал.
— Неужели вы так и не захотите ничего понять? — пробормотал он.
— Но… что именно?
Вместо того чтобы ответить миссис Лайтфизер, Гарри предпочел воззвать к ее дочери:
— Дорогая, я мерзавец! И мне стыдно!
— О нет, Гарри! Умоляю, не надо начинать все сначала!
— Я вас обманул, Пенни… мой отец никогда не сидел в тюрьме!
— Что ж, так оно гораздо лучше, верно?
— А документ, который я уговорил вас взять… нет, хуже того, украсть из сейфа сэра Реджинальда Демфри, на самом деле касается безопасности всего западного мира!
Девушка рассмеялась.
— Безопасности всего западного мира? И только-то? Но, Господи Боже, что бы вы стали с ним делать?
И, повернувшись к матери, она добавила:
— Непостижимо! И откуда он все это берет!
Глядя на двух смеющихся женщин, смеющихся в тот самый миг, когда к ним, без всякого сомнения, приближается самая ужасная смерть, Комптон чувствовал, что у него опускаются руки. Какой смысл сопротивляться неизбежному? Он решил выйти на лестничную площадку и ждать. Может быть, те, другие, удовольствуются только его жизнью?
— Прощайте, Пенни… я вас очень любил и не сомневался, что мы были бы счастливы вместе… И с вами тоже, миссис Лайтфизер, поскольку, я уверен, из вас получилась бы самая замечательная теща на свете… Вот только я совершил ужасно дурной поступок… а теперь об этом жалею… Вероятно, я не так, как надо, воспринимал мир… А еще точнее — был круглым дураком. Но за ошибки надо платить, и я заплачу. Пенелопа, когда я отсюда уйду, крепко заприте за мной дверь и немедленно позвоните в полицию… Обещаете?
— А почему вы уходите, Гарри?
— Я надеюсь, что, расправившись со мной, они оставят вас в покое. Прощайте!
И, прежде чем женщины успели его удержать, Комптон бросился к двери, но, распахнув ее, столкнулся с весьма элегантным молодым человеком. В руке он держал револьвер.
— Весьма сожалею, мистер Комптон, — с изысканной вежливостью начал он, заставив Гарри снова отступить в квартиру, — однако я вынужден помешать вашим намерениям. К несчастью, у вас хранится документ, который мне очень нужен.
— Клянусь вам, у меня его нет!
— Очень досадно… В таком случае, он, очевидно, у мисс Лайтфизер?
Миссис Лайтфизер остолбенела от удивления, зато Пенелопа воскликнула:
— Но… я вас знаю!
— Тем хуже для вас, мисс!
— Почему?
— А потому что вы принуждаете меня к действиям, которые мне внушают глубочайшее отвращение.
— Например?
— Убить вас… равно как и вашу почтенную матушку, которой я выражаю все возможные сожаления…
— Невероятно! — возмутилась миссис Лайтфизер. — С какой стати все словно сговорились нас убить? На днях — тот липовый полицейский инспектор, сегодня — этот джентльмен, которого я вижу первый раз в жизни!.. Я полагаю, все это уже перешло допустимые границы!
Гость вдруг перестал улыбаться.
— Прошу прощения, но у меня не так уж много времени. Я хочу получить документ, вот и все. Ну, отдадите вы мне его или нет?
Пенелопа глупо захихикала.
— Вот смеху-то… Все требуют эти бумаги, но кому они принадлежат на самом деле — неизвестно!
— Вас это не касается. Где документ?
— Откуда же мне знать?
— А вот об этом я не имею ни малейшего понятия… Но предупреждаю: если через минуту вы мне не скажете, где досье «Лавина», я застрелю вашу мать…
8 часов 10 минут
Осторожно толкнув дверь в квартиру миссис Лайтфизер, инспектор Картрайт услышал последнюю фразу и, таким образом, сразу узнал голос. Он так удивился, что едва не выдал своего присутствия. Как только советский агент направил пистолет на миссис Лайтфизер, инспектор вытащил свой собственный.
— Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять… — отсчитывал незваный гость.
Из коридора Картрайт видел бледное лицо Комптона. Его восхитило то, как молодой человек улыбнулся Пенелопе, словно пытаясь ее утешить. Хороший парень… тем более что он-то ведет честную игру и ни о чем не догадывается…
— Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать…
Полицейский заметил, как миссис Лайтфизер напряглась. Не стоит подвергать ее слишком большому риску.
— Довольно, Фаррингтон! — приказал он.
Дональд Фаррингтон, быстро обернувшись, выстрелил, но Картрайт оказался более метким стрелком, и второй помощник сэра Реджинальда Демфри упал на колени. Падая, он вцепился в край стола и с улыбкой прошептал:
— Самый лучший выход из положения…
И тут же рухнул ничком.
Агент Интеллидженс Сервис, взглянув на мертвого, покачал головой:
— Господи, как это глупо… Гарри Комптон, вы держались на высоте. Мы знаем обо всех ваших действиях, с тех пор как вы покинули Бристоль.
Узнав человека, помешавшего ему броситься в Темзу, Гарри изумленно вытаращил глаза.
— Но… кто вы такой?
— Эверетт Картрайт!
— Полицейский?
— Если угодно…
— Тогда объясните им, что я шпион! Что я работаю на русских.
— Вернее, работали, поскольку всего через несколько секунд уже никому не понадобитесь… Бросьте оружие, Картрайт!
Стоявшая на пороге женщина держала их всех под прицелом, и было совершенно ясно, что она без колебаний выстрелит.
— Миссис Смит! — воскликнула Пенелопа.
Картрайт уронил пистолет на ковер и по приказу миссис Смит оттолкнул его ногой к ней поближе. Комптон казался окончательно выбитым из колеи. На сей раз он уже даже не пытался понять, что происходит и какую роль в этой истории играет кухарка Демфри. Последняя указала на Фаррингтона.
— Кто его убил?
— Я… — признался инспектор.
Миссис Смит ограничилась весьма короткой эпитафией:
— Очень мил, но несерьезен… Прогнивший плод капитализма…
Вот и все, что заслужил милейший Дональд Фаррингтон за свое предательство.
Меж тем Маргарет Мод Смит продолжала:
— Я, разумеется, пришла за досье «Лавина». Если вы мне его отдадите, я никому из вас не причиню вреда…
Картрайт пожал плечами:
— Вы принимаете нас за дураков? Можно подумать, вы оставите нас в живых, после того как нам стало известно, что советскую разведку в Лондоне возглавляет кухарка сэpa Реджинальда Демфри! Вот уж не ожидал, что англичанка способна перейти на сторону противника…
— А я вовсе не англичанка. Мое настоящее имя — Татьяна Федоровна Темпескова… Ловко я провела ваших ищеек, Картрайт? У нас я бы не имела ни единого шанса выйти сухой из воды!
— Не думаю, чтобы вам это удалось и тут, — вкрадчиво заметил инспектор.
— Ошибаетесь. Во-первых, мы умнее, а во-вторых, нас не останавливают ваши глупые предрассудки.
В этой до крайности накаленной атмосфере смех мисс Лайтфизер прозвучал как нечто совершенно нелепое, почти непристойное. Комптон и Маргарет Мод Смит изумленно уставились на девушку.
— Послушайте, миссис Смит, а вы не опоздаете на работу?
— Попытайтесь внушить этой идиотке, что ей осталось жить всего несколько минут, — с раздражением бросила Картрайту кухарка.
— Опять? Но с чего это все угрожают меня убить? Мистер Багдасарьян… мистер Фаррингтон… а теперь еще и вы, миссис Смит! Люди, которым я ровно ничего дурного не сделала! Мистер Картрайт, они ведь не имеют права, верно? И если бы леди Демфри узнала о вашем поведении, миссис Смит, я уверена, что она выставила бы вас за дверь!
Слушая столь невероятный поток глупостей, Татьяна Федоровна Темпескова на мгновение растерялась. В это время вдруг раздался слабый голос миссис Лайтфизер:
— Прошу прощения, но… по-моему, я сейчас упаду в обморок.
Она пошатнулась и, цепляясь за спинку стула — опору, надо сказать, весьма ненадежную, — пробормотала:
— О Боже мой…
Увидев, как ее мать медленно сползает на пол, Пенелопа невольно вскрикнула: «Мама!» — и бросилась на помощь. Движение девушки выглядело так естественно, что русская не решилась ее остановить, и совершенно напрасно, поскольку мисс Лайтфизер оказалась в опасной близости от нее. В тот же миг Татьяна Федоровна почувствовала, что ее схватили и приподняли. Не успев сообразить, что происходит, бывшая кухарка уже лежала на спине, а в грудь ей упиралось колено мисс Лайтфизер. Эверетт Картрайт нагнулся и защелкнул на запястьях пленницы стальные браслеты.
— Как видите, невзирая на предрассудки, нам все же удается выйти из положения, — заметил он, помогая русской встать.
Пенелопа поправила слегка растрепавшуюся прическу, а ее мать, очевидно совсем забыв о внезапном недомогании, проговорила:
— Ты была просто великолепна, дорогая! Браво!
И тут на глазах у слегка обалдевших мнимой Маргарет Мод Смит и несчастного Гарри Комптона произошла удивительная метаморфоза — глуповатая улыбка вдруг исчезла с лица мисс Лайтфизер, и теперь, оставаясь, впрочем, по-прежнему очаровательной, она больше ничуть не походила на робкую дурочку, которую любил Гарри. Русская сначала бормотала угрозы и ругательства, потом замкнулась в молчании, но все это время не сводила глаз с Пенелопы. По всей видимости, она никак не могла уверовать в такое превращение. Еще большее потрясение испытывал Гарри Комптон. С самого начала этой сцены молодой человек застыл, парализованный чередой превосходящих его понимание событий: убийство Баланьева, потом — Багдасарьяна, а за ними — этого Фаррингтона, такого симпатяги на вид… его спаситель с берега Темзы, вдруг оказавшийся полицейским… кухарка Демфри, неожиданно представшая в облике советской шпионки… миссис Лайтфизер, под личиной маленькой серой мышки скрывавшая недюжинную силу духа, и, наконец, Пенелопа, его Пенелопа! Какое невероятное преображение! Куда исчез наивный взгляд, порой выводивший Гарри из себя, но зато рождавший в его душе желание спасти и защитить? Нет, эта новая Пенелопа казалась весьма решительной девушкой, способной скорее оказать помощь, чем просить о ней. Картрайт, очевидно, понял, что творится в душе молодого человека.
— Мистер Комптон, позвольте представить вам мисс Пенелопу Лайтфизер, одну из самых блестящих сотрудниц Интеллидженс Сервис, — сказал он. — Правда, это не основная работа мисс Лайтфизер — она лишь иногда помогает нам на досуге…
— Вы очень опасный противник, мисс… — проговорила мнимая миссис Смит скорее с восхищением, чем с досадой. — Жаль, что вы были не на нашей стороне!
— Так вы с самого начала, с нашей первой встречи знали, кто я такой и чем занимаюсь? — жалобно пробормотал Гарри Комптон.
Звонкий смех Пенелопы ничуть не напоминал ее прежнего глупого хихиканья.
— Ну конечно…
Понедельник, вечер 15 часов
В кабинете адмирала Норланда сам хозяин, сэр Реджинальд Демфри и Герберт Рутланд слушали рассказ о событиях, закончившихся арестом Татьяны Федоровны Темпесковой.
— От двойных агентов мы знали, что русских очень интересует досье «Лавина», причем точность сведений быстро убедила нас, что в непосредственном окружении адмирала есть их человек. И сей неприятный вывод побудил нас начать тщательное расследование. В результате нам пришлось следить за каждым из вас, джентльмены, а также за вашими супругами. Занятие не из веселых, но зато совершенно необходимое… Если адмирал, сэр Реджинальд Демфри и их супруги сразу оказались вне подозрений, то с остальными дело обстояло иначе…
Заметив, что Герберт собирается возразить, инспектор упреждающе поднял руку.
— Прошу вас, мистер Рутланд… Вы ведь понимаете, что Интеллидженс Сервис не может руководствоваться эмоциями! Мы знали, что ваша жена заядлая картежница и тратит гораздо большие суммы, чем те, которыми она могла бы располагать в нормальных обстоятельствах. Фаррингтоны тоже жили явно не по средствам… Однако очень скоро мы перестали подозревать миссис Рутланд…
— Почему? — сухо осведомился первый помощник сэра Реджинальда.
— Потому что мы обнаружили, что миссис Рутланд, вероятно, без вашего ведома, работает в одном издательстве. Блестящее знание французского и немецкого языков позволяет ей возглавлять отдел переводной литературы, а заодно и расплачиваться с долгами… Зато наши подозрения насчет Дороти Фаррингтон все укреплялись. Каждый месяц она получала очень много денег от некоего ирландского дядюшки. Мы быстро выяснили, что никакого дяди у миссис Фаррингтон нет. В результате за Дороти установили пристальное наблюдение, но оно оказалось совершенно бесплодным… и не без причины! Миссис Фаррингтон не имела ни малейшего отношения к этой истории! Чтобы как-то объяснить ежемесячные денежные вливания, Дональд рассказал жене довольно нелепую сказку. Якобы давным-давно какой-то приятель его родителей нагрел их на крупную сумму, а потом, раскаявшись, стал потихоньку расплачиваться. А посылал он деньги на имя Дороти только потому, мол, что служащий Адмиралтейства, получающий деньги неизвестно за что, может вызвать подозрения начальства. Глупо, конечно, но любящие женщины не задают лишних вопросов… и готовы поверить самым невероятным выдумкам.
Реджинальд вздохнул:
— Бедная Дороти!.. Нельзя ли как-нибудь ей помочь?
— Мы вынуждены рассказать ей об истинных обстоятельствах смерти Дональда, чтобы она ничего не требовала от государства, но для общественности предпочтительнее сделать вид, будто Дональд Фаррингтон пал жертвой долга.
— Я не уверен, что это хорошо с точки зрения морали, — возмутился адмирал.
Картрайт улыбнулся:
— Мораль и контрразведка несовместимы, сэр.
Демфри поддержал представителя Интеллидженс Сервис. Его радовало, что Барбаре теперь придется быть любезнее с молодой вдовой. Сэр Реджинальд обладал весьма своеобразным чувством юмора.
— Нам очень повезло, что мисс Пенелопа Лайтфизер, наш временный агент, действительно работает портнихой в ателье, неподалеку от которого снял комнату Гарри Комптон. Понаблюдав за привычками молодого человека, мисс Лайтфизер постаралась привлечь его внимание, постоянно обедая в те же часы за одним из соседних столиков. Как вы сами могли убедиться, джентльмены, Пенелопа очень красива, и мы не без оснований предполагали, что молодой человек попадется на такую приманку. Зная о его застенчивости, мисс Лайтфизер решила сыграть роль дурочки, способной вляпаться в любую историю. Хозяева ателье обещали в случае нужды обрисовать Пенелопу как очень милую, но слегка придурковатую девушку. Что до консьержки, миссис Беннет, то она работает на нас и тоже знала о возможных расспросах. На всякий случай мисс Лайтфизер и в самом деле вступила в коммунистическую партию… а потом очень ловко довела это до сведения Комптона. Представляете, как мы обрадовались, когда Багдасарьян стал наводить справки о Пенелопе? Рыбка клюнула… Кроме того, мисс Лайтфизер сообщала нам по телефону о растущей влюбленности Комптона. Между прочим, и сама она, видимо, не осталась равнодушной к несомненному обаянию молодого человека…
— Но эта юная особа все же очень крупно рисковала! — заметил сэр Реджинальд Демфри. — Впрочем, это великолепная актриса. Должен признаться, меня она провела, как и всех остальных. Кстати, насколько я понял, ее мать чуть не зарезал этот Багдасарьян?
— Я сам позвонил миссис Лайтфизер и предупредил, что к ней идет убийца, но она отказалась от помощи, понимая, что в противном случае рискует погубить всю операцию… Муж миссис Лайтфизер погиб не при Дюнкерке, как она рассказывает тем, кому вовсе не обязательно знать правду, нет, он был нашим сотрудником и пал во время одной операции. Из восхищения и любви к нему мать и дочь по мере сил продолжают его дело… Чудесные женщины…
Адмирал счел необходимым уточнить еще одну немаловажную подробность.
— А каким образом попала в дом Демфри эта фантастическая кухарка Смит, оказавшаяся шефом вражеской разведсети?
— Ее рекомендовала Дороти Фаррингтон… забыв предупредить леди Демфри, что это находка ее супруга. То, что Багдасарьян, Баланьев и Фаррингтон мертвы, а Темпескова очень надолго угодила под замок, — блестящая победа. И без вашей помощи, джентльмены, мне никогда не удалось бы добиться такого успеха…
17 часов 00 минут
Воспользовавшись суетой, наступившей в квартире миссис Лайтфизер после того, как туда приехали официальные представители Скотленд-Ярда, Гарри незаметно ушел. По дороге домой он пытался проанализировать случившееся. Больше всего молодого человека терзал стыд. Стыд за то, что он так отвратительно вел себя по отношению к Англии, к милейшей миссис Лайтфизер, к очаровательной Пенелопе и, наконец, к памяти собственных родителей. А кроме того, Комптон переживал, что так легко поддался на обман Пенелопы. Злиться на девушку он не мог, но искренне думал, что больше никогда не посмеет показаться ей на глаза. Да и зачем? Если мисс Лайтфизер и делала вид, будто с удовольствием слушает его признания, то лишь с одной-единственной целью — обезвредить вражеского агента. Решив больше не думать о девушке как о возможной супруге, Гарри ощутил такую пустоту внутри, что ему по-настоящему захотелось умереть. Жизнь без Пенни утратила всякий смысл и в довершение всех бед той Пенни, которую он любил, вероятно, вообще не существовало. Комптон с содроганием вспомнил самоуверенный тон новой мисс Лайтфизер, внезапно представшей его глазам, невероятную ловкость, с какой она скрутила в бараний рог Маргарет Мод Смит. Бедняге Гарри стало так невыносимо грустно, словно он оплакивал гибель любимой девушки.
У входа его остановила миссис Пемсбоди, жаждавшая непременно узнать, что за причина побудила ее жильца вести себя столь неподобающим образом. Как он посмел не только не поздороваться, но даже толкнуть ее?
— Господь свидетель, мистер Комптон, что я вовсе не из тех женщин, которые непомерно раздувают значение собственной персоны! Тем не менее мой отец все-таки был судебным исполнителем, и если превратности судьбы вынудили меня сдавать комнаты джентльменам (или по крайней мере тем, кого я считала таковыми), это не мешает мне считать себя порядочной женщиной и требовать уважения от окружающих!
Гарри посмотрел на домовладелицу так, будто она разговаривала на незнакомом ему языке.
— Но никто в этом никогда и не сомневался, миссис Пемсбоди!
— Ошибаетесь, мистер Комптон, — я сама!
— Вы?
— Да, сегодня утром! Когда вы, мистер Комптон, толкнули меня и, даже не извинившись, побежали дальше, я поняла, как мало вы со мной считаетесь и что вы меня презираете! Так вот, говоря по чести, я такого отношения не заслуживаю!
Миссис Пемсбоди разразилась слезами.
— До… жить до… до моих лет… а по… потом… та… такое уни… жение… — всхлипывала она. — Это… у… ужасно…
Гарри так хотелось избавиться от домовладелицы, что он готов был ляпнуть что угодно, лишь бы как-то объяснить свой проступок и улизнуть, а потому сказал, будто его позвали к смертному одру любимой девушки. Миссис Пемсбоди, страстная любительница мелодрамы, тут же забыла о пережитом унижении и выразила живейшее любопытство:
— Господи! Она попала в аварию?
Думая о навеки утраченной Пенелопе и почти не соображая, что говорит, Комптон пробормотал:
— Она умерла…
Миссис Пемсбоди издала долгий скорбный стон. Отбросив все обиды, она горячо пожала руку своего несчастного жильца.
— Простите меня… Я ведь не могла угадать, правда?
И, провожая глазами поднимавшегося по лестнице молодого человека, домовладелица подумала, что со спины он очень похож на Уинстона Черчилля времен бурской войны.
18 часов 00 минут
Когда инспектор Картрайт осведомился, дома ли Гарри Комптон, миссис Пемсбоди с величайшим пылом посоветовала ему отложить визит до другого раза, поскольку мистер Комптон сейчас совершенно не в состоянии принимать кого бы то ни было. Полицейский очень удивился:
— А что с ним такое?
— Он страдает… бедный мальчик!
— И в чем причина страданий?
Миссис Пемсбоди положила правую руку на то место, где должна была бы находиться левая грудь, не будь природа так скупа к ней в этом отношении, и голосом, в котором слышались отзвуки безнадежного отчаяния Офелии, Симбелина и Дездемоны, изрекла:
— Та, кого он любил, умерла!
— Правда?
— Да! Несчастный случай…
— Это ужасно… Но, я думаю, в подобных обстоятельствах Гарри особенно необходим друг. Так что, с вашего позволения, я поднимусь.
И, не ожидая означенного разрешения, полицейский стал взбираться по лестнице. Он вошел без стука, но шум распахнувшейся двери разбудил молодого человека, и тот вскочил с постели:
— А, это вы?
— Я вижу, мое появление вас не удивило?
Гарри пожал плечами:
— Я догадывался, что это так просто не кончится… Вы пришли за мной?
— Разумеется.
— Вы позволите мне прихватить чемодан?
— Я же не дикарь!
— Спасибо.
— Как вы думаете, что со мной сделают? — спросил Комптон, собирая вещи.
— О, знаете, в таких случаях наказание всегда одинаково…
— А, так вы хотите сказать…
Гарри сделал вид, будто затягивает на шее скользящую петлю. Гость вздохнул:
— О да! Веревка на шею, мой бедный друг! Однако, ввязываясь в подобное приключение, вы не могли не предвидеть исхода…
— По правде говоря… нет.
— Вы меня удивляете… но теперь все зашло так далеко, что расплаты не избежать… Ну-ну, мужайтесь… Момент трудный, согласен, но, стоит проявить немного понимания и доброй воли — и все пойдет как по маслу.
Комптон подумал, что только совсем бессердечный человек способен шутить на такую тему.
18 часов 20 минут
У подъезда стояла полицейская машина, а вокруг, в надежде на зрелище, которое, возможно, несколько отвлечет их от повседневной скуки, собрались любопытные. Как только из дома вышел Комптон с чемоданчиком в руке и в сопровождении Картрайта, по улице пополз слушок, что арестован важный преступник. И не успела машина тронуться с места, как несколько человек уже начали оживленно обсуждать, какое преступление совершил молодой человек, хотя никто не знал даже его фамилии.
Не обращая внимания, куда его везут, Гарри думал лишь о своей печальной судьбе.
— Наверное… очень трудно не… упасть духом, когда наступает… решительный момент?
— О, знаете, это вопрос личной философии.
— Вы… вы так думаете?
— Несомненно… и еще, конечно, вдохновения!
Теперь уже Гарри нисколько не сомневался, что полицейский садистски издевается над ним. Чувство собственного достоинства приказывало молчать, но это оказалось выше его сил. Он должен узнать всю правду!
— Говорят, самое страшное — дни перед… самой… церемонией?
— Вы хотели сказать, самые приятные?
— Приятные?!
— Естественно! Вы еще не знаете, как все сложится, так что есть основания для оптимизма.
— Оптимизм в подобных обстоятельствах? Если вы думаете, что это очень остроумно, то жестоко заблуждаетесь!
К счастью, в это время машина остановилась, и разговор, который начал было принимать дурной оборот, прекратился. Увидев, что они подъехали к дому Пенелопы, Комптон хотел спросить, почему его сюда привезли, но Картрайт взял его за руку и подтолкнул вперед:
— Довольно болтать, нас ждут.
18 часов 50 минут
Дверь открыла миссис Лайтфизер. При виде Гарри с чемоданом в руке она ограничилась лишь весьма лаконичным замечанием:
— Вы и в самом деле очень странный мальчик…
В гостиной Пенелопа, как обычно, накрывала стол к чаю.
— Вот он, мисс… — объявил Картрайт. — Мне не без труда удалось притащить его сюда. И, уж не знаю почему, молодой человек непременно хотел взять с собой чемодан. А теперь — счастливо вам всем оставаться и до свидания!
Пенелопа тепло поблагодарила полицейского, а миссис Лайтфизер пошла провожать его до лестницы. На пороге Картрайт обернулся и, поглядев на Комптона, в свою очередь сделал вид, будто накидывает веревку на шею.
— По-моему, вам никак не удастся этого избежать, счастливчик! — бросил он на прощание.
Совершенно ошалевший Гарри оставил всякие попытки понять что бы то ни было. Как только полицейский ушел, Пенелопа приблизилась к молодому человеку.
— А вы, значит, надеялись отвертеться?
Огромным усилием воли Комптон попытался стряхнуть оцепенение.
— Что все это значит, Пенелопа?
— Да то, что я порядочная девушка, мистер Комптон!
— Что вы…
Опять все сначала!
— И если я принимаю ухаживания молодого человека, то лишь потому, что убеждена в серьезности его намерений!
Гарри уже начал различать слабый свет в конце туннеля, но пока не осмеливался верить своим глазам.
— Вы… вы совершенно правы, — пробормотал он.
— Счастлива слышать это от вас, мистер Комптон! Кстати, вы были искренни, когда уверяли меня в своей любви?
— Был ли я… Еще бы!
— И… эта любовь продолжается?
— Естественно!
— Тогда почему бы вам меня не поцеловать? Чего вы ждете?
— Вас по…
И тут до Гарри внезапно дошло, что если он, расспрашивая полицейского, имел в виду плаху и веревку, то Картрайт говорил исключительно о его грядущей женитьбе на мисс Лайтфизер! И на Комптона напал неудержимый смех. Глядя, как он корчится от хохота, Пенелопа слегка встревожилась.
— По-моему, предложение меня поцеловать произвело на вас довольно странное впечатление! — недовольно заметила она.
Гарри обнял девушку и, воспользовавшись тем, что миссис Лайтфизер снова ушла на кухню, с величайшим пылом поцеловал.
— Пенелопа, дорогая… я так счастлив!
— Очень рада за вас, мистер Комптон, но обрадуюсь еще больше, когда вы попросите у мамы моей руки!
И тут славянская часть души Петра Сергеевича Милукина, или Гарри Комптона, вечно боровшаяся с ее английской частью, предприняла последнюю попытку одержать верх.
— Это невозможно! — воскликнул молодой человек. — Я не имею права на вас жениться! Мое имя обесчещено!
— Которое?
Но Комптон, обуреваемый чисто славянским мазохизмом, даже не заметил иронии.
— Я гнусен, Пенелопа Лайтфизер! Слышите? Гнусен! Я должен повергнуться во прах, чтобы вы топтали меня ногами и плевали на меня! Ничего другого я не заслуживаю! Предатель, шпион… Вот кто ты такой, Петр Сергеевич Милукин! Неблагодарный! Только смерть может вернуть тебе прежнюю чистоту! Ты должен умереть, Петр Сергеевич, ибо лишь смерть докажет всем, что ты был достоин той, кого любил!
— А я, надо думать, выйду замуж за покойника? Чем болтать глупости, лучше попробуйте торт!
Девушка протянула Комптону блюдо, на котором возвышался огромный, великолепный «Трайфл»[49], распространяя дивный аромат апельсинового ликера. Преисполнившись благодарности и не в силах совладать с привычкой, от которой жене придется долго и мучительно его отучать, Гарри плюхнулся на колени в тот самый момент, когда Пенелопа, решив покончить с дурацкими излияниями, поднесла ему торт, который, таким образом, с размаху врезался в физиономию Комптона. Задыхаясь в ароматных недрах бисквита, Гарри издал жалобный хрип, и на сбитых сливках появились пузырьки. Девушка так хохотала, что даже не подумала броситься на помощь, зато вошедшая в этот момент миссис Лайтфизер чуть не выронила поднос с чайником и чашками. Стоявший на коленях Гарри с густо залепленной кремом и бисквитом физиономией производил неизгладимое впечатление!
— Пенелопа, дорогая, он что, опять чудит?
— Да нет, готовится просить у тебя моей руки, мама!
Задумчиво глядя на будущего зятя, миссис Лайтфизер сомневалась, что когда-нибудь сумеет понять чужеземные нравы…
ПОСЛЕДНЯЯ СВОЛОЧЬ

Глава I
Лью Мартин, известный среди малышей Стонтон-Сити как «дядюшка Лью», сидел на стуле, закинув ногу на ногу, и мечтал о том благословенном часе, когда он сможет наконец уйти в отставку и отдохнуть. Всякий раз как Лью пытался подсчитать, сколько бесконечно долгих часов он провел на дежурстве, бродя по улицам города, или торчал столбом на перекрестке Белвер-стрит и Кеннеди-авеню, регулируя движение, у бедняги начинала кружиться голова и только крепкое словечко помогало не рехнуться окончательно. Лью Мартин звезд с неба не хватал, но был честным служакой и уже почти тридцать лет добросовестно выполнял порученную ему работу. Но сейчас, когда делать было решительно нечего, полицейский позволил себе погрузиться в мечты и вероятно уже в тысячный раз подумать над важной проблемой — стоит ли, получив отставку, обосноваться на родине жены, в Кентукки, неподалеку от Мэдисона, или же уехать на оставленную ему родителями ферму в окрестностях Роллы, в самом сердце Миссури. Впрочем, и сейчас Лью не смог прийти к окончательному решению, тем более что в управление с перекошенным лицом влетел Джордж Росли, владелец знаменитого в городе ресторана «Маисовый початок». Мартин давно знал старика Джорджа и очень любил его. Росли уже стукнуло семьдесят два года, однако он сохранил юношескую живость и стройность, а заодно и удивительно мощную глотку. Полицейский дружески приветствовал старого знакомого.
— Салют, Джордж! У тебя все в порядке?
— Нет, совсем наоборот!
Тон, каким это было сказано, встревожил Лью больше слов.
— Что-нибудь случилось?
— А какой порядок может быть в Стоктон-Сити, если полицейские дрыхнут даже в управлении?
Лью, конечно, очень хорошо относился к Джорджу, но все-таки есть вещи, о которых не следует говорить. А потому, скинув ноги со стула и вытянувшись во весь свой немалый рост, он сухо заметил:
— Во-первых, я не «дрых», а отдыхал, а во-вторых, я не позволю, чтобы ты разговаривал со мной в таком тоне!
Росли фыркнул.
— Уж не хочешь ли ты, случаем, чтобы я принес тебе извинения?
— А почему бы и нет?
Росли пожал плечами.
— Не будем попусту терять время, Лью. Пойди скажи лейтенанту, что я хочу с ним потолковать.
— Лейтенанта сейчас нет на месте.
— Ладно… тогда я зайду в другой раз.
— Может, ты скажешь мне, о чем хотел поговорить с лейтенантом?
Джордж с сожалением окинул взглядом добродушное лицо Мартина.
— Нет, старина, мне вовсе не хочется, чтобы тебя мучили кошмары. Это дело тебе не по зубам.
— Ты знаешь… капитан у себя…
— Ты что, совсем рехнулся? — оборвал его старик. — Как же, стану я рассказывать о своих неприятностях этому подонку! Нет, послушай, у тебя все в порядке с головой?
Страшно смущенный, полицейский попробовал было не слишком уверенно возражать:
— Ты не имеешь права, Джордж Росли, говорить такие вещи о шефе полиции, тем более — в моем присутствии!..
— Плевать мне на твое присутствие, Лью, потому как тебе не хуже моего известно, что Тед Мелфорд — законченный негодяй, последняя сволочь, продажная шкура и черт знает что еще!
— Если ты собираешься продолжать в том же духе, Джордж Росли, я отправлю тебя в камеру малость охладиться!
— В таком случае, мой бедный Лью, тебе придется отправить туда все население Стоктон-Сити, поскольку в городе нет ни единого человека, кто бы не знал, что Тед Мелфорд — подонок и, вместо того чтобы внушать почтение к закону, продался Мэлу Войддингу, который вместе со своими проклятыми гангстерами держит в страхе весь город!
Ответ на эту гневную тираду послышался из-за спины Джорджа, и произнесший его голос не предвещал ровно ничего хорошего.
— Будь вы помоложе, Росли, я бы отвел вас в сторонку, поучил вежливости и растолковал, как нужно говорить о начальнике полиции Стоктон-Сити. А вам, Мартин, придется в письменном виде изложить причины, которые заставили вас терпеть подобные высказывания о вашем капитане!
Росли обернулся. В дверях стоял колосс, облаченный в форму лейтенанта полиции. Лью Мартин покрылся холодным потом — его всегда пугали гневные вспышки О'Мэхори, типичного ирландца, известного тем, что мало чего боится на этой земле. Зато на старого Джорджа появление лейтенанта произвело совсем другое впечатление. Старик расплылся в счастливой улыбке.
— Лейтенант О'Мэхори! Вас-то я и пришел повидать!
— Вы должны попридержать язык, Росли, если, конечно, не жаждете нарваться на очень крупные неприятности. Ясно?
— Но, лейтенант, вы же знаете… я только повторил то, о чем судачит весь город!
— Вы хотите расплачиваться за всех?
— Ладно… раз уж вы так к этому относитесь… забудем мои слова… Но, услышав, что со мной приключилось, вы наверняка признаете, что у меня есть все основания выйти из себя!
— А в чем дело?
— Я хочу, чтобы это осталось между нами…
— Тогда пойдемте ко мне в кабинет…
— Если вас это не слишком затруднит, лейтенант, я бы предпочел другое место…
— Почему?
— Понимаете… мне бы не хотелось, чтобы кто-то другой услышал то, что я собираюсь вам рассказать… и особенно капитан.
— Опять вы за свое, Росли?
— Да нет же, черт возьми! Просто мне слишком дорога моя шкура!
О'Мэхори немного поколебался, но, сообразив, что старик и в самом деле здорово напуган, кивнул:
— Согласен… Моя машина стоит на улице. Я сяду за руль, а вы присоединитесь ко мне попозже.
— Спасибо, лейтенант!
Через некоторое время в приемную вышел Тед Мелфорд. Лью сразу догадался, что капитан уже успел выпить, и, вспомнив, каким человеком был Тед до постигшего его несчастья, не смог сдержать тяжелый вздох. В прежние времена для всех жителей Стоктон-Сити Мелфорд действительно олицетворял правосудие — суровое, но справедливое. И все знали, как он любит свою жену Мэри и двух дочерей. Лилиан погибла, не дожив и до двадцати лет, а прелестной девчушке Джойс едва исполнилось пятнадцать. Мелфорда всегда ставили в пример, и Лига поддержки американской семьи избрала его почетным президентом. Но все это — в прошлом. Теперь уже никто не испытывал к капитану ни малейшего уважения, и, за исключением мэра Теренса Кэмдена и Флойда Шерпо, хозяина бара «Среди добрых друзей», во всем городе не нашлось бы ни единого человека, который бы пожелал публично появиться в обществе капитана полиции, после того как он начал пьянствовать и запятнал свою честь. Даже самые уравновешенные граждане никак не могли взять в толк, почему мэр не отправит его в отставку и чего он ждет. Причин избавиться от Мелфорда хватало с лихвой.
— Привет, Лью…
— Добрый день, шеф.
— Где остальные?
— На обходе.
— А лейтенант?
— Его увел Джордж Росли.
— И чего он хотел?
— Сие есть тайна, покрытая мраком!
Мелфорд пожал плечами и, не добавив ни слова, вернулся в кабинет.
С фотографии, стоявшей на столе Теда, улыбалась очаровательная молодая девушка, Лилиан. И каждый раз, садясь в кресло, капитан испытывал такую же острую боль, как в тот день (а с тех пор прошел почти год), когда Пат О'Мэхори сообщил ему, что Лилиан попала под машину и ее увезли в больницу. Как ни спешил Тед, он не успел застать дочь в живых. С тех пор, несмотря на любовь близких и сочувствие всего города, он стал жалким ничтожеством. Из славы и гордости Стоктон-Сити Мелфорд превратился в его позор. Но прежде всего капитану не могли простить то, что он пошел на службу к гангстеру Мэлу Войддингу, один из наемных убийц которого, возможно, сидел за рулем машины, сбившей Лилиан. Впрочем, машина была зарегистрирована в штате Огайо и немедленно скрылась с места преступления.
Тед Мелфорд не мог думать ни о чем, кроме гибели своей дочери. Часами он сидел у себя в кабинете, снова и снова переживая постигшее его горе. Оттуда капитан выходил лишь в бар Флойда Шерпо и под презрительными взглядами клиентов пил, тщетно пытаясь забыть о несчастной девочке, превращенной в кровавое месиво. Когда Тед приближался к стойке, некоторые демонстративно отодвигались, а кто погрубее громко спрашивал:
— Эй, ребята, вам не кажется, что потянуло гнильцой? Вам не мешало бы как следует почистить дом, Флойд!
И если Шерпо в подобных случаях приходил в дикое бешенство, то Мелфорд оставался невозмутимым. Казалось, он вообще не видит и не слышит этих хамских выходок.
— Мою бутылку, Флойд, — только и говорил он.
— Ты ее допил вчера вечером, Тед, — нередко приходилось отвечать Шерпо.
— Что ж, тогда открой другую!
Бармен выполнял приказ, и капитан долго беседовал с бутылкой, потом наконец вставал и, одернув мундир, деревянным шагом направлялся к двери, провожаемый сочувственным взглядом Флойда.
— Я не потерплю никаких грубых замечаний о моем друге Теде Мелфорде, — с самым свирепым видом предупреждал Шерпо, как только за капитаном закрывалась дверь.
Шерпо, бывший игрок в регби, многим внушал почтение, и немалая часть его клиентов втайне восхищалась преданностью бармена падшему другу.
Лейтенант без стука вошел в кабинет шефа.
— Здравствуйте, капитан.
— Добрый день, Пат. Что-нибудь новенькое?
— Готовится прескверная история.
— Вот как?
— Ко мне приходил Джордж Росли. У него побывал Джимми Тонала.
— Ну и что?
— Тонала заявил старику, что, если тот не согласится сдавать белье в «Юкатан», прачечную Макса Моски, его ресторан перевернут вверх дном. Разумеется, Макс действует с полного согласия Войддинга.
— А дальше-то что?
— А то, шеф, что мне очень хотелось бы знать, станем ли мы и дальше терпеть такой наглый рэкет!
— Слишком сильно сказано, Пат.
Лейтенант ошарашенно воззрился на капитана.
— Вы и в самом деле думаете то, что сейчас сказали?
— Пока у нас нет никаких доказательств, что Тонала всерьез угрожал Росли.
— Вы больше верите бандиту вроде Тоналы, чем Джорджу?
— Не в том дело… но, боюсь, как бы воображение старого Росли…
— Джордж не маразматик и вовсе не выжил из ума, — резко оборвал капитана О'Мэхори. — Если вы это пытались мне внушить! Вся беда в том, что вы, как всегда, пресмыкаетесь перед Войддингом и его бандой!
— Я не позволю вам…
Лейтенант презрительно рассмеялся.
— Вы больше не можете ни разрешать, ни запрещать мне что бы то ни было, шеф. Вы совсем утратили мужество и честь. Знаете, какого мнения о вас в Стоктоне? Когда кто-то делает пакость, о нем говорят: «Почти так же мерзок, как Тед Мелфорд!»
Капитан усилием воли заставил себя сдержаться.
— Выбирайте слова, лейтенант! — буркнул он.
— Я всего лишь передаю вам общественное мнение Стоктона, капитан. Кстати, это входит в мои обязанности.
— Мне не нравится ваше рвение, лейтенант!
— А мне — ваше отношение к гангстерам, капитан!
— Замолчите! Приказываю вам замолчать!
О'Мэхори вытянулся по стойке «смирно». Капитан явно смутился.
— Мне очень жаль, лейтенант, что вы принуждаете меня разговаривать с вами в таком тоне… Помнится, когда-то мы были друзьями, а?
— Ошибаетесь, капитан… У меня был друг, которого звали так же, как и вас, но он умер. Дружба невозможна без уважения, а мне трудно уважать человека, способного так себя вести. Став полицейским, я поклялся чтить закон и намерен сохранить верность клятве. Что до Росли, то это крепкий старикан. Он полон решимости не сдаваться, намерен собрать всех владельцев ресторанов и уговорить их сопротивляться требованиям банды Войддинга. И я встану рядом с ним!
— Я вам запрещаю!
— Плевать мне на ваши запреты, Тед Мелфорд, я сегодня же подам в отставку.
— Вас назначил мэр, и прошение вы должны подать ему.
— В таком случае я немедленно иду в мэрию. Прощайте!
На пороге огромный ирландец обернулся и пристально посмотрел на капитана.
— И запомните: если с Джорджем Росли что-нибудь случится, никто не помешает мне расправиться с этими подонками! Даже если потом меня усадят на электрический стул!
Подождав, пока эхо шагов О'Мэхори затихнет вдали, капитан вышел из управления и сел в машину. Через несколько минут он остановился у отеля «Эксцельсиор», где жил Мэл Войддинг. Служащий окинул полицейского презрительным взглядом и громко проговорил в трубку: «Начальник полиции Стоктон-Сити спрашивает, может ли мистер Войддинг его принять. Хорошо…»
Он повесил трубку.
— Вас ожидают. Дорогу, я думаю, можно не показывать? Вы здесь так часто бываете, что наверняка выучили ее наизусть.
— Занимайтесь-ка лучше своими делами, приятель.
— Я вам не приятель! И к тому же вы получаете жалованье из налогов, которые я плачу. Разве это не дает мне право на собственное мнение?
Тед не стал спорить и пошел к лифту.
Войддинг занимал целый этаж «Эксцельсиора». Джимми Тонала, пристроившись на стуле у лифта, изучал спортивный журнал. Револьвер под пиджаком выпирал, как настоящий горб. При виде капитана бандит приложил палец к шляпе.
— Наше вам…
Не обращая на него внимания, Мелфорд свернул в коридор. Ноги утопали в толстом ковре. Не успел он постучать, как дверь открылась. Перед капитаном стоял телохранитель Войддинга Брайан Уингфилд. Тед, видимо, отвлек его от партии в покер с другим убийцей — Элом Сирвелом.
— Мэла Войддинга уже предупредили… — сказал Тед.
— Знаю, шеф, знаю…
Гангстер толкнул еще одну дверь.
— Это легавый, — сообщил он и, повернувшись к Мелфорду, добавил: — Можете идти!
В соседней комнате второй помощник Войддинга Макс Моска раскладывал пасьянс, а его подружка, блондинка по имени Пипер Плок, которую все называли просто Пэ-Пэ, старательно наводила марафет. В настоящее время, несмотря на полное отсутствие таланта, она считалась «звездой» кабаре Войддинга.
— Боже мой! — воскликнула Пэ-Пэ при виде Теда. — У вас всегда такая мрачная физиономия, будто вы только что с похорон!
Макс встал и, не говоря ни слова, отвесил подружке крепкого шлепка.
— Может, это научит тебя хоть время от времени держать на запоре свой хорошенький ротик, Пэ-Пэ.
— Нет, послушай, что на тебя нашло? Уж не рехнулся ли ты, часом?
Макс повернулся к Мелфорду:
— Простите ее… у девочки явно не хватает такта. Не ее вина, конечно, но вторую такую дурищу надо еще поискать…
Девица обиделась.
— Ишь, чего придумал! И ничуть я не тупее других!
— Замолкни, Пэ-Пэ, а то опять схлопочешь. Я надеюсь, Мелфорд, вы принесли хорошие вести, потому как патрон сегодня встал не с той ноги… Бабенка Чака вроде бы вчера вечером опять накуролесила в «Копакабана»… Вам об этом не докладывали?
— Нет.
Макс вздохнул.
— Мне было бы жаль Пирл, но, если она не прекратит пьянствовать, непременно нарвется на крупные неприятности… Вы же знаете, как босс не любит шуму… Больше всего он ценит скромность и терпеть не может, когда болтают о нем или о его друзьях…
Мелфорд посмотрел на Макса — невысокий рост, черные курчавые волосы и некоторая склонность к полноте выдавали его итальянское происхождение. Для Теда не было секретом, что Моска спит и видит, как бы занять место своего приятеля Чака Алландэйла, правой руки Войддинга. Опасный тип этот Макс и к тому же всегда ухитряется не запачкаться. Если он и убивает, то лишь под покровом темноты, так, чтобы все было шито-крыто. Чак, наоборот, являл собой тип идеального американца — высокий блондин с великолепной фигурой и по-детски простодушной улыбкой, сразу же вызывавшей симпатию. Однако слишком доверять располагающей внешности Алландэйла не стоило — он стрелял быстро и точно, не переставая, впрочем, все так же мило улыбаться. Внешняя мягкость скрывала жестокий, холодный ум. Чак любил убивать. И если Пирл стала пить сверх меры, то лишь потому, что ей очень несладко приходилось с Алландэйлом.
Макс Моска надел пиджак.
— Пойдемте, Мелфорд.
Идя друг за другом, они миновали еще две комнаты и в последней столкнулись с хорошенькой брюнеткой. Правда, сейчас ее лицо распухло от побоев и слез. Макс насмешливо фыркнул.
— Я вижу, тебе устроили неслабую трепку, Пирл!
Молодая женщина молча проскользнула мимо. По пятам за ней шел Чак.
— А босс, похоже, страшно недоволен, да, Чак?
— Тебе ужасно хотелось бы поссорить нас с Мэлом, правда, Макс? — с улыбкой отозвался Алландэйл.
— Выдумаешь тоже!
— Возись-ка лучше со своим жалким рэкетом, а серьезные дела оставь настоящим мужчинам!
Тед с любопытством наблюдал за перепалкой двух ненавидящих друг друга убийц, однако, несмотря на явное физическое превосходство Алландэйла, он бы все же поставил на Макса. Итало-американец намного хитрее. Вот и теперь он, по обыкновению, сделал обходной маневр.
— Ты не прав, Чак… не прав. Просто ты не знаешь, кто твои истинные друзья.
— Таких друзей, как ты, я предпочитаю видеть на кладбище. Кстати, то же относится и к вам, фараон.
И, сделав это мрачное предупреждение, Алландэйл удалился.
— Бедняга Чак, — вкрадчиво заметил Моска. — Боюсь, он не доживет до старости… Ладно, пошли, а то Мэл может потерять терпение.
Моска тихонько постучал в дверь и, получив разрешение войти, скользнул в комнату, но почти тотчас же вышел обратно.
— Босс вроде бы малость поутих. Ни пуха…
В жизни Мэла была только одна страсть: бабочки. За долгие годы он собрал великолепную коллекцию и тратил фантастические суммы на какой-нибудь редкий экземпляр. Каждый день Войддинг проводил по нескольку часов, склонившись над застекленными ящиками и созерцая любезных его сердцу чешуекрылых. Когда Мелфорд вошел в комнату, гангстер разглядывал в лупу один из образчиков своей коллекции, с осторожностью ювелира перебирая короткими толстыми пальцами. Мэл Войддинг производил впечатление изрядно подпорченного куска сала. Его длинные черные волосы, разделенные прямым пробором, блестели от бриолина. Крохотные поросячьи глазки почти скрывались над набухшими веками. У тех, кто видел Войддинга впервые, оставалось ощущение чего-то нездорового. Однако в моральном отношении дело обстояло еще хуже. Если не считать бабочек, Мэл не любил никого и ничего на свете.
— Чего вы хотите, Мелфорд? — спросил он, не поднимая головы и не предлагая гостю сесть.
— Мне надо поговорить с вами о Джордже Росли.
— Это еще кто такой?
— Хозяин ресторана «Маисовый початок».
— Ну и что?
— Насколько мне известно, Тонала приходил к Джорджу требовать, чтобы тот сдавал белье в прачечную «Юкатан», угрожая в противном случае крупными неприятностями.
— Вы любите бабочек?
— Никогда об этом не думал.
— Жаль.
— Возможно, но я очень хочу, чтобы вы приказали Тонале оставить в покое старого Джорджа.
— На свете нет ничего прекраснее бабочек… В отличие от людей среди них нет ни одной уродины… вот только жизнь коротковата… И это их единственное сходство с некоторыми людьми.
— Росли способен начать кампанию против вас и ваших ребят, а в открытом бою вы ровно ничего не выиграете.
Войддинг отложил лупу и поднял наконец мертвенно-бледное лицо.
— За кого вы себя принимаете, вы, грязный, продажный легаш? С какой стати у вас хватает наглости давать мне советы?
— Если вы не отстанете от Джорджа, мне придется принять кое-какие меры.
— В самом деле?
Войддинг медленно распрямил короткий жирный торс.
— У вас есть еще одна дочь, а, Мелфорд?
— Да, Джойс.
— И жена, которой, насколько я понимаю, вы дорожите?
— Разумеется.
— Было бы весьма прискорбно, если бы их постигла судьба вашей дочери Лилиан…
Капитан закрыл глаза и стиснул зубы.
— Вы сами решили присоединиться к нам, Мелфорд. А от меня нельзя уйти просто так. Так что нравится вам или нет, а вы останетесь у меня на службе.
— Мэр отправит меня в отставку.
— Тогда я сам подыщу вам работу. — Войддинг издал что-то вроде смешка. — Я никогда не бросаю своих служащих.
— А как насчет Росли?
— Вы мне уже порядком осточертели с этим старым дурнем, Мелфорд. И не заставляйте меня повторять вам довольно неприятные истины. Или Росли подчинится, или мы поступим с ним по нашим законам, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Терпеть не могу упрямцев! Так что вы проездили впустую… Но я не хочу, чтобы вы уезжали, совсем ничего не добившись, а потому доверяю вам новость, которая пока известна мне одному: мой младший братишка Берт переселяется в Стоктон-Сити и намерен прихватить с собой парочку приятелей — Сэма Мервейна и Тони Альтамиро. Последний — мексиканец, но, говорят, этот малыш опаснее гремучей змеи. Эта милая компания пополнит наши ряды, и у нас будут новые расходы. Не так ли? А потому всяким там Росли не время строить из себя героев… Берт — очень изобретательный малый, и на него вполне можно положиться. Я просто счастлив, что он решил присоединиться ко мне. Не то чтоб меня особо обуревали родственные чувства, но мне уже случалось использовать таланты младшего братишки, и не без выгоды… Он приезжает из Дайтона.
— В Огайо?
— Вот-вот… я рассчитываю, что вы будете особенно любезны с моим младшим братом, Мелфорд…
— А почему бы и нет?
— Действительно… почему бы и нет? Тем более что у Берта ужасно тяжелый характер, а мне не хочется, чтобы миссис Мелфорд стала вдовой… Печально стареть в одиночестве, особенно если не интересуешься бабочками… Вам нужны деньги?
— Нет.
— Возьмите все же эти две сотни долларов и купите цветов миссис Мелфорд. А теперь убирайтесь. Терпеть не могу запаха легавых, даже когда они насквозь прогнили.
Когда дежурный доложил, что лейтенант О'Мэхори хочет поговорить с ним по важному делу, мэр Теренс Кэмден тяжело вздохнул. Он догадывался, зачем пожаловал Пат. Мэр испытывал искреннюю симпатию к простодушному верзиле ирландцу, но иногда тот здорово действовал ему на нервы.
Строгой элегантностью, воркующим голосом и немного слащавыми манерами Теренс Кэмден напоминал главу отдела Государственного департамента в Вашингтоне. Никто не умел так ловко сгладить углы, когда наиболее радикально настроенные члены муниципального совета пытались взять его за горло. Кэмден пользовался огромной популярностью в Стоктон-Сити, и его постоянно переизбирали на новый срок, тем более что никто не решался выставить свою кандидатуру и вступить в борьбу. Однако в последний год, когда Мэл Войддинг буквально воцарился в городе, Теренс начал с тревогой подумывать, простят ли ему избиратели, что он никак не может справиться с бандитами. Мэр пытался унять тревогу, повторяя себе, что до следующих выборов еще четырнадцать месяцев, а за это время еще немало воды утечет…
Итак, Кэмден принял О'Мэхори с самым сердечным видом.
— Какой добрый ветер вас принес, лейтенант?
— Я написал вам прошение об отставке.
— Вы шутите?
— Вам отлично известно, что я никогда не шучу.
Кэмден и в самом деле об этом знал.
— Но в конце-то концов, почему?
— Потому что я не могу больше работать с Тедом Мелфордом. Кому-то из нас надо уйти.
— Послушайте, Пат…
— И не пытайтесь меня уговорить! Я вовсе не хочу, чтобы и меня тоже весь город считал продажным полицейским!
И тут лейтенант рассказал мэру о Джордже Росли и о нежелании капитана принимать меры. Теренс покачал головой.
— Может, вы и правы насчет Теда, лейтенант, но все равно сейчас не время бросать работу.
— Тогда увольте Мелфорда, который бесчестит всю полицию!
— Не слишком ли суров приговор?
— Но, черт возьми, он же получает деньги от Мэла Войддинга! Капитан полиции на службе у главаря банды! И вы считаете это нормальным?
— Пока еще нет достаточных доказательств его падения.
— С тех пор как погибла Лилиан, Мелфорд все время выгораживает Войддинга и его убийц! И это при том, что он сам подозревает, будто несчастный случай подстроили эти подонки! Да если бы нечто подобное учинили со мной, никто бы мне не помешал придушить Войддинга своими собственными руками!
— И вы бы закончили жизнь на электрическом стуле… Кроме того, на то время, когда машина сбила Лилиан Мелфорд, у Войддинга и всех его подручных железное алиби, способное убедить самых недоверчивых судей.
— Они лгали!
— Докажите это. Я знаю Теда, О'Мэхори, еще с тех пор, когда он учился в начальной школе… Тед всегда был образцовым полицейским… и едва не покончил с Войддингом и его бандой, а потом вдруг произошла эта трагедия с его дочерью… После смерти Лилиан Тед уже далеко не прежний, говорят, даже начал пить… Я уже хотел отправить его в отставку, но подумал о Мэри. Что станет с ней и с их второй девочкой?
— Но интересы города…
— …важнее, чем судьба Мэри и Джойс Мелфорд, согласен… и все же дайте мне время забыть, каким удивительным человеком был Тед… Вот почему я чисто по-человечески прошу вас, Пат, потерпите немного. Я знаю, для упрямого ирландца это чертовски трудно, но… ради меня, а, Пат?
О'Мэхори колебался.
— Я уже предупредил, что понес вам прошение об отставке… Что ж он обо мне подумает, увидев, что я опять притащился в управление?
— Тед только обрадуется, Пат… Уж в этом могу дать вам слово… Ведь он вас очень любит и ценит. Да и вы сами, старина, когда-то относились к нему по-дружески, правда?
— Не веди он себя так, как теперь, мы бы и сегодня оставались друзьями…
Мэр встал и, обойдя стол, положил руки на плечи полицейского. Но, чтобы поглядеть в глаза ирландцу, ему пришлось задрать голову.
— Позвольте старику напомнить вам, Пат, что дружба познается только в беде. Мы нужны Теду и не можем бросить его в такой трудный момент…
В тот вечер, когда муж вернулся домой, Мэри Мелфорд сразу почувствовала, что дела идут еще хуже, чем обычно. Она помогла Теду раздеться, молча проводила в гостиную и усадила в кресло.
— Джойс, — крикнула она возившейся в кухне дочери, — принеси отцу тапочки. Ты хочешь мартини, Тед?
— Да, пожалуй.
Пока мать готовила коктейль, в комнату вошла Джойс, чудесная крошка, уже не совсем подросток, но еще не взрослая девушка. В этот период «гадкого утенка», который обычно приносит столько страданий, дочь Теда радовала глаз блеском юности. Она обняла отца, стащила с него ботинки и надела тапочки. Когда девочка вставала, Тед обхватил ее тонкую талию, прижал дочь к себе и поцеловал.
— Любишь старика-отца?
— Как будто ты не знаешь!
— В школе все в порядке?
Джойс сразу нахмурилась.
— Не совсем… — честно призналась она.
— Вот как? И с чем у тебя нелады? С математикой? Историей? Географией?
— Ох, дело совсем не в этом…
Увидев, что мать возвращается с бокалом, Джойс упорхнула на кухню.
Пока муж мелкими глотками прихлебывал мартини, Мэри внимательно изучала его лицо. Со дня смерти Лилиан Тед страшно постарел, и жена всерьез опасалась, что он уже никогда не оправится от удара. Гибель старшей дочери глубоко ранила и ее, но если Мэри и перестала смеяться, то ради мужа и Джойс все время старалась скрывать свое горе и плакать только в одиночестве. Мэри оказалась сильнее Теда. Кому бы это пришло в голову в прежние времена?
— Неприятности на работе?
— Пат хочет уйти в отставку.
— Пат? Но почему?
— Мы поссорились.
— Из-за чего?
Мелфорд пожал плечами:
— Все та же история… Пата возмущает, что я могу поддерживать отношения с Мэлом Войддингом, хотя один из его подручных, быть может, убил нашу дочь… Пат считает меня подонком и откровенно об этом сказал.
— Пат О'Мэхори — хороший парень, — медленно и задумчиво проговорила Мэри.
Муж впился в ее лицо лихорадочно горящим взглядом, тем, что появился у него в тот день, когда похоронили Лилиан. И, глядя в эти новые для нее глаза, Мэри перестала узнавать своего мужа.
— Ты считаешь, что он прав, Мэри?
— Я запрещаю себе судить тебя. Ты мой муж, и я останусь рядом с тобой, что бы ты ни сделал, что бы ни случилось… но…
— Но?..
— …это очень тяжело, Тед. Сегодня меня оскорбили на рынке. Какая-то незнакомая женщина хотела занять мое место, а когда я воспротивилась, бросила мне в лицо: «Не очень-то задавайтесь, миссис Мелфорд, не велика честь быть женой последнего мерзавца в Стоктон-Сити!»
— И что ты сделала?
— Ушла.
— Почему же?
— Потому что другие кумушки сразу поддержали ту, которая меня оскорбила.
— Это на тебя не похоже, Мэри.
— Я устала, Тед.
— Причина не только в этом. Ты убежала, потому что в глубине души согласна с обидчицей…
— Замолчи!
— Неужели ты думаешь, я ничего не замечаю, моя бедная старушка?
Мелфорд поставил бокал на столик, и жена взяла его за руки.
— Что с тобой, Тед? Ты, когда-то такой безжалостный к гангстерам… как ты мог сговориться с ними? Стать их другом?
— Эта компания нам не по зубам… Я пытаюсь лишь помешать им творить слишком вопиющие преступления…
— Ценой своей репутации? Чести?
— Я не хочу, чтобы других детей постигла судьба Лилиан, если их родители упрутся.
— А ты думал, что изменяешь присяге, Тед? И тебе ни разу не приходило в голову, что кто-то из тех, кому ты не стыдишься подавать руку, возможно, убил нашу девочку?
— Да.
— И тебе это безразлично?
— Нет, конечно… но я думаю в первую очередь о других. Я обязан их защищать.
— Став сообщником людей, попирающих закон?
— Даже такой ценой. Я тебе противен, да?
Мэри покачала головой:
— Лучше б ты не задавал мне подобных вопросов… Скажем, я разочарована… и несчастна… Мучительно, прожив вместе столько лет, вдруг понять, что глубоко заблуждалась на твой счет… Ладно, хватит обо всех этих мерзостях… Действуй так, как считаешь нужным. Я не одобряю твоих действий, но всегда буду поддерживать тебя. А теперь — пошли к столу… Джойс приготовила тебе сюрприз.
Мэри уже повернулась, чтобы уйти, но муж поймал ее за руку.
— Прости меня, Мэри… но, может быть, когда-нибудь ты поймешь, почему я веду себя именно так.
— Сомневаюсь, Тед.
— А Джойс? Что у нее не ладится в школе?
— Мне бы не хотелось говорить об этом.
— Ах, вот оно что? То же, что сегодня произошло с тобой?
— Да. Джойс больше никуда не приглашают, и никто не решается ухаживать за ней.
— Девочка сердится на меня?
— Она не сказала об этом ни слова, а сама я не лезла ей в душу. Но можешь быть спокоен — что бы ни думала Джойс, она тоже никогда не отречется от тебя.
Возвращение Пата О'Мэхори домой получилось не намного веселее. Подобно Мэри Мелфорд, миссис О'Мэхори мгновенно заметила по лицу мужа, что у него неприятности, но, будучи намного моложе, а следовательно, и менее опытной, приступила к допросу не откладывая в долгий ящик.
— Ну что, опять сцепился с капитаном, Пат?
— Да. И даже швырнул ему в физиономию прошение об отставке.
— Совсем рехнулся? А на что мы будем жить?
— Успокойся, мэр отказался меня отпустить и даже просил вернуться в управление.
Молодая женщина облегченно вздохнула.
— Но ты должна понять, Морин, я не смогу долго терпеть такое положение.
— Людям небогатым не следует иметь слишком чувствительное самолюбие, — сухо заметила миссис О'Мэхори.
— И это говоришь ты, Морин?
— Нет, не я, а мясник, бакалейщик и молочник… Легко тебе взрываться и впадать в праведный гнев! Гораздо труднее утихомиривать лавочников, которые все время требуют денег… Уж им-то плевать на твои высокие чувства!
У Пата было множество достоинств, но терпение никак не входило в их число.
— Так ты поддерживаешь этого мерзавца Мелфорда? По-твоему, он правильно делает, заигрывая с бандитами? — прорычал он.
— Я никого не поддерживаю и вообще знать не знаю обо всех этих историях. Но, когда ты ругаешь своего шефа, я думаю о его жене — уж Мэри-то ни в чем не повинна, а меж тем я осталась ее единственным другом!
Почти то же самое сегодня говорил ему мэр! Пат нисколько не сомневался, что с точки зрения закона и элементарной порядочности он абсолютно прав, и все же в его сознание вдруг вкралось какое-то смутное ощущение вины. Но, черт возьми, нельзя же требовать от честного человека, чтобы он одобрял действия негодяя Мелфорда! О'Мэхори в ярости швырнул фуражку через всю комнату.
— Послушай, Морин, неужели ты хочешь, чтобы и я тоже пошел на службу к Мэлу Войддингу?
— Никто тебе этого не предлагал!
— Но, позволяя Теду творить беззаконие, я невольно становлюсь его сообщником!
Не зная, что возразить, Морин обняла и поцеловала мужа.
— Я не так умна, как ты, Пат, дорогой мой (на самом деле она думала прямо противоположное), но, по-моему, ты напрасно так изводишься… Подожди немного… Хочешь не хочешь, а для меня Тед всегда останется Тедом, пока мне твердо не докажут, что он вдруг стал негодяем… А до тех пор я не перестану в него верить.
— Но ведь он получает от Войддинга деньги!
— Ты это видел собственными глазами?
— Уж не воображаешь ли ты, будто такие вещи делаются публично?
— Тогда, может быть, Тед сам признался тебе?
— Ты что, с ума сошла?
— В таком случае ты ни в чем не можешь быть уверен! Ты поступаешь, как все в Стоктон-Сити, и, если хочешь знать мое мнение, это совершенно недостойно тебя!
О'Мэхори почувствовал, что окончательно сбит с толку.
За ужином, надеясь оправдаться в глазах Морин, а заодно укрепить собственные пошатнувшиеся убеждения, Пат рассказал жене о Джордже Росли и признался, что очень беспокоится, как отреагирует Войддинг, узнав, что старик вовсе не намерен склониться перед его волей. Не стал он скрывать и какую горечь испытал, увидев, что Мелфорд не только не разделяет его отнюдь не беспочвенные опасения, но и с непростительным легкомыслием относится к возможным последствиям столкновения, в которое якобы не верит.
— Хороши же мы будем, если с Росли что-нибудь стрясется!
— А с чего ты взял, будто с ним обязательно должно что-то произойти? Бандиты знают, что старик виделся с тобой и все тебе рассказал… Можешь не сомневаться, они и с места не сдвинутся. Не такие дураки…
— Будем надеяться, что ты права!..
Телефонный звонок разбудил Морин — Пата всегда было гораздо труднее вытащить из-под одеяла. Молодая женщина в полусне протянула руку и сняла трубку.
— Да?.. Вы отдаете себе отчет, что уже… ладно… ладно… сейчас…
Морин растолкала мужа, и тот с жалобным стоном уселся на край кровати.
— Ну? Что стряслось?.. И который час?
— Половина второго, и на том конце провода тебя ждет Лью Мартин.
— Лью? Что он
колобродит, вместо того чтобы спать, как все люди?
О'Мэхори взял у жены трубку.
— Ну? В чем дело? Неужели вы не могли оставить меня в покое? Ладно, валяйте, старина, я вас слушаю…
Морин снова скользнула под одеяло и, закрыв глаза, собралась было продолжить прерванный сон, но, почувствовав, что муж встает, приподнялась:
— Что ты делаешь, Пат?
— Одеваюсь.
— Одеваешься в такой час?
— Я еду к Лью.
— Зачем?
Пат обернулся, и новое, еще никогда прежде не виданное ею выражение лица мужа испугало молодую женщину.
— Они убили Джорджа Росли.
Глава II
Несмотря на поздний час, у «Маисового початка» толпились люди. Из-под закрытой двери, которую охранял Лью Мартин, виднелась узкая полоска света. Едва Пат выскочил из машины, его схватила за руку какая-то женщина.
— Скажите, лейтенант, когда же наконец разгонят всю эту сволочь или посадят на электрический стул? Вы обязаны нас защищать! Почему же вы этого не делаете?
О'Мэхори мягко отстранил незнакомку.
— Возвращайтесь-ка лучше домой… В такое позднее время вам бы следовало спать… А остальное предоставьте нам.
— Если у нас и осталась хоть капля доверия к полиции, то благодаря вам, а иначе…
— Когда это случилось, Лью?
— Примерно полчаса назад.
— Каким образом?
— Избит до смерти.
— Подонки!
— Знаете, лейтенант, Джорджу было семьдесят два года… Может, они не сообразили, что бьют слишком сильно?
— Где он?
— В спальне. Надо подняться по лестнице.
Пат вошел в ресторан и направился к внутренней лестнице, у которой дежурил другой полицейский — Бад Зигбург.
— Кто наверху, Бад?
— Джо Илкли вместе с доктором.
— Я тоже поднимусь.
— Лейтенант!
— Что еще?
— Неужели мы им позволим и на этот раз выйти сухими из воды?
— Нет, если мне удастся сделать по-своему. Позвони капитану…
В спальне на кровати лежало безжизненное тело Джорджа Росли. Джо Илкли, еще совсем молодой полицейский, поддерживал Кейт Росли. Эта седовласая усталая женщина, казалось, еще не до конца поняла, что верный спутник всей жизни покинул ее навсегда. Врач Эл Шерри закрывал чемоданчик. Пат подошел к нему:
— Ну что, док?
— Множественные повреждения черепа в результате одного или нескольких сильных ударов, вероятно, кулаком. Смерть наступила почти мгновенно.
— А время?
— Тут вряд ли потребуется вскрытие — есть свидетель.
И врач незаметно кивнул в сторону вдовы.
— Надеюсь, вы поймаете того, кто это сделал, лейтенант. Старик Джордж был хорошим человеком, и я бы с удовольствием поглядел, как поджаривается его убийца. А теперь — спокойной ночи, мне давно пора вздремнуть. Заключение получите завтра к полудню.
О'Мэхори подошел к Кейт и взял ее за руку.
— Миссис Росли… все мы любили вашего мужа… и разделяем ваше горе… Но теперь надо отомстить за его гибель. Вы хотите нам помочь?
— Я знаю, вы славный малый, Пат О'Мэхори, — сквозь слезы проговорила вдова. — Но сейчас даже вы уже ничего не можете сделать для Джорджа…
— Я могу арестовать убийцу!
— Вы пытаетесь меня утешить, но сами отлично знаете, что шеф полиции вечно покрывает наемников Мэла Войддинга… У вас ничего не выйдет, лейтенант…
— А вот это мы, черт возьми, посмотрим! Кто из ваших близких друзей живет неподалеку?
— Все в квартале были нашими друзьями.
— Кого бы вы сейчас хотели видеть рядом с собой?
— Розу Слам, бакалейщицу, и Мэдж Беллами, жену мясника.
— Джо, отправляйся за ними и скажи, что они тут нужны.
Как только полисмен ушел, Пат бережно усадил вдову.
— А теперь… расскажите мне…
— Мы уже закрывали… все клиенты разошлись. Прислуга, закончив вечернюю уборку, тоже отправилась по домам. Джордж запер ставни и уже хотел задвинуть дверной засов, как вдруг вошел Джимми Тонала.
— Вы совершенно уверены, что это был именно Джимми Тонала?
— Он уже заходил к нам около полудня и разговаривал с Джорджем насчет прачечной.
— Это мне известно. А во сколько Тонала явился второй раз?
— В четверть первого… Я посмотрела на стенные часы — мне так хотелось наконец лечь спать!
— А потом?
— Джимми Тонала сказал Джорджу, что хочет с ним поговорить — будто бы появилась возможность все уладить. Муж колебался… Но в конце концов он согласился выйти ненадолго с Тоналой. Ну а я поднялась наверх, в спальню. Не следовало, конечно… но я так устала… Мне ведь, знаете ли, шестьдесят восемь лет, и большую часть их пришлось немало поработать… Но почему Джордж, обычно такой недоверчивый, вдруг пошел куда-то с этим бандитом?
— Теперь уже никто не сможет ответить нам на этот вопрос, миссис Росли, разве что мне удастся разговорить Тоналу, а уж тут я обещаю вам приложить максимум стараний!
— Если только не помешают.
— Даю вам слово, что ни у кого не стану просить разрешения! А когда вы начали беспокоиться, что мужа долго нет?
— Да мне и сразу-то было не по себе… Но Джордж не особо любил, когда я вмешивалась в его дела, поэтому я и решила перетерпеть… И все-таки около часу подумала, что это уж слишком… Тогда я встала, накинула халат и спустилась вниз. Тут-то в дверь и постучали… и мне принесли моего бедного Джорджа. Соседи, наши друзья Колсоны, возвращаясь с вечеринки, нашли его у двери другого дома. Гарри Колсон даже чуть не упал, споткнувшись о ноги Джорджа… Сначала он попробовал встряхнуть моего мужа — думал, старик хватил лишку, но быстро понял, что бедняга мертв. Они были всего в сотне метров от дома, вот и принесли его сюда. А Гарри тут же позвонил в полицию…
Джо Илкли привел Розу Слам и Мэдж Беллами. Обе женщины поспешили к подруге, и, когда появился Тед Мелфорд, скорбный хор уже достиг высочайших нот отчаяния. Капитан выглядел очень смущенным, но Пат безжалостно налетел на него, прежде чем тот успел рот открыть.
— Ну, теперь убедились, что Джордж Росли не врал?
Не обращая внимания на ирландца, Мелфорд направился к вдове, но та, оттолкнув подруг, угрожающе выпрямилась.
— Пришли полюбоваться на работенку своих дружков, а?
— Выбирайте выражения, миссис Росли!
— А я говорю, вы трус, Тед Мелфорд, трус и предатель! Слышите?
И разъяренная женщина плюнула капитану в лицо. Наступила тревожная, гнетущая тишина. Начальник полиции медленно вытер плевок носовым платком. Теперь уже О'Мэхори испытывал смущение и не без некоторого замешательства ожидал реакции Теда. По счастью, появление Бада Зигбурга разрядило обстановку.
— Только что звонил какой-то тип. Он уверяет, что Тонала пьет шампанское в «Копакабана», — сообщил он.
Так… Значит, этот подонок еще и шикует, пока Кейт оплакивает убитого им человека? Лейтенант вне себя от ненависти и гнева сжал кулаки. Нет, он больше не потерпит такого издевательства над всем и вся!
— Джо, Бад, поехали!
Капитан попробовал вмешаться:
— Куда вы собрались, лейтенант?
— В «Копакабана».
— Я вам запрещаю, лейтенант!
— А идите вы… капитан!
Джо и Бад последовали за Патом — оба они считали его своим истинным шефом, а кроме того, страстно хотели встретиться с Джимми Тоналой.
Посетители «Копакабана» не знали об убийстве Джорджа Росли. Впрочем, для большинства этих прожигателей жизни таковой вообще никогда не существовал. За одним из столиков Чак Алландэйл, Пирл Грефтон, Макс Моска и Джимми Тонала пили шампанское, бешено аплодируя Пэ-Пэ, только что закончившей номер. Гангстеры тем восторженнее приветствовали певицу, что зал отнесся к ней более чем прохладно.
— Бедняжка, — громко сказал Макс, когда Пэ-Пэ уселась рядом с ним, — сегодня ты ухитрилась петь еще хуже обычного, а это нелегкая задача!
— Просто ты ничего не смыслишь в пении! — обиженно заметила Пэ-Пэ. — Правда, Чак?
Алландэйл улыбнулся.
— Ну, меня-то ты ужасно растрогала, Пэ-Пэ.
Белокурая певица торжествующе повернулась к Максу:
— Слыхал?
— Да, ты напомнила мне щенка, которого я очень любил в детстве, — продолжал Алландэйл. — Тот, бывало, визжал совсем как ты, когда ему давали пинка…
Все расхохотались, и Моска — первым. Покраснев от обиды, Пэ-Пэ замахнулась на Чака.
— Ах ты…
Но бандит успел перехватить ее руку.
— Никогда не пытайся играть в такие игры, если хочешь сохранить свою хорошенькую мордашку в целости и сохранности, — уже совсем другим тоном бросил он.
Несчастная Пэ-Пэ расплакалась. Никто ее не защищает, никто не любит. Певица чувствовала себя самым обездоленным существом на свете и порой, в минуты просветления, понимала, что будущее может оказаться еще страшнее.
Оркестр снова заиграл, и Алландэйл пригласил Пэ-Пэ потанцевать в знак того, что больше на нее не сердится. Неожиданно музыка смолкла. Танцоры с изумлением воззрились на появившихся в дверном проеме О'Мэхори и двух полисменов. Тонала сразу стал испуганно озираться, словно ища укрытие.
— Вы меня не бросите, правда? — шепнул он Моске.
— Да заткнись ты, болван! — сердито прорычал тот.
Пат медленно подошел к столику гангстеров и, ухватив Тоналу за крахмальную манишку, рывком поднял на ноги.
— За что ты убил Джорджа Росли?
— Разве Джордж Росли умер?
Свободной рукой О'Мэхори влепил ему крепкую пощечину. Защищаясь, Тонала поднял правую руку, и лейтенант увидел ссадины на верхних суставах пальцев.
— Рьяно же ты колотил старого Джорджа, как я погляжу!
— Но… но…
— Сейчас я вам все объясню, лейтенант, — вмешался Моска.
— Я тебя ни о чем не спрашивал, Макс. А потому закрой пасть, ясно? Что до тебя, Тонала, то, пожалуй, у меня в кабинете ты станешь разговорчивее. Упакуй-ка его, Джо!
Илкли с видимым наслаждением защелкнул на запястьях бандита наручники. О'Мэхори снова повернулся к Моске:
— А теперь слушайте внимательно, Макс! Всем известно, на кого работает Тонала. Это от вашего имени он являлся к Джорджу Росли… Если ваш идиот-убийца выложит, как было дело, я никому не уступлю редкого удовольствия арестовать вас! И еще молю Бога — чтобы вам пришла в голову замечательная мысль оказать сопротивление… Тогда хоть одним мерзавцем в нашем городе наконец станет меньше!
— Насколько я понимаю, вы пригрозили убить меня, лейтенант?
Моска всегда побаивался здоровенного ирландца, и по тому, как нервно он облизывал пересохшие губы, все видели, что гангстер здорово трусит.
— Ты правильно понял.
Повернувшись, Пат вдруг заметил Алландэйла под руку с Пэ-Пэ.
— По-моему, вы малость зарываетесь, лейтенант.
— Не паршивому уголовнику вроде вас судить о моих поступках!
Кровь медленно отхлынула от лица Чака. Утратив напускное благодушие, он вдруг предстал в своем истинном облике — профессионального убийцы.
— Если хотите дожить до старости, чертов ирландский осел, — процедил он сквозь зубы, — то поостереглись бы…
Но договорить Чаку не удалось — правый кулак Пата с размаху врезался ему в переносицу. Алландэйл, шатаясь, отступил, а лейтенант снова изо всех сил стукнул его, на сей раз — в челюсть. Чак завертелся волчком и рухнул. Женщины завизжали, и кавалеры потащили их к выходу. При виде распростертого на полу без сознания Алландэйла Пэ-Пэ набросилась на полицейского.
— Вы убили его, чертова ирландская дубина! Грязный легавый!
О'Мэхори в пылу боя отвесил и ей пару оплеух, а потом, воспользовавшись удивлением певички, пихнул ее к Зигбургу:
— Прихвати эту шлюху в участок, Бад.
Полицейский защелкнул стальные браслеты на тонких запястьях Пэ-Пэ. В это время кто-то испуганно вскрикнул:
— Осторожно!
Джо Илкли носком ботинка стукнул Алландэйла в подбородок. Как раз вовремя — бандит уже вытащил револьвер, собираясь стрелять в лейтенанта! Ирландец ухватил графин и выплеснул всю воду в разбитую физиономию Чака, потом не без удовольствия сам надел ему наручники и довольно бесцеремонно поднял на ноги.
К Пату подошел управляющий «Копакабана» Герберт Минкин.
— Вам не кажется, что вы малость переборщили, лейтенант?
— Если спросят, скажете, что ничего не знаете.
— А убытки? Кто за все заплатит?
— Потребуете с Макса Моски.
— Вы отлично понимаете, что это невозможно!
— В таком случае придется смириться с неизбежным, приятель. К тому же это научит вас не принимать у себя головорезов!
Алландэйл, Тонала и Пэ-Пэ провели остаток ночи в камерах полицейского управления. Блюстители порядка вовсе не торопились врачевать раны Чака. Не питая ни малейших иллюзий насчет того, сколько времени пленники пробудут за решеткой, они не желали упускать ни единой возможности отравить им существование. Сменяя друг друга, полицейские не дали Тонале поспать ни минуты, а Алландэйла оставили стонать в свое удовольствие (лейтенант сломал-таки ему нос) и только утром согласились послать за врачом. Эл Шерри приехал в отвратительном настроении и тут же излил свою обиду на голову Лью Мартина:
— Если вы все нарочно сговорились не давать мне ни минуты покоя, то уж лучше прикончили бы сразу! Это честнее! Или вам больше по вкусу смотреть на мои страдания? Хотите позабавиться, глядя, как от усталости я дохожу до буйного помешательства?
Лью, привыкший к гневным вспышкам врача, не обращая внимания на его причитания, торжествующе заявил:
— Увидев пациента, док, вы еще рассердитесь, что я не позвал вас раньше!
— Ну, это вряд ли!
Однако при виде раненого старик не смог удержаться от радостного восклицания:
— Чак Алландэйл! Что ж это с ним приключилось?
— Невежливо разговаривал с лейтенантом.
Эл Шерри вздохнул.
— Эх, будь у нас в полиции только такие ребята, как Пат О'Мэхори, вся эта сволочь давным-давно убралась бы из города!.. Разумеется, я говорю не в упрек вам, Лью.
— Я понимаю, док.
Врач склонился над пациентом и встретил горящий ненавистью взгляд.
— Ага, вы, значит, получили взбучку?
— Займитесь своим делом и оставьте меня в покое!
Эл Шерри отнюдь не ласково стал ощупывать переносицу Чака. Тот взвыл от боли.
— Что, неженка, как все убийцы? — усмехнулся врач. — У вас сломан нос, мой мальчик. Боюсь, ваш прекрасный профиль понес непоправимый урон… Придется накладывать шину… Ну а пока попробую придать вам хоть мало-мальски человеческий вид из сострадания к медсестрам. Не стоит их напрасно пугать.
Когда доктор уже заканчивал перевязку, вошел Пат О'Мэхори. Эл Шерри поспешил пожать ему руку.
— Спасибо, лейтенант! Вы меня чертовски порадовали! Но держите ухо востро — я не я, если эти подонки не попытаются с вами расправиться!
— Не беспокойтесь, док, я сумею за себя постоять.
— Надеюсь, лейтенант. Вы очень нужны нам всем в Стоктон-Сити!
Едва проснувшись, Пэ-Пэ начала голосить, и Пат О'Мэхори пошел выяснить, в чем дело.
— Ну?
— Я хочу вернуться домой!
— Потом разберемся.
— Но мне нужно хотя бы умыться!
— Вы запачкались не снаружи, а изнутри, мисс Плок, и, уж поверьте, мы устроим вам генеральную чистку!
— Ну и хам! Не понимаю, чем вы-то лучше других?
— Хотя бы тем, что никого не убиваю.
— А при чем тут это?
— При том, что ваши дружки убили вчера старого Джорджа Росли, моя крошка… Знаете, старика Джорджа из «Маисового початка»? Вы были с ним знакомы?
— Как все.
— А вам не кажется, что прикончить беднягу, который в жизни и мухи не обидел, — ужасная подлость?
— Да… конечно… и вы знаете, кто…
— Джимми Тонала по приказу Моски. А вы ведь, кажется, подружка Макса?
— Какое это имеет отношение к… и что вы еще пытаетесь на меня взвалить?
— Оправдываться будете в суде.
— Я?!
И, оставив Пэ-Пэ в полной панике, лейтенант ушел. Прежде чем закрыться у себя в кабинете, он приказал позвать Джимми Тоналу.
Бессонная ночь, страх и нечистая совесть привели убийцу в плачевное состояние. Он хотел было плюхнуться в кресло, но О'Мэхори рявкнул:
— Стоять!.. Почему ты убил Джорджа Росли?
— Никого я не убивал!
— Отлично… Посмотрим, сколько ты выдержишь…
— Вы не имеете права…
— Попробуй только еще раз употребить подобное слово, и я обещаю так тебя отделать, что даже хозяин вряд ли узнает! Уж кому-кому говорить о правах, но не тебе! Вот наглость! А как насчет права убивать беззащитных стариков? Может, оно у тебя было?
— Да не убивал я Росли! Мы просто вышли потолковать…
— О чем?
— О прачечной. Я хотел объяснить, что в его же собственных интересах работать с нами…
— С кем это с нами?
— Ну, короче, отдавать белье в «Юкатан».
— То есть в прачечную, которой Моска управляет от имени Войддинга?
— Да.
— И тебе удалось убедить старого Джорджа?
— Почти. Он обещал дать окончательный ответ сегодня утром.
— Врешь!
— Но, лейтенант…
— А я говорю: врешь! Росли ни за что бы не согласился! И ты избил его, принуждая пойти на ваши условия!
— Неправда!
— Дурак! Запираться бесполезно — старый Джордж приходил ко мне вчера утром и рассказывал, как ты явился с угрозами!
— Ну и что? Я в курсе, что он приходил… потому и хотел объяснить, что нечего так пугаться, мы намерены вести с ним дела по-честному…
— Ах вот как? Ты, значит, был в курсе?
Тонала цинично усмехнулся.
— Ну да, ваш шеф предупредил нашего.
О'Мэхори издал настоящее рычание и, пулей вылетев из кресла, вцепился бандиту в горло. В ту же минуту у него за спиной раздался насмешливый голос:
— Я вижу, вы уже приступили к допросу третьей степени, лейтенант?
Пат с трудом сдержал ругательство. Снова его обскакали! В дверном проеме, размахивая бумагами, стоял адвокат Войддинга — Ред Волк.
— Опять вы? — буркнул ирландец.
— Да. С разрешением отпустить задержанных под залог, назначенный судьей Хэппингтоном, и с распиской, удостоверяющей, что я уже взял на себя труд внести требуемую сумму.
— Судья Хэппингтон… — лейтенант поморщился, не в силах скрыть отвращение.
— Уж не сомневаетесь ли вы в неподкупности судьи, лейтенант? — откровенно забавляясь, осведомился адвокат.
— Будь мы здесь одни, метр, я бы сказал вам все, что думаю о судье Хэппингтоне!
— Стало быть, для вас же лучше, что разговор идет при свидетеле. Должен заметить, что вы без намека на доказательства обвинили в убийстве Джимми Тоналу и оскорбили действием Чака Алландэйла. Я только что его видел и собираюсь везти в клинику лечить сломанный нос. Имейте в виду, лейтенант, мы намерены возбудить против вас уголовное дело, не говоря уже о том, что в лице мистера Алландэйла вы приобрели отнюдь не друга.
— Подобных друзей вы можете оставить себе, метр.
— Боюсь, вы избрали дурной путь, лейтенант.
— Несомненно, раз мне приходится так часто сталкиваться на нем с вами!
— Сердитесь, а?
— Нет, просто противно.
— У меня есть предчувствие, что после новых выборов вы можете оказаться безработным.
— В таком случае, мы будем в равном положении, ибо я очень надеюсь, что к тому времени вас выгонят из коллегии. А теперь убирайтесь! И прихватите с собой своих бандитов!
— Вы меня оскорбляете!
— Это невозможно, метр, вы уже за гранью любых оскорблений.
Кипя от ярости, адвокат повернулся к Лью:
— Вы свидетель, что…
— Разве вы не слышали, метр? — невозмутимо перебил его Лью Мартин. — Вам велели убираться отсюда! Так что подождите на улице, пока я приведу ваших дружков.
Вне себя от бешенства, Ред Волк вышел вместе с Тоналой, а Лью Мартин направился к камере, где Чак Алландэйл измышлял разнообразные способы расправы с Патом О'Мэхори.
— Встать! За вами приехал ваш подонок адвокат. Найдете его на улице, возле сточной канавы, где таким субъектам, собственно, и место.
— Ты, легавый, — побледнев от злости, буркнул Чак, — постарайся не попадаться мне на дороге после захода солнца!
— Потому что ты решаешься появляться только по ночам? Как сычи и совы? А ну, вали отсюда, пока я не рассердился по-настоящему, мальчишка…
Увидев, что Алландэйл удаляется вместе с полицейским, Пэ-Пэ горестно завопила:
— А как же я? Почему я должна тут гнить, если я ничего дурного не сделала?
— Ред Волк не сказал о вас ни слова, красотка, — ответил Лью. — Так что вы остаетесь здесь и получите за всех сразу.
Не слушая Мартина, Пэ-Пэ кричала вслед Алландэйлу:
— Чак! Не бросай меня тут! Скажи им… Макс за мной приедет, ведь правда?
Но Чак ушел, даже не удостоив ее ответом.
Во дворе стояла машина с Элом Сирвелом, первым телохранителем Войддинга, за рулем. Адвокат, Тонала и Алландэйл устроились на сиденьях. Едва они тронулись в путь, Ред Волк предупредил своих клиентов:
— Вас ждет тяжелое объяснение, ребята… Так что придумайте что-нибудь поубедительнее, а то босс прямо-таки рвет и мечет. Вы, мол, сделали из него посмешище, позволив какому-то легавому устроить вам порку, да еще публично!
— Может, он предпочел бы, чтоб мы отправили фараона на тот свет на глазах у полусотни свидетелей? — огрызнулся Чак.
Как только Тед Мелфорд приехал в управление, Пат О'Мэхори явился к нему с кратким докладом. Капитан молча выслушал рассказ о сражении в «Копакабана» и о том, как пленников благодаря судье Хэппингтону вызволил из рук полиции Ред Волк. Дослушав до конца, Тед тяжело вздохнул.
— Вы полагаете, что поступили очень разумно, лейтенант?
— Если выполнять свой долг — разумно, то да, капитан.
— А теперь подведем итоги: вы публично обвинили человека в убийстве, без всякого повода с его стороны тяжело избили другого и всю ночь продержали в камере людей, которым не могли предъявить никаких законных обвинений. Неужели же вы и вправду думаете, будто все это не повлечет за собой никаких последствий?
— Не вмешайся судья Хэппингтон, я бы заставил Тоналу сознаться в убийстве!
— Но судья Хэппингтон существует, и вы об этом знали, лейтенант… Против вас возбудят уголовное дело, и вы всерьез рискуете потерять место.
— При подобных условиях это отнюдь не то место, которым стоит дорожить!
— Вот не знал, что вы богаты!
— Вам отлично известно, что у меня нет ни гроша, но, даже будь я последним нищим, ни за что не стану подбирать вывалянный в грязи хлеб… Пусть им довольствуются те, кому такое угощение по нутру!
Тед пропустил намек мимо ушей.
— Однако гораздо больше, чем судебных преследований, я опасаюсь того, что вами займутся подручные Войддинга. Алландэйл — опасный тип… и даже очень…
— Ну, если он захочет подраться, я — не против!
Капитан пожал плечами.
— Как будто вы не знаете их методов… Вспомните, что случилось с моей дочерью!
— Пусть только попробуют тронуть Морин — всех перебью!
— Если успеете… — Мелфорд вздохнул. — Жаль, что мозгов у вас не так много, как мускулов, Пат. Ну, да ладно, пойду повидаю Мэла Войддинга и попробую уладить дело. Мне было бы чертовски неприятно тащить Морин в морг для опознания вашего трупа.
— Унижайтесь, коль вам это по вкусу, капитан, а я не намерен просить этих людей ни о чем!
— Стало быть, придется сделать это за вас. А впрочем, нужно же, чтоб продажный полицейский приносил хоть какую-то пользу, не так ли?
Лейтенант молча смотрел Теду вслед. Он окончательно перестал его понимать. Чего ради капитан так унижается? Ведь если бы он остался таким, каким был до своего несчастья, вдвоем им, быть может, удалось бы очистить город. В конце концов, вряд ли Мелфорд любит близких больше, чем он, Пат, свою Морин. Тогда в чем же дело? Полицейский не имеет права действовать в зависимости от личных чувств, иначе он вообще ничего не добьется… Гнусно, конечно, когда бандиты убивают вашу дочь… От одной мысли, что те могут приняться за Морин, лейтенанта прошиб холодный пот. Может, все-таки лучше отправить ее в безопасное место на всякий случай? Потому что ведь он, лейтенант О'Мэхори, ни за что не склонится перед Мэлом Войддингом — слава Богу, он не из породы всяких тедов мелфордов!
Меж тем в стане Войддинга царила изрядная суматоха, и нельзя сказать, чтобы Мелфорда приняли с распростертыми объятиями. Даже Моска встретил его не самой любезной фразой:
— Ваш ирландец начинает здорово действовать нам на нервы, Тед.
— Он верит в правосудие.
— Любой человек имеет право быть дураком — это его личное дело, но когда он принимается колотить моих людей или шьет им обвинение в убийстве — это уже никуда не годится!
— Так, по-вашему, Тонала неповинен в смерти Росли?
Макс изобразил на лице величайшую обиду.
— Уж не сомневаетесь ли в этом и вы, капитан?
— Конечно, нет, иначе мне пришлось бы поверить, будто он действовал по вашему приказу, а я глубоко убежден, Макс, что вы не способны не только совершить убийство, но и толкнуть на это другого.
— Как хорошо вы меня знаете, дружище! Приятно все-таки, когда тебя понимают…
— Я тоже так думаю.
— А что бы вы сказали, если бы я вам предложил долю в прибылях моей прачечной?
— Поблагодарил бы.
— Что ж, мы еще потолкуем на эту тему. Ладно?
— В любое время.
— Вы мне нравитесь, Тед. Пойдемте, я отведу вас к боссу. Вы знаете, что Чак в больнице?
— Неужто так плох?
— Ирландец и вправду сломал ему нос, а еще кто-то из ваших ребят врезал по челюсти башмаком, так что там тоже трещина. Довольно странные приемчики для служителей закона, а? Заметьте, что сам я, между нами говоря, не особенно сержусь… С этого верзилы Алландэйла и в самом деле стоило немножко сбить спесь… Только пусть ваш ирландец побережется, когда Чака приведут в порядок!
На сей раз Мэл не был занят изучением своей драгоценной коллекции. Как только Моска ввел в комнату полицейского, главарь банды заорал:
— Это еще что такое? Рехнулись вы там все, что ли, в своей проклятой полиции? Устраивают выпады против меня! Избивают моих людей! Портят мое представление! Да за кого вы себя принимаете, кучка жалких шестерок?
— Ребята завелись из-за смерти Джорджа Росли.
— Отстаньте от меня с этим старым дураком! Он получил только то, чего заслуживал! Тот, кто смеет противиться Мэлу Войддингу, должен ожидать хорошего урока!
— А вы не находите, что старика проучили слишком жестоко?
— Не спорю… но это несчастный случай. Вам отлично известно, Мелфорд, что я всегда по возможности избегаю крайних мер… Но, в конце-то концов, если тебе семьдесят два года, какого черта петушиться и лезть в драку? И в любом случае ваш ирландец не имел права так себя вести!
— Я ему уже сделал замечание!
— Вот как?
— Честное слово.
— Слушайте, а вы не издеваетесь надо мной? «Я ему уже сделал замечание!» И вы воображаете, будто этого достаточно? Вот что, Мелфорд, имейте в виду: я намерен устроить вашему проклятому лейтенанту хорошенький судебный процесс и клянусь вам, я заставлю выгнать его из полиции! И мне тысячу раз плевать, нравится это мэру или нет!
— Будьте осторожны, Мэл… После смерти Росли весь Стоктон-Сити настроен против вас. Показательный спектакль, в котором ваши головорезы будут играть кротких ягнят, обиженных злым полицейским-волком, может окончательно вывести людей из терпения, привлечь внимание губернатора… Как бы дело не докатилось до Вашингтона… Подумайте об этом. Продажность судьи Хэппингтона известна решительно всем…
Войддинг рассмеялся.
— До чего забавно слушать ваши рассуждения о чужих грехах, Мелфорд!
— Отбросы общества лучше, чем кто бы то ни было, знают истинную цену друг другу, — холодно пояснил капитан.
Мэл взглянул на него почти с восхищением.
— А вы, по крайней мере, человек без комплексов!
— Какой в этом прок?
— Верно. И, если поразмыслить, возможно, вы правы насчет показательного процесса… Вот только совершенно ни к чему, чтобы жителям Стоктона взбрело в голову, будто меня можно задевать безнаказанно. Погодите малость — и вы увидите, как запляшет весь этот сброд! Пусть только приедет мой братец с приятелями… Что до ирландца, то его придется убрать. Что вы на это скажете?
— Меня бы это очень огорчило.
— Послушайте, приятель, вам пора раз и навсегда решить, с кем вы.
— С тем, кто мне платит.
— А это я.
— Да, вы.
— Конечно, когда найдут труп ирландца, люди малость покричат, но потом угомонятся и забудут.
— Боюсь, вы напрасно тешите себя иллюзиями.
— Тем хуже, я готов пойти на риск. Похоже, ваш лейтенант поклялся отравить мне существование, так что другого выхода все равно нет. Сегодня ночью Джимми Тонала его прикончит. Не сомневаюсь, что бедный малый получит большое удовольствие.
— Если только Пат его не опередит…
— Исключено.
— А зачем вы сообщаете мне имя будущего убийцы, Мэл?
Бандит злобно оскалился.
— Потому что, если его арестуют, я буду точно знать, кто его заложил, дружок, и вы заплатите, причем очень дорого…
Капитан привстал, но Войддинг повелительным жестом заставил его снова опуститься на стул.
— Из этой комнаты никто не выходит без моего разрешения, мистер Мелфорд. В ваших же интересах — помнить об этом… Впрочем, мы еще не договорили… я хочу попросить вас об одной услуге…
— Я слушаю.
— Вы прикажете Пату О'Мэхори в половине первого ночи приехать на перекресток Франклин-стрит и Элбермерл-стрит. А уж предлог ищите сами.
— И там Пата будет поджидать Тонала?
— Совершенно верно.
— Короче говоря, вы хотите, чтобы я участвовал в убийстве Пата?
— Вот именно.
— Вы и в самом деле редкостный негодяй, Мэл Войддинг.
— Попридержите язык, приятель! Но, вынужден признать, вы правы, и как раз поэтому я должен во что бы то ни стало поддерживать свою репутацию. Ясно?
— Вполне.
— Тонала выйдет из дому в полночь… и пешком направится к означенному перекрестку. Там всего около получаса ходьбы. Вы приедете на своей машине и, как только Джимми покончит с ирландцем, отвезете его домой. Усекли?
— Разумеется.
— Все это я так подробно объясняю для того, чтобы с Джимми вдруг не случилась какая-нибудь неприятность по дороге туда или обратно… Предупреждаю: никто, кроме меня, Моски, Чака и вас, не знает о маршруте… Таким образом я принимаю меры против возможного подвоха с вашей стороны… Вы меня извините?
— Еще бы…
— Право же, не стоит обижаться, Тед. Если все пройдет так, как я надеюсь, завтра утром вы получите очень пухленький конвертик.
— Сколько?
— А вы своего не упустите, как я погляжу! По-моему, пятьсот долларов — вполне достаточно.
— Со времен Иуды цены здорово подскочили.
Мэл Войддинг не сразу понял, что имеет в виду полицейский, но когда наконец сообразил, затрясся в припадке неудержимого хохота. Потом он встал и — редкая честь — лично проводил капитана в комнату, где ожидал дальнейших распоряжений Моска.
— Знаешь, Макс, — доверительно проговорил Войддинг, когда шеф полиции исчез из виду, — уж каких я только проходимцев не встречал за свою долгую жизнь на дне! И можешь мне поверить, среди них попадались преотвратные типы… Бывали и вроде нас с тобой, но, если хочешь знать мое мнение, тот, кто только что вышел отсюда, способен дать фору нам обоим! Хорошенькая рекомендация, правда?
Моска, желая сделать боссу приятное, изобразил удивление.
— Не может быть!
— Да, законченный негодяй. И это он отправит О'Мэхори туда, где его будет поджидать с револьвером твой Джимми. Ну разве не прелесть, а?
Как бы то ни было, а все же Пат О'Мэхори ожидал возвращения капитана с некоторым волнением. Тед поспешил успокоить его:
— Думаю, все обойдется. Я доказал Мэлу, что для него затевать процесс против вас небезопасно. По-видимому, он принял в расчет мои аргументы, но все-таки будьте поосторожнее — я вовсе не уверен, что Войддинг держит своих подручных в такой твердой узде, как он сам воображает. И мне известно, что Тонала поклялся отправить вас на тот свет.
— О, Тонала!.. Пусть только попробует задеть меня — увидит, что я как-никак покрепче старого Джорджа!
— Эти типы никогда не вступают в открытый бой, Пат… Не забывайте об этом ни на минуту. А теперь можете идти домой отдыхать — у вас была достаточно напряженная ночь. Я напишу заключение о смерти Джорджа, хотя и не тешу себя напрасными надеждами. Суд признает это убийством или несчастным случаем, но Хэппингтон быстро закроет дело. Да, кстати, вы наверняка еще понадобитесь мне сегодня ночью.
— Ночью?
— Да, звонил один тип… насчет смерти Джорджа… Похоже, он что-то знает, но ужасно напуган. А кроме того, не желает говорить ни с кем, кроме вас. Встреча должна состояться в половине первого на перекрестке Франклин-стрит и Элбермерл-стрит. Но мы еще обговорим это ближе к вечеру. Подождем повторного звонка. А там уж вместе решим, как поступить.
Пат О'Мэхори ушел, оставив капитану муторную работу писать рапорт, который заведомо ни к чему не приведет, но, едва Тед погрузился в бумаги, как его оторвал от дела Лью Мартин.
— Извините, капитан… но как быть с девицей?
— С какой девицей?
— Пипер Плок.
— А в чем вы ее обвиняете?
— Я? Ни в чем. Это она с самого утра ругается на чем свет стоит. Видно, никак не может пережить, что дружки ее бросили.
— Бросили? Где?
— В предварилке, капитан. Ее загребли вместе со всей компанией сегодня ночью.
— И Ред Волк не заплатил за нее залог?
— Понятия не имею.
Тед быстро набрал номер судьи Хэппингтона.
— Алло, судья! Говорит Тед Мелфорд… Вы сегодня назначили сумму залога за Алландэйла и Тоналу?.. Да, согласен… Знаю, но как быть с мисс Плок?.. Вам о ней не говорили?.. Ах, вот как?.. Ну ладно… Вы не против, если я отправлю ее домой? Договорились… Спасибо и до свидания.
— Приведите ко мне мисс Плок, Лью.
Когда Мартин впихнул Пэ-Пэ в кабинет Мелфорда, несчастная певичка выглядела далеко не лучшим образом.
— Оставьте нас, Лью… Прошу садиться, мисс.
— Вы… вы оставите меня здесь?
— Я просто не знал, что вас задержали.
— Кроме шуток?
— Уверяю вас.
— Это все ваш проклятый… о, простите! Я хотела сказать, что вынуждена была провести ночь в камере из-за лейтенанта.
— А почему Ред Волк не забрал вас вместе с остальными?
Пэ-Пэ пожала плечами:
— Знаете, на меня вообще не очень-то обращают внимание…
— Догадываюсь, деточка.
Не понимая, почему вдруг с ней обращаются так ласково, Пэ-Пэ удивленно воззрилась на капитана.
— Сколько вам лет, мисс Плок?
— Двадцать четыре года.
— Мне бы очень хотелось вам помочь.
— Помочь мне?.. Мне?.. Но… почему?
— Потому что моей дочери Лилиан было почти столько же лет и вы даже немножко похожи на нее.
— Это та, которая…
— Да.
Капитан взял со стола фотографию и показал Пэ-Пэ.
— Красивая была у вас дочь.
— Да, и она вовсе не заслуживала смерти, тем более такой ужасной…
— Я очень сочувствую вам, капитан.
— Спасибо, деточка. Я уверен, что, будь вы знакомы с Лилиан, вы бы помешали ее убить. Вы ведь не злая?
— О, конечно нет!.. Вот только, понимаете, там, у них, мое слово ровно ничего не значит… Все они считают меня полной идиоткой и не стесняются говорить об этом вслух… Согласна, я и в самом деле не семи пядей во лбу, но ведь это же не повод обращаться со мной хуже, чем с собакой, правда?
— Разумеется.
— И тем не менее, знали б вы только, что мне приходится переносить!
— А почему бы вам не оставить эту компанию?
— И куда деваться?
— Родни нет?
— О, не то что родни, даже ни единого друга!
— Но ведь у вас есть профессия?
— У меня?!
— Разве вы не певица?
— Да что вы! Я пою как драная кошка… Если Мэл Войддинг решил сделать из меня «звезду» в «Копакабана», так только для того, чтобы сэкономить доллар-другой.
— Послушайте человека, который по возрасту годится вам в отцы, мисс Плок… Собирайте чемоданы и удирайте, пока не поздно. Иначе рано или поздно вы, как и мы все, попадете за решетку.
— Это невозможно!
— Почему же?
— Я люблю Макса.
— Не вы ли только что жаловались на дурное обращение?
— Сердцу не прикажешь.
— Ну, раз вам так дорог Моска, я не стану помогать вам, мисс.
— Почему?
— В какой-то мере это значило бы сделать добро Максу, а я и пальцем не пошевелю ради человека, который убил мою дочь.
— Но это не он!
— Так я вам и поверил!
— Клянусь вам. Мэл вызвал из Огайо своего брата Берта с двумя приятелями. Макс тут совершенно ни при чем. Он даже был против! Так что, сами видите…
Наивность Пэ-Пэ просто умиляла, и Тед без всякой злобы подумал, что бедняжке и в самом деле крупно не повезло с мозгами.
— Я очень рад, что это не Моска, — сказал он, чтобы успокоить девушку.
Джо Илкли, сменивший на дежурстве Лью, сообщил, что капитана хочет видеть Макс Моска. Мелфорд приказал впустить его. При виде сидящей в кабинете Пэ-Пэ подручный Войддинга не смог скрыть удивления.
— Надеюсь, я не помешал, по крайней мере?
И все трое весело посмеялись над шуткой.
— Если вы не против, Тед, я приехал за девушкой.
— А почему не забрали ее раньше?
— Так, небольшой урок. Надо ж научить ее не совать нос в чужие дела! Какого черта полезла вчера в свару лейтенанта с Чаком? Так вы отпускаете пленницу, капитан?
— Я даже не знал, что она тут… к счастью, Лью сказал мне об этом. Забирайте девушку, Макс, и будьте с ней подобрее.
Моска повернулся к Пэ-Пэ.
— Право слово, можно подумать, что ты охмурила капитана!
Просияв от счастья, мисс Плок воскликнула:
— Он думал, что это ты убил его дочь, Макс! Хорошо, что мы об этом заговорили, а то капитан мог бы еще долго на тебя сердиться, и совершенно напрасно!
Физиономия Моски окаменела.
— Чего ты тут наболтала, идиотка?!
— Но… но я только объяснила, что ты ни при чем… что это Берт с дружками…
Гангстер грубо схватил ее за руку.
— Ну, пошли, дома объяснимся!
— Но, Макс…
— Заткнись! А на вашем месте, капитан, я бы умерил любопытство, ничто так не вредит здоровью…
Оставшись в одиночестве, Тед долго смотрел на фотографию дочери, потом взглянул на часы. Самое время ехать домой обедать — Мэри всегда ужасно волнуется, если он опаздывает.
После обеда Тед довольно долго составлял донесение, наконец вызвал Лью и велел отнести готовый рапорт судье Хэппингтону. А сам поехал слушать коронера. Лейтенант О'Мэхори был уже там. Как и предполагалось, судья счел, что смерть наступила в результате несчастного случая и необходимо дополнительное расследование, каковое, под громкий ропот собравшихся, поручил капитану Мелфорду.
Лейтенант О'Мэхори вернулся домой отдыхать, сочтя, что, если информатор Теда снова позвонит и подтвердит согласие встретиться, ночь может выдаться довольно-таки напряженной. А Мелфорд по дороге в управление думал, как легко провести беднягу Пата.
Работать больше не хотелось, и капитан предупредил Лью, что отправляется к Флойду Шерпо и не хочет, чтобы его беспокоили. Мартин грустно покачал головой: опять он пошел накачиваться виски…
У Флойда в это время почти не было клиентов — человека два-три, не больше.
— Привет, капитан! — поздоровался бармен. — Зашли немного освежиться?
— Как всегда…
— Я вас ждал… и все приготовил. Если понадоблюсь — позовите.
Флойд оставил тряпку, которой целый день до ослепительного блеска полировал медную стойку, и повел Теда в соседнюю комнатку. Вернувшись, он шепнул остальным:
— У него еще хватает самолюбия не напиваться публично. Через часок-другой, залив полный бак, он стукнет по столу, и я помогу подняться на ноги… А уж потом капитан управится сам… В жизни не видел, чтобы человек так здорово держался!
Кто-то из клиентов заметил, как все-таки противно видеть, что стоктонской полицией заправляет пьянчуга.
— Помолчите, Джек, — буркнул Шерпо. — Тед пережил такое несчастье, что не мог не сломаться… так что постарайтесь его не судить, особенно при мне.
До самого вечера в баре «В кругу друзей» не случилось ничего примечательного. Флойд полировал стойку, болтал с клиентами то о скачках, то о боксе, и все шло своим чередом. День как день. В половине седьмого дверь распахнулась и на пороге выросли Моска, Сирвел и Уингфилд. Физиономии бандитов не предвещали ничего хорошего, и Шерпо схватил бейсбольную биту.
— Оставь биту в покое, — крикнул Макс. — Мы не по твою душу, Флойд. Ты знаешь, где Мелфорд?
Перепуганные клиенты старались незаметно проскользнуть к выходу. Флойд сделал Моске знак подойти поближе.
— Капитан уже часа два угощается… — вполголоса проговорил он. — Вторую бутылку заканчивает и, надо думать, хорош… Так что если у вас к нему что-то важное…
— Не дергайся, а тащи-ка лучше его сюда!
Шерпо исчез и почти тут же вернулся в сопровождении капитана. Воротник у Мелфорда был расстегнут. Он обвел бар туманным взглядом, явно не соображая, где находится.
— Ну можно ли доходить до такого состояния? — воскликнул Моска.
— Я… я не понимаю… чего вы…
— Чертов пьяница! Вам хоть известно, что творится, пока вы тут лакаете?
— А разве что-нибудь случилось?
— Еще бы нет! Только что убили Джимми Тоналу!
Новость, видимо, протрезвила капитана. Он выпрямился и застегнул воротник.
— Вы… вы уверены, что он… мертв?
Макс возмущенно фыркнул.
— А вы когда-нибудь видели типа, способного переварить шесть пуль, угодивших прямо в брюхо?
Глава III
В этот момент в бар влетел Бад Зигбург.
— Капитан! — крикнул он.
— Да, я уже знаю. Не волнуйтесь. Предупредите Эла Шерри, что мы будет ждать его у Тоналы. Кроме того, сообщите всем заинтересованным службам. Ну что, поехали, Моска?
— Да, и советую вам не мешкая отправить виновного за решетку.
— А вы уже знаете, чья это работа?
— Я думаю, мы оба догадываемся, капитан…
Мелфорд покачал головой:
— Вы ошибаетесь, Моска. О'Мэхори весь день безвылазно просидел дома.
— Откуда вы знаете?
Вместо ответа Тед пошел к телефону. Макс двинулся следом, и полицейский, набрав домашний номер лейтенанта, предложил гангстеру слушать вместе. К телефону подошла жена О'Мэхори.
— Алло, Морин? Говорит Тед Мелфорд… Пат дома?
— Спит. Разбудить его?
— Пока не надо. А давно он в постели?
— Да как вернулся из суда… почитай, часа четыре…
— И никуда не выходил?
— Да нет, тут же забрался под одеяло, сказав, что должен передохнуть, потому как ночью вроде бы придется работать.
— Скажите Пату, когда он проснется, что ночная встреча отменяется. И пусть едет в управление. До свидания, Морин.
— Всего доброго, капитан.
Мелфорд повесил трубку и
посмотрел Максу в глаза.
— Ну, убедились? — спросил он.
— Ладно, согласен, это не он. Но кто, в таком случае?
— Попробуем выяснить.
В квартире Джимми Тоналы царило оживление. Капитан, с трудом пробравшись сквозь толпу полицейских, фотографов, экспертов, снимавших отпечатки пальцев, подошел к телу убитого. Моска по-прежнему шел за ним по пятам. Джимми лежал на спине. Рубашка на груди потемнела от крови. Эл Шерри тут же набросился на Теда:
— Если так пойдет и дальше, капитан, наш городишко скоро превратится в Чикаго времен Аль Капоне! Надеюсь, вы не ждете от меня красочного описания, каким образом мой нынешний клиент покинул этот мир?
— Уж сделайте милость, док, расскажите!
— Что ж, Тонала встретил, вернее, впустил к себе кого-то, кто настолько не разделял его взглядов, что, не найдя, очевидно, более веских аргументов, разрядил в живот весь магазин револьвера.
— Не очень-то мне по вкусу, доктор, как вы потешаетесь над моим мертвым товарищем! — заворчал Моска.
Эл Шерри повернулся к нему.
— Имею честь глубоко плевать на ваше мнение, мистер Моска, — самым светским тоном заметил врач. — А если вы воображаете, будто я стану оплакивать этого бандита Тоналу, то совершенно напрасно. И да будет мне позволено добавить, мистер Моска, что тот день, когда я наконец увижу вас у себя в морге и подойду к вам со скальпелем, будет одним из лучших в моей жизни!
— Ну вы, грязный…
— Та-та-та, мистер Моска! Не забывайте, что в один из ближайших часов вам могут понадобиться мои услуги… Вот уж когда вы горько пожалеете о своей несдержанности!
— Мы еще встретимся, док!
— Надеюсь, мистер Моска, и это мое самое страстное желание! Вы можете отправить труп в холодильник, капитан. Завтра я произведу вскрытие, и к полудню вы узнаете, из какого оружия застрелили Джимми Тоналу. Вот и все, что я могу для вас сделать.
— Спасибо, док.
— А вы знаете, капитан, я, кажется, догадываюсь, кто совершил это убийство.
— Кроме шуток, док?
— Не иначе как призрак старого Джорджа Росли решил заплатить Тонале его же монетой. Спокойной ночи, джентльмены, желаю вам от души повеселиться!
И, сделав изящный пируэт, врач исчез. Обитатели Стоктона порой делали вид, будто шокированы его цинизмом, однако меньше всего на свете хотели бы, чтобы он изменился. Все знали, как мужествен и отзывчив Эл Шерри. Он был из тех, кто презирал Теда Мелфорда и ничуть не боялся Мэла Войддинга.
Фотографы и эксперты удалились вслед за доктором, и в квартире Тоналы остались лишь Тед, Моска да Лью Мартин с Бадом Зигбургом. Для начала они опросили соседей, но никто ничего не видел и не слышал. Портье заявил, что надзор за посетителями в его обязанности не входит. Довольно и того, что приходится отвечать, где обитает тот или иной жилец. Итак, полицейским не удалось бы выяснить ровным счетом ничего, если бы перед самым их уходом из кино не вернулась некая вдова, соседка Тоналы. Узнав, что в двух шагах от ее квартиры произошло убийство, женщина чуть не упала в обморок. Пришлось Моске вытащить фляжку и отпаивать ее коньяком. Наконец к вдове вернулось чувство реальности.
— Если… если бы я только знала! — пробормотала она.
— О чем?
— Что это убийца!
— Вы видели гостя Тоналы?
— Да… но не в лицо.
— Как это?
— Он несколько раз звонил в дверь.
— В котором часу?
— Точно не знаю… может, в половине пятого, а может, и без четверти… я как раз собиралась на пятичасовой сеанс.
— Расскажите же, что именно вы видели.
— Так вот… в дверь долго звонили. Я слышала, как мистер Тонала возвратился домой, поэтому очень удивилась и приоткрыла дверь. А тут мистер Тонала как раз отпер свою и впустил высокого мужчину, кажется, в плаще и серой шляпе… Я слышала, как мистер Тонала сказал: «А, это вы? Что, какие-нибудь изменения в программе?» И дверь за ними сразу закрылась.
— Вы точно помните, что Тонала говорил об «изменениях в программе»?
— Да, совершенно точно. А как, по-вашему, меня вызовут свидетелем?
— Куда?
— Да в суд же, черт возьми!
— Подождите сперва, пока мы найдем убийцу. До свидания.
Они вышли на улицу, и Тед повернулся к Моске:
— Завтра я зайду к Мэлу, как только получу результаты вскрытия. Мне не меньше вашего нужно знать, кто убил Джимми Тоналу.
— Почему?
— Да потому, что, если кому-то взбрело в голову почистить город, я в такой же опасности, как и любой из вас.
Заключение коронера гласило: убийство, совершенное одним или несколькими неизвестными лицами. Мэр отозвал капитана в уголок.
— Что ты думаешь об этом убийстве, Тед?
— Да ничего. Ясно только, что никто не станет рыдать над жертвой.
— А ты не считаешь, что следовало бы поискать среди друзей Джорджа Росли?
— Возможно.
— По-моему, ты что-то не проявляешь особого рвения…
— Просто устал, Теренс, ужасно устал… Так и хочется все бросить.
— Ты же сам отлично знаешь, что не сделаешь ничего подобного!
— О да! Это-то и злит меня больше всего!
В управлении Тед сразу наткнулся на О'Мэхори. Лейтенант упрекнул шефа, что тот не позвал его.
— Я не счел нужным вас беспокоить, лейтенант, тем более что там торчали ребята Войддинга, а они точат на вас зубы.
— Так, значит, теперь вы ведете расследование вместе с бандитами?
— Я просто хотел доказать Моске, что вы не замешаны в убийстве Тоналы.
— Но, черт побери, мне тысячу раз плевать на мнение этих мерзавцев!
— Я думал о Морин.
— Не вмешивайтесь в мою личную жизнь, шеф. Я уже достаточно взрослый мальчик, чтобы справляться самостоятельно.
— Я учту ваши пожелания, лейтенант, и постараюсь сообразовываться с ними там, где это не во вред службе.
— И я буду вам премного обязан, шеф, если вы никогда больше не переступите моего порога. Вы перестали быть человеком, чьей дружбой порядочный человек может гордиться.
Мелфорд поднял на ирландца безжизненные глаза.
— Вы меня ненавидите?
— Лучше б вам не допытываться, шеф, какие чувства вы мне внушаете… Прошу прощения…
И, резко развернувшись, ирландец вышел из кабинета. Ему и в голову не пришло пожать капитану руку. А Тед вернулся к Шерпо в надежде хоть немного унять боль — по правде говоря, ему бы очень хотелось оставаться другом Пата О'Мэхори. Впрочем, Мелфорд прекрасно понимал, что больше не имеет права рассчитывать на дружбу кого бы то ни было.
Как ни парадоксально, тайная причина враждебности лейтенанта к шефу коренилась в прежнем обожании. Тед слишком долго был для него идеалом, и теперь О'Мэхори тяжело переживал утрату. Домой он пришел в отвратительном настроении, но от улыбки Морин на душе сразу потеплело. Молодая женщина разоделась так, будто собиралась в гости или в театр.
— Ты уходишь? — удивленно спросил О'Мэхори, поцеловав жену.
— Нет, дорогой, мы оба.
— Вот как? И куда же мы идем, миссис О'Мэхори?
— К Мелфордам.
— Что?
— Мэри позвонила и пригласила нас на ужин.
— И ты согласилась?
— А разве нельзя было?
— Но в конце-то концов, ты же прекрасно знаешь, во что превратился Тед и что о нем говорят в Стоктоне! К несчастью, люди нисколько не преувеличивают!
— Но меня же позвала Мэри, а не он!
— Я не желаю, чтобы меня видели у Мелфордов! Иначе могут подумать, будто и я трачу денежки Мэла Войддинга.
Морин заколебалась, на глазах у нее выступили слезы.
— Мы не можем так обидеть Мэри… Сам подумай!
— Мне очень жаль и Мэри, и Джойс, Морин, но есть вещи возможные, а есть невозможные. Совместный обед Пата О'Мэхори с Тедом Мелфордом принадлежит ко второй категории.
— А ты понимаешь, что если мы не пойдем туда, то окончательно рассоримся?
— Тем лучше!
— Ты безжалостен, Пат… Дай Бог, чтобы тебе не пришлось когда-нибудь вот так же надеяться на чью-то поддержку. Я отказываюсь звонить Мэри. Такие грязные дела делай сам!
И с этими словами Морин заперлась в своей комнате. Раздосадованный лейтенант схватился было за телефон, но вдруг представил лицо Мэри, ее грустную решимость и кроткие глаза, вспомнил Джойс, отвыкшую смеяться, с тех пор как погибла ее сестра… и тихонько опустил трубку на рычаг. Нет, он не имеет права предупреждать Мэри таким образом. Нужно пойти и все объяснить. Мэри поймет. Пат не сомневался, что она поймет.
Джойс заканчивала накрывать на стол. Возле каждой из пяти тарелок она положила цветок. Девушка очень рассчитывала, что гостям понравится крем-безе, который ее научили готовить в школе. Она отлично знала, что лейтенант — большой сластена. Джойс мечтала, что когда-нибудь, став взрослой, она выйдет замуж за такого же красивого, сильного и доброго парня, как Пат О'Мэхори.
Когда в дверь позвонили, стоявшая в холле Мэри Мелфорд крикнула дочери:
— Не беспокойся, Джойс, я открою!
Не увидев рядом с лейтенантом Морин, она страшно удивилась:
— Вы один? Надеюсь, Морин не заболела?
— Нет-нет… Мне нужно вам кое-что сказать, Мэри, но это ужасно трудно…
— Вы не придете?
— Нет.
— Не хотите или не можете, Пат?
У ирландца пересохло во рту от волнения и жалости.
— Морин тут ни при чем, это я… я не хочу приходить сюда, Мэри…
Миссис Мелфорд закрыла глаза, будто ее ударили. Лицо ее как-то сразу осунулось.
— Простите меня, Мэри, — пробормотал расстроенный ирландец.
— Нет… я сама виновата… надо же было сделать такую глупость! Следовало подумать, что теперь никто не может остаться прежним… Но я в первый раз решила пригласить гостей, в первый раз после смерти Лилиан… и, конечно, сразу вспомнила о вас… Мне очень грустно, Пат, особенно из-за Джойс…
О'Мэхори взял Мэри за руки.
— Мэри… между вами и нами все, как было… И вы, и Джойс можете приходить к нам, когда захотите. Мы всегда встретим вас с огромной радостью, как самых дорогих друзей.
Она тихонько высвободилась.
— Нет, Пат… Я не одобряю поведения Теда, но я его жена, а Джойс — его дочь. Мы останемся вместе, пока нам всем троим не придется уехать. Прощайте, Пат, и поцелуйте от меня в последний раз Морин.
Мэри проводила лейтенанта на лестницу и медленно закрыла за ним дверь. Некоторое время она постояла, прислонившись к стене, и, лишь почувствовав, что снова может держать себя в руках, пошла в комнату, где девочка заканчивала приготовления.
— Убери два прибора, Джойс… О'Мэхори не придут.
Джойс лишь взглянула на лицо матери и все поняла.
— Из-за папы?
Мэри молча кивнула. И, догадавшись, что сейчас скажет девочка, поспешила опередить ее:
— Молчи, дорогая! Никто не имеет права судить своего отца. Просто нам с тобой придется крепче взяться за руки.
— Но в конце-то концов, почему папа не…
— Я не знаю и даже не собираюсь спрашивать… хотя бы из опасения, что он не сумеет ответить. Понимаешь?
— Пытаюсь…
Когда Тед Мелфорд вернулся с работы, Мэри постаралась встретить его как ни в чем не бывало. Войдя в столовую, Тед потянул носом — из кухни струились очень аппетитные запахи.
— Сдается мне, вы приготовили настоящее пиршество! — с наигранной веселостью воскликнул Тед. — Разве мы ждем гостей?
— Мы ждали Пата и Морин, — отозвалась Джойс, прежде чем ее мать успела вмешаться. — Хотели сделать тебе сюрприз…
— Да? И что же, они не придут, Мэри?
— Нет, Пат извинился.
— А-а-а… ну что ж, пригласишь их в другой раз.
— Другого раза не будет, Тед.
— А-а-а…
Капитан уткнулся носом в тарелку, и вечер прошел так же тоскливо, как обычно.
В доме О'Мэхори было не веселее. Морин надулась и решительно не хотела готовить ужин под тем предлогом, что настроилась идти в гости и теперь до завтрашнего утра просто психологически не в состоянии подойти к плите. Пат предложил сходить в ресторан, но и этот план Морин отклонила, сказав, что не может развлекаться, зная, как несчастны по ее милости Мэри и Джойс. Наконец лейтенант не выдержал.
— Господи Боже мой, да не по твоей и не по моей! А из-за этого подонка, которого они называют мужем и отцом! — заорал Пат.
Морин никогда и ни за что не признавала, что не права, особенно если и в самом деле чувствовала себя виноватой, и в подобных случаях не стыдилась передергивать самым бессовестным образом. Вот и теперь, уперев руки в бока, она накинулась на мужа:
— Эй, Патрик О'Мэхори, уж не принимаете ли вы себя случайно за Всемогущего?
— Я?!
— Тогда по какому праву вы позволяете себе судить ближнего?
Лейтенант в ярости швырнул на пол фуражку и, вне себя от бешенства, стал ее топтать.
— А теперь вы портите хорошую вещь ценой в двенадцать долларов. Придется вычесть их из ваших карманных денег, Патрик О'Мэхори, воплощение неподкупности и справедливости! На сем — спокойной ночи! — невозмутимо проговорила Морин.
Она снова заперлась у себя в комнате с твердым намерением не видеть мужа до завтра и вдали от нескромных взглядов всласть поплакать над испорченным вечером, над глупым упрямством Пата и горем своих друзей. Что до Пата, то, тщетно поискав в холодильнике какую-нибудь еду, он тоже удалился в свою комнату, прихватив с собой бутылку виски — как всякий ирландец, он не знал лучшего утешения.
Самое странное, что и в «Эксцельсиоре», где собрал свой генеральный штаб Мэл Войддинг, тоже царило довольно мрачное настроение. Чак Алландэйл, хоть и с повязкой на носу, все же занял обычное место. Не хватало только Эла Сирвела и Брайана Уингфилда, охранявших подступы к комнате, где проходило совещание. Пипер Плок и Пирл Грефтон на высокое собрание не допустили. Говорил Моска.
— К тому времени как я разыскал Теда, он уже часа два накачивался у Флойда Шерпо… и о смерти Джимми узнал от меня. После этого он позвонил О'Мэхори. Тот спал…
Алландэйл хмыкнул.
— Откуда ты знаешь?
— Так сказала его жена.
— Хорошенькое доказательство!
Макс проигнорировал насмешку Чака и повернулся к Мэлу.
— Она не могла знать о преступлении. Кроме того, зачем этой женщине врать капитану? Наконец, если бы наш единственный свидетель видел О'Мэхори хотя бы мельком, то сразу бы его узнал… хотя бы по фигуре… Уж кто-кто, а этот парень нигде не пройдет незамеченным!
— Верно, — кивнул Войддинг.
— И еще, босс: не следует забывать, что соседка слышала, как Джимми сказал своему будущему убийце: «А, это вы?» Будь это лейтенант, он бы вообще не открыл дверь или, во всяком случае, встретил его по-другому.
Войддинг подвел итог:
— Макс прав, а ты, Чак, в очередной раз упустил хороший случай помолчать. Вот что, дети мои, мне не нравится, какой оборот принимает дело. Сначала этот кретин Тонала убивает Джорджа Росли, любимца всего Стоктона. Потом Чак позволяет лейтенанту избить его при всем честном народе. Наконец, кто-то отправляет на тот свет Тоналу… Самое время моему младшему братцу приехать сюда вместе с Сэмом и Тони, это должно малость оживить нашу компанию.
— Пата О'Мэхори можно убрать и без них, — заявил Алландэйл. — Я беру это на себя.
— Ты так торопишься посидеть в кресле с подогревом? Я запрещаю тебе предпринимать что бы то ни было против ирландца без моего особого разрешения. Понял? И не заставляй меня повторять это дважды! Макс, у тебя есть какие-нибудь соображения насчет того, кто укокошил Тоналу?
— Нет, но Мелфорд опасается, что это кто-нибудь из друзей Росли, и у нашего бравого капитана дрожат поджилки.
— Почему?
— Думает, что, если это так, опасность угрожает всем нам, и ему в том числе.
— Нет, эта версия отпадает, Макс.
— Вы уверены, босс?
— Сам подумай. Если бы Джимми не знал того типа, разве он сказал бы: «А, это вы?»
— Так кто же тогда его убил?
— Вот это нам нужно выяснить непременно, так что постарайтесь любым путем докопаться до истины. Коли это и в самом деле дружки Росли, уж мы им устроим веселую жизнь, как только сюда приедут ребята из Огайо. И готов спорить на что угодно — у этих грошовых мстителей разом пропадет желание разыгрывать героев! А что Мелфорд?
— Завтра должен явиться к вам с докладом, как только получит результаты вскрытия.
Наконец наступила ночь и принесла покой Стокнот-Сити, но в то время как большинство жителей городка спали, несколько человек никак не могли сомкнуть глаз по одной и той же причине — от страха.
Сидя на стуле у постели, где она долгие годы отдыхала подле своего Джорджа, Кейт Росли раздумывала, что с нею станет. О том, чтобы управляться с рестораном в одиночку, не могло быть и речи. Ресторан придется продать, а заплатят за него, конечно, пустяк. Хватит ли этих денег, чтобы хоть как-нибудь дотянуть до конца? Но почему убили ее Джорджа? В голове не укладывалось, что из-за какой-то истории с грязным бельем Кейт вдруг осталась одна на свете…
Мэр Теренс Кэмден, не в силах уснуть, нервно ворочался с боку на бок на узкой кровати красного дерева — его обычном ложе чуть ли не с самого детства. Убийство Росли… Убийство Тоналы… Как отнесутся избиратели к таким ужасным беспорядкам? Он, разумеется, дал слово не звать на помощь Вашингтон, но, если так будет продолжаться, сумеет ли он сдержать обещание? Люди ни за что не позволят оставить гибель Росли неотомщенной, но тут, по правде говоря, убийство Тоналы может помочь успокоить страсти.
Судья Хэппингтон чувствовал себя ничуть не спокойнее своего давнишнего врага Теренса Кэмдена. Много лет он кое-как прозябал в магистратуре Стоктона, пока однажды туда не явился Мэл Войддинг. После долгой беседы с глазу на глаз между бандитом и судьей семья Хэппингтонов уже никогда более не страдала от отсутствия денег. Элизабет Хэппингтон стала носить такие же роскошные платья, как и самые богатые дамы города, а двое детей судьи брали частные уроки, занимались верховой ездой и устраивали вечеринки. Однако же Хэппингтону порой случалось испытывать муки совести, а иногда он с тревогой раздумывал о будущем — особенно по ночам. Судья прекрасно знал, как презирают его все порядочные люди Стоктона, и не мог не понимать, что все его благополучие зиждется исключительно на том, сколько протянет Мэл Войддинг. Но разумно ли делать ставку на удачливость бандита? Смерть Тоналы давала очень грустный ответ на этот вопрос. А если отправится на тот свет и Войддинг? Если исчезнут все его дружки? Что станет тогда с Хэппингтоном? Ему не ускользнуть от других судей. Кончится это тюрьмой и потерей всего. А Элизабет и дети? Подобные мысли никак не давали уснуть…
Мэл Войддинг обычно, когда на него нападала бессонница, вставал, накидывал халат и искал утешения у любимых бабочек. Но этой ночью привычное лекарство не действовало. Настоящего страха Мэл пока не испытывал, но из-за того, что он ровным счетом ничего не понимал в происходящем, тревога нарастала. Впервые в жизни ему пришлось столкнуться с каким-то безликим, неизвестным врагом, впервые в жизни — не чувствовать полной уверенности в своем окружении. Мэл подумал о Берте и о его скором приезде в Стоктон, но сейчас, когда рядом не было никого, бандит смотрел в будущее с некоторой тревогой. Он слишком хорошо знал своего братца и его волчий аппетит. А кроме того, подручные Берта, Сэм Мервейн и Тони Альтамиро, гораздо умнее и свирепее его собственных убийц, Эла Сирвела и Брайана Уингфилда. Братцу-то, пожалуй, лучше не доверять… Возможно, красивый и сильный дурень Алландэйл и пригодится в тот день, когда встанет вопрос о главенстве… Кровавые грезы убаюкали наконец Мэла Войддинга, впрочем, для него это были самые прекрасные сны…
Чак Алландэйл никогда не задавал себе вопросов и обычно засыпал сразу, без забот и хлопот, но с тех пор как О'Мэхори устроил ему трепку, в голову Чака закрались некоторые сомнения в собственной непобедимости. А когда парень вроде Алландэйла начинает сомневаться в себе, считай, ему конец. В соседней постели Пирл Грефтон размышляла, как бы ей исхитриться удрать от Алландэйла и этой банды гангстеров и уехать в Сент-Луис — уж родная-то сестра поможет спрятаться, пока о Пирл не забудут. Мисс Грефтон улыбнулась, подумав, как разумно она поступила, ни разу не упомянув своего настоящего имени, а это оказалось возможным только потому, что у нее хватило ума выбрать похожее. Не то что эта идиотка Пипер Плок, которую на самом деле звали Гертрудой Гольштейн! Ну кому, скажите, придет в голову, что Пипер Плок — настоящее имя?!
Зато сама Пипер спала сном младенца. Она знала, что звезд с неба не хватает, и, смирившись с этим раз и навсегда, жила сегодняшним днем. Зато мисс Плок обладала удивительной способностью забывать и никогда не чувствовала себя несчастной долго. Она была аморальна, как младенец, и, по-видимому, не умея отличать добро от зла, предоставила другим решать этот вопрос за нее. А может, Пэ-Пэ просто крупно не повезло еще в те времена, когда она звалась Гертрудой Гольштейн?
Несмотря на спокойный нрав и всегдашнюю готовность к полному повиновению, а возможно как раз поэтому, Пэ-Пэ, ничуть об этом не догадываясь, день ото дня все больше раздражала своего нынешнего повелителя и господина Макса Моску. Той ночью он никак не мог уснуть и с досадой слушал мирное посапывание подруги. Макс ломал голову над убийством Тоналы. В их кругах все отлично знали, что Джимми (разумеется, с позволения Мэла) работал на Моску. Так, может, прикончив Тоналу, кто-то хотел предупредить его, Макса?
Зато сон двух убийц, Эла Сирвела и Брайана Уингфилда, ничто не тревожило — для них гибель товарища была всего-навсего несчастным случаем на работе, причем вполне предвиденным. В конце концов, именно за такого рода риск им и платят. Оба наемника воспринимали происшедшее только как лишнее напоминание, что им следует еще меньше доверять всему и вся.
В доме Мелфорда тоже не было покоя. Джойс долго не засыпала. Она никак не могла забыть о разочаровании от не состоявшегося ужина с О'Мэхори. Девочка не понимала толком, что происходит между ее отцом и Патом, но поведение одноклассников невольно наводило на мысль, что папа делает что-то не то. И Джойс не могла разобраться, что к чему. Мэри спала очень плохо и то и дело просыпалась. Слишком много мыслей теснилось в голове, не давая покоя. Как и Тед, Мэри тяжело переживала смерть Лилиан, но ради Джойс не позволяла себе впасть в отчаяние. Думала она и о муже. Почему Тед не поступает так же? По каким причинам полицейский, славившийся редкой порядочностью на весь город, вдруг превратился в самое отвратительное создание — продажную шкуру? Он как будто нарочно скатывается все ниже и ниже… Но для чего? По каким причинам? Зачем ему так позорить всю семью? Мэри знала, что Тед тоже не спит, но не стала делиться с ним своими сомнениями. Да они и вообще почти не разговаривали, если рядом не было Джойс. А Тед, глядя в темноту, думал об убийстве Тоналы. Как это воспримут в городе? Момент — самый неподходящий, и последствия могут быть очень тяжелыми. Тед вздохнул. Он давно выбрал свой путь. Отступать поздно. И теперь придется идти до конца.
Морин с ее верным сердцем считала, что дружба — превыше всего. Лежа одна в своей комнате, она сердилась на Пата за то, что он принес Мэри и Джойс в жертву какому-то маловразумительному кодексу чести. Морин простодушно верила, что никакие поступки Мелфорда не могут отражаться ни на его жене, ни на дочери. Во всяком случае, им не должны приносить страдания еще и ближайшие друзья. Как ни парадоксально, молодая женщина винила в предательстве не Мелфорда, а своего мужа и решила, что, нравится это Пату или нет, она обязательно пригласит в гости Джойс и ее мать, а то и сама пойдет к ним. Еще никому не удавалось навязать ирландке свою волю или заставить отказаться от задуманного, и уж она позаботится напомнить об этом супругу.
Против обыкновения, несмотря на выпитое виски, Пат О'Мэхори и не думал спать. Упрямое нежелание Морин что-либо понимать ужасно раздражало его, тем более что, невзирая на все доводы, которые лейтенант перебирал в уме, он не очень-то гордился своим поведением у Мелфорда. Хотя вообще-то для Пата ситуация была совершенно ясна. Теду понадобились деньги. Может, завел любовницу? Или стал играть? Как бы то ни было, он нашел самый простой способ раздобыть наличность — продался Мэлу Войддингу. Это совпало с гибелью Лилиан, но только романтики или любители мелодрам могли усмотреть какую-то связь между этими двумя событиями. Просто Тед Мелфорд оказался последней сволочью, вот и все. Но Пат ни за что не допустит, чтобы, помимо всего прочего, подлость капитана нарушала мир в его собственной семье. И О'Мэхори твердо решил всерьез объясниться с Морин. В конце концов, ее несправедливость к нему, Пату, просто возмутительна!
Так прошла эта первая ночь после убийства Джорджа Росли. Все участники драмы, начавшейся со смерти семидесятидвухлетнего старика, не могли уснуть, словно предчувствуя свою собственную дальнейшую судьбу.
Как и обещал, едва получив заключение Эла Шерри и заскочив в мэрию поговорить с Кэмденом, Тед Мелфорд отправился к Мэлу Войддингу.
На сей раз у двери лифта дежурил Эл Сирвел. Его, по-видимому, вовсе не волновало, что он занял место Джимми Тоналы. Не любитель говорить, Сирвел кивнул полицейскому и знаком указал в сторону апартаментов Мэла — путь, мол, свободен.
Как и все примитивные натуры, Мэл Войддинг был подвержен резким перепадам настроения, и всякий раз эти внезапные перемены заставали его окружение врасплох. После тяжелой ночи он, неизвестно почему, проснулся в самом прекрасном расположении духа и, вскочив с постели, тут же бросился к своим обожаемым бабочкам. Все утро Мэл проявлял удивительную любезность ко всем своим подручным, а ближе к полудню уселся с ними и их подругами пить шампанское. Теда Мелфорда он тоже принял весьма благосклонно:
— Идите сюда, капитан, я угощаю!
Тед сел рядом с Пирл Грефтон, и Моска тут же наполнил его бокал.
— Ну, Мелфорд, какие новости вы нам принесли?
— Во-первых, одну, по-моему, очень неплохую…
— Так с нее и начнем!
— Я виделся с судьей Хэппингтоном… и мы пришли к обоюдному заключению, что Джорджа Росли мог убить только Джимми Тонала…
— Ну, конечно! — возмутился Алландэйл. — Чем разобраться, давайте валить все на покойников. Благо, парень уже не может защищаться.
Мелфорд вздохнул.
— Главная беда с вашими громилами, Войддинг, — это то, что они очень медленно соображают.
Алландэйл угрожающе приподнялся.
— По морде захотел?
С лица Мэла мигом исчезло все добродушие, которым он с самого утра радовал свиту.
— Заткнись, Чак! — Для вящей убедительности главарь банды шарахнул кулаком по столу. — Все знают, какой ты дурень! И нечего обижаться, если тебе об этом напоминают! Ну, Тед, продолжайте, мы вас слушаем…
— Убийство Росли было ошибкой — уж слишком оно взбудоражило город. И вы не можете не понимать, Мэл, что, несмотря на все усилия судьи, нам не дали бы прикрыть следствие… А это и не в ваших интересах, Мэл, и не в моих, и не в интересах Моски…
— Я-то тут при чем? — перебил его Макс.
— Ну, посудите сами: весь Стоктон считал Тоналу вашим… служащим. К тому же разве не вы директор прачечной «Юкатан», от имени которой Тонала делал предложения… в несколько своеобразной манере?
— И что с того?
— А вот что. Очень скоро в убийстве Джорджа Росли обвинили бы вас, а Джимми Тонала оказался бы лишь посредником, исполнителем. К счастью, перед смертью Тоналу осенила счастливая мысль написать записку, в которой он объясняет, что убил Росли нечаянно, и выражает по этому поводу сожаления. Не сообразив, что имеет дело с семидесятидвухлетним стариком, он стукнул слишком сильно, а бедняга так неудачно упал, что разбил себе голову.
— Вот уж никогда бы не подумал, что у Джимми могут быть угрызения совести, — ошарашенно пробормотал Алландэйл.
Мелфорд пожал плечами и выразительно посмотрел на Войддинга.
— Черт возьми! — рявкнул тот. — Сколько раз надо повторять, чтобы ты помолчал, Чак? Честное слово, можно подумать, ты так же глуп, как Пэ-Пэ! Неужели ты не понял, что эту исповедь написал за Джимми сам Тед и, таким образом, раз Тонала мертв, никто уже не станет болтать лишнее об убийстве Росли? Мелфорд, вы отлично поработали… Задержитесь потом, и я отблагодарю вас особо. Кстати, можете передать судье Хэппингтону, что его я тоже не забуду.
— Может, я и впрямь последний идиот, босс, — сердито буркнул Алландэйл, — но, сдается мне, все эти фокусы Мелфорда и судьи не объясняют нам, кто прикончил Джимми…
— А об этом мое второе сообщение, уже не такое приятное, — вкрадчиво проговорил капитан. — Я получил от Эла Шерри результаты вскрытия… Тонала получил в живот шесть пуль…
— Кто-то явно хотел действовать наверняка, — заметил Чак.
— Стреляли, скорее всего, с глушителем, — продолжал Тед, — и самое странное — что воспользовались девятизарядным пистолетом Токарева калибра семь, шестьдесят два. Меж тем такие пистолеты на улице не валяются. В Стоктоне два оружейных магазина, но никто из владельцев ни разу не видел игрушки этой системы.
Пэ-Пэ вдруг засмеялась, и все удивленно уставились на нее. Общее недоумение выразил Алландэйл:
— Что опять нашло на эту чокнутую?
— Я смеюсь, потому что пистолет Токарева встречается вовсе не так уж редко, как говорит капитан! — торжествующе выпалила молодая женщина.
— А ты-то откуда знаешь, идиотка? — раздраженно прорычал Мэл.
— Такой пистолет есть у Макса, и он даже очень о нем заботится. Правда, дорогой?
Вместо ответа «дорогой» с размаху ударил Пэ-Пэ по губам. Девушка взвыла от боли.
— Да заткнешься ты когда-нибудь или нет? — орал Моска. — Вечно тебе надо выступить! Кому какое дело, есть у меня пистолет Токарева или нет?
— Если ты так уверен, что нам это безразлично, то за что же ты ее лупишь, Макс? — ласково осведомился Войддинг, и от его тона у всех по спине пробежали мурашки.
— Чтобы научить держать язык за зубами!
Наступила тишина. Чак и капитан, не отводя глаз, смотрели на Моску, а Пирл утешала Пэ-Пэ, вытирая кровь с ее разбитых губ.
— И давно у тебя эта игрушка, Макс? — наконец спросил Мэл.
— Сто лет… Я купил его как-то в Нью-Йорке, уже сам не помню когда…
— Согласись, это ужасно неприятно…
— Что именно?
— А то, что Тоналу угробили из пистолета, какого в Стоктоне в глаза не видали, а у тебя, по какой-то несчастной случайности, он как раз есть…
Смертельно побледнев, Моска встал.
— Босс, вы же не думаете, будто я…
— Что я думаю, касается только меня, Макс… Сядь на место.
Моска покорно опустился на стул.
— Ну, довольна? — злобно бросил он Пэ-Пэ и, словно призывая в свидетели всех присутствующих, горько добавил: — Нет, это безнадежно! Чертова дурища не может не совать нос повсюду! Представляете, не позже как вчера, когда я приехал за ней в полицию, наша умница выкладывала свою биографию Мелфорду!
Чак хихикнул:
— Воображаю, сколько там было всяких пикантных подробностей!
Такая несправедливость показалась Пэ-Пэ возмутительной, и она негодующе воскликнула:
— Нет, это уж слишком! Капитан обошелся со мной по-доброму, поэтому, когда он сказал, что никогда не сможет с тобой дружить, Макс, поскольку думает, что это ты задавил его дочь…
Тед почувствовал, что все, сидевшие за столом, напряженно застыли. Глаза Войддинга вдруг словно остекленели. А несчастная дурочка Пэ-Пэ, ничего не замечая, с полным сознанием собственной правоты продолжала:
— Вот тогда-то я и объяснила, что капитан ошибается и что на тебя ему не за что сердиться, потому как несчастный случай подстроил не ты, а Берт, младший брат нашего босса…
Наступила такая гнетущая тишина, что в конце концов даже Пэ-Пэ почувствовала неладное.
— Да что на вас на всех нашло? Я опять ляпнула что-нибудь лишнее?
— А ты был прав, Макс… — заметил Войддинг тем серым, бесцветным голосом, каким он говорил лишь в минуты, когда его бешенство достигало крайнего предела. — Пэ-Пэ и вправду много говорит… И, если хочешь знать мое мнение, даже слишком много…
Моска вдруг испугался. При всей ее непроходимой глупости, он по-своему любил Пипер.
— Вы же знаете, босс, она это не со зла…
— Какая разница, если последствия точно таковы, как если бы она нарочно старалась нам напакостить? Уведите ее, Пирл, с меня довольно!
Как только обе женщины вышли, Войддинг, от прекрасного настроения которого не осталось и следа, предупредил Моску:
— Впредь нам надо позаботиться, чтобы твоя подружка не болтала.
— Я поговорю с ней как следует.
— Боюсь, этого мало, Макс.
— Вот как? Вы хотите, чтобы она уехала из Стоктона?
— По-моему, это было бы предпочтительнее… А теперь — к делу. То, что Росли и Тонала покинули этот мир, не повод отказываться от контроля над прачечными… Надеюсь, судьба Росли заставит призадуматься других владельцев ресторанов… Брайан Уингфилд с ними поговорит… Но только действовать надо без грубости, ясно? Никаких прямых угроз, никакого битья… Надо убеждать, в то же время осторожно намекая, что, коли наши будущие клиенты не проявят должного понимания, впоследствии им придется пенять лишь на собственное упрямство. И, главное, Брайан не должен брать с собой никакого оружия, иначе, если кто-то, паче чаяния, вздумает шуметь, могут возникнуть осложнения. А предлагать услуги закон не возбраняет… Надеюсь, ты сумеешь все это втолковать Брайану, Макс.
— Положитесь на меня, шеф.
— А теперь, пока не приехали Берт и его ребята, я хочу поделиться с вами своими планами. Вы можете остаться, капитан, вы здесь не лишний, а кроме того, я хочу еще поговорить с вами, как только покончу с этими двумя… Итак, слушайте внимательно, Чак и Макс. Берт и его мальчики нужны нам, чтобы окончательно взять город в узду, но имейте в виду: ни Берт, ни его убийцы ничего не делают даром. Это вполне разумно, но их аппетиты чрезмерны. Улавливаете? Стало быть, нечего и думать о том, чтобы дать им волю. Надо следить за каждым их шагом на случай, если Берту вздумается вести двойную игру. А потому, Чак, слушай, чем ты должен заняться…
Желая утешить и успокоить Пэ-Пэ, Пирл увела ее к себе, и теперь обе женщины сидели в гостиной, потягивая мартини.
— Ты неплохая девочка, Пэ-Пэ, — говорила Пирл, — но зачем тебе всегда надо болтать что ни попадя? Разве ты не знаешь, что в этом мире до старости доживает только тот, кто умеет молчать?
— Мне хотелось сделать приятное Максу.
— Объявив во всеуслышание, что у него есть такой же пистолет, как тот, из которого застрелили Джимми?
— Не вижу связи.
Пирл покачала головой:
— Хуже всего, что ты не придуриваешься, бедняжка Пэ-Пэ. А зачем тебе понадобилось рассказывать капитану про Берта?
— Он был так добр…
— Правда?
— Он тоже очень беспокоился обо мне.
— Вот как?
— Да, сказал, что я не создана для такой жизни и что лучше бы мне слинять отсюда.
— Может, он и прав.
— Ну, а я спросила, куда ж мне деваться… Семьи нет, профессии — никакой, и в кармане — ни гроша… Я просто вынуждена оставаться там, где меня кормят, правда ведь?
— А почему бы тебе не попробовать найти работу?
— Какую? Прислугой?
— А почему бы и нет?
— Это не для меня. Я не люблю ни рано вставать, ни пачкать руки, да и вообще достаточно натерпелась, пока не встретила Макса, и вовсе не хочу начинать все снова. А вот ты почему не пытаешься бежать? Ты-то ведь гораздо умнее меня… Чем ты занималась раньше?
Пирл слишком хорошо знала Пэ-Пэ, чтобы выложить ей правду.
— Работала продавщицей в магазине.
— А где?
— В Нью-Йорке.
— Снимаю шляпу!.. В Нью-Йорке, подумать только! На Пятой авеню?
— Да.
— И ты решилась уехать из Нью-Йорка?
— Тоскливо мне стало… хотелось увидеть что-нибудь новенькое… Ну вот, потихоньку-полегоньку я добралась до Цинциннати, там познакомилась с Чаком, и он привез меня сюда.
— И ты ни о чем не жалеешь?
— Что толку жалеть…
— Ты права… В какой-то мере мы обе тут, как в тюрьме. А ведь, наверное, с Чаком далеко не каждый день — праздник?
— Да уж, совсем не каждый!
— А вот Макс зато меня любит!.. Конечно, время от времени он меня колотит, но это в нем говорит итальянская кровь… Макс поклялся, что, когда у него в банке накопится достаточно денег, мы уедем в Италию и, возможно, останемся там до конца своих дней… Честно говоря, я совсем не против, потому что обожаю и пиццу, и спагетти. Боюсь только, как бы не растолстеть…
Слушая Пэ-Пэ, Пирл раздумывала, какой нелепый случай забросил ее в компанию ограниченных мужчин, убежденных, будто настоящая жизнь — это драки да убийства, и безмозглой курицы Гертруды.
Чак с Максом ушли, и капитан остался наедине с главарем банды. Некоторое время оба молчали.
— Еще немного шампанского? — предложил наконец Войддинг.
— Нет, спасибо.
— Хотите сигару?
— С удовольствием, но я выкурю ее после обеда.
— Как угодно, приятель. А знаете, вы удивительно ловко сговорились с судьей! Все свалить на старину Джимми! Блестяще! Вы избавили меня от очень неприятной занозы… да-да… Видите ли, Тед, все мое несчастье в том, что нет толковых помощников… Моска — не дурак, но слишком любит женщин и выбалтывает им лишнее. А это в конце концов становится опасным… Чак предан как собака, но зато — полный идиот… Годится разве что для драки. Что до Сирвела и Уингфилда, то оба — почти животные… Один черт разберет, есть у них мозги или нет. Ах, Тед, когда вы наконец решитесь оставить эту паршивую работу или когда мэра все-таки вынудят вас уволить, не забывайте, что у меня всегда найдется прибыльное местечко. Ладно?
— Я подумаю об этом, Мэл.
— А пока возьмите-ка эти пятьсот долларов.
Полицейский сунул деньги в карман и улыбнулся.
— Работать на вас — истинное наслаждение, Мэл.
— Можете не сомневаться, Тед, при желании вы заколачивали бы такую кучу денег, что просто не знали бы, куда их девать. Кстати, надеюсь, вы не поверили болтовне дурищи Пэ-Пэ?
— Насчет чего?
— О несчастном случае с вашей дочерью Лилиан.
— Разумеется, нет. Зачем вашему брату убивать девушку, о существовании которой он даже не подозревал?
— Вот именно… Правда, в те времена вы здорово отравляли мне жизнь… Помните? Облавы в барах, закрытие моих игорных домов… Сегодня я могу вам честно признаться, по вашей милости я тогда чуть не поседел… и даже думал, что в конечном счете вы меня заставите-таки уехать из Стоктона. Представляете?
— Нам с вами следовало поговорить по душам раньше.
— А кто виноват? В определенном смысле несчастье с вашей девочкой хоть в какой-то мере принесло вам пользу: открыло глаза. Теперь вы понимаете свою выгоду.
— Точно…
— Мне было бы ужасно досадно, если бы вы без всякого к тому основания взъелись на моего брата, вообразив, будто это он убил вашу дочь.
— Не беспокойтесь, Мэл. Я уверен, что Пэ-Пэ ляпнула первое, что ей взбрело в голову. В противном случае, Войддинг, ничто не помешало бы мне убить вашего брата.
Мэл, наблюдавший за капитаном из-под полуопущенных век, понял, что тот говорит правду.
— Берт — очень опасный человек, Тед.
— Я тоже, Мэл.
— И его постоянно сопровождают двое убийц, не раз проверенных в деле.
Теперь уже Мелфорд пристально посмотрел на Войддинга.
— Тогда вам придется признать, что я куда опаснее — мне-то ведь никакие помощники не требуются.
Мэл прикинул, что, если когда-нибудь Берт станет слишком обременительным, можно будет рассказать капитану, что это он сбил Лилиан.
— Вы мне все больше и больше нравитесь, Тед. Думаю, вдвоем мы сумеем забрать в руки весь город.
— Может, так оно и получится.
— Надеюсь, приятель, и от чистого сердца.
Капитан встал:
— А теперь мне пора.
— Погодите еще минутку, Тед… Я хотел бы знать ваше мнение об убийстве Тоналы… Вы и в самом деле думаете, что кто-то из друзей Росли мог свести с ним счеты?
— По правде говоря, Мэл, мне это кажется совершенно невероятным. Я ведь хорошо знаю чуть ли не всех друзей Джорджа и Кейт Росли… Ни у кого из них не хватит пороху напасть на такого типа, как Тонала, да еще в открытую и белым днем… Однако, вероятно, я ошибаюсь, поскольку Джимми все-таки убит…
— Возможно, Тоналу застрелил кто-то другой…
— Даже представить себе не могу, кто еще ненавидел парня настолько, чтобы выпустить в живот чуть ли не весь магазин.
— А вот у меня наклевывается одна мыслишка…
— Ну да?
— Разве вам не кажется странным, что в теле Тоналы нашли пути от пистолета Токарева, а у Моски как раз есть такой пистолет?
— Да, конечно… Но только из одного этого делать вывод, что Макс… Нет, для этого надо иметь слишком развитое воображение.
— Я никогда ничего не воображаю, Тед. У меня вообще нет воображения. Я просто-напросто рассуждаю. Вспомните ситуацию: весь город настроен против Тоналы, так настроен, что, скорее всего, оттянуть его арест вряд ли удастся.
— Судья опять отпустил бы его под залог и назначил самую мизерную сумму. Он ведь уже не раз так делал.
— Полегче, Тед! В первый раз ваш лейтенант арестовал Тоналу в порыве бешенства… Но если бы весь город уверовал, что это Джимми прикончил старика, судье волей-неволей пришлось бы назначить очень большой залог или, хуже того, оставить парня за решеткой. И где гарантия, что Тонала выдержал бы допрос вашего верзилы О'Мэхори и не признался во всем? Поверьте мне, Тед, после дурацкого убийства Росли Джимми превратился для Макса в постоянную угрозу. Не забывайте, официальный владелец прачечной «Юкатан» именно он… Я только без лишнего шума одолжил ему денег.
Капитан казался растерянным.
— Слушайте, Мэл, то, на что вы намекаете, очень серьезно…
— Да, действительно… Честно говоря, если бы не эти советские пули, ничего подобного мне бы и в голову не пришло…
— И что вы намерены делать?
— Пока не знаю… Макс мне нужен, но я ужасно не люблю, когда моих людей убивают без спроса. Поэтому, если я получу бесспорное доказательство, Моска рано или поздно заплатит, но время я выберу сам… А пока забудем обо всем этом, Тед, и держите ухо востро. Ну а уж мы до приезда Берта посидим тихо.
Ближе к вечеру, когда Мелфорд уже собирался идти к Флойду Шерпо уничтожать виски и собственную печень, его остановил лейтенант О'Мэхори:
— Капитан!
— В чем дело, лейтенант?
— Это правда, что расследование убийства Джорджа Росли уже закончено?
— Совершеннейшая.
— Но ведь…
— А зачем продолжать следствие, если имя убийцы известно и он уже заплатил по счету?
— И вы станете меня уверять, будто всерьез воспринимаете эту липовую записку Тоналы?
— А какая разница, если мы с вами оба знаем, что Джорджа
Росли убил действительно он?
— Согласен, но…
— Всему свое время. Однако расследование убийства Тоналы продолжается.
— Вас не удивляет, что этого типа застрелили из пистолета Токарева?
— Да… И не только меня, а еще и Мэла Войддинга, потому что, представьте себе, лейтенант, как ни странно, точно такой пистолет есть у Макса Моски. Об этом нам неожиданно сообщила мисс Пипер Плок.
— Ну и ну! Пожалуй, мне стоит навестить Пэ-Пэ…
— Нет, лейтенант… Несчастная девушка и так под большим подозрением у своих приятелей. А если вы к ней пойдете, угроза станет смертельной.
— Ну и что? Все это одного поля ягоды, так или не так?
Капитан Мелфорд молча вышел.
— Печальная картина, лейтенант, — не удержался Лью Мартин. — Если бы мне кто раньше сказал, что Тед Мелфорд станет так себя вести, я бы ни за что не поверил. Чтобы так пить, надо совсем рехнуться… В конце концов он себя просто убьет…
— По-моему, Лью, вполне может быть, что именно этого он и добивается.
— Почему?
— Потому что иногда он должен быть отвратителен даже себе самому.
Глава IV
Несмотря на всю свою обычную невозмутимость, полицейский Бад Зигбург открыл рот от удивления при виде очаровательной Пирл Грефтон с двумя чемоданами в руках. Молодая женщина, по-видимому, нервничала.
— Капитан Мелфорд у себя? — спросила она.
Бад поспешил ответить, что тот действительно у себя, но не стал предупреждать, что шеф явно не в настроении принимать красоток.
— Будьте любезны, спросите, не согласится ли он уделить мне немного времени. Я буду так вам признательна…
Зигбург был крепким малым — рост метр девяносто, вес двести двадцать фунтов, но это не мешало ему оставаться сентиментальным. Под нежным взглядом Пирл он покраснел, как мальчишка, и бросился в кабинет шефа.
Тед писал отчет или что-то вроде этого. Сообщив, что мисс Грефтон просит ее принять, Бад счел нужным добавить:
— Похоже, ей ужасно нужно вас повидать, шеф… и я бы сказал даже, что, по-моему, девушка малость не в своей тарелке…
— Пьяная?
— Нет… скорее, умирает от страха.
— Ладно, пусть войдет.
Мелфорд тщательно сложил исписанный лист и сунул в большой пергаментный пакет, где уже лежали другие бумаги, потом убрал пакет в ящик стола и запер на ключ. Прежде чем Пирл поставила чемоданы и села на предложенный капитаном стул, он успел сунуть ключ в карман.
— Чем могу вам служить, мисс Грефтон?
Девушка колебалась, явно не зная, с чего начать. Наконец она решилась.
— Капитан Мелфорд, я пришла к вам, потому что Пэ-Пэ рассказала, как великодушно вы с ней обошлись.
— Великодушно?
— Ну да. Вы же дали ей добрый совет бежать отсюда. Не ваша вина, если Пэ-Пэ не поняла или у нее не хватает мужества…
— Я подумал, а впрочем, и теперь придерживаюсь того же мнения, что мисс Плок недостаточно закалена, чтобы жить среди таких жестоких и безжалостных людей, как Мэл Войддинг и его друзья.
— Меж тем и вы занимаете там почетное место, капитан?
— Это верно.
— А знаете, я почувствовала, что и у меня не хватает закалки, чтобы продолжать подобное существование. Вас это удивляет?
— Нет.
— Может, я и ошибаюсь, но, по-моему, вы не так омерзительны, как те…
Тед грустно улыбнулся.
— Вряд ли намного, мисс.
— Вот на эту малость я и решила поставить… А если вы меня выдадите Войддингу — я погибла.
— И чего вы от меня ждете, мисс?
— Помогите мне бежать!
— Каким же образом?
— Главное — уехать из Стоктона так, чтобы Чак не нашел следов ни на вокзале, ни на автобусной остановке. Если вы согласитесь отвезти меня в ближайший крупный город, никто ничего не заметит, и я смогу, не привлекая внимания, сесть на поезд.
— А о погоне вы не подумали?
— Они меня не найдут. Никто не знает ни моего настоящего имени, ни профессии, ни адреса, ни даже города, в котором я родилась.
Мелфорд восхищенно присвистнул.
— Я смотрю, вы не промах, мисс Грефтон.
— Нет, просто осторожна. Так вы дадите мне шанс на спасение, капитан?
Тед встал:
— Поехали. Устраивайтесь в моей машине сзади, но, пока мы не выберемся из Стоктона, лежите на полу. Ваше отсутствие скоро заметят?
— Я оставила Чаку прощальное письмо.
Часа через полтора Мелфорд выпустил Пирл из машины у вокзала выбранного ею городка. На прощание он крепко пожал девушке руку.
— Желаю вам удачи, мисс. Возвращайтесь на праведную стезю, и вы очень скоро заметите, что так-то оно лучше.
— Но… а как же вы?
— Я? Слишком поздно… Прощайте, мисс.
Пирл от всего сердца расцеловала капитана и убежала так быстро, как только позволяли два тяжелых чемодана.
Алландэйл заметил исчезновение Пирл лишь к вечеру. Он бросился к Войддингу и тут же обо всем рассказал. Тот пришел в дикую ярость.
— Как же вы мне осточертели со своими бабами! И всякий раз одно и то же! Гробишься, гробишься, строишь самую потрясающую комбинацию — и из-за какой-то дуры все летит в тартарары! Ну, куда девалась эта шлюха?
Чаку пришлось признаться, что он понятия не имеет.
— Ты просто кладезь премудрости, мой мальчик! Значит, ты все прохлопал ушами? Эта девка потешалась над тобой целыми днями, а ты ни о чем не догадывался?
— Потешалась надо мной?
— Надеюсь, ты не думаешь, будто она уехала одна?
Алландэйл вздрогнул.
— Вы… вы уверены, босс? Но она же ни с кем не встречалась!
— Идиот! Ты что ж, воображаешь, она стала бы знакомить тебя со своим дружком?
Чак судорожно сжал здоровенные кулачищи.
— Черт возьми! Ну, если я эту дрянь поймаю…
— Надо поймать… уж слишком она много знает о наших делах. А загонишь в угол — не вздумай миндальничать. Понял?
— Будьте уверены, шеф.
Мэл позвонил Теду, рассказал о происшествии и попросил поискать следы Пирл на вокзале и на автобусной остановке. Он даже обещал прислать фотографии мисс Грефтон, чтобы полицейские могли показать их служащим транспорта. Мелфорд обещал немедленно заняться этим делом.
Узнав о побеге, Моска не упустил случая посмеяться над Алландэйлом, и Войддинг опять дошел до белого каления, приводя в чувство готовых сцепиться подручных.
— Заглохни, Макс! Уж кому-кому, а не тебе хорохориться, после того как Пэ-Пэ сыграла с тобой такую скверную шутку!
— Какую шутку?
— По-моему, она нам, по сути дела, намекнула, что это ты застрелил Джимми. Разве не так?
— Я? Но… но зачем?
— С исчезновением Тоналы стало практически невозможно доказать, что в убийстве Росли виноват ты… И не забывай, что Джимми пристрелили из пушки, которая, насколько нам известно, есть только у тебя…
Вне себя от злости, Моска накинулся на Чака:
— Твоя работа, а? Это ты настроил босса против меня? Я тебе мешаю, стою поперек дороги?
— Ты — мне? Да ты что, смеешься? Кто на тебя вообще обращает внимание, грязный макаронник?
И снова пришлось вмешиваться Войддингу.
— Да успокоитесь вы оба наконец? Уйди, Макс… И не возвращайся, пока не научишься держать себя в руках. Имей в виду: пока ты остаешься под подозрением… А если я получу доказательство, что это и в самом деле ты шлепнул Джимми, — заплатишь.
Моска вышел, сквозь зубы бормоча ругательства.
— Повторяю тебе, Чак, — немного подождав, заметил Войддинг, — эти девки по-настоящему опасны, и Пэ-Пэ, возможно, еще больше, чем Пирл. Все-таки она ужасная дура и болтает, как сорока.
Он немного помолчал.
— Кажется, нам придется избавиться от мисс Плок.
Алландэйл пристально посмотрел на главаря.
— Положитесь на меня, босс, — проворчал он.
— Ты окажешь большую услугу нам всем, Чак, услугу, о которой никто, кроме меня, не узнает, а уж я сумею тебя вознаградить… Но только лучше одним ударом убить сразу двух зайцев…
— Не понимаю, босс.
— Закрой дверь и сядь. Сейчас я тебе всю объясню.
О'Мэхори ужинали, когда раздался телефонный звонок. Морин побежала в коридор и почти тут же вернулась.
— С тобой хочет поговорить Мелфорд… Но у него здорово заплетается язык. Видно, опять хватил лишку…
Пат, недовольно ворча, подошел к телефону.
— О'Мэхори слушает.
— Вот что, лейтенант… Мне звонила Пэ-Пэ… хочет сообщить что-то важное и просила зайти к ней часов в десять… значит, через час… Сходите туда вы, я… слишком устал…
— Но, черт возьми, почему вы не позволили мне поговорить с девушкой, когда я предлагал?
— Не знаю.
— Вы пьяны!
— Лейтенант… я… не позволю вам…
Пат сердито бросил трубку и вернулся к жене.
— Похоже, девчонка Моски струсила и готова всех заложить, но идти в управление не решается… Придется уж мне самому ее повидать.
— А почему этим не может заняться капитан?
— Да потому что он набрался, как свинья!
Ужин закончился в гробовом молчании. Упоминание о Теде Мелфорде оживляло взаимные обиды. Пата, искренне уверенного, что он действует во имя высшей справедливости, выводило из себя упорство, с которым Морин из любви к Джойс и Мэри защищала человека, недостойного ни малейшей симпатии.
Без четверти десять О'Мэхори сухо попрощался с женой. Морин ответила в том же духе. Лейтенант сел в машину и поехал на Линкольн-стрит, где в одном из домов на четырнадцатом этаже Макс Моска и Пэ-Пэ снимали квартиру.
Увидев, что дверь не заперта, а лишь притворена, Пат заколебался, но, немного подумав, решил, что мисс Плок нарочно оставила щелку, боясь, как бы звонок в дверь не привлек внимание соседей.
— Вы дома, мисс Плок? — окликнул он девушку, входя в коридор.
Распахнутая дверь гостиной, казалось, приглашала войти, но на пороге О'Мэхори замер — Пэ-Пэ лежала на полу, а вокруг ее разбитой головы растекалась лужа крови. Удивление настолько парализовало Пата, что он даже не подумал о возможной опасности. Почувствовав все же постороннее присутствие и услышав легкий шорох, лейтенант хотел обернуться, но опоздал. Что-то тяжелое ударило его по голове, и, теряя сознание, Пат вдруг вспомнил, что Тед Мелфорд всегда говорил: «У О'Мэхори больше мускулов, чем мозгов». Капитан оказался прав.
В половине одиннадцатого, беспокоясь, что мужа до сих пор нет, Морин решилась позвонить Мелфордам. Узнав об этом, Пат наверняка еще больше рассердится, но плевать она хотела на его гневные вспышки — лишь бы ее успокоили.
Трубку сняла Джойс, и по ее голосу Морин почувствовала, как девочка рада ее звонку. Очевидно, она по-прежнему считала миссис О'Мэхори другом.
— Твой отец дома, Джойс?
— Да, читает газету…
— Можешь попросить его подойти?
— Конечно.
Тед не заставил себя ждать.
— Алло, Морин?
— Тед, я очень волнуюсь…
— Почему?
— Из-за Пата…
— А где он?
— Как это где? Разумеется, там, куда вы его послали! — И еще не договорив, ирландка почувствовала, как горло перехватило от страха. Она не могла не заметить, что Тед говорит совсем не тем голосом, который она слышала совсем недавно. А капитан лишь подтвердил самые худшие опасения:
— Я никуда не посылал его, Морин.
— Значит… это не вы звонили в девятом часу и просили его сходить к мисс Плок, которая якобы собиралась сообщить что-то важное?
— Безусловно, нет.
— И что это значит, Тед?
— Пока не знаю, но выясню. Не сходите с ума, Морин, я сейчас же мчусь туда. Пат вам сразу перезвонит, я ему скажу.
Повесив трубку, Мелфорд попросил соединить его с «Эксцельсиором». Добудиться Мэла оказалось далеко не просто.
— Говорит Мелфорд.
— Ну и что? Какого черта вы меня разбудили?
— Кто звонил лейтенанту О'Мэхори?
— Почем я знаю?
— Кто у вас сегодня дежурит?
— Макс, а что такое?
— Вы можете мне его позвать, Мэл?
— За кого вы меня принимаете? Я вам не слуга, капитан!
— Слушайте, Войддинг, я всерьез опасаюсь, что кто-то из ваших умников сотворил непоправимую глупость.
— Кроме шуток?
— Ну, не говорите потом, что я вас не предупреждал!
— Можете засунуть свои предупреждения сами знаете куда! Ладно, приятель, Макса я вам, так и быть, позову, но оставьте меня в покое. Ясно?
К телефону подошел Моска.
— Вы спятили, Тед? — удивленно спросил он. — Будить босса, когда он с таким трудом засыпает!
— Некогда объяснять. Спускайтесь вниз, через пять минут я вас захвачу у выхода из «Эксцельсиора».
— В честь чего это? Затеяли увеселительную прогулку?
— Не совсем, Макс.
Как и обещал, Мелфорд заехал за Моской и быстро поехал на Линкольн-стрит.
— Куда это мы?
— К вам.
— Ко мне?
— Боюсь, как бы с Пэ-Пэ не стряслась беда.
— Вы не шутите?
— И не думаю…
И больше до самого дома они не проронили ни слова. Бросив машину, оба помчались к лифту. Увидев открытую дверь квартиры, капитан понял, что хорошего ждать нечего. Поэтому представшее их глазам зрелище его не особенно удивило. Пэ-Пэ с окровавленной головой лежала ничком, а в нескольких шагах от нее на ковре скорчился лейтенант О'Мэхори. В руке он крепко сжимал мраморную подставку для книг, которой, очевидно, и была убита мисс Плок.
— Пэ-Пэ! — сдавленным голосом вскрикнул Моска.
Он бросился на колени рядом с телом молодой женщины, осторожно приподнял ее голову и, обратив к Мелфорду искаженное страданием лицо, просто проговорил:
— Она умерла…
И вдруг, словно что-то сообразив, Моска вскочил и выхватил револьвер.
— Это он убил ее, проклятый мерзавец! — заорал Макс.
Но Мелфорд не дал ему выстрелить в Пата. Бросившись между гангстером и лейтенантом, он с лету ударил Моску в челюсть, и тот, не успев спустить курок, потерял сознание. В первую очередь Тед сунул в карман револьвер Макса, потом осмотрел лейтенанта и с несказанным облегчением убедился, что тот еще дышит. Капитан осторожно ощупал череп Пата — вроде бы цел. Значит, не придется сообщать Морин страшную весть, как он было подумал в первую минуту. Тед направился к телефону и вызвал ребят из управления и Эла Шерри.
Не прошло и часу, как О'Мэхори отправили в больницу, полицейские покончили со всеми формальностями, а врач поехал домой высыпаться перед очередным вскрытием. Похоже, его твердо решили не оставлять без работы… Когда уносили тело Пэ-Пэ, Моска опять начал буйствовать, и капитану снова чуть не пришлось его успокаивать. А теперь они остались вдвоем.
— Я знаю, капитан… она была невообразимо глупа… и не умела держать язык за зубами… А в результате я только и делал, что огребал неприятности… Тем не менее я любил ее… Можете вы это понять?
— Думаю, да.
— Я так надеялся, что в один прекрасный день мы уедем в Италию… а теперь… Почему О'Мэхори ее убил?
— Он никого не убивал, Макс, но и вас, и меня хотели убедить в обратном.
— Зачем?
— Чтобы избавиться от Пата.
— И ради этого пожертвовали Пэ-Пэ?
— Похоже на то.
— Но кто мог осмелиться?..
— Вы это знаете не хуже меня, Макс.
Моска на мгновение задумался.
— Если я найду того, кто убил Пэ-Пэ, — тихо проговорил он, — мокрого места не оставлю.
— Разве что он расправится с вами первым. Надо думать, этот тип здорово вас не любит, раз не пощадил это несчастное дитя!
Моска с трудом подавил глухие рыдания.
— Дай Бог, чтобы я с ним встретился лицом к лицу! Но не пытаетесь ли вы заморочить мне голову, Тед, выгораживая своего лейтенанта?
Мелфорд рассказал ему, как кто-то позвонил Пату от его имени и о тревожном звонке Морин.
— А теперь, Макс, поезжайте-ка спать в какую-нибудь гостиницу… здесь вам оставаться нельзя…
Мелфорд дежурил в больнице вместе с Морин, пока врачи не убедили его, что лейтенант отделался сотрясением мозга, правда, достаточно тяжелым, чтобы проваляться в постели несколько дней. Однако на случай осложнений (которых, впрочем, пока ничто не предвещало) Пату лучше оставаться под наблюдением. Успокоенный Тед вернулся домой. Мэри ждала его возвращения. Узнав, что жизни О'Мэхори ничто не угрожает, она облегченно вздохнула, но по дороге в спальню все же не удержалась от горького замечания:
— Надо полагать, это дело рук твоих новых друзей?
Известие об убийстве Пэ-Пэ сильно взбудоражило Стоктон. То тут, то там раздавались самые нелестные замечания в адрес полиции. Страсти немного сдерживало только ранение лейтенанта О'Мэхори. Однако общественное мнение все же склонялось к тому, что мэр должен как можно скорее избавиться от Теда Мелфорда, который ни на что больше не годится и поддерживает тех, кого обязан преследовать по закону. Люди, вполне естественно, хотели жить спокойно.
Рано утром мэр позвонил в дверь Мелфордов. Джойс собиралась в школу, но это не помешало ей расцеловать Теренса Кэмдена — он приходился ей крестным.
— Твой отец еще дома?
— По-моему, да.
— Передай, что я немедленно хочу с ним поговорить.
Девочка побежала за отцом, и тот не замедлил явиться, запахивая халат.
— Чашечку кофе, Теренс?
— Нет, спасибо. Ты, вероятно, догадываешься, почему я пришел?
— Разумеется. И, раз уж вы собираетесь кричать, пойдемте-ка лучше ко мне в кабинет.
Едва Тед закрыл дверь, мэр пошел в наступление.
— Так больше продолжаться не может. Ты должен что-нибудь сделать, иначе…
— Что тогда?
— …тогда я попрошу тебя подать мне прошение об отставке. Я прикрывал тебя, сколько мог, но теперь просто вынужден уступить всеобщим требованиям. Люди считают, что ты обязан уйти или посадить за решетку Войддинга и его присных. А этого, насколько мне известно, ты не хочешь?
— Да, не хочу.
— В таком случае…
— Ладно. Когда вам принести прошение?
— Скажем… завтра.
— Договорились.
— Но у тебя останется еще неделя… А потом, я думаю, капитаном станет О'Мэхори.
— Вы не могли сделать лучшего выбора.
— Ты очень на меня обижен, Тед?
— Нет. У вас не было другого выхода.
— Мне ужасно жаль… особенно из-за Мэри и Джойс…
— А вот об этом лучше не надо…
— Как хочешь… Ты сегодня увидишься с Войддингом?
— Несомненно.
— Может, согласишься передать ему от меня кое-что?
— Почему бы и нет?
— Так скажи ему просто, что, случись с Патом какая-нибудь неприятность, я пойду прямо к нему, Войддингу, арестую, а потом выдам толпе. И никто мне не помешает. А что такое суд линча — он сам знает.
Мэл сидел за письменным столом, раскуривая сигару. Алландэйл полировал ногти, а Моска, поникнув в кресле в противоположном конце комнаты, казалось, ни на кого и ни на что не обращал внимания. Однако Мелфорд сразу почувствовал, что атмосфера накалена до предела.
— Привет, Мэл.
— Привет…
— Салют, ребята!
Отозвался лишь Чак:
— Салют!
— Не блестяще вы нынче выглядите. Что-нибудь стряслось?
Войддинг свирепо ткнул пальцем в сторону Моски.
— Стряслось то, что этот господин считает жутко умным разыгрывать из себя безутешного Ромео, — рявкнул он. — Кто-то, видите ли, прикончил его подружку!
— Честно говоря, это и в самом деле подлость.
— Согласен! Мы все так считаем, но это еще не повод…
— Вы сказали «все», босс? — перебил его Моска.
— Ну да, так я и сказал, и что дальше?
— А то, что вы врете, босс!
Войддинг побледнел и конвульсивно сжал жирные кулаки.
— И ты… ты смеешь… — хрипло прокаркал он.
— Вам отлично известно, босс, что Пэ-Пэ убил кто-то из своих.
Заинтересовавшись разговором, Чак перестал полировать ногти, и Тед заметил, как его рука медленно поползла к кобуре.
— Ты что, свихнулся? — не очень уверенно возразил Войддинг. — Ведь не хуже нашего знаешь, что это легавый!
Макс указал на капитана.
— Спросите, что об этом думает он!
Войддинг с ненавистью посмотрел на Мелфорда:
— Так вы еще позволяете себе думать?
— Да, думаю, что с вашей стороны было верхом глупости пытаться убрать с дороги Пата О'Мэхори таким способом.
Мэл встал и, отшвырнув кресло, бросился к капитану.
— Ах ты продажная тварь, — заорал он, хватая Теда за грудки, — и у тебя хватает наглости критиковать мои поступки?
— Когда вы делаете ошибки — да!
Войддинг наотмашь ударил Мелфорда по лицу. Тот не шелохнулся, лишь пристально посмотрел гангстеру в глаза и каким-то деревянным голосом тихо сказал:
— Никогда не пытайтесь проделать это еще раз, Мэл… никогда. Иначе я не посмотрю на ваших убийц и мигом отправлю вас к праотцам.
Почувствовав, что капитан отнюдь не шутит, Войддинг отступил и, пытаясь «спасти лицо», стал разыгрывать приступ неукротимого бешенства.
— Хороши помощнички! Что за люди!.. Сначала Макс позволяет себе кричать, что я вру, а потом Тед заявляет, будто я веду себя как последний дурак! Я вовсе не приказывал убить Пэ-Пэ, Моска! И это не я решил таким способом разделаться с О'Мэхори, Мелфорд! Разве я виноват, что меня окружают одни идиоты, неспособные правильно понять приказ!
Войддинг, очевидно, решил все свалить на Алландэйла. И Макс уже не сводил с Чака горящих ненавистью глаз.
— Так это ты убил Пэ-Пэ, а? — наконец процедил он сквозь зубы.
— Я? Да ты, часом, не сбрендил?
— Тогда кто?
— Мне-то откуда знать?
Мэл шарахнул кулаком по столу.
— Да заткнетесь вы оба? Вы со своими чертовыми девками уже влезли мне в печенки! Что там не сработало, Тед?
Капитан выразительно пожал плечами:
— Даже ребенок справился бы лучше… Очевидно, кто-то хотел представить дело так, будто Пат убил Пэ-Пэ. При этом ваш горе-режиссер надеялся, что полиция поверит, будто во время допроса Пэ-Пэ ударила лейтенанта сзади, а тот, обернувшись, в свою очередь стукнул ее подставкой для книг. Прелюбопытная картинка… И это, не считая того, что, получив по голове, Пат уже явно не мог шевельнуться… Кто-то перестарался, Мэл. И еще: ну чем Пэ-Пэ могла ударить лейтенанта, если ни в руке, ни вообще поблизости от тела мы не нашли ни одного хоть мало-мальски подходящего предмета? Только новичок мог сделать такую ошибку…
— Кретин! — бросил Войддинг Чаку.
— Даже начинающий полицейский сразу сообразил бы, что Пэ-Пэ умерла до того, как Пат вошел в квартиру, — продолжал Мелфорд. — А телефонный звонок Пату от моего имени с просьбой сходить к Пэ-Пэ — вообще ребячество. Доктор Шерри, Макс, утверждает, что вашу подругу убили до семи часов вечера.
— Ладно, черт возьми, вы правы! — не сдержался Мэл. — Ну, наворотили малость! Впредь постараемся больше не валять дурака.
— Вряд ли вам подвернется другой случай, Войддинг.
Что-то в тоне полицейского сразу обеспокоило бандита.
— Почему вы так говорите, Тед?
— Потому что сегодня утром ко мне явился мэр и потребовал написать прошение об отставке.
— Что?
— И через неделю мое место займет лейтенант О'Мэхори.
— Господи Боже!
— При вашем ремесле, Мэл, любая ошибка непоправима.
— Но не могу же я, черт возьми, все делать сам!
— Разумеется… зато могли бы получше выбирать себе помощников… Боюсь, О'Мэхори покажет вам небо в алмазах.
— О'Мэхори? Мы им займемся. И обещаю вам, он не успеет отпраздновать назначение!
— Нет.
— Что «нет»?
— Мэр просил меня передать вам, что, случись какая неприятность с Патом или его женой, он не станет спрашивать согласия у судьи и арестует вас… а потом выдаст толпе… И, уж если выкладывать все до конца, Мэл… Теренс Кэмден спит и видит, чтоб вас линчевали.
Войддинг вдруг почувствовал, что задыхается, и ослабил воротничок.
— Мало ли что можно наболтать в минуту раздражения, — без особой уверенности пробормотал он.
— Ошибаетесь. Я сто лет знаю Теренса Кэмдена. Он крепкий парень и к тому же из тех, кто тоскует по старым временам, когда правосудие вершилось быстрее и проще. Поверьте мне, Мэл, Кэмден слов на ветер не бросает, и отнеситесь к его предупреждению серьезно.
Войддинг снова уселся за стол.
— Ладно, мы и в самом деле допустили промашку, и надо попытаться ее исправить… Макс, я больше не желаю слышать твоих стонов о Пэ-Пэ. Кто ее убил и почему — не имеет значения… И придется с этим примириться. Скоро ты найдешь себе другую милашку, но советую выбрать поумнее и не такую болтливую. А тебе, Чак, надо искупить вину… Не забудь… Я, по крайней мере, забывать не намерен.
— Э, босс… Вы так говорите, что Макс может подумать, будто это я ухлопал его пассию… — возмутился Алландэйл. — А я ведь занимался только фараоном…
— Ладно… И прекратите изводить меня своей дурацкой враждой! Ясно одно: мы не позволим какому-то там Кэмдену указывать, как нам себя вести, будь он тридцать три раза мэр! В любом случае, этот парень недолго просидит на таком посту… Как только приедет Берт со своими ребятами, мы так встряхнем Стоктон, что все сразу разберутся, кто мэр, а кто — не очень!
— Да, но когда это еще будет! — вздохнул Чак.
— Сегодня вечером.
Послышались удивленные восклицания, и Мэл, довольный произведенным эффектом, вновь обрел прекрасное настроение.
— Ну, как вам это нравится?
Все признали, что новость замечательная, если, конечно, Берт и его команда действительно так хороши, как уверяет Войддинг. Но тот замахал руками.
— Мой братишка уже отсидел двенадцать лет за драки, тяжелые повреждения и все такое прочее. Четырежды его арестовывали по подозрению в убийстве, но ни разу так и не смогли доказать вину. Очень резвый мальчик. У него только один недостаток: не очень-то привык работать головой, а потому нуждается в хорошем наставнике. К счастью для Берта, у него есть я… А Сэм Мервейн, правая рука моего братца, лишь чудом избежал электрического стула. Он долго работал на нью-йоркский синдикат докеров, ну а потом вынужден был бежать на Запад. Уж очень круто обходился с теми, кто не желает понимать собственной пользы. Потом в Сан-Франциско прикончил негра. Короче, этому джентльмену на мозоль лучше не наступать. Что до мексиканца Тони Альтамиро, то он был лучшим стрелком во всем Техасе, пока не пришлось во все лопатки удирать от полиции трех штатов… Вам не кажется, что с такими ягнятками мы вполне сможем урезонить весь Стоктон?
Макс, Чак и капитан признали, что столь выдающиеся личности везде сумеют настоять на своем.
— Я хочу, чтобы между вами не было никаких недоразумений, — продолжал Войддинг. — Поначалу Берт и его парни, возможно, станут поглядывать на вас немного свысока. Не обращайте внимания. Просто покажите им, что тоже не лыком шиты. А потом все пойдет как по маслу. И зарубите себе на носу, что хозяин тут я и что я не допущу, чтобы кто-то обсуждал мои приказы, будь то даже родной братец.
Все горячо поддержали готовность своего босса управлять пополнившейся бандой.
— Утром я разговаривал с Бертом по телефону. Он согласен, что лучше всего приехать в Стоктон незаметно. Поэтому все трое остановятся на границе нашего штата, а там вы их встретите, Тед. И разве кому-нибудь взбредет в голову, что на полицейской машине въезжают в город трое опасных гангстеров?
Моска, Чак и капитан рассмеялись. Ну кто, кроме их босса, может выдумать такую забавную шутку?
— Вы отвезете Берта и остальных в «Монтану», Мелфорд. Это очень скромная гостиница, но вы им объясните, почему сейчас не стоит поднимать особой шумихи. Никто не должен знать об их приезде в Стоктон раньше времени. Пусть кое для кого это станет сюрпризом… А вечером мы все вместе выпьем тут шампанского, и вы познакомитесь. Вы же, Тед, наведайтесь, пожалуй, к судье Хэппингтону и расскажите ему обо всем.
Тед позвонил домой и предупредил, что не приедет обедать, поскольку ему предстоит долгая и довольно-таки дальняя поездка. Мэри восприняла это с полным равнодушием. Она давным-давно перестала расспрашивать мужа о работе, предпочитая ничего не знать.
Поручив Баду Зигбургу дежурить в управлении, капитан залил полный бак бензина и тронулся в путь. Сначала он заехал в больницу.
Пат О'Мэхори чувствовал себя гораздо лучше. Только ужасная мигрень напоминала, что накануне он едва не отправился в мир иной.
— Морин рассказала мне насчет того звонка, — сразу начал лейтенант, увидев Мелфорда. — И как я не сообразил, что звонили не вы? Вы еще не выяснили, чья это работа?
Пат указал на бинты, обматывавшие его голову.
— Нет, пока не удалось.
— И даже если бы вы знали имя этого типа, все равно не сказали бы. Так ведь?
— Нет, не сказал бы.
— Оберегаете своих дружков?
— Нет, вас.
— А Пэ-Пэ?
Мелфорд пожал плечами:
— Я советовал Пэ-Пэ уехать, а она не пожелала меня слушать. Но теперь она все же ускользнула от них, бедная девочка…
— А за что они ее…
— Слишком много говорила…
— И вы считаете, это достаточно веская причина?
— Я?
— Конечно, раз вы покрываете тех, кто совершил это гнусное убийство…
— Не нервничай, Пат, — смешалась Морин.
— Я не нервничаю, но только из-за того, что капитан пришел узнать о моем самочувствии, не могу изменить мнение о нем!
— Замолчи!
— Да, конечно! Ты его всегда поддерживала… Честное слово, можно подумать, ты к нему неравнодушна!
Мелфорд улыбнулся Морин.
— Благодарю вас, миссис О'Мэхори.
И, оставив лейтенанта препираться с женой, Тед тихонько закрыл за собой дверь.
Выезжая на бульвар, он вдруг вспомнил, что должен повидать судью Хэппингтона.
Тот занимал прекрасный особняк в колониальном стиле. Дверь открыл чинный негр в красном жилете. Судья Хэппингтон заканчивает обедать, сообщил он капитану, и наверняка не захочет, чтобы его беспокоили. Мелфорд хлопнул чернокожего по плечу.
— Ты когда-нибудь видел, Аполлон, чтобы кто-то отказался принять полицейского?
— Верно…
— Ну, так беги и скажи хозяину, что я жду его в библиотеке.
— Да, сэр… прошу прощения, капитан.
Слуга проводил полицейского в небольшую восьмиугольную комнату, выходившую прямо в сад.
— Может быть, господин капитан согласится чего-нибудь выпить?
— Да… немного виски.
— Сию минуту, господин капитан.
Не успел Мелфорд допить виски, как в библиотеку с недовольным видом вошел судья. Хэппингтон был высоким, крепким, рыжеволосым мужчиной и на первый взгляд производил впечатление человека сильного. Однако, приглядевшись внимательнее и заметив бегающий взгляд, тот, кто имел с ним дело, быстро понимал, что на самом деле это жалкое, слабовольное ничтожество…
— Не понимаю, зачем вам понадобилось беспокоить меня в такое время. Я сижу за столом, в семейном кругу…
— А я?
— Что вы?
— Разве я сейчас обедаю со своими домашними?
— Но, дорогой мой, ваша личная жизнь меня не касается!
— Довольно, Хэппингтон! — вдруг резко оборвал его Мелфорд.
— Что?
— Хватит паясничать! Со мной этот номер не пройдет.
— Но… но…
— Слушайте, Хэппингтон, вы — отъявленный мерзавец, и мне это известно лучше, чем кому-либо другому, поскольку я сам пользуюсь той же кормушкой. Поэтому, прошу вас, поубавьте гонору. Какой смысл одному подонку ломать комедию перед другим?
— Говорите же потише, ради Бога! Чего вы хотите?
— Мэл просил сообщить вам, что я еду за его братом Бертом и еще двумя убийцами.
— Многообещающая новость… — простонал судья. — Ах, Мелфорд, если бы я только знал, куда это все меня заведет…
— Слишком поздно, судья.
— Еще бы! И что с нами теперь будет, и с вами, и со мной?
— Что будет с вами — не знаю. А мне Кэмден велел подать в отставку. Но могу вам сразу сказать, что, если Войддинг и его брат не заберут в руки город, вам придется подыскивать другую работенку — через неделю меня заменит Пат О'Мэхори.
Хэппингтон тяжело плюхнулся в кресло.
— Все кончено…
— Ну, может, еще не совсем…
Судья с живостью вскинул голову:
— Вот как? Вы имеете в виду, что, если Берт и в самом деле такой дока, как утверждает его брат…
На лице Хэппингтона появилось хитрое выражение.
— Послушайте, ведь коли Берт — такой лихой малый, он ведь запросто может скинуть старшенького?
— Кто знает…
— Но тогда не разумнее ли сразу же встать на его сторону?
Весь кабинет Войддинга был уставлен цветами. Бутылки шампанского охлаждались в ведерках со льдом. От пестрых этикеток на бутылках рябило в глазах. Мэлу хотелось устроить брату такой прием, чтобы у него сразу потеплело на сердце. С тех пор как Мэл Войддинг решил пригласить Берта в Стоктон, в глубине души его денно и нощно глодало сомнение. Он вовсе не испытывал никакой уверенности, что Берт уразумеет, насколько ему выгодно подчиняться старшему брату. А заставить такого парня передумать — задачка не из легких, особенно учитывая, что он притащит с собой двух матерых убийц. И Мэл решил сразу же расставить все точки над «i».
В кабинете тихонько играло радио. Алландэйл выглядел еще красивее, чем обычно, но все-таки продолжал полировать ногти — у него это превратилось в своего рода нервный тик. Макс курил сигару, раздумывая, на кого лучше поставить: на босса или на его брата. А как всегда невозмутимые Эл Сирвел и Брайан Уингфилд играли в кости.
Время шло, а путешественники все не появлялись. Мэл уже дважды звонил в управление и спрашивал, где капитан, и оба раза ему отвечали, что Мелфорд куда-то уехал.
Наконец он не выдержал.
— Хотел бы я знать, что они там затеяли!
— Путь неблизкий, — спокойно заметил Чак, продолжая делать маникюр, — а может, в машине какие неполадки…
— Да, ты прав. Но тогда Берт приедет злой, как черт, и наша вечеринка принесет мало радости.
— Он что, очень нервный?
— Пожалуй, да… Сирвел, вернись-ка ты на обычное место у лифта.
Тот встал, сунул кости в карман и, не говоря ни слова, вышел.
Прошло еще около часу. Атмосфера накалялась. Неожиданно послышались быстрые шаги, и на пороге появился Сирвел.
— Капитан приехал, босс…
— Капитан? Я полагаю, он не один, чертов ты дурень?
— То-то и оно, что один, босс.
И прежде чем Войддинг успел задать новый вопрос, в кабинет вошел Мелфорд. Выглядел он ужасно усталым.
— Ну, Тед?
— Ну, Мэл, все получилось вовсе не так, как вы мне говорили…
Глава V
Все уставились на Теда Мелфорда. Даже Эл Сирвел и Брайан Уингфилд вышли из привычного оцепенения жвачных животных и жадно ловили каждое слово капитана. Алландэйл убрал щипчики и пилку. Моска на мгновение перестал думать о Пэ-Пэ и об их не состоявшемся путешествии в Италию. А Мэл чувствовал, как железная клешня сжала ему внутренности. Он-то сразу понял, что дело принимает скверный оборот.
— Что это за болтовня, Тед? Вы не встретили Берта и его друзей?
— Встретил.
— И вы привезли их в Стоктон?
— Да.
— Где же они?
— Понятия не имею.
— По-вашему, сейчас самое время для дурацких шуток?
— А разве я похож на шутника? — Мелфорд тяжело вздохнул. — Ни разу в жизни мне еще не было так страшно…
— Страшно? Вам? И что же вас так напугало?
— Может, вы дадите мне все рассказать с самого начала?
— Ладно, мы слушаем.
— Но сперва я бы с удовольствием промочил горло — сейчас мне это чертовски нужно.
Моска щедрой рукой налил в бокал виски, и капитан проглотил его залпом.
— Уф! Вот теперь малость полегчало… Начинаю приходить в себя… Все-таки ехать сотню миль под дулом пистолета — не хухры-мухры.
— Под дулом пистолета?
— Как мы и договаривались, я подобрал вашего брата, мексиканца и Сэма Мервейна на автобусной остановке в Мелвин Рок. Все они были очень любезны и горячо пожимали мне руку. Берт сказал: «Вот здорово, что мой брат придумал доставить нас в город на полицейской машине!»
Мэл приосанился.
— Значит, мой братец все-таки признает, что у его старшенького неплохо варит котелок? — заметил он.
— Примерно десять миль мы ехали в полном молчании. По правде говоря, меня такая неразговорчивость несколько удивила. В конце концов я сказал вашему брату, сидевшему рядом: «Не очень-то вы болтливы, как я погляжу». Он ответил, что привык открывать рот, только когда ему есть что сказать. А потом добавил, что, коли мне невтерпеж, они могут приступить к делу не откладывая в долгий ящик. Берт велел мне затормозить на опушке небольшого леса возле Лэкмора и оставить машину под деревьями, так, чтобы ее не было видно с дороги, и мы все вышли. Честно говоря, я нисколько не сомневался, что там и останусь, тем более что мексиканец тут же вытащил внушительный тесак. К тому же я никак не мог понять, что на них нашло. Берт спросил:
— Вы тот легавый, который продался моему братцу?
— Да.
— Что Мэл вам приказал с нами делать?
— Отвезти в скромную и тихую гостиницу «Монтана», чтобы на ваше появление в городе никто не обратил внимания. А потом он хотел, чтобы вы на такси приехали к нам в отель «Эксцельсиор». Там вам подготовлен радушный прием.
— Заботливый братец, а? Вот только он малость промахнулся, мой драгоценный Мэл. Я приехал в Стоктон не шестерить, а занять его место. Так что придется малость подправить программу. Вы поедете к Мэлу и скажете, что я даю ему два дня. Пусть собирает манатки и отваливает вместе со своими дешевыми мордошлепами… Да чтоб не задерживался, а то мы живо поставим всю компанию на место. Мы шутить не любим… Мэл всегда был ничтожеством, годным разве что бабочек собирать. Единственный стоящий тип из его дружков уже связался со мной и в случае чего подсобит. Кроме того, можете передать моему милому братцу, что судья Хэппинггон уже звонил мне и предлагал услуги. Я их принял. Надеюсь, Мэл сообразит, что ему больше нечего делать в Стоктоне — тут ничего не светит, кроме места на кладбище. А вам, Мелфорд, коли не сумеете правильно выбрать хозяина, не придется долго раздумывать, каким способом уйти в отставку.
На сем мы снова вернулись в машину. Мервейн ткнул меня в спину револьвером и сказал, что, если меня вдруг осенит замечательная мысль по въезде в Стоктон предупредить полицию, я стану первой жертвой в том побоище, которое они намерены учинить. И до самого города никто больше не проронил ни слова. На бульваре мне приказали остановиться у дома судьи Хэппингтона, а потом ехать к вам с поручением, Мэл. Вот и все, а теперь я бы охотно глотнул еще немного виски — такую прогулку забудешь не скоро…
Рассказ капитана выслушали в полном молчании, никто не издал ни звука. Застывший в кресле Мэл Войддинг казался ледяным изваянием. Только конвульсивно сжатые челюсти выдавали клокотавшее внутри бешенство. Чак, побледнев чуть больше обычного, наблюдал за реакцией главаря. Моска, видно, с большим трудом сдерживал распиравший его поток слов. А двое убийц инстинктивно вытащили револьверы и стали вертеть их в руках.
— Берт всегда был тщеславным болваном, — прошипел наконец Войддинг. — Самое время дать ему такой урок, чтобы навсегда запомнил… Этот кретин хочет войны? Он ее получит! Вы, конечно, не знаете, где они решили засесть, уехав от судьи?
— Нет.
— Но у вас в подчинении столько ищеек, что вы, наверное, без труда засечете их нору?
— Несомненно.
— Отлично. Немедленно принимайтесь за дело, и, как только мы узнаем, где сидят эти стервятники, поедем устраивать им прием туда, раз уж они пренебрегли нашим гостеприимством… Но на сей раз прихватим с собой не виски и не шампанское!
Алландэйл захохотал. Мысль о предстоящей резне всегда приводила его в восторг. Зато Моску такая перспектива радовала гораздо меньше.
— Что до судьи Хэппингтона, — продолжал Войддинг, — он тоже явно заслуживает урока… и окончательного расчета. Пускай Берт и его убийцы полюбуются, как мы поступаем с предателями… Кстати, о предательстве, Тед… Вы, кажется, упомянули, будто Берт связался с кем-то из наших?
— Да.
— Жаль, что он не назвал вам имя…
Войддинг обвел ледяным взглядом всех, сидевших в комнате.
— Значит, среди вас завелась паршивая овца… Так пусть этот сукин сын поостережется — узнаю, кто он такой, легкой смерти пусть не ждет… А лучше всего — сразу признаться и попросить прощения. Нас не так уж много, чтобы позволить себе роскошь пускать кого-то в расход без крайней нужды… Так что я готов дать ему возможность искупить вину. А теперь возвращайтесь по домам и держитесь начеку. С этой минуты мы все в смертельной опасности. Помните, вопрос стоит так: либо ты убьешь, либо — тебя. Стало быть, пока мы не решим свои собственные дела, обывателей Стоктона придется оставить в покое… Ясно? Спокойной ночи. А вы, Тед, задержитесь, пожалуйста, еще на минутку.
Оставшись наедине с капитаном, Мэл откупорил бутылку шампанского.
— Вы умнее, чем все мои остолопы, Мелфорд… Поэтому я хочу знать ваше мнение о Берте и остальных.
— Придется действовать очень быстро.
— Я тоже так думаю. Вы остаетесь с нами, Тед?
— А разве у меня есть другой выход?
— Может, и есть, но я вам не советую им пользоваться… У вас есть жена и еще одна дочь… Было бы крайне неприятно, случись с ними какая беда… например, вроде той, что ждет судью Хэппингтона…
— А что вы собираетесь с ним сделать?
— Вас так мучает любопытство?
— Вы правы. В конце концов, лучше мне ничего не знать.
— Вот это мудрое решение… Расскажите мне о Берте и его ребятах.
— Сразу видно, что у вашего братца не в порядке нервы… Похоже, он готов устраивать пальбу по любому поводу, направо и налево… Очень опасный тип, тем более что реакции его совершенно непредсказуемы…
— Верно. Тут надо успеть выстрелить первым.
— Несомненно. Тони Альтамиро — тоже явно не сахар. Маленький тощий мексиканец с кошачьими повадками. По-моему, он всегда не прочь поиграть ножичком и особенно любит тихонько подкрадываться сзади. Что до Сэма Мервейна, то это типичный убийца — крепкий, хладнокровный и совершенно невозмутимый. Так что, если хотите знать мое мнение, это крайне опасная банда.
— Тем больше у нас оснований напасть первыми. Те, кто слишком уверен в собственном превосходстве, всегда теряются, если противник, который, по их расчетам, должен помирать со страху, неожиданно наносит удар.
— Правильно.
— Как только вы разыщете гнездо наших птичек, мы живенько его очистим. А пока скажите, кто, по-вашему, нас предает?
— Трудно сказать… вы знаете свою команду лучше, чем я, Мэл.
— И это говорите вы? Да разве таких ребят можно толком узнать? Впрочем, не думаю, чтобы это мог быть Сирвел или Уингфилд. Во-первых, они ничего толком не знали о Берте, а во-вторых, это обычные наемники, неспособные размышлять и заглядывать в будущее. Такие люди — своего рода фаталисты. Наконец, они не приучены действовать самостоятельно. Так что Эл и Брайан могут лишь выполнять приказы, ни на что другое они не годятся.
— В таком случае, остаются только Чак и Макс?
— Да, Чак и Макс. И не стану от вас скрывать, Тед, что
наиболее подозрительным мне кажется Моска. Алландэйл тщеславен до предела, но зато без комплексов. Не представляю, чтобы он мог предложить услуги парню, о котором, в сущности, ничего не слыхал. Чак считает, что это его должны уламывать. Ясно, что за фрукт? Психология «звезды», уверенной в собственной неотразимости. А вот Моска намного умнее…
— И, стало быть, опаснее?
— Бесспорно… Во-первых, не надо забывать об убийстве Тоналы, с которым еще далеко не все ясно… и я всерьез подозреваю, что это работа Макса… А потом, смерть Пэ-Пэ, похоже, окончательно лишила его рассудка… Он никак не может простить, что мы убрали эту болтунью, и я нисколько не удивлюсь, если Моска попытается нам напакостить… Придется не спускать с него глаз и при первом же подозрительном шаге отправить следом за его разлюбезной Пэ-Пэ.
— Ну, очень-то торопиться тоже не стоит.
— Я никогда не делаю поспешных шагов, Тед, разве что у меня нет другого выхода.
Мелфорд и Войддинг допили шампанское за победу над Бертом и его приспешниками и за поимку изменника, готового нанести удар в спину.
Если Чак Алландэйл быстро утешился и забыл о Пирл Грефтон, тем более что череда более важных событий не позволила ему ни выслеживать беглянку, ни даже предупредить своих нью-йоркских приятелей, то Максу Моске никак не удавалось выбросить из головы убийство Пэ-Пэ. Зная настоящее имя своей подруги, он с особой нежностью повторял про себя: «Гертруда, Гертруда…», и на глазах у этого закоренелого бандита выступали слезы. Если бы только он мог точно узнать правду! Пусть это будет его последним хорошим поступком в жизни, но уж он постарается прикончить убийцу Пэ-Пэ! Сам Моска никогда не убивал женщин. Скорее всего, такой сентиментальностью он был обязан итальянской крови предков, но, как бы то ни было, Макс свято чтил традиции. Ему хотелось напиться и обо всем забыть, но сейчас расслабляться явно не следовало. Нет, лучше подождать и хорошенько выпить потом, когда пока не известный ему враг последует за Гертрудой… Перед сном Моска тщательно почистил и смазал пистолет.
Чак, считавший себя непобедимым, отправился в «Копакабана». Весь вечер он пьянствовал и танцевал, но все же почти не отводил глаз от двери, в любую минуту готовясь увидеть Берта и его убийц. Время от времени Чак машинально проверял, легко ли револьвер ходит в кобуре. Алландэйл презирал весь мир. Бросить Войддинга ради его брата ему не приходило в голову, но Чак был бы не прочь, прикончив Мэла, занять место Берта.
Эл Сервил и Брайан Уингфилд, близнецы по преступлению, в точности выполнили совет главаря банды. Оба жили в «Эксцельсиоре», в комнате, ведущей в апартаменты Войддинга. Они приказали принести ужин наверх и заперлись у себя, потом сыграли партию в крэпс и улеглись спать, не забыв сунуть под подушки револьверы. Для них все было просто и ясно: или они прикончат Берта и его ребят, или те прикончат их. Сирвел и Уингфилд не испытывали ни страха, ни нетерпения. За долгие годы положение «либо — либо» стало настолько привычным, что уже ни капельки не волновало.
Мэл попытался отвлечься, разглядывая любимых бабочек, но, вопреки ожиданиям, не получил ни малейшего удовольствия и раздраженно убрал ящики с чешуекрылыми обратно в шкаф. От реальности никуда не уйдешь: подлый братец покушается на его жизнь. Счастье еще, что у Мэла есть Тед Мелфорд. С помощью полиции он быстро обнаружит вражье логово, и тогда Мэл посмеется… Ради такого случая он даже решил лично принять участие в облаве.
По дороге домой Тед заехал в больницу. Морин добилась разрешения дежурить у мужа круглые сутки.
— Как вы себя чувствуете, Пат?
— Через пару дней вернусь домой. Моя ирландская башка оказалась на диво крепкой.
— Очень рад за вас, старина.
— Спасибо, — сухо проговорил О'Мэхори, и в его тоне не чувствовалось ни тени признательности.
— Пат, у меня для вас очень хорошая новость…
— Да?
— Вас назначают капитаном.
— Капитаном? А… как же вы?
— Я подаю мэру прошение.
— Вот как…
Ирландец не мог найти слов. К Мелфорду подошла Морин.
— Мэри знает?
— Нет еще…
— И что же с вами со всеми станет?
— Понятия не имею, но тем и должно было кончиться, не правда ли? Из вас получится хороший капитан полиции, Пат.
— Я бы предпочел получить назначение иначе.
— Пусть мысль о грядущем повышении навевает вам приятные сны. Завтра я приду вас навестить.
Когда шаги Мелфорда затихли в глубине коридора, Морин не без ехидства спросила:
— Ну что, доволен?
— Не особенно…
— А разве не ты уже давно только и твердишь, что Теда надо выгнать из полиции?
— Так-то оно так… Но теперь мне довольно неловко…
— Уж не становишься ли ты деликатным, Пат О'Мэхори?
— Ты как будто сердишься на меня за это повышение, о котором я и не думал просить!
— Я сержусь за то, что ты поешь в один голос со всеми… Послушать вас, так во всем Стоктоне не найдется большего негодяя, чем Тед Мелфорд!
— Я по-прежнему в этом уверен.
— А я — нет!
— Но ведь даже его жена…
— Это доказывает лишь, что можно долгие годы прожить бок о бок, так и не узнав друг друга!
— Не понимаю, почему ты его защищаешь с такой страстью!
— Точно так же, как я не могу понять твоего ожесточения. Ты подумал, в каком положении окажутся Мэри и Джойс?
— Тед получил от Мэла Войддинга достаточно долларов, чтобы как-нибудь выкрутиться.
— Противно слушать… И как ты только можешь так забрасывать грязью человека, который был твоим другом и которому ты всем обязан?
— Не могу же я из-за этого оправдывать его нынешние подлости? Слушай, Морин, ты ведь знаешь, как близки были Теренс Кэмден и Тед? Так вот, пойми: если уж мэру пришлось требовать отставки Мелфорда, значит, он не мог поступить иначе.
Немного поколебавшись, Морин кивнула.
— Ты наверняка прав, но, когда Мелфорды уедут из Стоктона, наша жизнь очень изменится.
Тед думал, что домашние уже спят, и, заметив в окнах свет, немало удивился. Войдя в столовую, он увидел, что Мэри несет из кухни чашку чаю. Ни слова не говоря, она прошла мимо мужа и исчезла в комнате Джойс.
— Что случилось, Мэри? — спросил Тед, когда она вернулась.
— Джойс…
— Она заболела?
— Нет, очень утомлена…
Мелфорд хотел было пойти к дочери, но жена преградила дорогу.
— Нет, тебе лучше туда не ходить…
— Почему?
Мэри ответила не сразу, но потом вдруг решилась:
— Боюсь, сейчас твое появление не пойдет ей на пользу, скорее наоборот.
— Мое появление? Но разве я не отец Джойс?
— Вот именно… Лучше девочке об этом забыть хотя бы до завтрашнего утра… Ей надо поспать… Не волнуйся, опасности никакой, просто разошлись нервы.
— Это из-за меня?
Мэри опустила голову.
— Да, из-за тебя.
Она ушла на кухню, а Тед устало опустился в кресло. Ему было тяжело, невыносимо тяжело… родная дочь… жена… а всего несколько минут назад — Пат… Вот только одна Морин… странные вещи бывают на свете… Вернувшись в столовую, Мэри вдруг заметила, как резко постарел ее муж. И неожиданно ей стало жаль Теда. Мэри подошла и положила руку ему на плечо. Капитан поднял измученные глаза.
— Наступает расплата, Тед, — печально сказала жена. — Если бы речь шла только обо мне, это не имело бы особого значения. Но у нас есть дочь… Джойс еще не набралась ни сил, ни жизненного опыта. Да и причин держаться насмерть, как у меня, нет.
— Что с ней произошло?
— Поссорилась с одноклассницей, и та при всех крикнула, что дочери продажного полицейского следовало бы помолчать. Никто не стал защищать Джойс. В школу она больше не вернется…
— Бедная девочка…
— Тебе бы следовало подумать о ней раньше, Тед. Я клялась себе никогда не говорить на эту тему, но не желаю, чтобы за твою вину расплачивалась Джойс. Мы с ней уедем отсюда…
— Да, конечно…
— Я не имею права тебя судить и не хочу, чтобы тебя судила дочь.
— Но это уже произошло.
— После смерти Лилиан ты совсем переменился, Тед. И этого человека я никак не могу понять. Неужели ты думаешь, я любила нашу девочку меньше тебя? Но я не позволила себе сломаться… Разве справедливо наказывать Джойс за гибель сестры? Она ни в чем не виновата.
— Я не хотел, чтобы и ее тоже убили.
— Так ты уверен, что это не было несчастным случаем?
— Да.
— Почему же ты не сказал об этом мне?
— Зачем?
— Хотя бы для того, чтобы я не разлюбила тебя. Значит, если бы ты не подчинился, они убили бы Джойс?
— Сначала ее, потом тебя.
Наступило долгое молчание.
— Тед Мелфорд, за которого я выходила замуж, стал бы сражаться, а не уступил гнусному шантажу, — наконец тихо проговорила Мэри.
— Должно быть, я уже не тот. Я слишком боялся потерять вас обеих.
— И согласился потерять честь?
— Это всего лишь слово.
— Да, слово, но меня учили его уважать с детства, да и ты сам когда-то учил. И на том же уважении я растила наших дочерей.
— Ты меня больше не любишь, Мэри?
— Я перестала восхищаться тобой, Тед. По-моему, это куда серьезнее.
— Не уезжайте.
— Я не вижу другого выхода. Нам с Джойс придется поехать к моим родителям в Колорадо.
— Не надо, я подал в отставку…
— Ты подал в…
— Не позже чем через неделю я уйду из полиции, и, если ты согласна, мы вместе уедем отсюда.
— Ты говоришь правду?
— А зачем мне тебя обманывать?
— Не знаю… с тех пор как погибла Лилиан, я ничего не понимаю в твоих поступках… Позволь мне сказать Джойс, что мы уезжаем из Стоктона самое позднее через неделю?
— Да, это крайний срок, даю тебе слово.
— Ну, теперь я не сомневаюсь, что она уснет.
Жена ушла. А Мелфорд, забравшись поглубже в кресло, стал задумчиво смотреть туда, где обычно сидела Лилиан, когда они по вечерам играли в карты. Тед нарочно передергивал самым постыдным образом, а Лилиан, хоть и совсем выросла, каждый раз попадалась на удочку и страшно сердилась… Лилиан… никогда больше Тед не увидит ее… не услышит ее смеха… Капитан даже не заметил, что по его впалым щекам текут слезы. Никто из домашних так не любил Лилиан, как любил ее он… Они хотят уехать в Колорадо и оставить ее совсем одну, здесь, на стоктонском кладбище. И они еще называют это любовью?.. Морин, конечно, позаботится о заброшенной могиле, но это не то же самое. А впрочем, стоит ли напрасно портить себе кровь? Мелфорд наверняка знал, что ему не уехать из Стоктона…
Весь маленький городок охватило смутное предчувствие беды. Никто не смог бы толком объяснить, в чем дело, но каждый ощущал неясную угрозу. В самом воздухе витало беспокойство. Продажность судьи Хэппингтона ни для кого не составляла секрета, точно так же, как и двойная жизнь начальника полиции. И большая часть обывателей, хоть и с сожалением, склонялась к тому, что старину Теренса Кэмдена придется отправить на покой, раз он не в состоянии сладить с захватившими город бандитами. Даже те, кто относился к мэру с особой симпатией, никак не могли понять, почему он не желает отправить в отставку Теда Мелфорда и не зовет на помощь ФБР. А недоброжелатели намекали, что из всей этой неразберихи Кэмден тоже извлекает для себя кое-какие выгоды. Так или иначе, но весь город понимал, что так больше продолжаться не может, рано или поздно нарыв прорвет и что это невеселое время не за горами.
И с особым страхом ждал неминуемой развязки судья Хэппингтон.
Закрывшись у себя в кабинете, Герберт Хэппингтон очень живо вспоминал нищего студента, умиравшего от зависти к богатым сотоварищам. Чтобы как-то сводить концы с концами и продолжать учебу, ему приходилось прислуживать другим, а это вовсе не способствовало успеху у девушек. Годы учения в университете породили у Герберта лишь страстное желание как можно скорее разбогатеть. Будучи человеком слабым, вместо того чтобы презирать унижавшее его сословие, Хэппингтон жаждал сам проникнуть туда и в свою очередь покуражиться над бедными. Психоаналитики наверняка сказали бы, что в юности Герберт перенес душевную травму.
И однако наедине с самим собой судья признавал, что жалеет о своем падении. Он воскрешал в памяти так быстро угасший юношеский пыл студента-юриста, мечтавшего о суровом, но гуманном правосудии, одинаковом для всех. Он стыдился, что стал тем, кого некогда ненавидел больше всего на свете, — чиновником, недостойным высокого звания, подлым торговцем законом. Хэппингтон догадывался, что настанет день, когда всеобщее негодование выметет его из суда. Правда, он надеялся, что до этого успеет поставить на ноги детей и обеспечить безбедную старость жене. Тогда вдвоем с Элизабет они уедут из Стоктона и отправятся в Луизиану, где неподалеку от Батон-Руж Хэппингтон предусмотрительно купил небольшой домик.
Однако едва судья выходил в столовую, где за завтраком собиралась вся его семья, как угрызения совести мигом улетучивались. Стоило поглядеть на сына-джентльмена, на изящную куколку дочь и на счастливую жену, и Герберт больше ни о чем не жалел. Итак, еще несколько месяцев, и все его планы придут к счастливому завершению. Что бы там ни утверждали всякие идиоты, непорядочность — далеко не смертный грех.
Хэппингтон никогда не задумывался, любят ли его домашние. Внешне все они неизменно проявляли глубокую привязанность к главе семейства. А у Герберта хватало ума не требовать большего. Пустая болтовня детей наполняла его тщеславным блаженством. Сын и дочь судьи говорили об отпрысках самых богатых и уважаемых семейств города как о близких друзьях, с которыми они привыкли держаться на равной ноге. А жена пользовалась услугами поставщиков, выполнявших заказы только немногих избранных.
Вернувшись в кабинет, Хэппингтон собрал бумаги. Сегодня предстояли самые пустяковые дела, из которых при всем желании не извлечешь никакой выгоды.
Зато с портфелем в руке Хэппингтон чувствовал себя совершенно другим человеком. Все страхи и опасения тут же исчезали. Ни дать ни взять король со скипетром в руке. Совершенно забывая о том, кто он есть на самом деле, Хэппингтон превращался в СУДЬЮ. Дворецкий проводил хозяина до крыльца и почтительно затворил за ним дверь. Увидев у самой решетки сада чужой автомобиль, Герберт раздраженно махнул рукой. Такое нарушение приличий казалось ему совершенно недопустимым и злило тем больше, что он видел человека, сидящего за рулем.
— Эй вы, там! — крикнул Хэппингтон.
Мужчина высунул голову:
— Привет, судья!
Хэппингтон узнал нахального водителя.
— Вы не могли оставить машину подальше от моего дома?
— Уверяю вас, теперь это больше не имеет значения, судья, — хмыкнул тот.
Герберт подошел поближе.
— Но в конце-то концов, вам же отлично известно, что приезжать ко мне домой нельзя! — продолжал возмущаться он.
— На сей раз иначе никак невозможно…
— И что вам понадобилось так срочно?
— А вот это…
Увидев неизвестно откуда взявшийся револьвер, Хэппингтон вытаращил глаза.
— Вы… вы что… взбесились?
— Не надо было нас предавать, судья!
— Предавать…
— Наилучшие пожелания от Мэла Войддинга, судья!
Под градом пуль Герберт пошатнулся. Он хотел крикнуть, но умер, даже не успев открыть рта. Эл Сирвел рванул с места и на полной скорости выехал на окраину города, где и оставил украденную несколько минут назад машину. Обратно он возвращался пешком, небрежно сунув руки в карманы, пока не поймал такси, а приехав в «Эксцельсиор», сразу же сообщил Мэлу, что поручение выполнено. Войддинг слегка отодвинул ящик с бабочками.
— Браво, Эл… Возьми двести долларов вон там, на столике. Я их заранее приготовил, зная, что уж ты-то не промахнешься. Судья ничего не говорил?
— Нет, только выпучил глаза.
Войддинг беззвучно рассмеялся.
— Еще бы. А теперь хотел бы я поглядеть, какая физиономия будет у Берта!
Пат никак не ожидал мэра, а Морин страшно смутилась, что первое лицо города застало ее в халате. Однако Теренсу было явно не до церемоний.
— Здравствуйте, О'Мэхори… Доброе утро, миссис О'Мэхори… Простите, что побеспокоил вас в такую рань. Как вы, лейтенант?
— Лучше некуда! Не будь этих тюремщиков в халатах, я бы давно удрал отсюда!
— Что ж, старина, придется вам ослушаться врачей.
— А?
— Вы нам нужны, лейтенант.
— Что-нибудь скверное?
— Судью Хэппингтона убили, когда он выходил из дома.
На открытом лице ирландца ясно читалось, что известие его нисколько не огорчило, и Теренс счел нужным добавить:
— Я знаю, о чем вы подумали, О'Мэхори, да и все наверняка скажут то же самое… Однако для нас нравственный облик жертвы не имеет значения. В любом случае мы обязаны найти убийцу.
— Постараемся сделать все возможное, но… как же капитан?
— Я бы предпочел не говорить о нем, лейтенант… Вам известно, что Мелфорд подал в отставку и я назначил на его место вас?
— Он сообщил мне об этом… и… спасибо вам.
— Лучшая благодарность — доказать, что я не ошибся в вас. К своим обязанностям вы приступите в конце недели, а в ближайшие несколько дней вы и вдвоем едва справитесь. Бой предстоит тяжелый.
— Боюсь, Тед Мелфорд больше не хочет сражаться.
— Потому-то я и обращаюсь к вам.
— Да… А есть хоть какие-то подозрения, кто убил судью?
— Насколько мне известно, никаких.
— А вам не кажется странным, что после убийства Росли мрут либо убийцы, либо их друзья? Тонала, мисс Плок, а теперь судья Хэппингтон? Нет ли тут сведения счетов?
— Не исключено. Мелфорд сообщил мне, что к нам прибыл Берт Войддинг, брат Мэла, и прихватил с собой еще парочку закоренелых уголовников — Сэма Мервейна и Тони Альтамиро. Вроде бы Берт задумал сковырнуть Мэла и занять его место. Сейчас капитан пытается выяснить, где они прячутся. Ни в одной гостинице их нет.
— И вы думаете, это гастролеры прикончили судью?
— Возможно. Весь Стоктон знает, что Хэппингтон работал на Войддинга.
После ухода Кэмдена Пат вскочил, не обращая внимания на крики Морин, не желавшей, чтобы он ушел из больницы без разрешения врачей.
— Да ты что, не слышала мэра?
— Пустяки, Тед все еще на месте! Пусть поработает, пока ты не поправишься.
— По-моему, ты забыла, что я обязан Кэмдену. Думаешь, я его достойно отблагодарю, отказав в первой же просьбе?
— А по-моему, требовать, чтобы ты рисковал здоровьем, — это уж чересчур!
— Вечно ты делаешь из мухи слона! Мне ли не знать, что я совсем здоров!
— Ладно, поступай как хочешь, но предупреждаю: если ты окончательно свихнешься, я потребую развода! Я вовсе не жажду, чтобы меня придушил взбесившийся муж!
То, что они опять начали ссориться, доказывало лишь, что здоровье Пата О'Мэхори больше не внушало ни малейших опасений.
Врачи и медсестры сердились и грозили осложнениями, но ирландец, не пожелав ничего слушать, с такой стремительностью вылетел из больницы, что в его боевой форме можно было не сомневаться. Предоставив Морин собирать вещи, лейтенант помчался в управление.
Лицо Лью Мартина расплылось в довольной улыбке.
— А, лейтенант! Я чертовски рад снова вас видеть. Ох и боялись мы за вас…
— Вот и напрасно, старина! Не этим дешевкам со мной справиться!
Полицейский недоверчиво покачал головой:
— Ну, с судьей-то они все же разделались…
— Тоже мне, сравнили… Капитан у себя?
Лью ткнул пальцем в сторону кабинета, и Пат пошел к Мелфорду.
— Привет, капитан!
— А, Пат! Как я счастлив, что вы снова на ногах! Вас выпустили из больницы?
— По правде говоря, я обошелся без разрешения… Слушайте, Мелфорд, мне бы надо потолковать с вами…
— Со мной?.. Что ж, валяйте, старина.
— Так вот… это насчет Морин…
— А что случилось?
— Она считает, что я не очень-то красиво поступаю с вами…
— Кажется, Морин всегда славилась оригинальностью.
— Не смейтесь, Мелфорд… Отношение к этому жены мешает мне по-настоящему радоваться повышению.
— Можете не волноваться, со временем Морин привыкнет. Но все же поблагодарите ее от моего имени.
— Я понимаю, это трудный вопрос, но скажите честно, если бы на моем месте были вы, вы поступили бы иначе?
— Ни в коем случае.
Ирландец облегченно перевел дух.
— Жаль, что Морин не может вас слышать.
— Не стоит требовать слишком многого…
— А когда вы расскажете обо всем миссис Мелфорд?
— Это уже сделано.
— А? Ей очень… тяжело?
— Нет, Мэри ничуть не переживает. Наоборот, у нее словно гора с плеч свалилась… Она хочет уехать из Стоктона в Колорадо, к родителям.
— И вы, конечно, поедете вместе?
— Да, разумеется. А теперь, Пат, если вы не против, давайте вернемся ко всем этим убийствам.
— У вас есть какие-нибудь предположения, кто бы мог…
— Предположений-то много, доказательств нет.
— Говорят, в город явился Берт Войддинг со своей бандой и собирается разделаться с братом?
— Верно.
— Может, судья — первая жертва их вражды?
— Очень возможно.
— Стало быть, убийца — Берт или кто-то из его подручных?
— Не обязательно. Есть основания полагать, что Хэппингтон предпочел поставить на Войддинга-младшего.
— Вот оно что! Тогда, значит, его наказали?
— Не исключено.
— А где прячутся Берт и его бандиты?
— Пока нам не удалось их найти. Проверки в гостиницах ничего не дали. Очевидно, сидят у кого-то из дружков.
— Однако, сдается мне, такое трио не могло проскользнуть в город незамеченным!
— Надо думать, они очень осторожны.
— Итак, наша первая задача — найти Берта и компанию?
— Правильно.
В кабинет влетел как всегда возбужденный доктор Эл Шерри.
— Тед! Неужто ваши гангстеры поклялись уморить меня работой? В последнее время я только и делаю, что вскрываю трупы! Если эта бойня не прекратится, весь город побывает под моим скальпелем!
— Зато каждый сможет убедиться, что вы не зря получаете деньги налогоплательщиков, док.
— Как бы то ни было, мне бы очень хотелось, чтобы вы хоть изредка подкидывали задачки посложнее… Какой смысл вскрывать труп, если причина смерти и так удручающе ясна? То череп всмятку, то брюхо, нафаршированное свинцом… Примитивно до рвоты. Кстати, как ваша голова, Пат?
— В полном порядке, док. Уж простите великодушно, если я вас разочаровал.
— Погодите радоваться, мой мальчик. Я знал одного типа, с которым случилось примерно то же самое. Все очень долго думали, что он совершенно здоров.
— А это оказалось не так?
— Гм!.. Начальство только через полгода сообразило, что парень стал полным идиотом.
— Кроме шуток? И чем занимался этот ваш недоумок?
— Он был полицейским.
И, издав смешок, похожий на скрип плохо смазанного колеса, доктор исчез.
— Лихо он над вами подшутил, Пат! — не удержался Мелфорд, увидев выражение лица своего помощника.
— Чего не понимаю, шеф, так это с какой стати каждый житель этого паршивого городишки только и думает, как бы поставить ирландца в дурацкое положение?
— Может, просто их слишком любят? Знаете, своего рода защитная реакция…
— Значит, когда Морин кричит на меня, а я отвечаю в том же духе, это оттого, что мы слишком любим друг друга? Тоже защитная реакция?
— По-моему, так оно и есть, старина.
Разговор прервал телефонный звонок. Капитан снял трубку.
— Капитан Мелфорд слушает… А, это вы… Нет, пока ничего… А у вас? Вы, конечно, знаете, что случилось с беднягой Хэппингтоном?.. Да, догадываюсь… Меня нисколько не удивит, если окажется, что это дело рук Берта… Не принимайте меня за дурака… Тем не менее тот, кто совершил это преступление, сильно рискует… Мэр не может да и не станет терпеть, чтобы эта бойня продолжалась… Как что сделает? Да вызовет ФБР, черт возьми!.. Да, согласен, это было бы весьма неприятно, тем более что нынешние асы только и мечтают повторить то, что их старшие коллеги сделали с Аль Капоне… Ладно, согласен, не стоит накликать беду… До скорого…
Тед повесил трубку.
— Мэл Войддинг. Спрашивает, не удалось ли нам отыскать его братца. Он начинает всерьез трусить и, боюсь, как бы дальше не стало еще хуже…
— Ну и прекрасно!
— Я не могу согласиться с вами, Пат. Представляете, что может натворить со страху такой тип, как Мэл?
— Эх, если бы вы только захотели, шеф, мы бы живо справились со всей этой сволочью!
— Вы хотите, чтобы Морин последовала за Лилиан?
— Противно слушать.
— Правда далеко не всегда ласкает слух.
— С такими мыслями нельзя работать в полиции!
— Поэтому-то я и ухожу.
— И чем раньше, тем лучше для вас!
— Насколько я понимаю, вы уже заняли мое место?
— Это вы дезертировали! Прощайте, Мелфорд. И до самого вашего отъезда я больше не скажу вам ни слова, помимо работы, конечно.
— Постараюсь как-нибудь пережить такую немилость.
Поставив все точки над «i», О'Мэхори немного успокоился.
— Какие будут распоряжения, капитан? — спросил он, не глядя на Мелфорда.
— Искать Берта Войддинга, Сэма Мервейна и Тони Альтамиро.
Слышавший раздраженные голоса Лью Мартин спросил у Пата, как только тот вышел из кабинета капитана:
— Что, не ладится у вас с капитаном?
— А разве можно до чего-нибудь договориться с таким типом?
— Лейтенант…
— В чем дело?
Полицейский выглядел очень смущенным.
— Я знаю капитана много лет…
— Ну и что?
— Ну вот, мне и хотелось бы знать ваше мнение. Это правда, что Тед Мелфорд стал подонком?
— То, что я вам скажу, Лью, идет вразрез с самыми элементарными правилами дисциплины… но вы старый служака и поймете… Тед Мелфорд не просто подонок, а самая распоследняя сволочь!
Всю вторую половину дня Эл Сирвел играл в кости со своим приятелем Брайаном Уингфилдом и, к величайшей досаде последнего, то и дело выигрывал. В конце концов Уингфилд потерял сто долларов.
— А ты не передергиваешь, Эл? — сердито спросил он, в глубине души понимая, что не прав.
— Да за кого ты меня принимаешь? — возмутился Сирвел. — Забыл, что ли, о наших правилах? Уж между собой мы никогда…
— Так каким же образом ты чуть не каждый раз выбрасываешь семерку?
— Везуха, старина Брайан… Такой у меня сегодня день. С тех пор как я шлепнул гада судью, прет сплошная удача. Сперва босс подкинул две сотни, теперь я выиграл еще одну… Как, по-твоему, триста хрустяшек — это кое-что?
— Спрашиваешь! А знаешь, что бы я сделал на твоем месте?
— Давай, выкладывай.
— Пошел бы к Фредди и сыграл на все три сотни. При такой везухе ты запросто огребешь тысчонку.
— Думаешь?
— Еще бы! Я настолько в этом уверен, что готов подкинуть тебе свою последнюю сотню, если ты отдашь мне четверть выигрыша.
Соблазн был велик, но Эл все же колебался.
— А босс? Представляешь, как он раскричится, если я смоюсь?
— А я на что?
— Вообще-то ты прав…
— Нельзя упускать такую удачу, Эл! Сам подумай, может, она уже больше никогда не подвалит?
— Ладно, давай свою сотню.
— На, и я очень рассчитываю, что ты мне принесешь целую кучу бабок.
После ужина Мэл обычно давал последние распоряжения и запирался у себя. Ничего, кроме бабочек, его в это время не интересовало. Эл просидел с приятелем еще час и отправился в притон Фредди, находившийся всего в трех сотнях метров от «Эксцельсиора». Перед выходом Сирвел переложил револьвер из кобуры в карман плаща — путь недолог, но идти надо по темному и совсем безлюдному в это время переулку.
— Поберегись все-таки этих головорезов из Огайо! — посоветовал слегка встревоженный Уингфидд.
— Ну, я бы им не советовал ко мне лезть!
На улице, прижавшись к стене, он внимательно осмотрелся. Ни души. Но Сирвел был стреляным воробьем и не доверял внешнему спокойствию, а потому выждал еще минут десять. Наконец, убедившись, что пока никакая опасность ему не грозит, Эл быстрым шагом двинулся к Фредди. У входа в переулок он повторил тот же маневр, потом, сжав в кармане рукоять револьвера и чутко прислушиваясь, скользнул в темноту. Пружинистая походка позволяла тренированному телу при малейшем подозрительном шорохе отскочить в сторону. Сирвел без приключений миновал опасный проход и, увидев неброскую вывеску заведения Фредди, облегченно вздохнул.
Решив полностью посвятить себя игре, Эл почти не прикасался к бутылке и решительно отклонял заманчивые предложения красоток, всегда готовых помочь удачливому игроку. Эта мудрая тактика принесла плоды, и в три часа ночи Сирвел с довольной улыбкой встал из-за стола. В кармане у него лежало двенадцать сотен. Вот Брайан обрадуется!
— Сегодня у вас счастливый день, мистер Сирвел! — заметил Фредди, раскланиваясь с ним на пороге.
— Да, похоже на то.
Эл возвращался в «Эксцельсиор» в полной эйфории. Он так радовался удаче, так предвкушал восторг Брайана, когда тот получит свои четыреста долларов, что забыл переложить револьвер из кобуры в карман (входя к Фредди, ему волей-неволей пришлось убрать оружие). Сирвел вспомнил о своей неосторожности, лишь дойдя до середины темной пустынной улочки. И в этот момент его негромко окликнули:
— Эл!
Услышав знакомый голос, Сирвел оглянулся, уже не помышляя об оружии. Первая пуля пробила ему грудь. Боль и в еще большей степени удивление приковали гангстера к месту. Идеальная мишень. Ткнувшись носом в мостовую, Сирвел умер. Напоследок в голове у него мелькнуло: «Счастливый день…»
Глава VI
Теда разбудил телефонный звонок. Джо Илкли звонил из управления сообщить, что какой-то прохожий (к слову сказать, художник, за которым никогда не водилось ничего дурного) наткнулся на труп Эла Сирвела, буквально начиненный свинцом. Мелфорд ответил, что немедленно едет. Перед отъездом он позвонил Мэлу Войддингу и порадовал его известием, что их ряды тают и убийство Сирвела, скорее всего, надо расценивать как месть за судью. Стало быть, война началась. И один Бог знает, как ее остановить…
Мэл и не подумал оплакивать человека, преданно служившего ему до сего дня, — тот, кто выбрал ремесло наемного убийцы, заранее знает, на что идет. Зато беспардонный вызов Берта привел его в дикую ярость. Войддинг немедленно собрал остатки банды. Брайан Уингфилд объяснил, как было дело.
— Вы дали Элу денег, босс, да еще он выиграл у меня в кости. А потому, решив, что у него счастливый день, парень не хотел упускать удачу…
— Счастливый день, да?
От такой непростительной глупости опускались руки, но Войддинг быстро пришел в себя. Он ни за что не уступит младшему брату, тем более что всегда считал Берта не слишком умным. Только и умеет убивать… В сущности, братишка стоит не больше Эла Сирвела или Брайана Уингфилда. А значит, рано или поздно его ждет такая же судьба.
— Это им даром не пройдет! — рявкнул он.
Чак Алландэйл ответил, что ничего так не жаждет, как узнать, где прячутся Берт и его дружки. Он, Чак, с удовольствием бы с ними объяснился. Моска проявил куда меньше рвения.
— А ты, Макс? — с удивлением спросил его Мэл.
— Приказывайте, босс, я готов повиноваться.
И снова Войддинг долго разглядывал итало-американца из-под опущенных век.
— Не нравится мне твое поведение, Макс, — наконец тихо заметил он.
— Да? Чем же это?
— Не знаю… Но после смерти Пэ-Пэ ты очень изменился.
— По-моему, было с чего. Разве не так?
— Кретин! Сейчас, когда мы бьемся за место под солнцем, ты думаешь о какой-то гниющей в земле девке!
Моска побледнел, и все заметили, как надулись вены у него на висках.
— На вашем месте я бы выбирал слова, босс, — прошептал он.
— А чего ради, мистер Моска?
— Хотя бы потому, что в нашем положении не стоит ссориться с мертвыми…
Мэл ошарашенно воззрился на Макса, потом, сообразив, что тот и не думал шутить, разразился громовым хохотом.
— Ну, ты даешь! В жизни не слыхал ничего подобного! «Не стоит ссориться!» Нет, право слово, мой бедный Макс, у тебя совсем крыша поехала! Да мертвым так же плевать на нас, как и нам на них, и заруби себе это на носу!
— Не уверен… Когда несправедливо убивают кого-то из своих, мертвые напускают порчу… Эл Сирвел тому свидетель… Стоило ему ни за что ни про что кокнуть судью, который был на нашей стороне, и всего через несколько часов парень отправился следом… По-вашему, это не странно?
— Заткнись! Что я об этом думаю — тебя не касается. Судья продал нас Берту… И отвяжись от нас со своими дурацкими суевериями, паршивый итальяшка! Мертвыми ты можешь заняться, когда мы покончим со слишком назойливыми живыми. Ясно?
— Как хотите, босс, — без особой уверенности отозвался Моска.
— И еще не забывай, что мой братец признался Мелфорду в приятельских отношениях с кем-то из вас. Сирвел уже доказал, что речь шла не о нем…
— И что?
— Просто я хочу предупредить тебя, что ты у меня первый на подозрении. И придется тебе чертовски убедительно доказывать свою преданность…
Макс пожал плечами:
— Настоящий предатель сидит здесь и посмеивается, слушая, как вы обвиняете меня. Это только льет воду на его мельницу.
— Не на меня ли ты намекаешь, Макс? — вмешался Алландэйл с перекошенной от злобы физиономией.
— А почему бы и нет?
В мгновение ока оба выхватили револьверы.
— Вы что, совсем очумели? — заорал Мэл.
Гангстеры сверлили друг друга глазами, а наблюдавший эту сцену Брайан Уингфилд прикидывал, кто из них окажется проворнее, если и в самом деле дойдет до пальбы. Опыт подсказывал ему, что, пожалуй, Моска успеет выстрелить первым, зато излишняя нервозность может сыграть с ним дурную шутку.
— Уберите пушки, идиоты! — рявкнул Мэл. — Хотите облегчить Берту работенку?
Они угомонились, но и последний дурак сообразил бы, что когда-нибудь взаимная вражда этой парочки закончится очень плохо.
— Похоже, схватка братьев Войддингов уже началась, капитан?
Лейтенант О'Мэхори холодно смотрел на своего шефа.
— Записка, которую мы нашли на теле, не оставляет на этот счет никаких сомнений.
— И как вы намерены поступить?
— Что вы имеете в виду?
— На кого вы поставите? На Мэла или на Берта?
— А какое вам до этого дело, лейтенант?
— Позволю себе напомнить, что через несколько дней сменю вас на посту, а потому мне хотелось бы по возможности прояснить положение.
— Что ж, проясняйте на здоровье! Я вам не мешаю.
— В таком случае предупредите своего дружка Мэла, что я еду поговорить с ним.
— Будьте осторожны, Пат…
— Я готов выполнять ваши приказы, капитан, но во все остальное просил бы не вмешиваться.
— Как хотите, мое дело — предупредить.
И, не обращая больше внимания на лейтенанта, Мелфорд снова погрузился в изучение бумаг.
Когда О'Мэхори вышел из лифта, Брайан Уингфилд попытался преградить ему дорогу.
— Вы предупредили о своем приходе, лейтенант?
— Еще чего!
— Но вы не имеете права…
— Ты что ж, паршивый наемник, думаешь, полиция должна испрашивать аудиенции у такого жалкого ничтожества, как твой хозяин?
— Подождите, пока я сообщу…
— Живо убирайся с дороги!
— Я на работе и…
— Представь себе, я тоже. И в мои обязанности как раз входит учить вежливости мерзавцев вроде тебя.
Брайан отступил на шаг.
— Осторожно, лейтенант…
— С чем это?
— А вот с этим!
Уингфилд выхватил револьвер и прицелился. Полицейский свистнул от удивления.
— Ну, ты, приятель, силен! И не боишься угрожать полицейскому при исполнении?
— А мне плевать. Приказ есть приказ.
— Что ж, раз так…
Пат прикинулся, будто смирился с бесславным отступлением, но, неожиданно развернувшись, нанес Уингфилду сокрушительный удар в челюсть. Брайан рухнул на пол. Лейтенант забрал у него револьвер и, вытащив из кармана наручники, приковал руку Брайана к решетке лифта.
— Мы еще побеседуем, когда ты проснешься, мой мальчик.
И не теряя времени, О'Мэхори вступил во владения Мэла Войддинга. Дверь кабинета распахнулась так стремительно, что бандит вздрогнул.
— Привет, Войддинг!
— Как вы сюда…
Лейтенант уселся в кресло.
— Успокойтесь… ваш вышибала попытался было помешать мне с вами увидеться… Пришлось его малость проучить. На обратном пути я его прихвачу с собой. Пусть посидит под замком да подумает, как глупо мешать работе полиции.
— Чего вы от меня хотите?
— Просто предупредить, что очень скоро займу место Теда Мелфорда.
— Ну и что?
— А то, что в вашей жизни многое изменится.
— Не понимаю.
— Так давайте уточним положение. Меня вам не купить, как Мелфорда.
— Кто знает?
— Хотите схлопотать по физиономии?
— Вы сторонник силовых методов?
— Скорее да.
Войддинг вздохнул.
— Вы глубоко не правы, лейтенант.
— Неужели?
— Я, конечно, не сомневаюсь, что вы человек мужественный… Но как бы от вашего упрямства не пострадали другие…
Пат О'Мэхори встал и, опираясь обеими руками о стол, нагнулся к самой физиономии Мэла.
— Слушайте внимательно, Войддинг, и постарайтесь сделать выводы. Если хоть волос упадет с головы моей жены, клянусь Богом, я не стану тратить время и силы на поиски виновного, а приду прямо сюда и убью вас.
Мэл ни на секунду не усомнился в искренности лейтенанта, а потому смертельно побледнел, но все же попытался хорохориться.
— Фараон-убийца — это что-то новенькое…
— Только попробуйте — и увидите.
Оставшись один, Мэл Войддинг затрясся от страха. Если у Берта с дружками хватит наглости явиться сюда, ему придется встречать их одному. Чем это кончится, бандит прекрасно понимал и не строил иллюзий. Дрожащей рукой он схватил трубку и стал обзванивать все бары и кегельбаны. Разыскав наконец Моску и Алландэйла, Мэл приказал им немедленно ехать в «Эксцельсиор» и уже гораздо спокойнее вызвал своего адвоката Реда Волка.
В отличие от большинства бандитов Мэл был далеко не глуп и имел слабость размышлять. Поэтому он отлично отдавал себе отчет, что переживает не самую удачную полосу в жизни. Как только Мелфорд уйдет в отставку, он хлебнет горя со зверюгой ирландцем. Рано или поздно О'Мэхори придется убрать, иначе впору собирать чемоданы.
Но куда ехать?
Войддинг запер дверь на ключ, налил себе виски и, положив на стол револьвер, забрался поглубже в кресло. На него вдруг накатили воспоминания детства, а о тех временах он давно уже не мог думать без содрогания. Грязная улочка в занюханном Бовери… вечно пьяный отец-докер… Мать, от невыносимых страданий превратившаяся в мегеру и за бутылку готовая на что угодно. Жестокие драки супругов на глазах у перепуганных детей… и дворовая жизнь с ее пороками… Первый арест… исправительный дом… Юность среди шпаны… Первое участие в сведении счетов между двумя бандами. Первое убийство. Сначала дикий страх, потом глупая бесшабашность, основанная лишь на уверениях обожаемых старших. Тюрьма. Выйдя на свободу постаревшим и порядком изношенным, тридцатилетний Мэл вынужден был держаться подальше от столицы и десять лет скитался в провинции, пока не убедился, что работать в одиночку нельзя. Тогда он сколотил свою банду и потихоньку вошел в силу, предпочитая не убивать, а покупать нужных людей. Войддинг быстро пришел к выводу, что убийство — дело неблагодарное и годится лишь на крайний случай, когда нет другого выхода, да и то не вдруг, а после долгой и тщательной подготовки.
Уехать из Стоктона означало вернуться к прежнему бродячему существованию с перспективой закончить карьеру в тюрьме или в судебном морге. Нет, что бы то ни было, Мэл Войддинг не уступит своего места. Он останется в Стоктоне.
Услышав шум, Тед вышел из кабинета и увидел О'Мэхори, волокущего за собой Брайана Уингфилда.
— Что это вы расшумелись, лейтенант?
— Да вот привел Брайана Уингфилда. Он угрожал мне револьвером!
— Это правда, Уингфилд?
— Послушайте, капитан, вы меня слишком хорошо знаете, чтобы поверить, будто я могу выкинуть такую штуку! Я очень уважаю полицию.
— Продолжай в том же духе, — возмущенно зарычал О'Мэхори, — и я тебе устрою самую жестокую трепку, какую ты когда-либо получал за всю свою собачью жизнь!
— Слышите, капитан, как он со мной разговаривает? — жалобно простонал убийца. — Так и жаждет моей крови!
— Попридержите язык, лейтенант, и оставайтесь в рамках закона.
Не обращая внимания на капитана, Пат стукнул Уингфилда под дых, и тот согнулся пополам, хватая ртом воздух.
— Лейтенант, я вас арестую!
— А идите вы… капитан!
— Только грязная ирландская свинья воображает себя мужчиной, избивая парня, который не может защищаться! — отдышавшись, прохныкал Брайан.
Лейтенант собирался еще раз хорошенько врезать Уингфилду, но Тед на лету поймал его руку и заломил за спину.
— Мартин, Зигбург, отведите лейтенанта в камеру. Пусть посидит, пока не успокоится.
Услышав в голосе капитана прежние властные нотки, полицейские не посмели ослушаться и заперли О'Мэхори на ключ. Оказавшись в камере, ирландец придушенным от ярости голосом стал выкладывать весь внушительный запас известных ему ругательств. Брайан оказался в соседней клетушке.
— Лейтенант… — тихонько позвал он, услышав, что его враг затих.
— Чего тебе, подонок?
— Если вы умеете не только орать, приходите между десятью и одиннадцатью в лес Фороэкс. Там мы и объяснимся как мужчина с мужчиной.
— Моли лучше Небо, чтоб не столкнуться со мной в ближайшие несколько дней, Брайан Уингфилд! Потому что иначе, клянусь честью, ты у меня так получишь на орехи, что на всю оставшуюся жизнь с лихвой хватит!
— Говорю же, вы только глотку драть горазды! Приходите-ка на свидание, и я с превеликим удовольствием отправлю вас на тот свет.
— Кретин несчастный…
— Вы придете, лейтенант! Я заставлю вас прийти!
Мелфорд подошел к камерам.
— Угомонились, О'Мэхори?
— Ладно, отоприте. Но я не прощу вам такого унижения, капитан.
— Мне это безразлично, лейтенант. Но имейте в виду: тот, кто со дня на день должен стать капитаном, не имеет права вести себя подобным образом.
— И это вы смеете поучать меня?
— Я полагаю, вы собираетесь занять мое место не для того, чтобы поступать еще хуже? — осадил его Мелфорд.
Выйдя в приемную, полицейские обнаружили там адвоката Реда Волка. Тот улыбался.
— Надеюсь, вы понимаете, зачем я пришел, господа?
— Принесли залог и хотите забрать Уингфилда?
— Вот именно.
— А кто же назначил залог, раз судья умер? — осведомился лейтенант.
— Разумеется, его помощник, мистер Ларри Майер. Сто долларов.
— Сто долларов за то, что
он угрожал офицеру полиции при исполнении служебных обязанностей?
— Вот как? Вы были на задании? Может быть, вы собирались арестовать Мэла Войддинга?
— Не понимаю, какое вам дело до моей работы, метр.
Адвокат повернулся к Мелфорду:
— Вы можете подтвердить, что лейтенант поехал в отель «Эксцельсиор» по служебным делам, капитан?
— Нет.
— Позволю себе напомнить вам, лейтенант, что вы приносили присягу, а в таких случаях ложь — прямое нарушение закона, — заметил Волк.
— Довольно, метр! — оборвал его Мелфорд. — Гоните доллары и забирайте добычу.
Проходя мимо О'Мэхори, гангстер чуть слышно шепнул:
— Я буду ждать вас сегодня вечером, лейтенант.
Как только посторонние ушли, Тед повернулся к своему помощнику:
— Вам надо последить и за языком, и за поступками, лейтенант. Особенно когда я уйду и некому будет исправлять ваши глупости.
— Без вас, капитан, в этом доме воздух станет гораздо чище, и бандитам не удастся так быстро выходить на свободу, как в ваши времена. До свидания!
— Вы уходите?
— Я уйду через полтора часа, как положено по инструкции, если, конечно, у вас не будет особых распоряжений. А до тех пор никакой закон не обязывает меня терпеть ваше общество.
Увидев входившего в бар капитана, Флойд Шерпо схватил приготовленную для него бутылку, но Тед махнул рукой в знак того, что пить не собирается.
— Не сегодня, Флойд…
— Тогда зачем же вы пришли, капитан?
— Просто поболтать с человеком, который не презирает меня до глубины души.
— А? Опять О'Мэхори?..
— Удивительно цельная натура. Пат раз и навсегда поделил мир на две половинки — белую и черную. Третьего не дано… Ни тебе полутонов, ни оттенков…
Толстяк бармен покачал седой головой.
— Молодежь ничего не смыслит в жизни и при этом воображает, будто во всем разбирается лучше нашего… Думаете, так было всегда, капитан?
— Боюсь, что да, Флойд… Знаете, лучше б я тогда остался на берегах Ялу…
— Не болтайте глупостей, капитан.
— Те, кто вернулся с войны, даже если они воображают себя победителями, всегда побежденные.
— Может, и так… Там, по крайней мере, не было других забот, лишь бы не сдохнуть.
Облокотившись на стойку, оба молча вспоминали о корейской войне, которая их познакомила. Шерпо первым отогнал мысли о прошлом.
— Не сдавайтесь, капитан… Выпейте-ка стаканчик, я угощаю. Вы же не можете мне отказать?
— Конечно, нет.
Они чокнулись.
— Правду говорят, будто вы собрались уезжать?
— Да.
— А что думает об этом мэр?
— Это он просил меня подать в отставку.
— Странно. Я считал его другом.
— Теренс не мог поступить иначе. Он должен считаться с общественным мнением.
— Иногда мне кажется, вы угодили в ужасный тупик, капитан.
— Надеюсь, что нет.
Несчастный случай со смертельным исходом и всеобщая свалка в пригородном кабачке задержали лейтенанта на работе до девяти вечера. Написав рапорт, он сел в машину и помчался домой, полагая, что Морин, которую он забыл предупредить, наверняка ужасно волнуется. Тем не менее она ни разу не позвонила в управление, и подобное равнодушие не только удивляло, но и возмущало Пата.
Еще больше лейтенант удивился, обнаружив, что дверь его коттеджа приоткрыта. Может, жена куда-то вышла? Пат шагнул в дом и сразу понял, что случилось несчастье. Сердце у него отчаянно заколотилось. О'Мэхори вбежал в комнату — там как будто промчался ураган: мебель перевернута, стекла и посуда перебиты.
— Морин! — позвал Пат вдруг охрипшим голосом.
Тишина… Пату показалось, что его внезапно окутало ледяное покрывало. Только бы Морин…
Молодая женщина лежала на кровати. Лейтенант бросился к ней.
— Морин!
О'Мэхори приподнял голову жены и вскрикнул от ужаса. Избитое, распухшее и окровавленное лицо было неузнаваемым.
— Морин!
Она с трудом подняла одно веко — второй глаз не открывался. Разбитые губы шевельнулись:
— Пат… наконец-то…
Полицейский осторожно смыл с лица жены кровь и заставил ее немножко выпить. Как только Морин чуть-чуть пришла в себя, он, не тратя времени на долгие расспросы, коротко бросил:
— Кто?
— Я его не знаю.
— За что?
— И это тоже непонятно… В дверь позвонили. Я открыла. Какой-то мужчина спросил: «Миссис О'Мэхори?» Я ответила: «Да». Тогда он изо всех сил ударил меня по лицу. Я отлетела. Я страшно перепугалась и, главное, не понимала, в чем дело. Вытащить из комода револьвер я не успела — этот тип снова набросился на меня. Я ударила его ногой и, видимо, больно, потому что он взвыл. А потом начал меня избивать. Я упала. Тогда он стал бить меня ногами, пока я не потеряла сознание.
Пат не мог ни думать, ни рассуждать. Он вдруг превратился в сплошной комок ненависти. Все вытеснила одна мысль: найти этого человека и убить.
— Неужто он только спросил, как тебя зовут, и больше не сказал ни единого слова?
— Да… Я припоминаю, что, когда уже теряла сознание, парень прошипел: «Ну, теперь-то, надеюсь, твой муж встретится со мной в лесу Фороэкс!»
Уингфилд… Брайан Уингфилд… Так вот каким способом он решил вынудить его прийти…
О'Мэхори уже не думал о страданиях жены. Как всякая цельная натура, он всегда жил одним чувством, и сейчас это была ненависть. Одержимый жаждой найти Уингфилда, лейтенант бессознательно отрешился от мира, где оставалась избитая Морин, и мысленно перенесся туда, где ждал его человек, чьей крови он жаждал.
Убегая, Пат даже не поцеловал жену и не вызвал врача. Зато стук захлопнувшейся за ним двери прояснил мысли Морин. Она поняла, что, если никто не поспешит на помощь, Пат примчится на свидание с самой смертью. Молодая женщина с трудом добралась до телефона и позвонила Мелфорду.
Слушая сбивчивые объяснения и почти неузнаваемый голос собеседницы, Тед почувствовал, что дело плохо.
— Я сейчас приеду, Морин…
Он повесил трубку.
— Тебе придется поехать со мной, Мэри. Боюсь, у Пата большая беда.
Они нашли Морин лежащей у телефона. Тед взял ее на руки и отнес в комнату. По дороге он заметил, какой беспорядок творится в доме.
— Быстро вызови «скорую» и поезжай вместе с ней, Мэри, — приказал он жене, осмотрев лицо ирландки. — И не оставляй Морин, пока я не вернусь… Морин, где Пат?
— В… в лесу Фороэкс…
— В лесу?.. Но что он там делает?
— Парень, который меня избил, сказал такую фразу: «Надеюсь, теперь твой муж встретится со мной в лесу Фороэкс».
— Так… оставляю ее на твое попечение, Мэри.
Тед прыгнул в машину и помчался к небольшому лесу, где обычно встречались стоктонские влюбленные. Кто же назначил там свидание Пату? А этот дурень ирландец сломя голову бросился в западню! Наверняка кто-то из банды Мэла Войддинга… скорее всего, Брайан Уингфилд, которого О'Мэхори как раз сегодня поколотил. Алландэйл и Моска не стали бы в открытую бросать лейтенанту вызов. И тот, и другой предпочли бы убить его потихоньку. Только такой безмозглый скот, как Уингфилд, презирая элементарную осторожность, мог открыто прийти к женщине, чьего мужа намеревался прикончить.
В пяти метрах от леса Мелфорд оставил машину, вышел и с пистолетом в руке неслышно отправился на свидание, назначенное бандитом полицейскому, который вот-вот нарушит закон и сам превратится в убийцу.
Уингфилд ждал уже почти час. Поджидая жертву, он тихонько посмеивался над наивностью ирландца. Брайан приехал первым и мог тщательно выбрать место. Прижавшись к стволу огромного дуба, он настороженно прислушивался к шорохам ночи — не треснет ли какая-нибудь сухая ветка под ногой врага.
О'Мэхори спасло то, что он вошел в лес Фороэкс с севера. На развилке бульвара Уильмер он свернул не в ту сторону. Поэтому Уингфилд оказался между Патом и Мелфордом, приехавшим с южной стороны.
Брайан заметил Теда. Вполне естественно, он смотрел на юг, откуда и должен был появиться лейтенант. При виде темного силуэта в униформе бандит вскинул оружие и выстрелил, но поторопился — пуля прожужжала мимо уха капитана, и тот укрылся за деревом, соображая, кто в него метил — Уингфилд или Пат.
Услышав выстрел и решив, естественно, что пуля предназначалась ему, лейтенант ускорил шаг. Его трясло от бешенства.
— Вылезай, проклятый трус! — заорал О'Мэхори.
Тут-то Мелфорд и понял, что в него стрелял Брайан. Удивленный Уингфилд никак не мог сообразить, каким образом его противник вдруг оказался сзади. То, что полицейских может быть двое, ему даже в голову не пришло. И Брайан решил, что враг быстро сделал обходной маневр.
— Ну, Уингфилд, вылезешь ты или нет? — рычал лейтенант.
Тед увидел, как от большого дерева впереди отделилась легкая тень, и взял ее на мушку.
— Я здесь, О'Мэхори! — крикнул гангстер.
И снова Пат угодил в ловушку: услышав голос врага, он бросился напролом. Брайан с довольной улыбкой поднял револьвер и тщательно прицелился. Не споткнись ирландец о корень, пуля наверняка пробила бы ему грудь. К счастью, задетым оказалось лишь плечо, и Пат, покатившись на землю, начал стрелять в ту сторону, откуда прогремел выстрел. Уингфилд снова юркнул за дерево, выжидая, пока лейтенант израсходует весь магазин. Как только это произошло, он выскользнул из укрытия и уже собирался хладнокровно прикончить ирландца, как вдруг его окликнули:
— Уингфилд!
Убийца быстро обернулся, но Мелфорд выстрелил первым. Первая пуля помешала Уингфилду прицелиться, вторая убила на месте.
Убедившись, что бандит мертв, Мелфорд бросился к потерявшему сознание лейтенанту. Рана оказалась неопасной, и капитан быстро наложил временную повязку, потом взвалил ирландца на спину и не без труда дотащил до машины. По дороге О'Мэхори пришел в себя и с удивлением узнал шефа.
— Что случилось, капитан?
— У вас пуля в плече, а потому советую не шевелиться, иначе потеряете много крови.
— А Уингфилд?
— Мертв.
— Значит, я его достал-таки!
— Да.
— Куда вы меня везете?
— В больницу. Вашу жену я уже отправил туда, с ней дежурит Мэри.
— Вероятно, мне надо поблагодарить вас и за нее, и за себя?
— Пустяки… но в следующий раз постарайтесь не попадаться в такие детские ловушки, а то вряд ли доживете до седин.
В больнице Пата сразу отвезли в операционную, а Мелфорд пошел успокаивать Морин.
— Пат легко отделался. Пуля в плече. Будем надеяться, это его хоть на какое-то время угомонит.
— А кто тот, другой?
— Ну, он-то успокоился навеки.
Теперь, зная, что муж рядом и им обоим больше ничего не грозит, Морин сразу почувствовала себя лучше и уже не нуждалась в попечении Мэри. Мелфорды поехали домой. Уже оттуда капитан позвонил в управление и приказал отвезти тело Уингфилда в морг. А покончив с необходимыми формальностями, уснул сном праведника.
Рано утром Тед отправился к мэру рассказать о ночном приключении. Вместе с Теренсом Кэмденом они стали думать, как спасти ирландца от неминуемой мести Войддинга.
— О'Мэхори вел себя как последний дурак, и я вижу только один способ надежно обезопасить его хоть на несколько дней.
— И какой же?
Тед изложил Кэмдену свой план, и тот, немного поколебавшись, кивнул.
— Ладно… Делай, как считаешь нужным, Тед… Сейчас все это для тебя уже не имеет особого значения.
— Верно… Во всяком случае, я повидаюсь с Мэлом, попробую внушить ему кое-какие опасения и убедить не делать необдуманных шагов… Беда этих ребят в том, что они не умеют толком пораскинуть мозгами. Впрочем, нам это на руку.
К приходу Мелфорда Войддинг еще ничего не знал о ночных событиях и как раз обсуждал с Моской и Алландэйлом, куда мог запропаститься Брайан.
— По-моему, парня задела смерть его приятеля Сирвела, — говорил Чак. — Наверняка решил накачаться как следует и залить тоску… Представляю, с какой рожей он вернется…
Войддинг кипел от злости.
— Я его научу уходить с поста! А, капитан? Может, вы пришли сказать нам, что разыскали Уингфилда?
— Да.
— Кроме шуток? И где же он?
— В морге.
— Что?!
— Прошлой ночью Уингфилда убили в лесу Фороэкс.
— Дьявольщина! А какого черта его туда занесло?
— Брайан поджидал там лейтенанта О'Мэхори.
— Лейтенанта… это еще зачем?
— Хотел его пристрелить.
Мелфорд рассказал о стычке, произошедшей у Пата с Уингфилдом в управлении, потом о нападении Брайана на миссис О'Мэхори, которое тот устроил, чтобы заманить ирландца в лес. Войддинг постучал кулаком по лбу.
— Нет, это просто невозможно, чтобы меня окружали такие идиоты! Что им, мало Берта? Зачем искать еще новых врагов?
— Не понимаю, каким образом Брайан мог влипнуть, если это он ждал ирландца? — скептически заметил Чак.
Мелфорд улыбнулся.
— Видите ли, Чак, на каждого хитреца найдется другой, еще хитрее.
— Постарайтесь запомнить то, что сказал капитан, — буркнул Войддинг. — Нам придется подыскать новых людей, Моска. При таких темпах скоро я останусь один против милейшего братца и его банды.
Моска скрестил пальцы правой руки, отгоняя дурную судьбу, а главарь набросился на полицейского:
— Где лейтенант?
— В больнице. С пулей в плече.
— Разве униформа дает право убивать кого ни попадя, капитан?
— Нет, разве что в целях самозащиты.
— А кто может доказать, что лейтенант О'Мэхори защищался?
— Никто.
Мэл заговорщицки подмигнул:
— Надеюсь, мы поняли друг друга, Тед.
— Я тоже так думаю, Мэл.
— И может быть, мы наконец надолго избавимся от этого проклятого ирландца?
— Возможно.
— В таком случае, Уингфилд умер не зря, — подвел итог Войддинг.
Во второй половине дня Мелфорд поехал в больницу. Сначала он навестил Морин. Молодая женщина чувствовала себя уже гораздо лучше, а врач уверял, что на лице не останется никаких следов. Довольная Морин проводила Теда в комнату мужа. Но появление того, кто еще некоторое время должен был оставаться его шефом, явно не обрадовало О'Мэхори. Он подчеркнуто обращался только к жене, а та ласково пеняла мужу, что накануне он, не заботясь о ней, помчался искать Брайана Уингфилда.
— Даже не знаю, что бы со мной было без Теда, а уж ты-то точно истек бы кровью там, в лесу…
— Ладно-ладно… Согласен, я хам, а капитан — герой! И что дальше? Ты хочешь, чтобы я встал перед ним на колени и пел осанну?
— Пат! Простите, капитан, но… может, вам лучше сейчас уйти?
— Разумеется, но после того, как я выполню свой долг.
— Долг?
— Я пришел сюда официально, лейтенант. Должен сообщить вам, что вас переправят в тюремную больницу.
— В тюремную… Это еще почему?
— Вы подозреваетесь в преднамеренном убийстве Брайана Уингфилда.
— Но, послушайте, это же он…
— Вы поехали в лес Фороэкс в неслужебное время, как частное лицо, и застрелили Уингфилда из личной мести.
— Но ведь после того, что он сделал с Морин…
— Следовало подать иск. Разве вы не знаете, что никто не имеет права вершить правосудие самостоятельно?
— Вы отвратительны, Мелфорд.
— Только потому, что я вам напоминаю о законе?
— Нет, потому, что именно у вас хватает наглости это делать! Что ж, лучше отомстить за честь жены, чем набивать карманы грязной монетой! Пускай меня посадят в тюрьму, но, по справедливости, это вас следовало бы туда отправить!
— Некогда нам сейчас философствовать, лейтенант. Собирайте вещи. Через два-три часа за вами приедут, а вас, Морин, отвезут домой.
— Нет уж, я сама доберусь — не желаю больше ничем быть вам обязанной, капитан!
В тот же вечер, около девяти часов, Тед позвонил Войддингу.
— Алло, Мэл? Мы только что разыскали, где прячутся Берт с дружками.
— Не может быть!
— Честное слово. На крошечной заброшенной ферме в двух милях к югу от Стоктона.
— И что вы предлагаете?
— По-моему, нам надо нанести визит.
— Согласен. Едем все вместе?
— Разумеется. В полночь я заеду за вами на своей машине.
— Мы хорошо подготовимся!
В полночь Мэл Войддинг, Макс Моска и Чак Алландэйл забрались в полицейскую машину, за рулем которой сидел капитан Мелфорд. По спящему Стоктону они ехали в глубоком молчании — каждый чувствовал серьезность момента и внутренне готовился к решительной схватке между двумя братьями, отлично отдавая себе отчет, что наверняка не все они смогут вернуться обратно. Гангстеры искоса поглядывали друг на друга, словно пытаясь угадать, кто именно останется на поле боя.
По выезде из Стоктона Тед поехал быстрее, но очень скоро затормозил и остановил машину.
— Осторожности ради дальше надо идти пешком. Лучше не оповещать вашего брата, что мы недалеко.
Они гуськом двинулись вперед. Первым шел Мелфорд с револьвером в руке, за ним Алландэйл с автоматом, потом Войддинг, вооруженный так же, как и капитан, а замыкал шествие Моска с карабином.
Через несколько минут Тед остановился и указал на приземистый домик, смутно видневшийся в неверном свете звезд. Следом за полицейским все ползком подобрались поближе. Толстяк Войддинг с трудом переводил дух.
В сотне метров от дома они замерли, во все глаза глядя на жалкую хибарку. Ни в одном из окон свет не горел.
— Ну, что будем делать? — наконец спросил Мэл.
Тед явно колебался.
— Трудно сказать… Ничто не доказывает, что за нами не следят… Если это так и есть, а мы очертя голову бросимся на приступ, нас перестреляют, как кроликов.
— Давайте я попробую, — предложил Чак. — Приготовьтесь стрелять, как только хоть одно окошко откроется… А в случае удачи я дважды просигналю фонариком. Тогда можете спокойно идти дальше. Но без спешки…
Все согласились, что это разумно, и Алландэйл пошел на разведку. Мелфорд взял автомат Чака и прицелился в правое окно, а Моска взял на мушку левое. Казалось, время остановилось. Неожиданно впереди дважды мигнул огонек, и они, стараясь как можно меньше шуметь, побежали к дому.
Алландэйл ждал, прижавшись к стене у самой двери.
— Ш-ш-ш! Ни звука, — прошептал он.
Незапертая дверь открылась с таким скрипом, что гангстеры снова отпрянули. Но ничего не произошло, и они опять двинулись вперед. А еще через десять минут Мэлу и его подручным пришлось с досадой признать, что птички улетели.
— Должно быть, их кто-то предупредил, — заметил капитан.
— Да кто же, черт возьми, мог это сделать? — разозлился Войддинг.
— Вы, кажется, запамятовали, Мэл, что Берт предупредил меня насчет какого-то союзника среди наших?
Слова Мелфорда подействовали, как ледяной душ, и все инстинктивно отпрянули друг от друга, держа пальцы на курке. Некоторое время стояла мучительная, напряженная тишина.
— Ладно, — проворчал Мэл вдруг изменившимся голосом. — Нам остается только ехать обратно…
Они снова побрели к машине.
— Моим людям очень трудно разузнавать о Берте и его дружках, — внезапно сказал полицейский. — Униформа не очень-то располагает к болтовне. Здесь нужна женщина… Она могла бы проникнуть туда, где нам путь закрыт… Как жаль, что мисс Грефтон уехала, а Пэ-Пэ вы прикончили, Чак!
— Сукин сын! Так это ты, да? Подонок! Убивать женщин — вот все, на что ты годишься, трус несчастный! Тоже мне супермен — гроза беззащитных девчонок! Но от меня ты не уйдешь! Слышишь? Я убью тебя!
Алландэйл взмахнул кулаком, и Макс рухнул.
— Да заткнешься ты или нет, грязный итальяшка!
— Вы что, не могли попридержать язык? — в ярости набросился на капитана Войддинг.
— Простите, я как-то не подумал.
— Очень остроумно!
Тем временем Чак приподнял Моску с земли и ударил еще раз.
— Хватит, Чак, пошли! — крикнул Войддинг. — Оставь его!
Алландэйл с сожалением бросил жертву и вернулся к хозяину.
— Он мне действует на нервы, этот недоносок!
— Ладно, дома разберемся!
Но карабин Моски положил конец спору в тот же миг. Сплевывая кровь, Макс с трудом поднялся на колени и, почти не целясь, навел дуло на широкую спину Алландэйла. А потом выпустил всю обойму. Чак, как громом пораженный, рухнул наземь.
Глава VII
Не видя иного выхода, Чака там и оставили. Возвращение в «Эксцельсиор» было ужасным! У Макса началась нервная реакция, и всю дорогу он плакал. Он немного жалел, что поддался жажде убийства, но в глубине души испытывал и некоторое удовлетворение — все же он отомстил за Пэ-Пэ. Однако будущее ничего хорошего не сулило. Как поступит Войддинг? Утешало только то, что хозяину теперь больше не на кого положиться, кроме него, Макса. Насчет Мелфорда Моска не питал никаких иллюзий — в подходящий момент тот, как пить дать, переметнется.
Когда они наконец снова оказались в кабинете Войддинга, тот пустил по кругу бутылку виски. Все трое чертовски нуждались в таком лекарстве.
— Надо думать, ты очень гордишься собой, Макс?
— Не сказал бы…
— Ты убил Чака… Чака, который не имел ни малейшего отношения к смерти Пэ-Пэ… Ее убил Сирвел. Так что ты совершил бессмысленное убийство, а, как тебе известно, в нашем деле такие вещи не прощаются. Из-за тебя мне придется искать новых людей — иначе нам с Бертом не совладать. Что мы можем сделать вдвоем против трех убийц, а?
— Простите меня, босс… Если бы он не ударил меня и не оскорбил…
— Но ты же сам обвинил Чака в преступлении, которого он не совершал!
— Это не я, а капитан!
Теперь Войддинг набросился на Теда:
— А вас какая муха укусила?
— Я не сомневался, что Пэ-Пэ убил Чак, и это всем известно… Кто ж мог ждать от Моски такой реакции? Наша неудача меня расстроила, и я тем более злился на Алландэйла, думая, что это он лишил нас очень ценного агента… Ведь Пэ-Пэ нам бы сейчас ой как пригодилась! Потому-то я и ляпнул, не подумав… ну, и теперь раскаиваюсь… чертовски раскаиваюсь… Смерть Чака еще больше осложняет и так не блестящее положение, верно? Два новых трупа всего-навсего за сутки! Страшно подумать, как воспримет это муниципалитет!.. Вероятно, меня уже к вечеру выгонят с работы…
Моска стонал и бил себя кулаком в грудь. Войддинг, которому осточертело это зрелище, отправил его спать. Избавившись от Макса, он презрительно сплюнул.
— Терпеть не могу этих олухов с их вечными истериками!
— Зато они чаще всего прирожденные актеры.
Войддинг подозрительно уставился на полицейского:
— Что вы имеете в виду?
— Всего-навсего, что никакой шум не убедит меня в искренности Моски.
— А какого черта ему понадобилось бы ломать комедию?
— Чтобы мы поверили, будто он застрелил Чака под горячую руку, не думая о последствиях.
— А вы ему не верите?
— Даже не знаю…
— Да объяснитесь же, черт возьми!
— Видите ли, Мэл, — немного поколебавшись, начал капитан, — я не могу отделаться от мысли, что, будь Макс предателем, о котором говорил Берт, он действовал бы точно так же… Можно почти не сомневаться, что это он застрелил Тоналу, оберегая себя от судебных преследований… А если признать, что он просто воспользовался неосторожно предоставленным мной случаем и убил Чака, то почему бы не предположить, что Сирвела отправил к праотцам тоже Моска?
— Но почему? Зачем?
— Чтобы доказать свои способности и преданность Берту.
— Стервец! Будь я в этом уверен…
— В том-то вся его ловкость! Мы никогда не сможем проверить, так это или не так… По-моему, вы недооценили Макса Моску, Мэл.
— И что же вы мне посоветуете?
— Не знаю… Разве что, оставаясь с ним наедине, держите ухо востро. Будьте осторожны, Войддинг… Следите за каждым движением и, если заметите, что он тянется к кобуре, постарайтесь выстрелить первым.
Войддинг глубоко задумался.
— А вы не преувеличиваете? — вдруг спросил он.
— Вы так думаете, Мэл? Тогда скажите мне, почему Берт до сих пор не перешел к решительным действиям? И если вы сумеете найти лучшее объяснение, чем уверенность, что Моска сделает за него всю черновую работу, я готов заплатить вам пятьсот долларов!
После того как какой-то водитель нашел на обочине дороги труп Чака Алландэйла, в кабинете мэра все время толпились люди. Советники муниципалитета требовали, чтобы Теренс Кэмден предпринял решительные меры, иначе на ближайших выборах все нынешнее правительство города потерпит сокрушительное поражение. Один из джентльменов настаивал на необходимости прибегнуть к помощи ФБР, другой громко удивлялся, что единственный толковый полицейский в городе сидит за решеткой.
— Между прочим, Кэмден, кто приказал отправить его в тюрьму?
— Капитан Мелфорд.
— Ну, это уж слишком!
— Он поступил так с моего ведома и одобрения.
— Ну, знаете! Всем известно, Теренс, во что превратился Тед Мелфорд, и вы помогаете избавиться от единственного человека, который мешал капитану с дружками обирать город? Вы с ума сошли или что?
— О'Мэхори, конечно, сцепился с бандитом, тут никто не спорит, но действовал он как частное лицо и при этом совершил убийство.
— Мы знаем, чем вызван поступок лейтенанта, и каждый порядочный человек его оправдывает! Ни один судья не вынесет обвинительного приговора.
— А кто говорит, что я этого добиваюсь, Билл?
— Так выпустите парня и велите Мелфорду сегодня же убираться из полиции! Чем скорее этот тип покинет пределы Стоктона, тем быстрее мы покончим с гангстерами.
— Ладно. Я подпишу необходимые распоряжения.
— Мы на это очень рассчитываем, Теренс, иначе нам придется публично заявить о несогласии с вашей политикой.
Не успели муниципальные советники покинуть кабинет, как туда с шумом ворвался судебно-медицинский эксперт Эл Шерри.
— Теренс! Как давно мы знакомы?
— Да, пожалуй, лет сорок.
— А сколько лет дружим?
— Почитай что с первой встречи.
— Превосходно! Так вот, во имя этой дружбы я прошу четко и ясно сказать, что я тебе сделал!
— Не понимаю.
— Ну, признайся, за что ты меня преследуешь?
— Я — тебя?
— Да! А как еще это можно назвать? Ты отлично знаешь, что у меня слабое здоровье, что мой возраст требует хоть мало-мальски щадящего режима (уж это-то ты должен признать, поскольку мы ровесники!), и тем не менее вот уже несколько дней так и заваливаешь меня работой! Если это не преследование, не изощренный садизм, то что?
— И ты туда же!
— Куда именно?
— Послушай, Эл, во-первых, твое здоровье не оставляет желать лучшего, а если ты перестанешь пьянствовать, будешь чувствовать себя совсем замечательно. Во-вторых, ты всегда был занудой и надоедой, так что у меня нет никаких надежд, будто на старости лет твой характер стал хоть капельку лучше. И, наконец, признай, чертов ты упрямец, что это все же не я прикончил твоих клиентов! Так или нет?
— Если оставить в стороне клеветнические измышления насчет моего характера и мнимой невоздержанности, я все же готов выписать свидетельство, что убийцей ты пока еще не стал.
— Но это сейчас же случится, Эл Шерри, если ты не перестанешь меня изводить! Ты уже достаточно навскрывался несчастных за свою извращенную жизнь, чтобы заслуженно попасть под скальпель!
— В этом лучезарном будущем меня удручает только одно: если ты отправишь меня на тот свет, я уже не увижу, как ты поджариваешься на электрическом стуле, убийца!
— Оставь меня в покое, Эл! У меня сейчас и так забот через край, не хватало только тебя…
— Ну, раз так, я ухожу… И ты даже не предложишь мне стаканчик?
— Нет.
— Здорово ты изменился, Теренс, — вздохнул врач.
— Все из-за таких, как ты!
— Я вынужден с грустью констатировать, что у тебя отвратное настроение. Надеюсь, это не печень?
— Нет.
— Хочешь, я тебя обследую?
— Я не хочу, чтобы меня убили даже на законных основаниях.
— Воля твоя.
Наступило недолгое молчание.
— Теренс… А почему ты наперекор всем и всему защищаешь Теда Мелфорда? — вдруг вкрадчиво осведомился Эл Шерри.
— Сегодня он уйдет из полиции.
— Но ты ведь давным-давно должен был выгнать его, разве не так?
— А тебе какое дело?
— Представь себе, я тоже житель Стоктона!
— Жители Стоктона действуют мне на нервы, Эл. И, можешь поверить, на будущий год я расстанусь с ними без всяких сожалений.
— Вот лгун… Теренс, ты всегда был прямым, честным, порядочным…
— Ладно, заткни фонтан!
— …так почему же, вопреки закону и здравому смыслу, ты так долго покрывал Теда Мелфорда? Ты ведь не можешь не знать, что он последняя сволочь?
— Причины касаются меня одного.
— Боюсь, как бы в один прекрасный день ими не заинтересовались другие…
— Что ж, тогда я во всем дам отчет. А теперь не мешай мне работать.
Как только Эл Шерри ушел, мэр вызвал первого помощника.
— Оправляйтесь в тюрьму, Билли, и скажите директору, чтобы он немедленно освободил капитана О'Мэхори.
— Капитана?..
Теренс вытащил из папки листок бумаги.
— Вот назначение… Передайте приказ О'Мэхори. Это его немного успокоит…
— Хорошо, Теренс… По-моему, это очень мудрое решение. О'Мэхори не больно умен, но, я думаю, он сумеет внушить всем уважение к закону.
— Не сомневаюсь.
— К тому же он по крайней мере честный человек.
— А вы уже забыли, что Мелфорд был таким же, Билл?
— Во всяком случае, он заставил меня забыть об этом.
— Я намного старше вас, Билл, и, может, поэтому ничего не забываю… Жить без памяти — слишком легко.
— Просто вы сентиментальны, Теренс.
— Надо, чтоб и таких осталось несколько экземпляров, хотя бы в виде образчика… а то в нынешнее время люди совсем разучились смотреть чуть дальше своего носа. До свидания, Билл… И поздравьте от меня капитана О'Мэхори.
На пороге помощник обернулся:
— Забыл вас предупредить, Теренс, — отставной капитан Мелфорд ждет в приемной.
— Осторожнее, Билл! Пока Мелфорд не вышел из этого кабинета, он все еще капитан. Прошу вас, передайте, что я его жду.
Не прошло и минуты, как к мэру вошел Мелфорд.
— Вы меня вызывали, Теренс?
— Да… садись, Тед. Положение изменилось несколько быстрее, чем я тебе обещал…
— То есть?
— Я только что отправил назначение Пату и просил заменить тебя уже с сегодняшнего дня.
— Плюс-минус сорок восемь часов мало что меняют… Ну что ж, ладно, поеду в управление собирать вещи… Я пришлю вам одно досье и попрошу спрятать его хорошенько. Вы или ваш преемник откроете его в тот день, когда узнаете о моей смерти. Согласны?
— Ладно. Но что за досье?
— Там я объясняю самым подробным образом, как я стал тем, кем стал.
— И что ты собираешься делать теперь?
— Мэри хочет, чтобы мы поехали жить к ее родителям.
— По-моему, неплохая мысль.
— Конечно… К несчастью, Теренс, я так долго прослужил в полиции, что, боюсь, ни на что другое не годен. Даже не знаю, смогу ли заработать семье на кусок хлеба… А впрочем, я застраховал жизнь на немалую сумму… интересно только, чем буду платить взносы…
— Я навещу вас с Мэри, прежде чем вы уедете из Стоктона.
— Наверняка, кроме вас и Флойда Шерпо, никто не придет… Но мы будем рады вам, и имейте в виду: если захочется съездить куда-нибудь в отпуск, наш дом всегда открыт.
— Я не забуду об этом, Тед… От меня вам так просто не избавиться!
Оба попытались рассмеяться, но не смогли.
Из мэрии капитан поехал в управление и сразу вызвал к себе Лью Мартина.
— Лью, сегодня я ухожу отсюда… точнее говоря, я уже в отставке и не имею права давать вам приказы… А поэтому просто прошу оказать мне услугу. Вот досье. Сейчас я добавлю кое-что, и вы тут же отнесете его мэру. Он ждет. Согласны?
— Можете на меня рассчитывать, кап… мистер Мелфорд.
— Спасибо, Лью.
Лью Мартин вернулся в приемную. Он знал, что капитан Мелфорд вел себя дурно и его уход оздоровит климат в полиции Стоктона. И однако он не мог отделаться от смутного сожаления… За долгие годы, что они проработали вместе, Тед стал почти другом, а Пату О'Мэхори, при всех его достоинствах, никогда не подняться до уровня своего предшественника.
К полудню Мелфорд закончил писать. Он сунул последние листки в большой пергаментный конверт и запечатал его красным воском, потом надписал имя мэра и позвал Лью Мартина. Полицейский ушел выполнять последнее поручение Теда, а бывший капитан стал собирать в небольшой чемоданчик кое-какие личные мелочи. За этим занятием его и застал Пат О'Мэхори. Рука его все еще висела на перевязи. Мелфорд с улыбкой выпрямился.
— Позвольте поздравить вас с вполне заслуженным повышением…
— Незачем.
— …и простите, что я все еще в форме. У меня просто физически не хватило времени заехать домой переодеться. Через несколько минут я уступлю вам место.
— Вот что, Мелфорд, пока мы тут вдвоем, в последний раз предупреждаю и хочу, чтоб вы меня поняли: как только вы переступите порог управления с этим чемоданом в руке, для меня вы станете самым обычным гражданином Стоктона.
— Не беспокойтесь, я смотрю на это точно так же.
— И впредь каждое ваше движение будет рассматриваться с точки зрения закона… как если бы вы звались, скажем, мистером Смитом… И не стану скрывать: я твердо намерен покончить с Мэлом Войддингом, Максом Моской и с вами, раз уж вы их выбрали себе в приятели.
— Благодарю за предупреждение.
— Вы пытались подстроить, чтобы меня судили за убийство. Этого я вам никогда не прощу.
— Могу я позволить себе в последний раз повторить вам добрый совет? Научитесь хоть немного работать головой.
— Продолжайте в том же тоне — и я арестую вас за оскорбление полицейского.
Мелфорд смерил Пата долгим взглядом, пожал плечами и, подхватив чемоданчик, вышел в приемную. Там собрались Илкли, Зигбург и Мартин, много лет проработавшие с ним бок о бок.
— Прощайте, ребята, и… удачи вам!
— Удачи и вам, капитан! — в один голос ответили все трое.
И каждый счел своим долгом крепко пожать Мелфорду руку. С порога своего нового кабинета О'Мэхори, не скрывая раздражения, наблюдал за этой сценой. Как только Тед ушел, он набросился на Лью.
— Вам не совестно пожимать руку такому типу?
Мартин уже не надеялся на повышение, а потому не стеснялся говорить откровенно.
— Мы слишком маленькие люди, капитан, чтобы позволить себе неблагодарность, — сказал он, глядя начальнику в глаза.
Как ни парадоксально, в доме человека, только что потерявшего работу, обед прошел гораздо веселее, чем у его более удачливого коллеги, получившего повышение.
Мэри Мелфорд, радуясь, что уезжает из города, где в последнее время не видела и не слышала ничего, кроме унижений и оскорблений, нисколько не беспокоилась о будущем. Им, конечно, станет гораздо труднее материально, зато какое облегчение для души! А миссис Мелфорд очень нуждалась в отдыхе. Джойс тоже была счастлива, что оставляет школу и больше никто не будет над ней издеваться.
Зато у О'Мэхори царило странное напряжение. Пат все никак не мог переварить замечание Лью. Разумеется, он тоже многим обязан Теду Мелфорду — тот здорово помогал ему на первых порах. И это благодаря ему О'Мэхори так быстро стал лейтенантом. Пат тщетно перебирал в уме все причины ненавидеть эту продажную шкуру Мелфорда, но урок, преподанный Лью Мартином, крепко засел в голове. Что до Морин, то, поскольку повышение мужа сопровождалось отставкой Теда и отъездом Мэри, она испытывала куда меньшее удовольствие, чем было бы при других обстоятельствах. Непонятно почему, Морин казалось, что они с мужем совершают что-то очень дурное.
Ближе к вечеру, когда капитан О'Мэхори сидел за столом в своем новом кабинете, позвонил Мэл Войддинг. Пат сразу же воспринял это как личное оскорбление.
— Капитан О'Мэхори слушает!
— А, значит, вам уже удалось сесть на место Теда?
У ирландца немедленно закипела кровь.
— Что мне удалось или не удалось, не касается такого подлого гангстера, как вы, Войддинг!
— Что, взыграл характер уроженца зеленого Эрина, а?
— Я вас уничтожу, Войддинг, слышите, уничтожу!
— Оставим наивным их иллюзии.
Пат так швырнул трубку, что чуть не разбил аппарат. Несколько минут он отчаянно ругался, молотил кулаками по столу и просил святых Коломбана и Патрика помочь ему извести Мэла Войддинга, потом позвонил Мелфорду домой, но Мэри ответила, что ее муж, скорее всего, у Флойда Шерпо. Даже не попрощавшись с миссис Мелфорд, Пат нахлобучил фуражку и побежал в бар «Среди добрых друзей». Уж он им подпортит дружескую пирушку, будьте уверены!
— Ох, намучаемся мы еще с этим ирландцем, — заметил Лью Мартин, глядя ему вслед.
Тед и Флойд спокойно разговаривали в пустынном в такой ранний час баре. Рядом с Мелфордом стояла бутылка, помеченная его именем. О'Мэхори пулей влетел в бар и подскочил к Теду.
— Ваш дружок Войддинг позволил себе звонить в управление! Вероятно, он не знал о переменах и собирался дать вам указания? Во всяком случае, я ему высказал все, что об этом думаю. А вам советую впредь вести такого рода беседы по домашнему телефону. Понятно?
Мелфорд окинул ирландца мутным взглядом пьяницы и, не говоря ни слова, нетвердым шагом побрел к двери. Но он не успел уйти достаточно быстро, чтобы не услышать, как новый капитан прокричал вслед:
— Вы только поглядите, Флойд! Ну не обидно ли, что такая тряпка управляла стоктонской полицией!
Дверь закрылась, а бармен холодно отчеканил:
— Моя фамилия Шерпо, капитан, и прошу вас это запомнить. По имени меня называют только друзья, а вы — не из их числа.
— Вы меня ненавидите, да?
— Я не испытываю ненависти к дуракам, капитан, я их жалею.
— Попридержите язык!
— Здесь я у себя дома и разговариваю так, как мне нравится.
— Не забудьте, Шерпо, я в любую минуту могу прикрыть вашу лавочку.
— Мало вам, видать, что заняли место Мелфорда, хотите еще отравить жизнь его друзьям?
Пат побагровел. Вне себя от ярости, он схватил бутылку, оставленную Тедом. Флойд, решив, что сейчас получит по голове, отступил. Однако новоявленный капитан лишь хотел промочить горло и избавиться от душившей его ярости. Но почти тут же он с отвращением сплюнул.
— Черт возьми! Да это же вода!
Флойд пристально посмотрел на него.
— Да, капитан, обычная вода, — очень серьезно проговорил он.
— Но я не понимаю…
— Вот новость-то! Вы никогда ничего не понимаете.
— Вода… он пил воду… и делал вид, будто мертвецки пьян… Выходит, так? — ошалело бормотал О'Мэхори.
— Совершенно верно.
— Но зачем?
— У Теда были на то сугубо личные причины, и не мне их объяснять. Можете спросить у мэра. Он тоже в курсе… Но могу вам точно сказать одно, капитан: вы и в подметки не годитесь Теду Мелфорду, а попробуете утверждать обратное, при всей вашей силе я еще вполне способен устроить вам такую трепку, которая, быть может, поставит на место ваши мозги!
Мэл с наслаждением разглядывал бабочек. Это занятие всегда успокаивало его и проясняло мысли. Гангстер пытался убедить себя, что Берт немного побаивается. Иначе почему он и носа не кажет? А может, он рассчитывает, что Моска избавит его от старшего брата… Чувство ненависти и страха на мгновение нарушило зыбкий покой Войддинга. Он погладил рукоять револьвера, теперь всегда лежавшего на столе. Мэл с восхищением разглядывал «Большой переменчивый Марс», и пестрые цвета, переливчатые краски, не потускневшие даже после смерти, ласкали его душу. Черная оборка по краю крыльев, два карманных «глазка» и белые пятна, разбросанные по лиловому полю, так украшали маленькое насекомое, что оно превращалось в произведение искусства. Внезапный шум у двери, торопливый звук шагов нарушили грезы Войддинга. Он инстинктивно схватил револьвер и прицелился. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился Макс. Казалось, он явно не в себе. Войддинг поежился от страха.
— Это вам, босс! — крикнул Моска и быстро сунул руку за пазуху.
Войддинг выстрелил первым. Макс широко открыл удивленные глаза. Он попытался было что-то сказать, но не смог и ничком рухнул на пол. Звук падения мертвого тела показался убийце отвратительным.
Но прежде чем Войддинг успел встать из-за стола, вошел одетый в штатское Тед Мелфорд и склонился над телом. Он перевернул Макса, пощупал пульс и спокойно заметил:
— Вы его прикончили, Мэл.
— Это он хотел меня застрелить!
— Из чего?
— Как это?
— Я забрал у него револьвер внизу, когда мы только встретились.
— Зачем же Макс полез за пазуху?
Мелфорд расстегнул пиджак Моски и вытащил из внутреннего кармана газету «Чикаго трибюн».
— Я думаю, просто-напросто хотел показать вам газету.
Мэл удивленно взял из рук полицейского номер «Чикаго трибюн».
— Откуда ж я мог знать… Газета десятидневной давности… С чего он взял, будто мне это интересно?..
— Понятия не имею.
Войддинг быстро просмотрел несколько страниц, пока не наткнулся на заметку, отчеркнутую красным карандашом.
— «Чикаго. Двадцать седьмое мая, — стал он читать вслух. — Неудачная попытка налета. Вчера два гангстера, хорошо известных полицейским службам, Сэм Мервейн из Сент-Луиса и Тони Альтамиро из Пасадены, попытались напасть на фургон, перевозивший зарплату рабочих завода «Крэкет». Но полиция получила предупреждение, и, когда бандиты приказали шоферу остановиться, их ждал неприятный сюрприз — из фургона выскочили полицейские с автоматами. Впрочем, долго удивляться налетчикам не пришлось — оба они были застрелены на месте».
Мэл посмотрел на Теда.
— Что это значит? Вы же ездили за ними в Мелвин Рок тридцатого числа…
Прежде чем ответить, Мелфорд сунул в карман пистолет Войддинга.
— Это значит, Мэл, что я и в глаза не видел ни Сэма, ни Тони.
— Но вы же говорили…
— В ваших кругах обычно не слишком доверяют словам. Так ведь?
— Сволочь! А Берт?
— Его, как мы и договаривались, я забрал в Мелвин Рок.
— Так где же он?
— В Лэкморе… это небольшой лесок на севере от города.
— В лесочке на… — ошарашенно повторил Войддинг. — Но что он там делает, черт возьми?!
— Крепко спит, Мэл.
— Вы хотите сказать, что вы его…
Тед невесело рассмеялся.
— Видали б вы физиономию своего брата, Мэл, когда я сказал ему, что девушка, которую он нарочно задавил год назад, моя дочь. Берт не был настоящим мужчиной, Войддинг… нет, жалкий трус и убийца. Я заставил его вылезти из машины и копать. Ваш брат послушно вырыл себе могилу, ползал на коленях и умолял. Мне стало так противно, что я застрелил его без всяких угрызений совести.
— Подлец! А потом разыграли комедию, убеждая нас в злобе и тщеславии Берта!
— Отличное прикрытие! Оно помогло мне без хлопот убить Сирвела.
— Так это вы его…
— Ловко задумано,
а? Особенно с судьей. Только вы могли поверить в его предательство… И все получилось замечательно: Сирвел прикончил судью, а Берт — Сирвела. Безукоризненно. Комар носа не подточит. С остальными было посложнее…
— С остальными?
— Я очень любил старого Джорджа Росли. Тонала избил его до смерти… Пришлось разделаться с Тоналой.
— Вы?!
— Ну да, а вам внушил подозрения, будто это сделал Макс. И лишь наивный простачок вроде О'Мэхори может подумать, будто это он отправил на тот свет Уингфилда.
— Опять ваша работа?
— Разумеется. Уингфилд омерзительно обошелся с молодой женщиной, которую я бесконечно уважаю, — Морин О'Мэхори.
— Значит, вы нарочно при Максе обвинили Чака в убийстве Пэ-Пэ?
— Естественно. Я достаточно хорошо знал обоих и не сомневался в исходе.
— А у Моски вы отобрали внизу револьвер, рассчитывая, что я не доверяю ему и выстрелю первым?
— Разве я не настроил вас на этот лад?
— Мелфорд, вы последняя сволочь!
— Забавно — по обе стороны баррикад ко мне питают одинаковые чувства. Но, как бы то ни было, а ваша банда уничтожена, Войддинг.
— Остается только убить меня.
— Может, это и не понадобится…
— А?
— Но уж Стоктон-то вам придется покинуть немедленно, иначе я позвоню О'Мэхори, и он вас арестует. Преднамеренное убийство попахивает электрическим стулом, Мэл.
Войддинг пристально посмотрел на Теда:
— Сколько?
— Десять тысяч.
— Это все, что у меня есть.
— В первую очередь у вас нет выбора, старина. Добавлю еще, что мне нужна ваша коллекция бабочек для стоктонского музея.
Немного поколебавшись, Войддинг кивнул.
— На кой черт мне теперь бабочки…
Он подошел к сейфу, выгреб оттуда все деньги и швырнул Мелфорду. Тот меланхолично сунул их в карман.
— А дальше что?
— Напишите записку, что в возмещение ущерба вы дарите свою коллекцию городу.
— Ладно. — Он подписал бумагу и неуверенно проговорил: — Раз уж вы взяли на себя руководство…
— Мы уезжаем.
— Куда?
— А куда хотите. Мелвин Рок подойдет?
— Вполне.
Когда О'Мэхори явился в мэрию требовать объяснений у Кэмдена, ему сообщили, что тот заседает с муниципальным советом. Но такого темпераментного парня, как наш ирландец, подобная мелочь остановить не могла. Без лишних церемоний он распахнул дверь кабинета мэра и вошел. Все удивленно обернулись.
— Господин мэр, я должен незамедлительно сообщить вам об одной странности, касающейся Теда Мелфорда… Вопреки тому, что мы все думали, он отнюдь не пьяница!
О'Мэхори рассказал о сцене, происшедшей в баре Флойда Шерпо.
— А мэр Стоктона, как мне сказали, обо всем этом знал, — подвел он итог.
Теренс окинул советников взглядом.
— Это правда.
Первый помощник мэра вскочил на ноги.
— Не кажется ли вам, что пришло время объясниться, Кэмден?
— Что ж, сейчас я вам все объясню, а потом подпишу прошение об отставке, поскольку несу всю полноту ответственности за решение, принятое мною без вашего ведома, джентльмены. Однако прежде всего хочу заявить, что даже при огромном уважении к занимаемому мной посту отставка будет для меня не так уж тягостна, ибо я имею честь уйти вместе с таким человеком, как Тед Мелфорд.
Пат О'Мэхори опустился на предложенный ему стул, раздумывая, уж не вел ли он себя, как последний болван…
— Все вы знаете, господа, каким человеком был Тед Мелфорд до того, как прикинулся тем, за что вы его принимали в последнее время.
Советники смущенно переглянулись.
— Тед боролся с Войддингом и его бандой, но наши законы таковы, что с мерзавцами, которых поддерживают судьи и адвокаты, собаку съевшие на юридических тонкостях, практически невозможно ничего поделать. Тед все же ужасно мешал Войддингу, и тот решил его проучить. Он вызвал из Огайо своего брата Берта, и этот последний намеренно (хотя нам и не удалось это доказать) задавил Лилиан Мелфорд, а потом вернулся в свой штат. На следующий день после этого гнусного преступления Тед пришел ко мне и сказал: «Теренс, нам ни за что не справиться с негодяями законным путем. Их можно уничтожить только изнутри. Я готов потерять все: дружбу, уважение, доверие жены и даже честь, лишь бы вылечить Стоктон от этой проказы… Никто, кроме вас и моего однополчанина Флойда Шерпо, ни о чем не узнает… Прошу вас сохранить тайну». Как вы догадываетесь, я пытался отговорить Теда от этой затеи, но он любил Стоктон больше всего на свете… А в благодарность каждый житель этого города, поверив, будто Мелфорд продался Войддингу, считал его последней дрянью! С помощью Флойда Тед изображал пьяницу, а сам, пока все думали, будто он накачивается виски в отдельной комнате, выходил с черного хода и боролся с гангстерами.
— А что вы подразумеваете под словом «боролся», Теренс? — спросил первый помощник.
— Тед сражался с бандитами их собственным оружием. Джимми Тонала убил Джорджа Росли, а мы ничего не могли доказать. Тед Мелфорд застрелил Джимми Тоналу…
Это заявление глубоко потрясло слушателей.
— Но он же совершил убийство! — воскликнул Билл.
— А как вы назовете способ, которым Тонала избавился от Росли? Тед Мелфорд прикончил также Эла Сирвела, убийцу судьи Хэппингтона, и Брайана Уингфилда, собиравшегося добить лейтенанта О'Мэхори, — благо тот сам полез в капкан. Кстати, Пат, я хочу, чтобы вы знали: Тед усадил вас в тюрьму исключительно предосторожности ради. Он знал, что Мэл Войддинг жаждет вашей крови… По-моему, в тот день Мелфорд дважды спас вам жизнь.
Какое-то время все молчали, наконец кто-то из советников возмущенно заметил:
— Все, что вы нам тут рассказываете, Тед, при большом желании можно понять и даже оправдать… Однако же Мелфорд брал у Войддинга деньги?
Мэр вытащил из кармана небольшой блокнотик.
— С тех пор как Тед вступил в контакт с Войддингом и его бандой, он получил ровно семь тысяч триста пятьдесят долларов.
— Откуда вы знаете?
— Я сам переслал эти деньги в полицейский сиротский приют.
Мелфорд и Войддинг отъехали уже довольно далеко от города, как вдруг бывший полицейский свернул направо, на еле заметную тропинку.
— Что на вас нашло? — забеспокоился бандит.
— Мэл… вы когда-нибудь думали, что должна была чувствовать моя девочка, увидев, как на нее летит машина вашего братца?
— Я не понимаю, о чем вы…
— Напротив, отлично понимаете, Мэл, поскольку это вы приказали убить ни в чем не повинного ребенка…
— И что дальше? Я ведь вам заплатил, разве нет?
— Недостаточно, Мэл, недостаточно.
— И что это значит?
Тед остановил машину.
— Вылезайте!
— Что?
— Вылезайте!
— Но…
Мелфорд выхватил пистолет.
— Вы так хотите умереть у меня в машине?
Дрожа от злобы и страха, Войддинг выбрался из автомобиля.
— А что теперь?
— Я хочу, чтобы вы на собственной шкуре испытали такой же ужас, как и Лилиан… А ну, встаньте перед машиной!
— Вы с ума сошли?
Однако Войддинг послушался, не веря, что Мелфорд отважится исполнить угрозу. Но Мелфорд отважился.
И началась кошмарная игра. Войддинг в полной панике метался во все стороны, а машина неумолимо следовала за ним — Тед не случайно выбрал очень ровное место. Теперь он мог преследовать истинного убийцу дочери, куда бы тот ни побежал — направо, налево, прямо… Каждый раз, чувствуя, что Войддинг сейчас упадет, Мелфорд тормозил и останавливал машину в нескольких сантиметрах от задыхающегося, сломленного человека.
— Тед… пожалейте… Тед…
— А вы пожалели Лилиан? А ну, встать! Не то раздавлю, как мокрицу!
И Войддинг продолжал метаться перед колесами машины мстителя, пытаясь убежать от смерти и не веря, что это возможно.
В очередной раз свалившись на землю, Мэл вдруг почувствовал, как в ребра с левой стороны что-то вдавилось. Он сунул мокрую, дрожащую руку под куртку и нащупал маленький револьвер, который незаметно для Мелфорда достал из сейфа. Надежда прибавила гангстеру сил. Он встал на ноги и сломя голову помчался вперед, думая выиграть немного времени и обернуться. Наконец, решив, что время пришло, он резко повернулся лицом к мчащейся на него машине и выпустил весь магазин в ветровое стекло. При виде залитого кровью лица Теда бандит разразился безумным смехом машина пролетела еще семь-восемь метров. Вцепившись в руль, Мелфорд, которого заставляла жить лишь сила ненависти, развернулся и покончил с врагом. Перед смертью у бывшего полицейского еще хватило сил вырвать из записной книжки листок бумаги и что-то нацарапать…
Никто не осмеливался нарушить глубокую тишину, наступившую после рассказа мэра. В конце концов Билл, поскольку он больше других любил поговорить, прервал всеобщее молчание:
— Теренс… Мы все ошиблись в Мелфорде… Он поступил, как мужчина. Но вы подумали, что нам с ним делать, когда он выполнит свою страшную задачу?
Звонок телефона сейчас показался всем неуместным, но мэр снял трубку.
— Теренс Кэмден слушает…
Окружающие заметили, как страшно побледнел мэр. По его старым, морщинистым щекам потекли слезы, но Теренс даже не пытался их унять. Повесив трубку, он медленно обвел советников взглядом.
— Вам не придется ломать голову над будущим Теда Мелфорда, — сурово проговорил Кэмден. — Он умер. Теда только что нашли рядом с трупом Мэла Войддинга. Похоже, Мелфорд казнил главаря банды точно так же, как была убита его дочь. На теле моего друга обнаружили записку — он еще нашел в себе силы писать! Правда, всего несколько слов: «Миссия окончена, Тер…»
В наступившем гробовом молчании послышался странный звук. Все обернулись, посмотрели на капитана О'Мэхори и пооткрывали рты от удивления: верзила ирландец плакал.
Шарль Эксбрайя
НЕ СЕРДИСЬ, ИМОЖЕН

Глава I
Иможен Мак-Картри, за неукротимый характер и морковно-рыжую шевелюру получившая от коллег прозвище Red Bull[50], бодрым шагом двигалась к пятидесятилетию. Стойкость духа она черпала в страстной любви к родной Шотландии (что позволяло ей глубоко презирать сослуживцев-англичан), а также в благоговейном почтении к памяти отца, который до самой смерти воспринимал дочь лишь как преданную и совершенно бесплатную прислугу.
Капитан Генри Джеймс Герберт Мак-Картри женился поздно. Служба в индийских колониальных войсках позволяла ему лишь раз в два года возвращаться в Шотландию, да и то капитан слишком увлеченно ловил рыбу в озере Веннахар, чтобы у него оставалось время на поиски супруги. И Мак-Картри решился на это лишь после первых приступов подагры — болезнь, правда, окончательно испортила ему характер, зато капитан стал мечтать о семейном очаге. Короче, ему захотелось заботы и ласки. Некая Феллис Оутон, прикинув, что военная пенсия — неплохое утешение для будущей вдовы (а вдовства, с ее точки зрения, оставалось ждать недолго), согласилась разделить судьбу старого солдата. Однако злой рок обманул надежды бедняги Феллис — произведя на свет дочь, она умерла. Когда произошло это событие, Генри Джеймс Герберт находился где-то в окрестностях Лахора. По мнению капитана, усопшая жестоко злоупотребила его доверием, а потому он не почувствовал ничего, кроме обиды. Новорожденную, которую, один Бог ведает почему, назвали Иможен, доверили дедушке с бабушкой, жившим в предместье Каллендера, этой жемчужины графства Перт, да и всей Горной Шотландии. Почти одновременная смерть родителей Феллис совпала с сильнейшим приступом дурного настроения капитана Мак-Картри — узнав, что в отряде шотландских стрелков, находившихся под его командованием, решили упразднить кильт[51], Генри Джеймс подал в отставку. Вернувшись в Каллендер, отставной офицер поселился в небольшом, полученном от родителей домике на северной окраине города, у дороги в Киллинг. Поскольку девочке уже исполнилось пятнадцать лет, отец решил лично довершить ее образование. В первую очередь капитан сообщил ей, что Адам наверняка был шотландцем, поскольку именно шотландцы — самый умный народ на земле и пользуется особым расположением Всевышнего. Как только эта истина хорошенько укоренилась в сознании Иможен, отец развил мысль, заявив, что среди шотландцев самое привилегированное положение занимают горцы, к числу которых оба они имеют счастье принадлежать. Жители Нижней Шотландии и Приграничной области, разумеется, вполне достойные люди и хорошие товарищи, но, в конце концов, им не хватает (и всегда будет не хватать) той печати гения, коей отмечен всякий уроженец Верхних Земель с самого рождения. Что до англичан, то это малоинтересное скопище субъектов, обязанных главенствующим положением в королевстве лишь численному превосходству. Валлийцев[52] Генри Джеймс Герберт считал народностью, все еще не достигшей даже той стадии цивилизации, до которой не без труда добрались англичане, а уж ирландцы торчали на самой последней ступеньке в иерархии британских ценностей. Дальше, объяснял Мак-Картри, простирается море, а за ним — мир дикарей, которые являются таковыми независимо от цвета кожи. В представлении девочки, эти дикари разделялись на племена, с главными стоянками в Париже, Мадриде, Брюсселе и Риме. Изложив таким образом самое основное, капитан покончил с общим образованием дочери. Правда, в свободные от рыбной ловли и дружеских пирушек часы он рассказывал Иможен об истории шотландских кланов, призывая всегда помнить, что их семья ведет происхождение от Мак-Грегоров, ибо знаменитый Боб Рой[53], действовавший в округе Троссакса, некогда питал слабость к одной из Мак-Картри. Отставной военный намеревался когда-нибудь написать мемуары, а потому все же разрешил дочери изучить машинопись и стенографию с единственной целью сделать из нее секретаршу, когда наконец почувствует, что пора продиктовать первые строки труда, который покроет Англию позором. К счастью для внутреннего мира Соединенного Королевства, Генри Джеймс Герберт умер от цирроза печени, так и не найдя достойного названия для своей мстительной книги. Зато почти тридцатилетняя Иможен оказалась практически без средств к существованию и совершенно одна, ибо отцовский эгоизм отклонял всех возможных претендентов на ее руку. Капитан грубо выставлял за дверь каждого, кто, по его мнению, не принадлежал к клану, достойному породниться с потомками Мак-Грегоров, и воздыхателям вскоре надоедало ухаживать за рыжей долговязой девицей, которую отец держал чуть ли не в заточении. Но Иможен не затаила на покойника ни малейшей обиды, а, напротив, всегда оставалась верной его памяти, унаследовав горделивую страсть к Шотландии и Мак-Грегорам. Впрочем, это и составляло ее единственное наследство, не считая старого родительского домишки с давно заброшенным и заросшим вереском садом.
Но тут Небо в очередной раз доказало особую симпатию к членам семьи Мак-Картри, обратив внимание Иможен на маленькое объявление в «Таймс». Газета оповещала всех заинтересованных лиц, что в Лондоне состоится конкурс машинисток-стенографисток на замещение вакантных должностей в Адмиралтействе. Собрав все свои скудные сбережения, мисс Мак-Картри отбыла в столицу, одержала решительную победу над английскими конкурентками и приступила к новым обязанностям в надежде со временем заработать пенсию и навсегда вернуться в Каллендер, где в ожидании этой минуты ежегодно проводила отпуск. Так прошло двадцать лет. За это время Иможен, которую начальство весьма ценило за серьезность и рвение в работе, перевели в Разведывательный отдел Адмиралтейства, что позволяло мисс Мак-Картри намекать друзьям из Каллендера, будто она работает на Интеллидженс Сервис (если при этом Иможен и допускала маленькое преувеличение, то почти бессознательно). Это, несомненно, повысило ее престиж, тем более что никто толком не понимал, о чем речь.
С тех пор как мисс Мак-Картри приехала в Лондон, она постоянно снимала маленькую квартирку на Паултон-стрит, в Челси, аккуратно платя за жилье домовладелице миссис Маргарет Хорнер. И зимой, и летом Иможен просыпалась в шесть часов утра. Первым делом она подбегала к окну и, осторожно приподняв тюлевую занавеску, выглядывала на улицу. Чаще всего шел дождь, и мисс Мак-Картри презрительно пожимала плечами.
— Гнусная погода, достойная этой гнусной страны! — говорила она, намеренно забывая, что в Шотландии погода, как правило, еще хуже.
Почистив зубы и причесавшись, Иможен надевала халат (с единственной целью предстать в достойном виде) и шла приветствовать фотографию отца. Облаченный в форму капитана индийской армии Генри Джеймс Герберт глядел на нее с чуть-чуть придурковатой улыбкой, свойственной слишком преданным почитателям виски, но для дочери в этой улыбке воплощалось все остроумие Горной Шотландии, а взгляд слегка выпученных глаз казался ей энергичным.
— Добрый день, папа… Ваша крошка Иможен по-прежнему в изгнании, но настанет час, когда мы с вами вернемся на родину и станем мирно жить среди своих!
По правде говоря, это было лишь данью красноречию, поскольку Иможен отлично знала, с одной стороны, что время отставки наступит через двенадцать лет, и, следовательно, заранее могла определить срок того, что называла изгнанием, а с другой — что ее отец и так остался в Каллендере и покоится на маленьком кладбище подле своей супруги Филлис, своих и ее родителей. Однако для дочери Горной Шотландии действительность не представляет ни малейшего интереса, если ее чуточку не подкрасить. После ритуального приветствия отца Иможен застывала перед гравюрой, хранившейся в их семье с незапамятных времен и изображавшей Роберта Брюса среди холмов у Гейтхауз-оф-Флит в то время, когда он в пылу сражения сочинял знаменитую песню «Призыв Роберта Брюса к армии перед сражением у Баннокберна», которая стала национальным гимном. Глядя на портрет героя Независимости, мисс Мак-Картри не говорила ни слова — ей достаточно было взглянуть на Роберта Брюса, чтобы кровь быстрее заструилась по жилам и все ее существо охватило приятное тепло, а мышцы напряглись, словно готовясь к неизбежным новым схваткам.
Затем, следуя каждодневному ритуалу, Иможен скидывала халат и, оставшись в трусиках и лифчике, критическим взором изучала себя в большом зеркале на дверце шкафа. Здесь не было и намека на кокетство, напротив, мисс Мак-Картри лишь проверяла, в достаточно ли она хорошей форме на случай возможного сражения.
В зеркале отражалась высокая — пяти футов и десять дюймов — крепко, почти по-мужски скроенная женщина с той удивительно белой кожей, какая обычно бывает у рыжих. А уж насчет рыжины Иможен могла побить все рекорды! Наиболее дружелюбно настроенные люди называли ее шевелюру огненной, прочие утверждали, что именно такого цвета бывает по весне морковка. Не обнаружив ни единой складки, ни унции лишнего жира, мисс Мак-Картри с воодушевлением переходила к утренней гимнастике, благодаря которой по-прежнему сохраняла редкую для особы ее пола крепость мышц. Кстати, как раз из-за того что ей далеко не всегда удавалось контролировать свою силу, Иможен и получила кличку Bull.
Покончив с зарядкой, мисс Мак-Картри завтракала большой тарелкой порриджа и выпивала две чашки чаю. С одеждой у нее никогда не возникало проблем, ибо мисс Мак-Картри всю жизнь оставалась верной строгому твидовому костюму и шарфу цвета тартана[54] Мак-Грегоров. Летом она снисходила до блузки, но и тут цвета клетчатой ткани оставались неизменными. Мисс Мак-Картри не могла позволить себе никакого отступничества! Ровно в половине седьмого Иможен закрывала за собой дверь, предварительно наведя в квартире порядок, — причем делала это так энергично, что никто из соседей уже не мог потом сомкнуть глаз. Сначала другие жильцы возмущались, и миссис Хорнер пробовала делать Иможен замечания, но тщетно. Однако в конце концов раздражение сменилось покорностью судьбе, и теперь уже многие годы те, кто жил над квартирой мисс Мак-Картри, под ней или сбоку, не пользовались будильником, в полной уверенности, что в определенный час их разбудит дьявольский грохот в обиталище рыжей шотландки. Это правило нарушалось только по воскресеньям да в те благословенные дни, когда Иможен, взяв отпуск, отправлялась на родину.
Миссис Хорнер считала своего рода делом чести подметать порог в тот самый момент, когда мисс Мак-Картри выходила из дома. С тысяча девятьсот пятидесятого года обе женщины почти не разговаривали, хотя до этого больше десяти лет очень дружили. В тридцать девятом году Иможен даже пригласила хозяйку к себе в Каллендер, и подруги очень мило провели там последние дни перед войной. Все испортило одно неудачное замечание миссис Хорнер после Дюнкеркского сражения, когда всю Англию охватил страх перед возможной высадкой на острове войск вермахта. Как-то утром, комментируя последние сообщения, домовладелица в присутствии жильцов, среди которых была и собиравшаяся на работу Иможен, позволила себе предположить, что немецкий оккупационный флот может сыграть с мистером Черчиллем скверную шутку, высадившись в Шотландии. Подобная перспектива погрузила аудиторию в глубокую задумчивость, как вдруг раздался голос мисс Мак-Картри:
— А с какой это стати, миссис Хорнер, немцам может взбрести в голову несуразная мысль высадиться в Шотландии?
Целиком во власти демона стратегии, домовладелица не обратила внимания на не предвещавшее ничего хорошего дрожание в голосе Иможен, а кроме того, почтенную даму слишком шокировало, что кто-то посмел публично назвать ее предположение «несуразным». Поэтому ответ прозвучал довольно сухо.
— Да просто тогда они оказались бы в тылу у английской армии, мисс Мак-Картри, и, воспользовавшись всеобщим замешательством, имели бы чертовски много шансов подойти к Лондону!
По возникшему в воздухе напряжению аудитория мгновенно угадала, вернее, почувствовала начало конфликта. Все навострили уши.
— А с чего вы взяли, миссис Хорнер, будто гитлеровским солдатам было бы легче высадиться на шотландском берегу, нежели на английском?
Теперь, когда проблема была сформулирована так четко, жильцы, которым уверенность Иможен внушала некоторые надежды, мысленно стали на ее сторону. Домовладелица сразу сообразила, что допустила промах. Здравый смысл подсказывал, что лучше всего — достойно отступить, но вокруг собралось слишком много людей, и она хотела оставить последнее слово за собой, даже рискуя погрешить против истины. И миссис Хорнер презрительно хмыкнула.
— Право же, не представляю, что бы им могло помешать! — заявила она.
Наступила гробовая тишина, и все явственно услышали, как мисс Мак-Картри набирает в легкие воздуха. Те, кто хорошо ее знали, сразу поняли, что надвигается буря. И она тотчас же грянула.
— Что ж, я скажу вам, кто их остановит, этих ваших немцев! (Это «ваших» впоследствии сочли особенно оскорбительным для миссис Хорнер, ибо притяжательное местоимение сразу как бы указывало на ее принадлежность к лагерю врагов Соединенного Королевства.) Шотландцы, моя дорогая! Просто-напросто шотландцы, которые уже не раз доказали, как они умеют сражаться и умирать, защищая англичан! И, если хотите знать мое мнение, в немецком генштабе давно сообразили, что их единственный шанс пробраться в Англию — это напасть непосредственно на англичан! А кроме того, позвольте мне заметить, что, будь в Дюнкерке чуть побольше шотландцев, армии не пришлось бы возвращаться на корабли!
Гнев завел Иможен слишком далеко, и все присутствующие сочли себя глубоко уязвленными столь презрительным отзывом о солдатах Ее Величества. Миссис Хорнер поспешила использовать их ропот в своих интересах.
— От такой девицы, как вы, нельзя было и ожидать ничего, кроме оскорблений в адрес павших за нашу свободу!
(Все с удовлетворением отметили слово «девица», сразу понизившее социальный статус мисс Мак-Картри.)
Но Иможен уже достигла точки кипения, когда говоришь что угодно, лишь бы «спасти лицо».
— Наша свобода не оказалась бы в опасности, если бы вы не посадили на английский трон узурпаторов!
Возмущенная аудитория окончательно перешла на сторону миссис Хорнер, и мисс Мак-Картри пришлось уступить позиции под громкое улюлюканье. С тех пор Иможен жила в полной изоляции — прочие жильцы дома не только не разговаривали с ней, но даже забывали здороваться, случайно сталкиваясь на лестнице. Кое-кто пытался намекать, что, возможно, она шпионка, но Иможен слишком давно знали, и клевета заглохла сама собой. Миссис Хорнер, и та отказалась поверить такой чепухе. Во время блица мисс Мак-Картри набрала несколько очков, ибо в отличие от большинства соседок, поспешивших уехать из Лондона, спокойно осталась дома, заявив тем, кто советовал ей на несколько месяцев вернуться в родную Шотландию:
— Не понимаю, чего ради шотландка должна удирать, пока в Лондоне остается хоть одна англичанка!
Миссис Хорнер охотно поехала бы к родне в Стратфордон-Эйвон, но гордость не позволила ей тронуться с места, раз противница не покинула дом. Таким образом, обе женщины, не желая уступить друг другу, пережили все бомбардировки, и обитатели квартала стали считать их образцом героизма. Вернувшись домой после победы, жильцы помирились с шотландкой и даже пробовали восстановить их прежнюю дружбу с миссис Хорнер. Однако обе женщины дальше обмена приветствиями не пошли. В конце концов время, несомненно, сгладило бы взаимное недовольство, если бы в пятидесятом году шотландские националисты не украли из Вестминстерского аббатства коронационный камень. Иможен не постеснялась заявить, что ее соотечественники забрали лишь то, что принадлежит им по праву, и воров следует искать не среди преследуемых, а среди преследователей. После этого однажды вечером к мисс Мак-Картри явился полицейский инспектор и попросил следовать за ним. Шотландка вышла из дому под ироническим взглядом своей врагини, причем миссис Хорнер громко выразила сожаление, что она без наручников. В участке Иможен узнала, что ее отзывы о похитителях дошли до полиции и теперь ей придется давать объяснения. Объяснения были даны со свойственным ей пылом, и дело могло бы кончиться очень плохо, если бы не звонок из Адмиралтейства, мгновенно уладивший все осложнения. Мисс Мак-Картри вернулась на Паултон-стрит с высоко поднятой головой, но, зная, откуда исходил удар, более не удостаивала домовладелицу даже взглядом и теперь всегда посылала квартплату по почте.
Иможен не забыла уроков папы-капитана и считала пешую ходьбу самым полезным для здоровья упражнением, а потому каждое утро в любую погоду шла в Адмиралтейство пешком, покрывая около шести километров таким размашистым шагом, что у всякого отпала бы охота ее преследовать. Поднимаясь по Кингс-роуд, мисс Мак-Картри полной грудью вдыхала утренний воздух и, по мере того как мышцы разогревались, все ускоряла шаг. Только на Слоан-сквер Иможен позволяла себе слегка перевести дух, ибо там она привыкла ежедневно покупать «Таймс» у слепого, вот уже двадцать лет торговавшего на одном и том же месте. Потом, миновав Хобарт Плейс и Гровенор Гарденс, шла по Викториа-стрит до Вестминстерского аббатства. Там, пройдя в самую глубину нефа, она сворачивала направо, шла мимо хоров и боковых приделов и, наконец, в часовне Генриха VII преклоняла колени у надгробной статуи Марии, королевы Шотландии, умоляя почившую государыню дать ей мужество и терпение выдержать еще один день среди англичан. Умиротворенная этой столь же благочестивой, сколь и националистической акцией, Иможен двигалась дальше и через Парламент-стрит и Уайтхолл выходила к Адмиралтейству.
Мисс Мак-Картри почти не интересовалась спортом, если в соревнованиях не участвовали шотландцы, зато как только начинался Турнир пяти наций[55], у нее на рабочем столе появлялась ваза с букетом прелестного голубоватого репейника — обыкновение, позволявшее одной из наиболее ожесточенных недоброжелательниц утверждать, что, поглядев на Иможен, всякий поймет, почему эмблемой Шотландии стал чертополох.
Приходя на службу, мисс Мак-Картри бросала общее приветствие и тут же погружалась в работу, к величайшему раздражению коллег, которым приходилось следовать ее примеру, в то время как они с удовольствием поболтали бы еще немного, обмениваясь впечатлениями вчерашнего вечера. Однако в то утро атмосфера накалилась еще больше обычного. Едва девушки расселись за машинки, Дженис Левис заявила, что, с позволения начальника бюро Анорина Арчтафта (тут все улыбнулись, ибо прекрасно знали, что Арчтафт более чем дружен с мисс Левис), она просит коллег внести посильный вклад в сбор средств на подарок, который сотрудники Адмиралтейства решили послать Ее Величеству ко дню рождения принцессы Анны. Все дружно поддержали инициативу Дженис, и каждая открыла сумочку, намереваясь положить свою лепту в общий котел… каждая, кроме мисс Мак-Картри, которая и не подумала оторваться от работы. В наступившей тишине мисс Левис решила призвать ее к порядку:
— А вы, Иможен? Разве вы не хотите что-нибудь пожертвовать нашей маленькой принцессе?
— Щедрое жалованье, которое я получаю от Ее Величества за восьмичасовой рабочий день, не позволяет мне швырять деньги на подарки иностранным государям!
Дженис, хорошо знавшая характер мисс Мак-Картри, к величайшему удовольствию коллег, решила ей немножко подыграть:
— Вы называете Ее Величество королеву Елизавету Вторую иностранкой?
— Разве вам неизвестно, мисс Левис, что ее семья приехала к нам с континента? А кроме того, мне совершенно непонятно, с какой стати вы называете ее Елизаветой Второй, если никогда не было даже первой!
— Как? А наша великая Елизавета?
— Не знаю такой, разве что вы намекаете на ту омерзительную стерву, которая не только ограбила Марию Стюарт, но еще и убила! Говорю вам, Дженис Левис, поистине, надо быть англичанином, чтобы осмелиться посадить на трон подобное создание! Да она останется вечным позором в истории Англии!
Игра шла по давным-давно отработанному сценарию, но Иможен всякий раз попадалась на удочку. Как всегда, машинистки разразились возмущенными криками, и Анорин Арчтафт немедленно выскочил из кабинета.
— В чем дело? Что тут происходит, мисс?
Кто-то из девушек объяснил, что Иможен Мак-Картри оскорбила королевскую семью, Ее Величество королеву и всю Англию. Уроженец Майлорда в Уэльсе, Анорин Арчтафт не только не понимал шуток, но и отличался на редкость желчным нравом. Привыкнув трудиться не покладая рук и добившись столь высокого поста лишь благодаря феноменальному усердию, Арчтафт воспринимал все, что хоть на секунду отрывало его от дела, как серьезное нарушение дисциплины и, более того, почти как личное оскорбление. Нечего удивляться, что он терпеть не мог Иможен, эту вечную возмутительницу покоя, и мечтал от нее избавиться. Мисс Мак-Картри, по его мнению, только мешала работать другим. В то утро одно незаконченное досье привело Арчтафта в особое раздражение, которое он и решил сорвать на своей давней противнице. А потому шеф бюро решительным шагом направился к столу Иможен.
— Что вы можете сказать в свое оправдание, мисс Мак-Картри?
— Что я буду вам премного обязана, мистер Арчтафт, если вы перестанете мешать мне работать. Если вам это неизвестно, могу сообщить, что правительство платит мне за вполне определенную работу, а вовсе не за ораторское искусство, как вы, по-видимому, думаете!
В комнате послышались смешки, и Арчтафт нервно оттянул воротничок, словно тот вдруг сдавил ему шею.
— С меня довольно, мисс Мак-Картри!
— Я вас не удерживаю, господин начальник бюро!
— Мисс Мак-Картри, я больше не потерплю, чтобы вы так пренебрегали своим долгом!
Теперь уже и шотландку охватила ярость. Гневно выпрямившись, она завопила на весь отдел:
— Уж не думаете ли вы, случаем, что какой-то полудикий валлиец может мне указывать, в чем состоит мой долг?
Арчтафт никак не годился для такого рода словесных дуэлей. Закрыв глаза, он вознес Господу горячую мольбу, чтобы тот дал ему сил сдержаться и не ударить подчиненную.
— Мисс Мак-Картри, — сдавленным голосом пробормотал несчастный, — вам очень повезло, что вы не мужчина!
— Глядя на вас, мистер Арчтафт, я в этом не сомневаюсь!
Дженис не без лукавства выжидала, пока атмосфера накалится до предела. Наконец она подошла к шотландке и, мягко взяв за руку, произнесла сакраментальную фразу, с утра до вечера повторявшуюся в этой части административных служб Адмиралтейства:
— Не сердитесь, Иможен!
Потом, повернувшись к начальнику, она с улыбкой проговорила:
— Я думаю, это обычное недоразумение, мистер Арчтафт.
Анорин, мечтавший сделать мисс Левис своей супругой, не посмел спорить и, бормоча угрозы, удалился к себе в кабинет. Дженис тоже села на место, и в бюро воцарился покой, во всяком случае — на некоторое время, ибо там, где была Иможен, тишина никогда не наступала надолго.
Меньше чем через час после этого происшествия зазвонил внутренний телефон. Начальник отдела просил мисс Мак-Картри подняться к нему в кабинет. Большинство сослуживиц с сочувствием посмотрели на Иможен. Неужели шутка зашла слишком далеко? Однако шотландка, понимая, что на нее обращены все взгляды, постаралась держаться на высоте.
— Должно быть, очередные происки этого проклятого валлийца! — бросила она, выразительно посмотрев на мисс Левис.
Джон Масберри славился элегантностью на все Адмиралтейство. Закончив Оксфорд, он приобрел ту неподражаемую утонченность, от которой вибрирует сердце каждой англичанки, мечтающей однажды, пусть хоть на денек, попасть в «high society»[56]. Теперь Масберри возглавлял отдел, в одном из бюро которого трудилась Иможен Мак-Картри, знал, что его весьма ценят наверху, и пользовался великолепной репутацией. Даже те, кому не особенно нравилось высокомерие, проглядывавшее за внешней любезностью, предсказывали, что Масберри доберется до высших ступеней лестницы и — кто знает? — возможно, когда-нибудь заменит сэра Дэвида Вулиша, хозяина Разведывательного управления Адмиралтейства. Мисс Мак-Картри принадлежала к числу тех, кто не любил Масберри. Она ставила в вину начальнику отдела, во-первых, то, что он родился в Лондоне от таких же коренных лондонцев, а во-вторых, чванливую снисходительность ко всему персоналу вообще и к ней, Иможен, в частности. От одного этого кровь гордой шотландки мгновенно закипала. Когда она вошла в кабинет, Джон Масберри с обычной ледяной вежливостью поднялся из-за стола.
— Будьте любезны сесть, мисс Мак-Картри… Я только что беседовал по телефону с мистером Арчтафтом, и он жаловался, будто вы его оскорбили…
— Мистер Арчтафт — валлиец…
— Национальность мистера Арчтафта не имеет никакого отношения к делу, и я просил бы вас ответить на мой вопрос.
Иможен начала всерьез нервничать.
— Мы повздорили…
— Мисс Мак-Картри, никакие ссоры между начальником бюро и простой служащей совершенно невозможны! Мне бы хотелось, чтобы вы это хорошенько запомнили.
— Только из-за того, что я простая служащая, как вы мне любезно напомнили, мистер Масберри, я не стану терпеть, чтобы со мной разговаривали непозволительным тоном!
— Вы, очевидно, считаете себя очень важной, а то и незаменимой особой?
— Не думаю, чтобы в этом учреждении хоть кого-то нельзя было бы заменить, мистер Масберри.
— Узнаю шотландский здравый смысл.
— Жаль, что англичане его напрочь лишены!
Мистер Масберри на мгновение лишился дара речи.
— С вашей стороны было бы весьма разумно принести мне извинения, мисс Мак-Картри, — вкрадчиво заметил он.
— Сожалею, сэр, но это не в моих привычках.
— В таком случае мне придется заставить вас отступить от ваших правил!
— Позвольте мне в этом усомниться.
— Я прошу вас уйти, мисс Мак-Картри.
— С удовольствием, мистер Масберри.
Как только шотландка покинула кабинет, мистер Масберри связался с секретаршей Большого Босса и спросил, может ли сэр Дэвид Вулиш его принять.
Сэру Дэвиду Вулишу было лет шестьдесят. Почти никогда не сталкиваясь непосредственно с административным персоналом Разведывательного управления, он тем не менее знал чуть ли не всю подноготную каждого или каждой из служащих. В отличие от Джона Масберри улыбчивый и неизменно доброжелательный сэр Дэвид пользовался всеобщей любовью, но близкие знакомые утверждали, что под улыбкой скрывается железная, непоколебимая воля. Как человеку с чувством юмора ему доставляло большое удовольствие шокировать слишком корректного Джона Масберри. Вот и на сей раз он встретил подчиненного несколько фамильярным обращением:
— Что-нибудь серьезное, Джон?
— Неособенно, сэр, но, поскольку речь идет о служащей, проработавшей у нас много лет, я счел необходимым поговорить с вами. А уж что с ней делать — уволить или по крайней мере, надолго отстранить от должности — решать вам.
— Ого! И кто же это?
— Мисс Мак-Картри.
— Высокая шотландка с огненной шевелюрой?
— Совершенно верно, сэр.
— Но, я полагал, у нее неплохая характеристика?
— В том, что касается работы, мисс Мак-Картри действительно безупречна, но характер…
И Джон Масберри поведал сэру Дэвиду Вулишу о сегодняшних стычках Иможен с Арчтафтом и с ним самим.
— …Ужасающая нелепость! Эта особа воображает, что, раз она шотландка, значит, всегда права, и даже не пытается скрыть презрения к англичанам и валлийцам!
Вулиш с трудом удержался от улыбки.
— Да, кажется, ваша мисс Мак-Картри и в самом деле весьма колоритный персонаж.
— По-моему, чересчур. Авторитет мистера Арчтафта, равно как и мой собственный, поставлен под угрозу!
— Ну, преувеличивать все же не стоит, Джон! Пришлите-ка мне досье этой бойкой особы, присовокупив рапорт обо всем, что вы мне сейчас рассказали. Мы ее приструним, вашу огненную шотландку!
Прежде чем снова предстать перед коллегами, Иможен постаралась изобразить на лице торжествующую улыбку, но в глубине души, трезво оценивая положение, с тревогой раздумывала, чем все это кончится. Расспрашивать шотландку никто не посмел, и она с удвоенной энергией набросилась на работу. Мисс Мак-Картри решилась нарушить молчание, лишь услышав, как Олимпа Фарайт просит Нэнси Нэнкетт перепечатать ей в четырех экземплярах циркуляр, а Нэнси отказывается, ссылаясь на то, что Дженис Левис и Филлис Стюарт и так уже подкинули ей дополнительную работу. Тут Иможен не выдержала.
— За кого вы себя принимаете, Олимпа Фарайт? За еще одного начальника бюро? В таком случае, предупреждаю: с нас и одного хватит! Оставьте-ка Нэнси в покое и делайте сами работу, за которую вам платят!
Толстая Олимпа, давно утратив надежду выйти замуж, стала очень сварливой особой, а потому решила не давать спуску:
— Скажите на милость, Иможен Мак-Картри, почему вы суете нос куда не надо? Какое вам дело до нас с Нэнси Нэнкетт?
— Большое! До тех пор пока я тут, не позволю англичанкам притеснять шотландку!
Страсти быстро накалились, и в конце концов Нэнси, хорошенькая, немного худосочная девушка, похожая на брошенного щенка и тем вызывавшая всеобщую жалость, начала уговаривать свою заступницу:
— Не сердитесь, Иможен!
По правде говоря, Нэнси, поступившая в бюро год назад, не была чистокровной шотландкой, поскольку лишь ее мать могла похвастаться происхождением из Горной Страны, но она родилась в Мелрозе, где покоится сердце Роберта Брюса, и уже это одно давало право на покровительство Иможен.
Во второй половине дня Анорин Арчтафт несколько разрядил атмосферу, предложив машинисткам сообщить ему, кто когда пойдет в отпуск, предварительно договорившись между собой. Иможен, как проработавшая здесь дольше всех, имела привилегию выбирать первой. Однако все заранее знали, какое время она назовет, поскольку дата не менялась на протяжении всех двадцати лет. Разговор о предстоящем отпуске приводил девушек в мечтательное настроение, и одна из них непременно спрашивала шотландку о ее планах. Мисс Мак-Картри понимала, что над ней хотят беззлобно посмеяться, но сама слишком любила поговорить на эту тему и не могла отказать себе в удовольствии принять вызов.
— Что ж, я, как обычно, сначала поеду в Аллоуэй, где родился величайший поэт Соединенного Королевства Роберт Бернс, и, если будет угодно Богу, постараюсь участвовать в чтениях. Там мы почитаем стихи, а образованные люди расскажут об ушедшем гении…
— Попивая виски, — не без лукавства заметила Филлис Стюарт.
— Совершенно верно, мисс, попивая настоящее виски, то, которое вам, англичанам, так ни разу и не удалось подделать! Потом я поеду в Демфермлайн и преклоню колена у могил семи наших королей и Роберта Брюса. А дальше, по дороге домой, в Каллендер, остановлюсь в Бремаре и погляжу на Хайленд Геймз[57] и взгляну, как перетягивают кэбер[58].
На сей раз ее перебила Мэри Блэйзер:
— Это неподалеку от замка Бэлморэл — значит, вы наверняка увидите королевскую семью?
— Да-да, в это время к нам приезжает очень много иностранцев.
Всякий раз как у нее случались неприятности, Иможен обедала несколько плотнее обычного, полагая, что только хорошая форма поможет ей противостоять ударам судьбы. Вот и на сей раз, предчувствуя, что стычка с Джоном Масберри повлечет за собой крупные осложнения, она решила приготовить хаггис — шотландский пудинг, который готовят из печени, сердца, овсянки и лука, сдабривая все это вместо соуса большим количеством виски.
Когда Иможен покончила с готовкой, было уже около полуночи, однако, прежде чем улечься спать, она все же выкурила сигарету и послушала пластинку с записью выступления волынщиков Шотландской гвардии. Напоследок мисс Мак-Картри подошла к фотографии отца.
— Ну, папа, видели, как я сегодня наподдала этим англичанам? — пробормотала она, подмигнув.
Глава II
Наутро после столь богатого приключениями дня Иможен Мак-Картри наверняка проснулась бы в несколько подавленном настроении, не будь это 24 июня, ибо ни один шотландец в мире ни за что не поверит в возможность провала или поражения в этот день. А потому мисс Мак-Картри ощущала обычную энергию и, более того, снова обрела уверенность в собственной правоте и в конечной победе над Анорином Арчтафтом и Джоном Масберри. Выпив чаю, она несколько отступила от правил, отрезав себе большой кусок хаггиса. По правде говоря, кушанье оказалось тяжеловатым, и Иможен пришлось запить его добрым глотком виски. Впрочем, последнее не только не затуманило ей мозг, но
привело в боевую готовность. Выходя из дома, Иможен прошла мимо миссис Хорнер с высоко поднятой головой, так что та побледнела от ярости и, не сдержавшись, сказала миссис Ллойд (та ходила за бисквитами и теперь как раз вернулась домой):
— Нет, вы только поглядите на нее! Честное слово, эта особа принимает себя за свою Марию Стюарт! Сразу видно, что сегодня двадцать четвертое июня! Счастье еще, что этот день бывает только раз в году.
Тем временем, ничуть не заботясь обо всяких миссис Хорнер и Ллойд, Иможен шла по Кингс-роуд с тем величественным видом, какой подобает особе, сознающей свою принадлежность к привилегированной части человечества. Слепому торговцу газетами на Слоан-сквер мисс Мак-Картри подала полкроны на чай, и тот пожелал ей счастливо провести день. В Вестминстерском аббатстве Иможен возложила на могилу Марии Шотландской букет цветов, потом перешла в южный поперечный неф и в уголке поэтов поклонилась изображению Роберта Бернса, уже в который раз огорчаясь, что великому поэту дали в спутницы по бессмертию этих невероятных сестер Бронте — с точки зрения мисс Мак-Картри, таких не следовало пускать на порог даже в мире ином. Наконец небольшое паломничество Иможен завершилось в часовне Эдуарда Исповедника, где она на секунду преклонила колени у трона, стоящего на «скоунском камне»[59], украденном у шотландцев в 1297 году и причинившем Иможен столько неприятностей в 1950-м.
С единственной целью до конца исполнить ритуал, нарушить который ее не могла заставить даже мысль о грозящей отставке, мисс Мак-Картри погуляла по Уайтхоллу и явилась на работу с опозданием на пятнадцать минут. Коллеги, давным-давно изучившие привычки Иможен, не задали ей ни одного вопроса, но Анорин Арчтафт никак не мог смириться со столь легкомысленным презрением к дисциплине, ибо в его обязанности входило, в частности, поддержание порядка. Поэтому мисс Мак-Картри, не успев добраться до рабочего места, столкнулась с начальником.
— Мисс Мак-Картри, уже пятнадцать минут десятого! — заявил он, указывая на часы.
— Правда?
— Да, мисс Мак-Картри! Может быть, вы не знаете или случайно забыли, что должны приходить сюда к девяти часам?
— За двадцать лет у меня было время это усвоить, мистер Арчтафт.
— Тогда, возможно, вы будете так любезны объяснить мне причину опоздания?
— Сегодня двадцать четвертое июня.
— А почему эта дата дает вам основания нарушать график?
— Не будь вы полудикарем-валлийцем, мистер Арчтафт, знали бы, что двадцать четвертого июня тысяча триста четырнадцатого года Роберт Брюс разбил англичан под Баннокберном, обеспечив тем самым независимость Шотландии!
— Ну и что?
— А то, мистер Арчтафт, что Роберту Брюсу не было бы никакого смысла задавать англичанам трепку, если бы даже двадцать четвертого июня шотландке приходилось подчиняться рабским законам, придуманным теми же самыми англичанами! А теперь прошу вас не мешать мне работать.
— Это вам так просто не пройдет, мисс Мак-Картри! Вы обо мне еще услышите, и очень скоро!
— Как ни печально, но меня это нисколько не интересует.
Задыхаясь от ярости, валлиец ушел к себе в кабинет. Дверь за ним громко хлопнула.
Сказав, будто собирается работать, Иможен лгала, ибо считала 24 июня праздником и почти ничего не делала в этот день. До самого вечера она читала какой-нибудь роман Вальтера Скотта или развлекала коллег, декламируя стихи Роберта Бернса. Мисс Мак-Картри знала наизусть не одну сотню его стихов. Иможен могла позволить себе побездельничать, зная, что в случае чего коллеги ее прикроют. Впрочем, это пособничество было не таким уж бескорыстным, поскольку 10 апреля коллеги мисс Мак-Картри могли отыграться в полной мере. В этот день Иможен всегда приходила на работу с траурной ленточкой на пиджаке, ни с кем не здороваясь, проходила на свое место и за весь день не говорила ни слова. Девушки нарочно старались подбросить шотландке как можно больше дополнительной работы, но она безропотно выполняла любое поручение. 10 апреля Иможен считала себя самой несчастной женщиной во всем Соединенном Королевстве, ибо три века назад в Каллодене принц Чарлз-Эдуард («Добрый принц Чарли») потерпел сокрушительное поражение от герцога Камберлендского и Шотландия потеряла независимость, о чем товарки мисс Мак-Картри и напоминали ей довольно жестоко.
На сей раз судьбе было угодно именно 24 июня приготовить Иможен немало сюрпризов. Она декламировала очередное стихотворение Бернса, как вдруг в кабинет вошел мистер Арчтафт.
— Прошу прощения, что прерываю ваш концерт, мисс Мак-Картри, — самоуверенно улыбаясь заявил он, — но могу с удовольствием сообщить вам, что сэр Дэвид Вулиш был бы весьма польщен, если бы вы согласились нанести ему визит… и немедленно!
Большой Босс! Служащие бюро ощутили дуновение ледяного ветра, и даже шотландка немного растерялась. Она побледнела, потом залилась краской и пробормотала что-то неопределенное. Мистер Арчтафт ликовал.
— Могу я сообщить сэру Дэвиду Вулишу, что, невзирая на священную дату — двадцать четвертое июня, шотландка согласна подчиниться требованию англичанина, или должен сказать ему, что в память о Баннокберне вы откладываете встречу на потом?
— Пойду… пойду…
— Сэр Дэвид сказал «немедленно», мисс Мак-Картри! Уж простите за напоминание…
И, весьма довольный собой, мистер Арчтафт вернулся в то помещение, которое Иможен называла его логовом. Как только за начальником бюро закрылась дверь, машинистки начали обсуждать событие. Ни у кого, включая главное заинтересованное лицо, не оставалось сомнений, что мисс Мак-Картри из-за ссоры с Арчтафтом и Масберри выгонят с работы, и коллеги уже начали ее жалеть. Нэнси Нэнкетт расцеловала Иможен и шепнула на ухо:
— Крепитесь, Иможен! Если вас уволят, мы все вместе пойдем к сэру Дэвиду Вулишу…
Дружеское участие вернуло мисс Мак-Картри твердость духа. Нет, никто не сможет сказать, что 24 июня она выказала растерянность англичанкам, даже если те питают к ней самые добрые чувства. Пусть даже придется уйти из Адмиралтейства — Иможен не спасует перед сэром Дэвидом Вулишем. В конце концов, невзирая на высокое положение, он всего-навсего англичанин! Уходя, мисс Мак-Картри навела на столе порядок и собрала вещи на случай, если понадобится сразу уйти, потом гордо выпрямилась.
— Должно быть, у сэра Дэвида Вулиша возникли серьезные проблемы и он полагает, что только шотландка способна вывести его из затруднительного положения! — заявила Иможен. — Что ж, поспешу на помощь!
Но девушки были слишком взволнованы, и никто не рассмеялся над шуткой мисс Мак-Картри. Когда она ушла, общее мнение выразила Дженис Левис:
— Иможен — молодчина, и, если она потеряет работу по милости Арчтафта, я больше никогда в жизни не стану разговаривать с этим господином!
Все знали, что Дженис — девушка с характером, а потому сочли (хотя никто ничего не сказал вслух), что начальник бюро, сам того не подозревая, утратил всякую надежду жениться на мисс Левис.
Оказавшись одна в холле, у лестницы, ведущей в кабинет сэра Дэвида Вулиша, Иможен почувствовала, как ее напускное самообладание тает. Шотландка могла сколько угодно хорохориться, но в глубине души понимала, что в присутствии Большого Босса, которого еще ни разу не видела, наверняка оцепенеет от страха. И потом, что она могла ответить на обвинения? Она и в самом деле нарушила дисциплину и потому заслуживала наказания. Мисс Мак-Картри надеялась лишь, что последнее не скажется коротким и ясным приказом навсегда покинуть Адмиралтейство. Наконец слегка дрожащая Иможен предстала перед секретаршей сэра Дэвида. Та встретила ее весьма любезно.
— А, мисс Мак-Картри! Сэр Дэвид Вулиш вас и в самом деле уже ждет. Я сейчас предупрежу его, что вы здесь.
Иможен не посмела сесть. Секретарша почти сразу вернулась.
— Прошу вас, мисс Мак-Картри, идите за мной.
Иможен вспомнила, с каким мужеством шла на эшафот Мария Стюарт. Этот благородный пример так вдохновил шотландку, что она вошла в кабинет Большого Босса почти твердым шагом.
— Счастлив вас видеть, мисс Мак-Картри… Садитесь, пожалуйста.
Слегка ошарашенная столь любезным приемом, Иможен опустилась в кресло.
— Я очень много слышал о вас, мисс Мак-Картри…
«Вот оно, начинается!» — подумала Иможен.
— …и в частности, что вы родились в Каллендере, в очаровательном графстве Перт, что ваш отец был офицером в войсках Ее Величества и что вы очень гордитесь своим шотландским происхождением. Что ж, я вас вполне одобряю.
Иможен все меньше понимала, что происходит.
— Однако не всем же дано быть шотландцами, мисс Мак-Картри, и вам бы не следовало досадовать на тех, кто не имеет такого счастья. Господа Масберри и Арчтафт не виноваты, что родились в Англии и Уэльсе… Не сомневаюсь, что, будь у них выбор, они… а впрочем, и я сам… Но некоторые вещи никак нельзя изменить, не так ли?
Иможен раздумывала, уж не издевается ли над ней, случайно, сэр Дэвид Вулиш.
— Мистер Масберри долго говорил мне о вас. И даже представил рапорт. Он отдает должное вашим профессиональным качествам, но не вполне удовлетворен… как бы это сказать?.. вашим характером. По-видимому, вам особенно тяжело подчиняться дисциплине, когда ее пытается поддерживать не шотландец. Уж простите нас великодушно, мисс Мак-Картри, но Адмиралтейство не может брать на службу исключительно выходцев из Горной Страны, иначе нас упрекнут в предвзятости и начнется масса осложнений.
Теперь Иможен больше не сомневалась, что ее жестоко высмеивают, и на глазах у нее выступили слезы.
— Однако, поскольку я испытываю особое почтение к шотландцам, поскольку ваш отец был человеком долга, храбро сражавшимся за Корону, я верю в вас, мисс Мак-Картри. Именно это обстоятельство и побудило меня вызвать вас, ибо мне очень нужна помощь.
Иможен рот открыла от удивления, но, думая, что ослышалась, не проронила ни слова.
— Не только я, но и все Соединенное Королевство просит Шотландию, в вашем лице, поспешить на выручку. Ее всемилостивейшее Величество еще слишком молода, мисс Мак-Картри, и мы должны всеми силами постараться помочь ей нести столь тяжкое бремя. Вы согласны со мной, мисс Мак-Картри?
— Да… да, конечно, сэр…
— Я не сомневался, что могу рассчитывать на вас. А кроме того, королева-мать — шотландка… Знаете, мисс Мак-Картри, я все больше радуюсь, что не послушал мистера Масберри и не стал воспринимать его рапорт трагически… Иногда бывают совершенно несовместимые характеры… Я еще подумаю и, в случае необходимости, по возвращении переведу вас в другой отдел.
— По возвращении? Я… вы на время… отстраняете меня от работы?
— Ничего подобного, мисс, вас не отстраняют, а направляют с довольно необычной и весьма секретной миссией.
Иможен показалось, будто она грезит наяву.
— Я возглавляю Разведывательное управление, мисс Мак-Картри, и основная моя забота — бороться со шпионажем… Если вы согласитесь, я на неделю включу вас в число своих самых доверенных агентов.
Сердце у Иможен отчаянно застучало. В мгновение ока в памяти промелькнули все прочитанные ею книги о беспощадных схватках агентов секретных служб. Подумав о прекрасных шпионках, мисс Мак-Картри гордо выпрямилась.
— Сэр, я готова умереть за Корону!
— Благодарение Богу, так много я от вас не требую!
Сэр Дэвид вынул из ящика большой конверт, помеченный «Т-34», и показал Иможен.
— Это планы нового реактивного самолета «Кэмпбелл-семьсот семьдесят семь». Их надо тайно переправить одному моему другу. А он, изучив их на месте, сообщит, сколько времени, по его мнению, потребуется для создания опытного образца.
— И только-то? — вырвалось у разочарованной Иможен.
— Боюсь, вы еще не оценили по-настоящему трудностей этой задачи, мисс… За планами охотятся многие иностранные державы, так что, возможно, их попытаются у вас похитить… И, не стану скрывать, к вам могут применить очень… жесткие меры.
— Я еще никогда в жизни не трусила!
Иможен чуть не добавила: «Разве что совсем недавно, у двери вашего кабинета».
— Не сомневаюсь. Именно поэтому я и убежден, что вы — как раз тот человек, который мне нужен. Стало быть, вы отвезете документы и передадите их непосредственно сэру Генри Уордлоу. Он живет в…
Большой Босс немного помолчал, желая насладиться эффектом.
— …в Каллендере!
— У меня на родине!
— Да, у вас, мисс Мак-Картри. Он на три месяца снял небольшой домик — «Торфяники».
— Я его знаю.
— Вот и прекрасно. Завтра вечером вы сядете на поезд, который уходит ровно в девятнадцать часов. Желаю удачи, мисс Мак-Картри.
— Спасибо, сэр…
— Разумеется, завтра вы можете не приходить на работу — надо же собрать чемодан. Я прикажу доставить бумаги к вам на дом. Чем позже они окажутся у вас — тем лучше для вашей безопасности. До свидания, мисс Мак-Картри.
Когда Иможен снова вернулась в бюро, Дженис Левис, сама не зная почему, вспомнила картину, которой однажды любовалась в одной французской церкви — жители Орлеана встречают свою освободительницу Жанну д'Арк. Казалось, мисс Мак-Картри не идет, а парит в нескольких сантиметрах над землей, словно ее осенило вдохновение свыше. Преображение так явственно бросалось в глаза, что Нэнси не выдержала.
— Ну, Иможен, все оказалось не так уж страшно? — спросила она.
— Мы с сэром Дэвидом отлично поняли друг друга.
Девушки слегка опешили.
— Он вас, часом, не пригласил на обед? — кисло-сладким тоном осведомилась Филлис Стюарт.
— Нет, мисс Стюарт, нет, обедать он меня не пригласил. Зато сказал, что весьма ценит мою работу и попросил выполнить одно дело… особого свойства.
— Разве у Большого Босса больше нет секретарши? — спросила Мэри Блэйзер.
— Да, мисс Блэйзер, у сэра Дэвида по-прежнему есть секретарша, но бывает… гм… работа, которую не доверишь простым служащим!
— Но вам — вполне можно, да? — вкрадчиво заметила Олимпа Фарайт.
— Совершенно верно, мисс Фарайт, мне, с вашего позволения, можно!
— Уверяю вас, мне глубоко безразлично, возьмете вы дополнительную работу или нет! Сидите за машинкой хоть круглые сутки! Но что вас так рассмешило, мисс Мак-Картри?
— Да просто, дорогая моя, если бы вы могли угадать, о чем речь, сразу увидели бы, сколь мелочно и смехотворно ваше замечание насчет дополнительных часов.
Мисс Фарайт такая отповедь возмутила, и обе дамы начали ссориться так громко, что на шум снова выскочил Анорин Арчтафт, обуреваемый похвальным намерением восстановить тишину и порядок.
— А! Я бы очень удивился, не увидев вас здесь, мисс Мак-Картри. Стоит вам появиться в бюро — и начинается балаган!
— Вы не могли бы разговаривать со мной другим тоном, мистер Арчтафт?
— Что?
— Вы знаете, с кем говорите?
— С проклятой шотландкой, которая уже надоела мне сверх всякой меры!
— От души советую вам обращаться со мной повежливее, чертов валлиец! Слишком много вы о себе возомнили, ничтожество вы этакое, а сами даже не пользуетесь доверием начальства!
Арчтафт так задохнулся от бешенства, что на мгновение испугался, как бы его не хватил удар. Парализованный возмущением мозг отказывался работать. Наконец Анорин предпринял отчаянную попытку снова завладеть положением:
— Что вы сказали? Что вы посмели сказать?
— Правду!
— Значит, по-вашему, начальство мне не доверяет?
— Я убеждена в этом, мистер Арчтафт, и позволю себе добавить, что полностью разделяю недоверие руководства!
— Мисс Мак-Картри, вы отдаете себе отчет, что оскорбляете меня?
— Понимайте как хотите, но могу заметить только одно: вам сэр Дэвид Вулиш ни за что не доверил бы секретную миссию!
— В отличие от вас, быть может?
— Не исключено!
Наступила такая тишина, что все отчетливо слышали, как секундная стрелка передвигается по циферблату. Начальник бюро вдруг резко изменил тон.
— Мисс Мак-Картри, как вы смотрите на то, чтобы сходить на первый этаж, к дежурному врачу? — мягко спросил он.
— К врачу? С какой стати?
— Пусть он вас посмотрит, дорогая. По-моему, вы бредите, и я боюсь, что это начало мегаломании[60]…
— Вы, вероятно, думаете, это очень остроумно? Правда, в вашей стране дикарей не слишком привередливы… Но вы рискуете жестоко пожалеть о своих словах, мистер Арчтафт, ибо недалек тот день, когда я, быть может, умру за Корону!
— Выполняя опасную миссию, насколько я понимаю?
— А почему бы и нет?
— Послушайте, мисс Мак-Картри, а почему бы в ожидании часа, когда вы падете смертью храбрых на службе Ее всемилостивейшему Величеству, вам не заняться той скромной и, согласен, совершенно недостойной ваших выдающихся способностей работой, за которую вам платят деньги? Надеюсь, вы не сочтете мою просьбу чрезмерной?
Иможен уселась за машинку, громко выражая свое мнение о невосполнимых потерях, понесенных Соединенным Королевством во время войны, ибо самые печальные последствия обнаруживаются только теперь, когда бездари и тупицы занимают совершенно не подходящие им должности.
Оставив подопечных работать, Анорин Арчтафт поспешил к Джону Масберри рассказать о происшедшем и поделиться опасениями насчет умственного состояния мисс Мак-Картри. Сообщение так поразило Масберри, что он бросился прямиком к сэру Дэвиду Вулишу. Нарушение протокола со стороны столь корректного человека несколько удивило последнего.
— Ну, Джон, что стряслось? — спросил он.
— Опять мисс Мак-Картри, сэр.
— Но она только что вышла от меня и, честно говоря, очень мне понравилась.
— Позвольте сказать, сэр, что, будь она в вашем непосредственном подчинении, вы бы очень скоро изменили мнение. И, если уж говорить совсем откровенно, мы с мистером Арчтафтом всерьез опасаемся, что мисс Мак-Картри страдает умственным расстройством.
— О!
— Во-первых, ее всегдашнее возбуждение не вполне нормально. Страсть к Шотландии и презрение к англичанам и прочим жителям нашей страны весьма напоминает навязчивую идею. А теперь эта особа еще и хвастается, будто вы поручили ей секретную миссию, где она рискует жизнью.
— Но это правда, Джон…
— Простите?
— Я поручил мисс Мак-Картри отвезти сэру Генри Уордлоу, который сейчас отдыхает в Каллендере, планы мотора «Кэмпбелла-семьсот семьдесят семь», чтобы он как можно скорее высказал нам свое мнение.
— Но… но… сэр, ведь «Кэпмбелл-семьсот семьдесят семь» — сверхсекретный самолет!
— Вы говорите это мне, Джон!
— И вы… вы доверили бумаги Иможен Мак-Картри?
— Я думаю, она будет на высоте.
— Но разве вы не слышали, что я только что рассказывал, сэр? Эта сумасшедшая рассказывает о тайной миссии всем и каждому!
— Вы ей поверили?
— Нет, но раз вы…
Большой Босс перебил его:
— Арчтафт поверил?
— Конечно, нет!
— И, я полагаю, коллеги по бюро — тоже?
— Естественно.
— В таком случае, Джон, мой план, по-видимому, вполне удался. Поскольку те, кто хорошо знает мисс Мак-Картри, даже мысли не допускают, что она говорит правду, почему вы думаете, будто иностранные агенты, которых так интересуют планы мотора «Кэмпбелла», станут рассуждать иначе, чем вы и все, кто так или этак сталкивался с шотландкой? Успокойтесь, Джон, я не сомневаюсь, что мисс Мак-Картри великолепно справится с задачей и отвезет бумаги сэру Генри Уордлоу скорее, чем лучший из наших агентов, каждый шаг которого будет привлекать внимание. Пусть Иможен продолжает болтать как сорока, но Арчтафту скажите, что все это сказка и мы с вами решили на несколько дней поместить мисс Мак-Картри в клинику.
— Хорошо, сэр… но позволю себе заметить, что не разделяю вашего оптимизма.
— Не стоит беспокоиться, Джон. Все пройдет как по маслу.
Мисс Мак-Картри чудесно провела вечер, собирая чемодан. Шотландке казалось, будто она переживает одно из тех удивительных приключений, которые так потрясали ее на экране. Перед сном Иможен дольше обычного стояла перед отцовской фотографией.
— Надеюсь, вы одобрите мой поступок, папа? — спросила она. — Нельзя же оставить англичан без помощи — ведь сами они ни на что не годятся!
А портрет Роберта Брюса вдруг стал ближе и роднее — Иможен теперь тоже вступала в клан героев.
Наутро, едва пробудившись, шотландка, как того требовал привычный ритуал, сразу же выглянула в окно. Правда, на сей раз она оглядела не только небо, но и улицу и с некоторым разочарованием обнаружила, что ни одна темная тень не юркнула в подворотню. Меж тем созданная ею вчера атмосфера героической борьбы нуждалась в более существенной опоре, чем воображение. Разочарованная тем, что, по-видимому, вражеские агенты не так уж интересуются ее особой, Иможен утешалась мыслью, что шпионы не особенно любят попадаться на глаза. Отныне она должна опасаться всех и каждого. Самая обыденная и даже привычная внешность может скрывать безжалостного врага. Прежде чем идти в ванную, Иможен поклялась себе все время держаться настороже.
Дабы избежать возможных ловушек, мисс Мак-Картри решила сидеть дома, пока не настанет пора ехать на вокзал. Около полудня Иможен достала из шкафа в прихожей пальто, собираясь его погладить. Неожиданно ей показалось, что по лестничной площадке кто-то осторожно крадется. Повинуясь лишь собственному бесстрашию, мисс Мак-Картри широко распахнула дверь и оказалась нос к носу с довольно странным типом. Высокий и толстый незнакомец с невероятно смешными усами смахивал на огромного тюленя. Неожиданное появление Иможен, очевидно, так удивило мужчину, что его и без того слегка выпученные голубые глаза совсем вылезли от орбит.
— Вы кого-нибудь ищете? — сразу перешла в наступление мисс Мак-Картри.
Тот вконец смутился, словно его застали врасплох.
— Да… нет… то есть ищу… мисс Дэвидсон…
Иможен презрительно хмыкнула.
— В этом доме нет и никогда не было никакой мисс Дэвидсон!
— А… В таком случае, я, должно быть, ошибся…
— Я тоже так думаю!
И, отступив обратно в квартиру, мисс Мак-Картри захлопнула дверь перед самым носом мужчины с тюленьими усами. Только вернувшись на кухню готовить соус к остаткам позавчерашнего хаггиса, шотландка сообразила, что вела себя очень неосторожно. А ну как тот тип вцепился бы ей в горло? От удивления Иможен не могла бы даже сопротивляться! Чем больше она обдумывала происшествие, тем менее естественным казалось ей появление на лестничной площадке незнакомца и тем неправдоподобнее выглядел выдуманный им предлог. И мисс Мак-Картри пообещала себе впредь не действовать так необдуманно. В конце концов, это важно как для ее собственной безопасности, так и для выполнения миссии. Сэр Дэвид Вулиш предупредил, что враги могут покушаться на ее жизнь. А его слова нельзя не принять к сведению. Придя к такому выводу, Иможен без колебаний направилась к чуланчику, куда почти никогда не заглядывала, и, подставив лестницу, открыла ящик на самом верху, стоящий там с тех далеких времен, когда мисс Мак-Картри приехала в Лондон. Из офицерского сундучка она достала тщательно запакованный сверток и стала спускаться вниз так осторожно, словно держала в руках необычайно хрупкую вещь. На самом деле это был револьвер ее деда, привезенный им из Трансвааля, где он сражался с бурами. Размеры этого оружия производили сильное впечатление, а вес вполне позволял использовать его как дубинку. Что до стрельбы… разве что поставить на лафет и приделать колеса, иначе трудно даже вообразить, какой выдающейся силой надо обладать для подобного подвига. Дочь и внучка солдата, Иможен научилась от папы-капитана (который, маясь от скуки, иногда воображал, будто дочь — новобранец, и учил ее премудростям военной науки) искусству разбирать и собирать этот музейный экспонат. В свое время она достигла большого мастерства. Шотландка освежила в памяти прежние уроки и очень быстро убедилась, что ничего не забыла. Тщательно почистив револьвер, она, не колеблясь, сняла предохранитель, дабы достойно подготовиться к любым неожиданностям. Однако, взглянув на гигантские пули в барабане, мисс Мак-Картри невольно содрогнулась.
Около четырех часов пополудни в дверь осторожно позвонили. Слишком осторожно, по мнению Иможен! Интуиция подсказывала, что гость не хочет привлекать внимание соседей. Быть может, это второе покушение врага? Прежде чем открыть дверь, шотландка снова выглянула в окно — не стоит ли у крыльца традиционный черный лимузин, на котором ее собираются увезти, после того как похитят? Не заметив ничего похожего, она все-таки взяла огромный револьвер и, крепко сжимая его в руке, открыла дверь. На площадке стоял похожий на коммивояжера молодой человек с большим пакетом в руке. Пакет напоминал те, что обычно доставляют из кондитерской. При виде направленного на него револьвера молодой человек побледнел, потом покраснел и снова побледнел, и только обостренное чувство долга помешало ему задать стрекача.
— Ми… мисс… Мак… Картри?
— Да.
— Де… держите… это… вам!
Он сунул Иможен пакет и, не дожидаясь чаевых, бросился прочь. Мисс Мак-Картри слегка смутилась, но, будучи настоящей шотландкой, поздравила себя с тем, что, по крайней мере, сэкономила таким образом шесть пенсов. Сначала она внимательно оглядела пакет со всех сторон. Кто мог послать ей пирожные? И сразу же в голове мелькнула мысль о Нэнси Нэнкетт, проявившей вчера столько дружеского участия. Иможен развязала веревку, сняла бумагу и тут же чуть не вскрикнула от удивления: под двойным рядом песочных пирожных, зажатый меж двух картонок, виднелся знаменитый конверт, виденный ею вчера у сэра Дэвида Вулиша. Мисс Мак-Картри осторожно вытащила его и узнала пометку «Т-34». Значит, внутри действительно были планы «Кэмпбелла-777»! Иможен восхитилась изобретательностью секретных служб и с этого момента окончательно уверовала в грядущие приключения.
Около пяти часов, не в силах более терпеть одиночество, Иможен позвонила Нэнси в бюро и, сославшись на то, что хочет сообщить важную новость, попросила заехать. Как только девушка переступила порог, мисс Мак-Картри поведала ей о своем отъезде, извинившись, что не может сказать ни куда едет, ни зачем.
— Знайте лишь, дорогая Нэнси, что меня, вероятно, ждут величайшие опасности.
— Опасности?
— Не забывайте, дорогая моя, что мы работаем в Разведывательном управлении Адмиралтейства!
— Скромными машинистками-стенографистками…
— Любому из самых скромных служащих могут поручить и более ответственное дело… Постарайтесь понять с полуслова, поскольку я обещала хранить тайну…
— Иможен, вы меня пугаете!
— Не стоит бояться! Но… в случае, если я не… не вернусь… я хочу, чтобы вы знали: все, что есть в этой квартире, я оставляю вам… Распоряжайтесь моим хозяйством по своему усмотрению… Однако хочу поручить вашему особому вниманию вот этот портрет Роберта Брюса…
— Прекратите, Иможен, или я сейчас расплачусь и обе мы будем выглядеть ужасно глупо! Впрочем, я убеждена, что вы сильно преувеличиваете и через несколько дней вернетесь к нам из этой таинственной поездки в самом добром здравии…
— Да услышит вас Бог, моя дорогая Нэнси!
В улыбке мисс Мак-Картри проглядывала скорбная решимость, свойственная тем, кто «знает тайну», но не может ее открыть, а потому уже как бы не принадлежит этому миру. Пока мисс Нэнкетт готовила чай, Иможен сунула конверт в чемодан и спрятала среди белья, потом положила револьвер в сумочку, которую всегда носила на руке, а фотографию отца — в дорожный несессер. В шесть часов шотландка распрощалась с Нэнси, попросив проследить, чтобы ее непременно похоронили в Каллендере, рядом с папой. В четверть седьмого готовая к путешествию мисс Мак-Картри подхватила багаж и в последний раз оглядела комнату, где она прожила столько лет. При мысли о том, что, возможно, она уже никогда больше сюда не вернется, к горлу шотландки подступил комок. Героини тоже имеют право на человеческие слабости, в том, разумеется, случае, если они их превозмогают. Иможен так и поступила и, закрыв за собой дверь, твердым шагом двинулась навстречу судьбе.
Глава III
Прежде чем выйти из подъезда, мисс Мак-Картри поставила чемодан на землю и, прижавшись к стене, осторожно осмотрелась — не караулит ли кто на улице. Миссис Хорнер, наблюдавшая за ней сквозь щелочку в занавеске, нервно вздрогнула. Не будь она в ссоре с шотландкой, непременно спросила бы о причинах столь странного поведения. Сгорая от любопытства, домовладелица забыла обо всех обидах, так ей хотелось узнать правду, но, к счастью для ее самолюбия, жиличка успела исчезнуть прежде, чем она решилась на унизительный для себя поступок.
На Олд Черч-стрит Иможен остановила первое попавшееся такси и приказала шоферу ехать на Пэддингтонский вокзал, причем крикнула так громко, что бедняга подскочил и стал уверять, что он вовсе не глухой. Мисс Мак-Картри пожала плечами. Не могла же она объяснить, что это лишь ловкий маневр с целью обмануть противника, если таковой прячется где-то поблизости! По дороге Иможен несколько раз оборачивалась, пытаясь угадать, не следят ли за ней, но в таком море машин пойди разбери, едет ли какая-нибудь именно за ее такси! На Пэддингтонском вокзале мисс Мак-Картри смешалась с толпой пассажиров, сновавших по огромному холлу, и через боковой выход выскользнула на Хэмпстед-роуд. Там она снова села в такси и отправилась на вокзал Виктории. Времени добраться до Черринг Кросс уже не хватало, и шотландка решила доехать до Юстона и там сесть на поезд в Эдинбург. Поручив носильщику взять билет, Иможен вместе с группой туристов незаметно вышла на платформу. Она выбрала вагон почти в середине поезда и купе — в середине вагона, а потом позаботилась сесть поближе к кнопке сигнала тревоги. Теперь она полагала, что ничего не оставила на волю случая, и стала спокойно наблюдать в окно за путешественниками, спешившими к поезду.
При мысли о том, что ни вон тот господин, ни та дама, да и вообще никто даже не подозревает, что она агент Икс Разведывательного управления и, возможно, везет в чемоданчике судьбу всего мира, Иможен охватывала необычайная гордость. И мисс Мак-Картри с состраданием думала о пребывающих в полном неведении соотечественниках, и с невыразимым восторгом — о себе самой, причем оба чувства вытекали одно из другого. Шотландка совсем было ушла в приятные грезы, как вдруг ее проняла дрожь. Она заметила странную фигуру, прячущуюся в толпе родственников и друзей, провожавших поезд! Иможен почти не сомневалась, что узнала человека, который так упорно старался не привлекать внимание. Слишком много усилий — вот и добился противоположного результата! Впрочем, тот тип мгновенно исчез, и шотландка с тревогой подумала, уж не сел ли он в поезд. В глубине, в самой-самой глубине сердца Иможен, хотя сама она ни за что на свете в этом бы не призналась, мелькнула легкая тень, происхождение которой мисс Мак-Картри и сама не смогла определить, поскольку до сих пор еще не успела как следует познакомиться со страхом. Ей хотелось, чтобы купе осталось пустым, — тогда ночью можно было бы лечь и устроиться поудобнее, но мысль об одиночестве слегка пугала. Что ж, ради служения Короне можно провести и бессонную ночь! Завтра днем, добравшись до родного дома в Каллендере, она успеет отоспаться.
Поезд уже почти тронулся, когда на перроне вдруг появилось довольно забавное трио. Трое мужчин, обвешанных самыми разнообразными приспособлениями для рыбной ловли. Они едва успели вскочить в первый попавшийся вагон (а это оказался как раз вагон мисс Мак-Картри), когда состав тронулся. Точнее, это произошло в ту самую минуту, когда младший член симпатичного трио оторвал ногу от платформы. Иможен слышала, как они идут по коридору, весело смеясь и радуясь, что не упустили поезд. Увидев сидящую в одиночестве шотландку, самый старший член компании спросил разрешения устроиться рядом, если, конечно, они ей не помешают. Забросив багаж в сетки, они снова поинтересовались у Иможен, не раздражает ли ее табачный дым, и, получив разрешение, закурили. По веселому, оживленному разговору мисс Мак-Картри догадалась, что это горожане, решившие провести отпуск на лоне природы. Еще она вроде бы уловила легкий шотландский акцент, но, зная за собой склонность принимать за шотландца всякого мало-мальски симпатичного человека, решила не делать скоропалительных выводов. Так прошло минут сорок, и они уже миновали Тринг, когда старший из мужчин предложил друзьям выпить по глотку доброго шотландского виски. Младший, молодой человек очень приятной наружности, как показалось Иможен, поглядывавший на нее с некоторой симпатией, заявил, что с удовольствием промочит горло, потому что эти проклятые английские поезда всегда ужасно действуют ему на нервы. Третий, довольно тучный господин среднего возраста, одернул молодого человека:
— Вам следовало бы придержать язык, Аллан! Если мисс — англичанка, ваши слова могли ее обидеть…
Тот, кого назвали Алланом, тут же повернулся к нашей путешественнице, прося прощения, если его слова задели ее национальную гордость. В ответ мисс Мак-Картри с удовольствием сообщила, что она не только шотландка, но и принадлежит к древнему клану Мак-Грегоров. Старший из мужчин сразу вскочил на ноги.
— Встаньте, господа! — обратился он к спутникам. — Мы не можем сидеть в присутствии одной из Мак-Грегоров, иначе как с ее позволения!
Глядя, как перед ней почтительно вытянулись трое мужчин, Иможен переживала едва ли не лучшие минуты в своей жизни. Вот эти господа по-настоящему умеют себя вести! Будь здесь Анорин Арчтафт и Джон Масберри, они получили бы хороший урок! Мисс Мак-Картри с самым любезным видом предложила шотландцам сесть, но они непременно пожелали сначала представиться. Самый старший, Эндрю Линдсей, родился в Абердине, в Горной Шотландии, и вот уже сорок лет жил изгнанником в Лондоне, работая экспертом-топографом.
— А это, — указал он на толстяка, — Гован Росс, уроженец Пиблса, в Нижней Шотландии. Но теперь он тоже обитает в Лондоне и является уполномоченным фирмы «Айрэм и Джордж» в Сити. И, наконец, Аллан Каннингэм, наш проказник. Он, как и Росс, из Нижней Шотландии, только из Дамфриса, и занимается позорным ремеслом театрального агента в Сохо.
Иможен назвалась в свою очередь, но, решив оставаться начеку, сообщила, будто работает секретарем в экспортно-импорной фирме «Смит и Фрэйзер» в Блэкфрайарсе.
В Норсхэмптоне мисс Мак-Картри уже пила виски вместе со своими спутниками, а те радовались встрече с соотечественницей. Узнав, что Иможен родом из Каллендера, все трое завопили от восторга. Оказалось, именно туда они и направляются ловить рыбу в озерах Веннахар и Кэтрин. Что касается Аллана Каннингэма, то он хотел еще побродить по Троссаксу в надежде встретить призрак Боб Роя, знаменитого разбойника. Не удержавшись от искушения, мисс Мак-Картри поведала, что состоит в родстве с Мак-Грегорами именно через Боб Роя, чем вызвала новый всплеск энтузиазма, а во взгляде Аллана она теперь явственно читала восхищение.
В Регби Иможен узнала, что все ее спутники — холостяки. Не то что б они были женоненавистниками, но до сих пор ни один из них не встретил подругу, о которой мечтал всю жизнь. Мисс Мак-Картри тоже сообщила, что живет в полном одиночестве, признав, что порой это довольно тяжко.
В Личфилде, жители которого, если верить доктору Джонсону, — самые вежливые люди во всей Англии, Иможен и ее новые друзья, взявшись за руки, пели старинную Троссакскую песню.
В Крю, во время довольно долгой остановки, спутники попросили Иможен сделать им честь и разделить с ними трапезу. Мисс Мак-Картри любезно согласилась — во-первых, жеманничать было бы, с ее точки зрения, весьма дурным тоном, а во-вторых, она проголодалась. Гован достал ветчину, Эндрю — пирог с яблоками, Аллан — пирожки с салом, купленные им накануне в Истбурне. Все эти припасы быстро исчезли под дружный смех и веселые шутки. Тем временем наступила ночь, и следовало подумать об отдыхе. Иможен пошла в туалет освежить лицо, но в коридоре испытала легкое потрясение — в дальнем конце опять маячила смутно знакомая фигура. Мисс Мак-Картри показалось, что при виде ее мужчина повернулся спиной и бросился прочь. Может, опасался, что его узнают? Иможен все еще не могла вспомнить, где она видела этого типа, но, в любом случае, хорошо, что рядом есть трое надежных шотландцев. Под их защитой она ничем не рискует и может спокойно отдохнуть.
Спутники постарались предоставить Иможен как можно больше места, и она устроилась очень удобно. Потом все пожелали друг другу спокойной ночи, и Линдсей погасил свет. События последних двадцати четырех часов сломили мисс Мак-Картри, и она мгновенно погрузилась в глубокий сон. Однако еще задолго до утра Иможен пришлось выйти из блаженного забытья, в коем она пребывала с самого Крю. Кто-то тихонько трогал ее плечо, вежливо и очень почтительно приговаривая:
— Мисс Мак-Картри, проснитесь… Проснитесь, мисс.
Иможен приоткрыла один глаз и увидела улыбающееся лицо Эндрю Линдсея. Двое его спутников вытаскивали из сеток багаж. Мисс Мак-Картри мигом вскочила.
— В чем дело?
— Мы подъезжаем к Эдинбургу, мисс, а там, как вы знаете, нам придется три часа ждать поезда на Каллендер. Надеюсь, в буфете найдутся места.
Это сказал Аллан, и вроде бы в его словах ничего особенного не было, но Иможен вдруг показалось, что они прозвучали необычайно тепло. Одна мисс Мак-Картри, вероятно, не рискнула бы зайти в станционный буфет, но с такими тремя спутниками она ничего не боялась. Шотландка села рядом с Алланом, и на суровом лице Эндрю Линдсея как будто мелькнула тень разочарования. Или ей просто померещилось? Все существо Иможен радостно затрепетало — впервые в жизни ее ревновал мужчина! Однако она отметила про себя, что Эндрю, единственный из троих друзей, несмотря на ранний час, выглядел вполне проснувшимся. Толстяк Гован то и дело клевал носом, а молодой Аллан все время зевал, каждый раз прося у спутницы прощения за такую слабость. Иможен охотно прощала.
Выпив чаю и проглотив несколько сдобных булочек с изюмом, путешественники стали сопротивляться одолевавшему их в этот уже не ночной, но еще не утренний час оцепенению. Иможен не желала поддаваться, опасаясь, что будет спать с открытым ртом и — кто знает? — возможно, храпеть. Первым не выдержал Гован. Голова его вдруг склонилась, и уже через несколько секунд мерное посапывание оповестило друзей, что толстяк больше не в состоянии поддерживать беседу. Линдсей улыбнулся мисс Мак-Картри, словно предлагая и ей немного подкрепиться сном. Сам он закурил.
— В старости уже почти не заботишься о таких вещах… Грустная привилегия! Я могу не спать несколько ночей подряд. Но вы, мисс Мак-Картри, можете без ложного стеснения немного отдохнуть. А я, подобно пастырю, буду охранять свое маленькое стадо…
Иможен воспользовалась разрешением и прикрыла глаза, слегка откинувшись на спинку скамьи, однако очень скоро почувствовала с левого бока какое-то давление и приоткрыла веки. Это Аллан во сне потерял равновесие и соскользнул в ее сторону. Происшествие взволновало шотландку до глубины души — никогда еще к ней не прижимался мужчина… Заметив, что Эндрю сидит к ним спиной, наблюдая за суетой пассажиров, мисс Мак-Картри тихонько приподняла плечо, чтобы молодой человек мог положить на него голову. Ей хотелось, чтобы рассвет никогда не наступал… Но даже самым лучшим мгновениям нашей жизни приходит конец. Услышав вопль репродуктора, Иможен подскочила.
«Пассажиры на Данблэйн, Каллендер, Лохрнхел, Льюб, Тиндрем, Дэлмеллу, Тэйнюлт, Обан приглашаются на посадку»!
Все четверо, не без труда расправив затекшие члены, поспешили к поезду. Ноги не гнулись, спина ныла, во рту стоял отвратительный привкус, какой всегда бывает после ночи, проведенной на вокзале, в табачном зловонии и угольной пыли. Прелести, свойственные отнюдь не только британским железным дорогам! Едва четверо друзей снова разложили багаж в сетках облюбованного ими вагона, мисс Мак-Картри выскользнула в туалет наводить красоту, несколько пострадавшую от ночных испытаний. Когда она вернулась, трое мужчин дружно воспели ее удивительно свежий вид, уверяя, что ни одна англичанка не в силах соперничать в этом плане с дочерью Горной Страны. Иможен усадили возле окна, причем каждый старался устроить ее поудобнее. Однако удовольствие мисс Мак-Картри очень скоро было жестоко отравлено. Поезд уже почти тронулся, как вдруг среди последних пассажиров, спешивших к их вагону, она снова заметила знакомый силуэт. Шотландка чуть не сказала об этом спутникам, но это наверняка испортило бы царившую в купе чудесную атмосферу, а кроме того, вынудило бы саму Иможен к преждевременным признаниям. Разум подсказывал, что лучше промолчать — в конце концов, не исключено, что она ошиблась.
Проезжая мимо Баннокберна, все умолкли, почтительно созерцая священное место, где шотландцы устроили англичанам столь выдающуюся взбучку. В Стирлинге, вспомнив обо всех царственных покойниках, некогда обитавших в знаменитом замке, мисс Мак-Картри благоговейно перекрестилась. В Каллендере, как всегда по возвращении на родину, Иможен снова почувствовала себя молодой. Забыв о привычных сдержанности и высокомерии, столь свойственных ей в Лондоне, мисс Мак-Картри громко приветствовала с детства знакомых людей, а те спешили разнести по всему городу весть, что дочь капитана Мак-Картри вернулась. Старый констебль Сэмюель Тайлер, наблюдавший у выхода за потоком пассажиров, отдал ей честь.
— А мы и не знали, мисс Мак-Картри, что путешествуем с такой знаменитостью! — заявил Эндрю Линдсей. — С каким почтением вас тут встречают!
Они посмеялись и расстались с самыми дружескими чувствами, договорившись еще встретиться. Иможен обещала непременно поужинать с ними в один из ближайших вечеров и быстрым шагом направилась домой — узнав о ее возвращении, миссис Розмери Элрой уже наверняка навела там порядок. Аллан Каннингэм и Гован Росс поехали в «Герб Анкастера», где заранее заказали комнаты, а любивший одиночество Эндрю Линдсей предпочел гостиницу «Черный лебедь» в Килмахоге, принадлежавшую Джефферсону Мак-Пантишу и его жене Эллисон. Отсюда Линдсей мог в считанные минуты добраться до озера Веннахар и насладиться упоительными радостями рыбной ловли.
Миссис Элрой, в свои почти семьдесят лет соглашавшаяся помогать лишь мисс Мак-Картри, чьи серьезность, сдержанность и вкус к холостой жизни весьма ценила, по-матерински расцеловала Иможен. Злые языки утверждали, будто
Розмери соединяла с покойным капитаном индийской армии, плохо переносившим вдовство, не одна только преданная дружба, но в Шотландии, как, впрочем, и везде, сплетники злословят, а жизнь идет своим чередом.
Иможен с удовольствием вошла в свою комнату, где бронзовый бюстик Вальтера Скотта с трудом сохранял равновесие на хрупкой полочке, а напротив висел портрет Роберта Брюса, в изображении живописца XVII века гораздо больше напоминавшего Тамерлана, чем крепкого шотландца. Мисс Мак-Картри начала разбирать чемодан. Разложив белье на полках и развесив в шкафу платья, она отложила в сторону конверт, который должна была передать сэру Генри Уордлоу, а громадный револьвер, чтобы не пугать Розмери, спрятала на дне пустого чемодана, прикрыв старыми газетами. Когда миссис Элрой крикнула, что пора есть, Иможен, снова почувствовав себя прежней маленькой девочкой, послушно отправилась в столовую. За ленчем мисс Мак-Картри без умолку рассказывала старой экономке о Лондоне, на все лады высмеивая англичанок. Розмери, питавшая закоренелое отвращение ко всем иностранцам, получила огромное удовольствие. Накормив Иможен, старушка отправилась домой, обещав снова прийти завтра утром, а мисс Мак-Картри поднялась в спальню — прежде чем она приступит ко второй части возложенной на нее миссии, следовало хорошенько выспаться и отдохнуть.
Вечером мисс Мак-Картри проснулась, уже не чувствуя ни малейших признаков дорожной усталости, благодарно подумала о скрасивших путешествие спутниках, приняла холодную ванну и окончательно пришла в себя. Правда, при мысли о встрече с таинственным незнакомцем, скрывавшимся в Каллендере, сердце Иможен учащенно забилось, но все же она немного досадовала, что увлекательное приключение так быстро закончится. Шотландка тщательно подготовилась к встрече, желая произвести приятное впечатление, но не пытаясь, впрочем, строить из себя роковую женщину, и сунула за корсаж конверт с пометкой «Т-34».
Иможен вышла черным ходом на тропинку, ведущую к пертской дороге и петляющую среди садов. Внезапно она заметила какого-то мужчину. Тот стоял к ней спиной, по-видимому разглядывая дом. Сперва мисс Мак-Картри даже не подумала о незнакомце, которого видела уже дважды — в Лондоне и в Эдинбурге. Скорее всего — потому что, вернувшись на родину, уже не ожидала никаких неприятностей. Она твердым шагом приблизилась к незнакомцу.
— Вы кого-нибудь ищете, сэр?
Тот подскочил, как будто под ногами у него разорвалась бомба, и, обернувшись к Иможен, забормотал извинения. Но шотландка не слушала. Застыв от ужаса, она смотрела на незнакомца, в котором, теперь уже без всяких сомнений, наконец узнала человека, топтавшегося на лестничной площадке в Лондоне, мелькнувшего в коридоре поезда и спешившего к вагону в Эдинбурге. Да, это, бесспорно, голубоглазый тип с тюленьими усами! Значит, враги ее все-таки выследили! Огромным усилием воли Иможен взяла себя в руки и поспешно вернулась в дом. Ей надо было пройти всего несколько метров, но они показались ей самыми длинными в жизни, ибо мисс Мак-Картри в любую минуту ожидала удара — либо камнем по голове, либо ножом в спину. И она взмолилась духу Роберта Брюса, прося вдохнуть в нее мужество, чтобы не поддаться панике. Должно быть, великий шотландец услышал ее мольбы, потому что Иможен добралась до дома, не упав в обморок и не завопив от страха. И лишь дома, после того как задвинула засов, мисс Мак-Картри позволила себе поддаться минутной слабости. Однако и тут с помощью виски ей довольно быстро удалось восстановить равновесие.
Наверху, в спальне, вспомнив о недавних иллюзиях, Иможен грустно улыбнулась. По-видимому, враги Соединенного Королевства твердо решили помешать ей отнести пакет сэру Генри Уордлоу, и, быть может, на коротком отрезке пути, отделяющем от завершения миссии, ее поджидает смерть? На секунду мисс Мак-Картри захотелось позвонить в «Торфяники», но она подумала, что это было бы трусостью. Нет, Иможен Мак-Картри сама передаст письмо из рук в руки, как ей приказали, или падет жертвой долга! И по щеке Иможен невольно скатилась слеза. Умирать всегда грустно, даже за Корону… Во всяком случае, дочь капитана индийской армии поклялась дорого продать свою жизнь. Иможен снова вытащила из чемодана револьвер и, зарядив его, положила в сумочку. Тут-то она и заметила бумажку, сложенную вчетверо, как письмо. Как эта бумага попала в сумку? В полной растерянности шотландка развернула письмо, ожидая, что ей грозят смертью или, по крайней мере, предупреждают, однако, прочитав первые несколько строчек, Иможен застыла, широко открыв рот от удивления. Сердце у нее отчаянно билось.
«Дорогая мисс Мак-Картри.
Я знаю Вас всего несколько часов и тем не менее уверен, что Вы — та женщина, о которой я мечтал всю жизнь. Надеюсь, Вы простите мою смелость и поверите в искренность признания того, кто не решается подписать это письмо и будет терпеливо ждать вашего знака, чтобы открыться.
С нежностью и надеждой.
Ваш Неизвестный».
Впервые в жизни Иможен получила любовное письмо! Она была так потрясена, что разом забыла и о своей миссии, и о недавних страхах. Записку наверняка положили в сумочку ночью… Но кто ее автор? Эндрю Линдсей, Гован Росс или Аллан Каннингэм? Мисс Мак-Картри страстно хотелось, чтобы это оказался последний, но она не очень верила в такую возможность. По возрасту это, скорее, Эндрю Линдсей, так заботливо ухаживавший за ней во время путешествия. Или Гован Росс, чью сдержанность вполне можно объяснить смущением… Ведь пятидесятилетние холостяки так часто стесняются проявлений чувств, более свойственных влюбленным юнцам. Иможен подумала, что автор письма, очевидно, воображает, будто она заметила его влюбленность, иначе он не просил бы какого-нибудь знака… Как же, в таком случае, показать, что она ни о чем не догадывается? Надо вести себя очень осторожно, иначе может получиться недоразумение, очень обидное для ее самолюбия. В конце концов мисс Мак-Картри решила при следующей встрече повнимательнее приглядеться к своим троим спутникам. Тогда-то она и узнает, кто написал письмо. Радуясь, что ее все-таки поведут к алтарю, Иможен больше не испытывала никакого страха перед врагами. Она докажет неизвестному влюбленному, что достойна его любви. И, преисполнившись неукротимой отваги, шотландка в сгущающихся сумерках направилась к «Торфяникам», где ее ожидал сэр Генри Уордлоу.
«Торфяники» — небольшой приземистый домик. Со стороны, противоположной фасаду, крыша его почти касается земли. Мисс Мак-Картри хорошо помнила его прежних владельцев, Гиббонсов. Два года назад они уехали к замужней дочери в Чикаго. По дороге Иможен несколько раз оглядывалась, проверяя, нет ли погони, но предполагаемый агрессор, наверняка сообразив, с кем имеет дело, и не желая терпеть позорное поражение, не показывался. Иможен Мак-Картри не сдается без боя, а теперь, когда ее полюбили, она практически непобедима! Добравшись до калитки заброшенного сада «Торфяников», шотландка в последний раз огляделась вокруг. Как будто ни души… Для очистки совести Иможен на минуту задержала дыхание и прислушалась, но не услышала ничего, кроме шорохов ветра. Не будь она на задании, мисс Мак-Картри непременно постояла бы тут подольше, ибо в бормотании ветра ей чудились нежные слова, слова, которых они никогда в жизни не слышала и которые, оказывается, кто-то только и мечтает ей сказать… Убедившись, что теперь опасаться нечего, Иможен разрядила револьвер и надела предохранитель. Вероятно, лишь это и спасло жизнь сэру Генри Уордлоу, ибо в тот момент, когда гостья потянулась к шнурку колокольчика, ей на плечо легла чья-то рука. Шотландка тихонько вскрикнула и, резко обернувшись, навела на незнакомца револьвер. Курок несколько раз щелкнул вхолостую, и мисс Мак-Картри впервые в жизни смачно выругалась.
— Мисс Мак-Картри, я полагаю? — пробормотал слегка озадаченный сэр Генри Уордлоу.
— Да… да.
— Я — тот, кому вы должны кое-что передать. У нас назначена встреча…
— О, простите, что я чуть не…
— Не будем больше об этом… Пойдемте.
И, не ожидая ответа, сэр Генри скользнул в темноту. Иможен поспешила следом, боясь потерять его из виду. Друг за другом они пробрались среди кустов и, сама не заметив как, мисс Мак-Картри оказалась в уютной гостиной. В камине горели дрова, на столе стояли бутылка виски и два бокала. Гостья с облегчением перевела дух. Только что пережитые минуты позволяли с особой благодарностью оценить чувство полной безопасности, которое она испытывала рядом с сэром Генри. Хозяин дома предложил Иможен сесть.
— Я думаю, вам сейчас больше всего нужен добрый глоток виски, — заметил он.
Шотландка не стала спорить, и, пока сэр Генри наполнял бокалы, украдкой разглядывала его. Хозяин дома показался ей воплощением аристократизма. Высокий, стройный, с лицом аскета и серыми глазами… Кроме того, Иможен углядела в клетчатой ткани твидовой куртки основные цвета Мак-Грегоров. Пожалуй, больше всего сэр Генри напоминал фермера-джентльмена, привыкшего делить время между наукой и обработкой земли. На редкость приятный господин. Он с улыбкой поклонился шотландке:
— Выпейте, мисс, это вас взбодрит…
Оба молча выпили и опустили бокалы на стол.
— Боюсь, что для агента Разведывательного управления вы недостаточно хладнокровны, мисс Мак-Картри, — заметил хозяин.
Упрек вызвал на щеках Иможен краску смущения, но, быстро оправившись, она возразила:
— Узнав о моих приключениях, сэр, вы, несомненно, согласитесь, что у меня были некоторые основания для тревоги…
Шотландка подробно описала первое столкновение с голубоглазым типом на лестничной площадке, свои мимолетные наблюдения в Юстоне и Эдинбурге и, наконец, как всего несколько минут назад она обнаружила, что незнакомец топчется у ее дома. Сэр Генри задумчиво покачал головой:
— Ясно… и больше никто не пытался войти с вами в контакт?
— Никто, сэр. Впрочем, я путешествовала вместе с тремя соотечественниками, как и я, живущими в лондонском изгнании. Они решили провести отпуск в Каллендере. Всю дорогу мы не расставались ни на минуту, и я чувствовала себя в полной безопасности.
— А кто эти господа?
— Эндрю Линдсей, топограф, Гован Росс, коммерсант, и Аллан Каннингэм, театральный агент.
— Что ж, мисс Мак-Картри, теперь, когда мы познакомились, я думаю, вы можете передать мне пакет от сэра Дэвида Вулиша.
Иможен скромно удалилась в другой конец комнаты, вытащила конверт и, снова застегнувшись, подошла к сэру Генри. Протягивая хозяину дома бумаги, шотландка гордо улыбнулась с сознанием достойно выполненного долга. Уордлоу взял нож для бумаги и разрезал конверт. Быстро проглядев листки, он снова повернулся к Иможен.
— Я с сожалением вынужден сообщить вам, мисс Мак-Картри, — холодно заявил он, — что, вопреки вашим предположениям, тот голубоглазый тип или кто-то другой добился своей цели… Взгляните!
Потрясенной Иможен пришлось признать очевидный факт. В конверте лежали чистые листки бумаги.
— Это… не… невозможно… — пробормотала она.
— Увы, мисс Мак-Картри… вы совсем не представляете, когда именно бумаги могли подменить?
— Нет… но ведь конверт — тот же самый, правда?
— Или, по крайней мере, точно такой же.
Иможен вскочила.
— Но вы прикажете арестовать этого человека, правда? Каллендер не так уж велик! Его очень скоро найдут! — гневно воскликнула она.
— Если только он еще не уехал… Успокойтесь, мисс Мак-Картри. Не забывайте, что Разведывательное управление никогда не вмешивает в свои дела полицию… Кроме того, у меня нет полномочий требовать чьего бы то ни было ареста. На что я мог бы сослаться, не выдав вашей тайны? Не говоря о том, что человек, о котором вы мне рассказали, несомненно, гражданин иностранной державы. Представляете, к каким осложнениям могут привести слишком поспешные действия?
— Но как же быть?
— Мисс Мак-Картри, тот, кто согласился работать с нами, должен проявить смекалку и ловкость и самостоятельно завершить доверенную ему миссию. Стало быть, вам предстоит как можно скорее любыми средствами вернуть документ.
— Вы сказали, любыми средствами, сэр?
— Да, мисс, любыми.
Вне себя от унижения и ярости, Иможен возвращалась домой, мечтая только об одном, остаться с голубоглазым наедине в запертой комнате. Уж она вытянула бы из него все жилы, но выяснила, куда этот мерзавец спрятал документы! Однако пока шотландке было не на кого рассчитывать, и чувствовала она себя совершенно беспомощной. Вдруг Иможен вспомнила о своих попутчиках, и ее охватила великая надежда. Один из этих славных ребят любит ее и уж наверняка не откажется помочь! Вместе они рискнут жизнью для спасения Короны и чести самой Иможен. Вот поистине обручение, достойное праправнучки Боб Роя!
Поскольку сон к ней никак не шел, мисс Мак-Картри решила написать письмо Нэнси и хотя бы полунамеками рассказать обо всех своих горестях и надеждах. Накинув халат и подвязав рыжие волосы зеленой ленточкой, Иможен села за стол и принялась за работу.
«Дорогая моя Нэнси,
Представьте себе, я обесчещена. Другой бы я в этом не призналась, но Вы — моя подруга, поэтому я уверена, что Вы разделите мой стыд и пожалеете меня. У меня украли нечто такое, о чем я не могла Вам сказать. Должна также признаться, что кое-кто в меня влюблен и даже написал любовное письмо. Не сомневаюсь, что у него серьезные намерения. Так что не удивляйтесь, дорогая Нэнси, если при следующей встрече Вы увидите меня замужней дамой… Правда, я пока не знаю имени своего воздыхателя, а следовательно, не могу Вам его сообщить. Но захочет ли он жениться на опозоренной женщине? Меня до смерти пугает такая огромная ответственность… Хоть королева и англичанка, я не могу ее предать, даже невольно. Кто знает, какие беды обрушатся на Соединенное Королевство только из-за того, что я не сумела принять достаточных мер предосторожности? Нэнси, я глубоко несчастна и хотела бы умереть, удерживает только мысль о человеке, который меня тайно любит. Как мне Вас не хватает! До свидания, дорогая Нэнси, помолитесь за свою подругу и попросите Небо вернуть ей честь, позволив разыскать то, что она потеряла. Обнимаю Вас.
Иможен Мак-Картри».
В Лондоне перепуганная этим письмом Нэнси Нэнкетт под строжайшим секретом дала его почитать мисс Левис, а та обо всем рассказала Анорину Арчтафту. Тот заявил, что его предсказания сбываются: мисс Мак-Картри вполне созрела для психбольницы. И, надеясь склонить к замужеству саму Дженис, начальник бюро подчеркнул, что, возможно, к столь печальному результату Иможен привело слишком затянувшееся девичество.
Глава IV
Иможен отличалась крепким здоровьем и к тому же привыкла подчиняться военной дисциплине, а потому, несмотря на все огорчения, прекрасно проспала ночь и видела в основном приятные сны. Пробудившись, она не торопилась вставать, а еще некоторое время пролежала в приятном забытье, уже, вероятно, в сотый раз задавая себе один и тот же вопрос: кто умирает от любви к ней, не решаясь признаться открыто? И услужливая память против воли Иможен показывала ей улыбающееся лицо Аллана Каннингэма. Спасаясь от бесплодного наваждения, мисс Мак-Картри поспешила в ванную, и ледяной душ живо привел ее в чувство. Покончив с гимнастикой, она уселась завтракать и заодно разрабатывать план контратаки. Сэр Генри говорил, что не может обратиться в полицию и что ее нельзя вмешивать в дела секретных служб? Пусть так, но что мешает самой Иможен придумать, будто у нее украли какую-нибудь драгоценность, и сказать, что она догадывается, чья это работа? Отличный способ разыскать голубоглазого. Правда, когда его приведут в участок, она рискует поплатиться за ложное обвинение… Что ж, зато уж больше его не упустит и примет необходимые меры! Иможен так хорошо представила себе дальнейший ход событий, что все мышцы у нее напряглись, а костлявые пальцы скрючились, словно уже сжимали горло жертвы. Обрадованная тем, что придумала такую замечательную военную хитрость, мисс Мак-Картри надела туфли без каблука и улыбнулась фотографии отца, клянясь непременно смыть пятно, замаравшее честь их семьи. Иможен чувствовала, что сэр Вальтер Скотт вполне одобряет ее решение, а Роберт Брюс глядит на нее с дружеским участием. Собрав таким образом все свои войска, шотландка вышла навстречу едва народившемуся утру и полной грудью вдохнула целебный воздух Горной Страны, а потом твердой поступью двинулась к полицейскому участку.
Сержант Арчибальд Мак-Клостоу еще не был знаком с мисс Мак-Картри. Получив назначение в Каллендер по собственной просьбе всего несколько месяцев назад, он наконец-то обрел спокойное местечко, где мог без треволнений прожить последние перед отставкой годы. Ничего не делая, но получая за это зарплату, Мак-Клостоу спокойно дожидался того дня, когда снимет форму и уедет наслаждаться заслуженным отдыхом в родную деревушку Хоббкирк, которую считал самым красивым уголком Приграничной области, и тогда-то уж сможет с утра до ночи предаваться всепоглощающей страсти к шахматам. С констеблем Сэмюелем Тайлером Арчи прекрасно ладил, поскольку тот так же мало напоминал полицейского, как и он сам, и, радуясь мирному нраву жителей Каллендера и его окрестностей, с удовольствием проводил чуть ли не все дни напролет на рыбалке. Ни тот, ни другой не сочли нужным обзавестись женами. И нисколько об этом не жалели.
Каждое утро, войдя в участок, сержант с тревогой оглядывал рабочий стол, но тут же с облегчением переводил дух, не обнаружив ни единой бумажки, которая могла бы нарушить его размеренное существование. Потом он спокойно доставал шахматную доску, расставлял черные и белые фигуры и погружался в изучение задач, еженедельно публикуемых «Таймс». Не отличаясь блестящими умственными способностями, Мак-Клостоу обычно корпел над каждой как раз неделю, беря скорее трудом, чем сообразительностью. Арчи твердо стоял на земле и не доверял интуиции. Впрочем, он всегда прекрасно обходился и без нее.
Сэмюеля Тайлера на месте не было, и мисс Мак-Картри сразу вошла в кабинет сержанта. Арчибальд и не подумал отвлечься от шахматной доски — его слишком занимала десятая попытка белых коней в три хода покончить с «черными». Однако, помимо прочих достоинств, Иможен обладала большим упорством. Немного подождав и убедившись, что полицейский не желает обратить на нее внимание, она с такой силой стукнула кулаком по столу, что шахматные фигурки разлетелись в разные стороны.
— Ну? — рявкнула мисс Мак-Картри.
Арчи не сомневался, что на сей раз почти разрешил задачу, поэтому взглянул на Иможен очень сердито.
— Что «ну»?
— А то, что меня очень интересует, соблаговолите вы когда-нибудь заметить, что я здесь, или нет! И, прежде всего, кто вы такой?
— А вы?
— Я Иможен Мак-Картри!
— Вы что, издеваетесь надо мной?
— Я? С чего вы взяли?
— Да просто ни одна порядочная женщина не стала бы носить такое имя!
На мгновение мисс Мак-Картри лишилась дара речи, но тут же последовал яростный взрыв:
— Вы хоть соображаете, что оскорбили моего папу?
— А вы — что отнимаете у меня время?
— Так вы вообразили, будто правительство платит вам за игру в шахматы?
— Мое воображение вас не касается, а если вы сию секунду не уберетесь отсюда, я арестую вас за оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей!
Иможен мстительно рассмеялась и ткнула пальцем в шахматную доску.
— Это и есть «исполнение обязанностей»?
— Уйдите или я позову констебля!
— Да ведь вы и сами констебль!
— Что? Ах да, верно… Но в конце-то концов, скажите, Христа ради, что я вам сделал!
— Мне? Ничего!
— Тогда какого черта вы явились сюда морочить мне голову?
— Потому что меня обокрали.
— Это неправда!
— Неправда?
— Да, потому что ни в Каллендере, ни в округе отродясь не было воров со времен этого мерзавца Боб Роя!
Иможен подскочила, словно ее огрели хлыстом.
— Что вы посмели сказать, грязный легавый?
Услыхав такое оскорбление, теперь уже Мак-Клостоу задохнулся от бешенства.
— Ну вы, осторожнее! Полегче на поворотах, мисс! Красные волосы еще не дают вам права…
— Волосы у меня красные потому только, что у моего отца были точно такие же, и я не позволю какому-то паршивому ублюдку…
— Вы назвали меня ублюдком, мисс?
К счастью, в участок после утреннего обхода вернулся Сэмюель Тайлер. Не догадываясь о драме, нарушившей покой его шефа, он вежливо козырнул дочери капитана, с которым в юности ему не раз случалось субботним вечером метать стрелки в «Гордом горце».
— Как поживаете, мисс Иможен? — любезно осведомился он.
— Хорошо, но будет еще лучше, когда управление полицейским участком попадет в более достойные руки!
Сэмюель мигом сообразил, что между его шефом и мисс Мак-Картри отнюдь не царит согласие. Тайлер сделал вид, что не слышит, но тут за него принялся Арчи.
— Вы знаете эту особу, Тайлер?
— И очень давно, сэр.
— Она что, чокнутая?
Иможен хмыкнула.
— Уж чего там! Не стесняйтесь, ведите себя так, будто меня тут нет! Вот что бывает, когда ответственный пост доверяют какому-то иностранцу!
— Слышите, Сэмюель Тайлер? Это она меня обзывает иностранцем! Меня, родившегося в Приграничной области! Да мне мать еще в соску подливала виски, чтобы воспитать настоящим мужчиной!
— Ну, там, в Приграничной области, все вы здорово подпорчены англичанами! А вот мы, горцы…
— Вы, горцы, так и остались дикарями!
Сэмюель, сняв каску, задумчиво поскреб лысину.
— А в чем, собственно, дело?
Первой отозвалась Иможен:
— Я пришла просить у этого фанфарона помощи и защиты, а он, под тем предлогом, что я, видите ли, мешаю играть в шахматы, меня оскорбил, потом оскорбил папу и, наконец, Боб Роя!
Весьма огорченный таким поворотом событий, Тайлер попытался утихомирить страсти:
— Не сердитесь, мисс Иможен, должно быть, тут какое-то недоразумение…
Но мисс Мак-Картри продолжала бушевать.
— Я только что заявила этому типу…
— Сержанту Арчибальду Мак-Клостоу…
— …что меня обокрали…
— А я ответил, что она врет, потому что ни один житель Каллендера не способен на кражу!
— А кто сказал, будто вор — местный?
Арчи и Сэмюель удивленно переглянулись. И мисс Мак-Картри не преминула воспользоваться их замешательством.
— Это чужак! — торжествующе выпалила она.
Обращение Мак-Клостоу сразу переменилось.
— Это совершенно меняет дело, мисс Мак-Картри… Будьте любезны, садитесь… Так… А что именно у вас украли?
— Одну… драгоценность.
Арчи смерил ее недоверчивым взглядом.
— Не очень-то у вас уверенный вид!
— Что за странная мысль? Такое могло взбрести в голову только приграничному жителю!
Тайлер поспешил вмешаться, пока его шеф снова не озверел.
— Прошу вас, мисс Иможен, не надо дразнить мистера Мак-Клостоу…
— Тогда пусть не делает идиотских замечаний!
Сержант призвал на помощь целую дюжину шотландских святых, известных миротворческой деятельностью, и только потом возобновил допрос:
— Какую же драгоценность у вас похитили, мисс?
— Просто драгоценность.
— Понятно, но какого типа? Ожерелье? Кольцо? Диадему? Брошь?
— К-колье.
— Из чего?
— Из золота с драгоценными камнями.
— Какими?
— Это вас не касается!
Тайлер в очередной раз попытался разрядить обстановку:
— Мисс Иможен, сделайте над собой небольшое усилие…
Но Арчибальд резко перебил его:
— Довольно, Сэмюель! Я все понял!
Мак-Клостоу встал и, подойдя к Иможен, воинственно погрозил ей пальцем.
— У вас никогда не крали никакой драгоценности! — что было мочи заорал он. — Вы нарочно все это выдумали, лишь бы привлечь к себе внимание! Убирайтесь, пока я не рассердился по-настоящему! Уведите ее, Тайлер! А если хотите послушать доброго совета, мисс, никогда не злоупотребляйте виски с утра — вам это очень вредно!
И, невзирая на возмущенные вопли, смысл которых, впрочем, им так и не удалось разобрать, Сэмюель твердой рукой проводил Иможен до двери.
Как только рыжая шотландка скрылась из виду, Арчи снова принялся расставлять на доске шахматные фигуры.
— Нам здесь так спокойно жилось, и надо ж чтобы принесло эту сумасшедшую! — сказал он Тайлеру. — Откуда, кстати, она взялась?
— Мисс Мак-Картри работает в Лондоне, в каком-то министерстве. Славная девушка, но ее папа слишком много пил…
— К несчастью, за родителей очень часто расплачиваются дети. Вам бы следовало немного приглядеть за ней, Сэмюель, а то как бы не натворила бед…
Уязвленная столь глубоким непониманием, мисс Мак-Картри решила отправиться в Килмахог, в гостиницу «Черный лебедь», и спросить совета у своего друга Эндрю Линдсея, тем более что, поразмыслив, она все больше проникалась уверенностью, что это он написал письмо. Сказано — сделано. Иможен взгромоздилась на допотопный велосипед, которым не пользовались добрых лет тридцать, и, несмотря на то что разбитое седло причиняло ей невероятные мучения, поехала в Килмахог. Однако в «Черном лебеде» ей сообщили, что мистер Линдсей в Каллендере, где остановились его друзья. Иможен разочарованно повернула обратно. Увы, в «Гербе Анкастера» выяснилось, что господа Каннингэм и Росс полчаса назад ушли вместе с каким-то джентльменом.
Но мисс Мак-Картри так легко не сдавалась. Раз ей нужно разыскать Эндрю Линдсея — она его найдет, даже если все духи и злые гении вересковых пустошей объединятся с этой фантастической тварью Арчибальдом Мак-Клостоу, чтобы ей помешать! Однако Иможен решила сперва хорошенько подумать. Те, кого она ищет, где-то в Каллендере. На главной улице она их не видела, значит, скорее всего, мужчины устроились в таком месте, где можно спокойно поболтать. Воспоминания об отце навели Иможен на мысль, что, если мужчины нет дома, его следует искать либо на рыбалке, либо в кафе, а поскольку Эндрю Линдсей сейчас явно не на озере, мисс Мак-Картри решительно направилась в «Гордого горца», откуда так часто помогала отцу выбраться хотя бы с минимальным достоинством, приличествующим бывшему капитану индийской армии, даже если он преступил грань, за которой элементарные законы равновесия кажутся гнусной ложью.
Появление Иможен вызвало у завсегдатаев кафе легкое потрясение. Хозяин заведения Тед Булит, сорокалетний толстяк с багрово-красной физиономией, сын друга капитана Мак-Картри Николаса Булита, поспешил навстречу.
— Мисс Мак-Картри, я очень рад видеть вас в доме, который вы можете считать почти своим… То есть, я хотел сказать, вашего папы… Чем вас угостить?
— С вашего позволения, Тед, я вообще не стану пить… Мне нужен один джентльмен…
— Здесь у вас богатый выбор, мисс, — послышалось из зала.
Кабачок задрожал от дружного хохота, и Тед смущенно кашлянул. На шум из кухни выскочила его жена Маргарет — бледное создание, удивительно похожее на чахлый куст цикория. Официант Томас что-то шепнул хозяйке, и та подозрительным взглядом уставилась на Иможен — по мнению Маргарет, рыжая дочь капитана разделяла ответственность покойного за все несчастья, свалившиеся на ее голову, с тех пор как она вышла замуж за пьяницу Теда. Неисповедимы пути женской логики… Тед Булит в ярости набросился на клиентов:
— Соблюдайте приличия, джентльмены! Мисс Мак-Картри — единственная дочь того, кто был одним из самых верных друзей этого дома! А потому, джентльмены, я призываю вас уважать гостью, чье посещение для меня — великая честь!
Выслушав назидание, пьянчужки почтительно умолкли.
— Спасибо, Тед, — проворковала Иможен.
Однако неизвестный балагур не желал так легко сдаваться.
— Напрасно ты сердишься, Тед! Мы хотели только оказать услугу мисс Мак-Картри. Раз она ищет мужчину — любой из нас с удовольствием предоставит себя в ее распоряжение!
В зале опять поднялся хохот. Но Иможен была не из тех, кого легко выбить из седла. Она сердито повернулась к насмешнику.
— Я сказала, что ищу джентльмена, господин шутник, и не думаю, чтобы вы соответствовали этому определению! А судя по вашей грубости, я нисколько не удивлюсь, если окажется, что вы даже не горец!
Сама того не зная, мисс Мак-Картри попала в точку, поскольку парень был торговым представителем какой-то фирмы из Глазго. И завсегдатаи, как всякий раз, когда затрагивали их национальную гордость, тут же приняли сторону Иможен. Тед, радуясь такому обороту, тоже пожелал внести свою лепту в победу. Он повернулся к остряку:
— По-моему, мистер Бекет, вам не остается ничего другого, как заказать угощение всем присутствующим. Будете знать, что значит задевать дочь гор!
Тед Булит никогда не упускал из виду собственной выгоды. Предложение поддержали восторженным криком, и Бекету пришлось сделать хорошую мину при плохой игре — он не мог позволить себе ссориться с возможной клиентурой. Иможен привлекла всеобщие симпатии, великодушно согласившись выпить с противником, и, несмотря на то что едва пробило одиннадцать утра, на глазах умиленного Теда Булита, признавшего в мисс Мак-Картри достойную дочь капитана, а также опечаленного констебля Тайлера (чье появление в кабачке прошло незамеченным) залпом выпила бокал виски.
Не обнаружив в «Гордом горце» Эндрю Линдсея, Иможен дружески распрощалась с посетителями Теда и пошла к выходу, но на дороге у нее оказался Сэмюель.
— Шеф прав, мисс Иможен, вам не следовало бы в такую рань приниматься за виски! — тихо проговорил он.
На миг опешившая мисс Мак-Картри, к восторженному изумлению присутствующих, быстро пришла в себя и так отчехвостила констебля, что тот почувствовал себя дурно воспитанным мальчишкой. Когда она ушла, общее мнение выразил Тед Булит:
— Что бы там ни говорили, а она девушка с характером!
Сэмюель, не допускавший никаких покушений на собственный авторитет, с угрожающим видом надвинулся на хозяина «Гордого горца».
— Если вам нравится слушать, как оскорбляют констебля полиции Ее всемилостивейшего Величества, Тед Булит, — дело ваше! Однако предупреждаю, что означенный констебль намерен впредь строго следить за соблюдением закона о торговле спиртным сверх установленного времени!
Уходя, Тайлер не без удовольствия слушал отзвуки ссоры между Тедом и его женой.
Не зная, где искать Эндрю Линдсея, Иможен ехала наугад, а за ней на почтительном расстоянии по приказу шефа следовал констебль Тайлер.
Велосипед изрядно надоел мисс Мак-Картри и, миновав последние дома Каллендера по дороге в Килмахог, она уже стала подумывать, не лучше ли вернуться домой и приготовить обед, как вдруг, застыв от изумления, увидела, что навстречу идет вор — голубоглазый тип с тюленьими усами. На плече он нес удочку. Как хороший агент Разведывательного управления, Иможен сразу оценила хитрость: чтобы не привлекать внимания, противник продолжал играть роль мирного любителя рыбной ловли, наверняка рассчитывая выждать, пока преследователи бросятся по другому следу, и улизнуть. Тогда он сможет беспрепятственно передать краденые бумаги своим хозяевам. Мисс Мак-Картри про себя рассмеялась. Этот негодяй даже не догадывается, что с ним сейчас будет! Поровнявшись с Иможен, он имел наглость улыбнуться, но шотландка, подозревая его в самых коварных замыслах, сочла такую любезность отвратительной. Решение пришло мгновенно. Иможен резко повернула руль, и ее противник рухнул, запутавшись ногами в раме и спицах заднего колеса. Мисс Мак-Картри мигом бросилась на него и, ухватив за ворот рубашки, стала душить.
— Ворюга! — вопила она. — Вернете вы мне бумаги или нет? Отдайте! Или, клянусь потрохами дьявола, — (в минуты крайнего волнения Иможен всегда вспоминала любимые ругательства отца), — я придушу вас, как цыпленка!
Жертва мисс Мак-Картри лежала на земле, вытаращив глаза и не в силах пошевельнуться под тяжестью огромного драндулета, и даже при большом желании никак не могла бы ответить, ибо мстительная шотландка почти перекрыла доступ кислорода. Сэмюель Тайлер, издали наблюдавший за этой сценой, сначала остолбенел, но тут же бросился разнимать эту пару. Однако возраст не позволял констеблю бежать достаточно быстро, и, когда он оказался на месте, мужчина с тюленьими усами уже терял сознание. Ухватив Иможен за плечи, Тайлер оторвал ее от несчастного и тут же бросился на помощь последнему. Тот с такой жадностью глотал воздух, которого чуть не лишился навеки, что в горле у него булькало, как в поврежденной трубе. Убедившись, что побежденный приходит в себя, констебль повернулся к мисс Мак-Картри.
— Предупреждаю вас, мисс Иможен, я не позволю вам сеять смуту и устраивать в Каллендере скандалы! — сурово проговорил он. — Я видел, что вы, как фурия, накинулись на этого несчастного. Может, вы объясните мне, что это значит?
— Это тот, кто меня обокрал!
Констебль снова нагнулся к поверженному врагу Иможен и, помогая ему выбраться из-под велосипеда, спросил:
— Вы слышали?
— Да, но не понял, — все еще задыхаясь ответствовал тот.
Иможен затопала ногами.
— Сэмюель, вы ведь не позволите ему выйти сухим из воды? Предупреждаю: если вы немедленно не арестуете этого типа, я подам на вас жалобу!
Тайлер терпеть не мог, когда ему пытались указывать.
— Мисс Мак-Картри, вот уже почти сорок лет как я занимаю пост констебля, и мне не надо объяснять мои обязанности! Вы обвиняете этого господина…
— Господина? Как бы не так! Скажите лучше, подлого шпиона!
— Мисс Мак-Картри, советую вам думать, что говорите! Клевета уголовно наказуема!
— Но, уверяю вас, это и в самом деле шпион, упрямая голова!
— Осторожнее, мисс Мак-Картри, за оскорбление полицейского при исполнении обязанностей в Кодексе тоже есть статья! Вдобавок шпионы не крадут драгоценностей! Так что давайте разберемся, вор он или шпион…
— И то и другое!
На сей раз Тайлер гораздо любезнее обратился к мужчине с тюленьими усами:
— Простите, сэр, но я вынужден спросить, что вы об этом думаете…
— Я не вор и не шпион, а самый что ни на есть безвредный коммерсант-холостяк из Эбериствича на побережье Кардигана в Уэльсе…
Только энергичное вмешательство Тайлера спасло несчастного от нового нападения Иможен, бросившейся на него, словно тигрица, у которой похитили малышей.
— Валлиец! И как я сразу не догадалась? Только проклятый валлиец и мог сделать мне такую гадость!
Крики привлекли жителей Каллендера, почуявших развлечение. Тайлер заметил их издали и, вовсе не желая служить мишенью для насмешек сограждан, поспешил утихомирить противников.
— Короче, мисс Мак-Картри, вы обвиняете этого господина в краже ценной вещи…
— Вот именно!
— А вы, сэр, это полностью отрицаете?
— Конечно!
— В таком случае вы оба последуете за мной в участок, и сержант примет соответствующее решение!
При виде Тайлера, Иможен и какого-то незнакомца Арчибальд Мак-Клостоу, только что удачно разыгравший гамбит королеве, тихонько застонал. Сердито отпихнув шахматную доску, он набросился на своего помощника с горькими упреками:
— Признайтесь сразу, Сэмюель Тайлер, вы метите на мое место и ради этого готовы на любые махинации! Что еще стряслось?
Тайлер подробно доложил о происшествии, в котором Арчибальд, естественно, ничего не понял. Мисс Мак-Картри попробовала было вмешаться, но Мак-Клостоу так свирепо призвал ее к порядку, что шотландка замолчала. Потом он повернулся к валлийцу:
— Имя, фамилия и род занятий?
— Герберт Флутипол, пятьдесят лет, родился в Эбериствиче, у меня собственный книжный магазин возле университета. Вот мои бумаги…
Арчибальд внимательно прочитал документы, но, прежде чем вернуть их владельцу, потребовал новых уточнений:
— Зачем вы приехали в Каллендер?
— Отдохнуть. Зимой я тяжело болел, а кроме того, страстно люблю рыбалку.
— Ну что ж, все это выглядит вполне нормально…
Иможен, с сожалением взглянув на старшего констебля, вздохнула.
— Неудивительно! Ничего другого я от вас не ожидала!
— Как и я, мисс Мак-Картри, не жду от вас разумного поведения!
— Пусть этот тип отдаст мой пакет, больше я ничего не требую.
— Какой пакет?
— Я имела в виду драгоценность.
— Так драгоценность или пакет?
— И то и другое!
— Мисс Мак-Картри, прошу вас хорошенько усвоить то, что я сейчас скажу! Мне пятьдесят семь лет, тридцать шесть из них я проработал в полиции, и до сих пор никто ни разу не позволил себе издеваться над Арчибальдом Мак-Клостоу, как имели нахальство это сделать вы. Прошу вас немедленно покинуть участок, иначе я посажу вас в тюрьму за пьяную драку в общественном месте!
— Вот как?
— А если вы не перестанете докучать этому джентльмену, я посоветую ему подать в суд за клевету и добавлю от себя такие показания, что будете до конца дней своих расплачиваться за нанесенный моральный ущерб!
Тайлер, предчувствуя грозу, попытался урезонить не в меру раздражительную соотечественницу:
— Не сердитесь, мисс Иможен…
Но та, вне себя от бешенства, завопила:
— И как я сразу не поняла, что вы продажная шкура, Мак-Клостоу?!
Сержант вряд ли испытал бы большее потрясение, даже если бы ему на голову вдруг рухнула крыша.
— Вы… вы, кажется, назвали меня продажным?
— Ясное дело, этот чертов валлиец вас подкупил!
— Мисс Мак-Картри, именем закона…
— Арчибальд Мак-Клостоу, теперь ваша очень хорошенько запомнить мои слова: в один прекрасный день вас повесят!
Думая о будущем, Арчи строил самые разнообразные предположения, но мысль о том, что он может окончить дни свои на виселице, никогда не приходила ему в голову.
— Да, вас повесят как вражеского агента и изменника!
И не успел Мак-Клостоу прийти в себя, как Иможен выскочила из участка. Герберт тоже ушел, но никто из полицейских даже не обратил на него внимания. Поникнув в кресле и беззвучно шевеля губами, Арчи остекленевшим взором уставился в пространство. Он являл собой столь полное олицетворение человека, совершенно уничтоженного ударом судьбы, что у Сэмюеля Тайлера сжалось сердце.
— Шеф… — мягко позвал он.
Взгляд Арчибальда Мак-Клостоу выражал полное отчаяние.
— Констебль Сэмюель Тайлер, вы мне друг? — без всякого выражения спросил сержант.
— Да, сэр.
— А знаете ли вы, что друг обязан говорить правду, какой бы горькой она ни была, тому, кто доверяет его суждениям?
— Да, сэр.
— Скажите по чести и совести, Сэмюель Тайлер, вы считаете меня сумасшедшим?
— Разумеется, нет, сэр.
— И вы ни разу не замечали, чтобы я страдал слуховыми галлюцинациями?
— Никогда, сэр.
— Значит, я действительно слышал, как эта здоровенная рыжая кобыла предрекла, будто меня повесят за измену?
— Бесспорно да, сэр.
— Благодарю вас, Тайлер… Пойдите закажите нам два двойных виски… я думаю, нам обоим не помешает подкрепиться…
— Я тоже так думаю, сэр.
— Так отправляйтесь! Чего вы ждете?
— Денег, сэр.
— Сэмюель Тайлер, я должен с грустью сообщить, что вы меня разочаровали… — И, сунув руку в карман, он добавил: — Пожалуй, возьмите мне двойную порцию, а себе — обычную. Иерархию следует соблюдать везде и во всем!
Мисс Мак-Картри столкнулась с Эндрю Линдсеем в тот момент, когда меньше всего этого ожидала. Шотландка встретила его, бредя по улице, ведущей к вокзалу. Эта встреча вернула ей несколько пострадавшее в стычке с сержантом мужество.
— Дорогой мистер Линдсей, как я счастлива вас видеть!
— Но… и я тоже, мисс Мак-Картри.
— Я ищу вас с рассвета!
— С рассвета?
— Почти. Я на полчаса разминулась с вами в Килмахоге, потом поехала в «Герб Анкастера», но там мне сообщили, что вы ушли вместе с мистером Каннингэмом и мистером Россом.
— Да, правда. Представляете, Аллана срочно вызвали в Эдинбург поглядеть, или, как он выражается на своем ужасном жаргоне, «прослушать» некую многообещающую певицу. В настоящее время эта будущая «звезда» обретается в кабаре «Роза без шипов». А Росс решил составить Аллану компанию.
Иможен тут же возненавидела неизвестную певицу, из-за которой по меньшей мере несколько дней не увидит Аллана.
— А могу я узнать, почему вы искали меня в Килмахоге и чему я обязан такой честью?
— Меня обокрали!
— Невероятно! И что же у вас похитили?
Немного поколебавшись, Иможен солгала:
— Фамильную драгоценность… я очень ею дорожила…
— Весьма огорчен за вас, дорогая мисс Мак-Картри.
— И я знаю вора!
— В таком случае беду, по-моему, легко исправить.
— Ничего подобного! Местная полиция стала на его сторону.
— Правда?
Линдсей украдкой бросил на спутницу тревожный взгляд.
— Они уверяют, что у меня нет доказательств!
— А они у вас есть?
— Честно говоря, нет. Только морального характера…
— В суде они не имеют особого веса… Дорогой друг, мне очень грустно, что столь досадное происшествие портит вам отпуск. Попробуйте обо всем забыть и утешиться, созерцая эту дивную природу. Она, право же, стоит всех драгоценностей в мире! Подумайте, как много мы упускаем, не давая себе труда приглядеться повнимательнее…
Они шли рядом. У Иможен вдруг замерло сердце — Эндрю Линдсей явно намекал на нежные чувства, которые он к ней питает. По-видимому, бедняга отчаялся ждать ответа.
— Любовь, например? — взволнованно спросила шотландка.
Слегка ошарашенный спутник помедлил с ответом.
— Да, и любовь, конечно, тоже… — наконец пробормотал он.
— Вы, кажется, не очень в этом уверены?
— О, знаете, в моем возрасте…
— Любви все возрасты покорны… Только надо встретить человека, вполне подходящего по летам…
— Да-да, совершенно верно, — подтвердил несколько смущенный Линдсей.
— Я понимаю, дорогой мистер Линдсей, что, когда вам не двадцать лет, бывает трудно признаться в чувствах, более свойственных юности… Но, поверьте мне, тут нет ничего постыдного. Главное — сказать себе, что признание, которое вы не решаетесь сделать, быть может, уже угадано…
Линдсей окончательно растерялся и не знал, что сказать.
— Но важнее всего — никогда не отчаиваться… Эндрю, — добавила мисс Мак-Картри.
Вернувшись домой, Иможен вдруг заметила, что напевает, а это случалось с ней крайне редко. Правда, признания в любви она получала еще реже. И не важно, что Эндрю Линдсей вел себя так сдержанно и робко, хотя в глубине души шотландка
испытывала легкое разочарование. Она судила о любви лишь по романтическим героям Шекспира и не могла вообразить объяснения между мужчиной и женщиной иначе как на балконе, в крайнем случае — на скамейке в саду, но, во всяком случае, непременно ночью и при луне. Вероятно, в ее возрасте не стоит требовать слишком многого, однако Иможен все же рассчитывала, что Эндрю Линдсей проявит гораздо больше пыла… К счастью, у нее самой хватает мужества на двоих. От счастья мисс Мак-Картри позабыла и о краже, и о ссоре с полицейскими. И, дабы отметить удачный день, она бросилась на кухню. Волнение всегда пробуждало у Иможен особый аппетит, и она приготовила себе такой густой перловый суп, что ложка стояла в нем, словно древко воображаемого знамени.
Воспоминания о пережитых неприятностях вернулись к мисс Мак-Картри, когда она, в блаженной истоме, переваривала обед. Шотландка обругала себя за то, что посмела погрузиться в грезы о радужном будущем, в то время как сэр Дэвид Вулиш рассчитывает на помощь и, возможно, судьба Соединенного Королевства зависит от ее энергии. Исходя из принципа, что всякое решение следует принимать в молчаливом раздумье, Иможен закрыла глаза, чтобы хорошенько пораскинуть мозгами, и почти тотчас же крепко уснула. Когда она проснулась, было уже около семи часов вечера, зато мисс Мак-Картри чувствовала себя великолепно и всей душой рвалась в бой. Вот только с кем? Теперь ей стало совершенно ясно, что в единоборстве с бессовестным валлийцем рассчитывать на помощь полиции не приходится. Сэр Генри Уордлоу, в свою очередь, дал понять, что желает остаться в стороне. Так к кому же обратиться? И мисс Мак-Картри снова подумала о том, кого в глубине души уже называла своим женихом. И почему она не поговорила с ним откровеннее? Кража драгоценности оставила Эндрю равнодушным, но, знай он, что речь идет о национальной безопасности, возможно, стал бы вести себя совсем по-другому? Иможен верила в Линдсея. Эндрю — не только джентльмен, но теперь и ее естественный покровитель. Стало быть, Иможен просто обязана сказать ему правду. Узнав о благородных причинах, побудивших ее солгать, он, конечно, простит, и мисс Мак-Картри, не мудрствуя лукаво, направилась в Килмахог.
В «Черном лебеде» Иможен сказали, что мистер Линдсей у себя в комнате, и предложили позвать его вниз. Шотландка возразила, что они с Эндрю достаточно хорошо знакомы и она вполне может сама подняться на второй этаж. Узнав номер комнаты, мисс Мак-Картри на глазах у шокированного таким нарушением приличий хозяина гостиницы Джефферсона Мак-Пантиша стала подниматься по лестнице. Сначала Джефферсон хотел было призвать Иможен к порядку, но передумал, решив, что, в конце концов, эта дама явно переступила ту грань, за которой лучшей охраной добродетели служит сам возраст. А Иможен, как девочка, радовалась, что подготовила Линдсею такой сюрприз. Она тихонько постучала в комнату человека, которого считала будущим мужем. Приглушенный голос предложил ей войти. Иможен толкнула дверь и переступила порог. Эндрю был в ванной.
— Кто там? — крикнул он.
Мисс Мак-Картри собиралась ответить, но вдруг застыла, выпучив глаза и широко открыв рот: на столике лежал украденный у нее пакет с пометкой «Т-34»! Удивившись, что никто не отвечает, Линдсей в пижаме выскочил из ванной. При виде гостьи он, очевидно, тоже испытал глубокое потрясение и, вдруг сообразив, что оказался перед дамой в совершенно неподобающем виде, воскликнул:
— Прошу прощения!
Линдсей поспешно ретировался в ванную и через несколько секунд вышел уже в сером шелковом халате.
— Мисс Мак-Картри? Вот уж никак не ожидал…
И только тут, заметив, что гостья пребывает в состоянии, близком к каталепсии, он приблизился к Иможен.
— Что с вами? Вы плохо себя чувствуете? — с тревогой спросил Линдсей.
Иможен молча указала дрожащим пальцем на злополучный пакет.
— Этот конверт? Его только что принесли. Кто-то отдал его в приемную гостиницы, сказав, будто я потерял. Вроде бы пакет нашли на дороге сразу после того, как я там прошел. Но, черт меня побери, если я что-нибудь понимаю! Он вовсе не мой!
Избавившись от ужасного подозрения, глодавшего ее мозг в последние несколько минут, Иможен рассмеялась. А Линдсей, ожидая объяснений, смотрел на нее с огромным удивлением. Однако начало ему вовсе не понравилось.
— Дорогой Эндрю, этот пакет — мой! Его-то у меня и украли!
— Но вы, кажется, говорили о драгоценности?
— Не обижайтесь на меня, Эндрю, я не могла сказать вам правду. Просто не имела права. Но знайте: сами о том не догадываясь, вы вернули мне доброе имя!
— Ах вот как?.. Я очень рад…
— Вор, должно быть, потерял пакет. Теперь понятно, почему он сразу не уехал из Каллендера!
— Да-да…
Во взгляде Линдсея все больше сквозило жалостливое участие, с каким обычно смотрят на безнадежных чудаков. Но окрыленная радостью Иможен даже не заметила выражения лица собеседника. Она схватила конверт.
— Прошу прощения, что ухожу от вас так скоро, Эндрю. Но я должна поскорее передать его по назначению…
— Может быть, вы немного подождете? Я бы переоделся и проводил вас…
— Нет, нет, я итак вас побеспокоила! До завтра, мой дорогой, бесконечно дорогой друг… Я никогда не забуду, что вы для меня сделали, так что можете просить о чем угодно!
Линдсей поклонился, и это избавило его от необходимости отвечать.
Пригород, по которому шла чуть-чуть пьяная от счастья мисс Мак-Картри, уже окутывал сумрак. Думая о блистательной победе над валлийским шпионом, она весело смеялась. Вот уж кто, наверное, сейчас бегает, как ошпаренный, пытаясь снова раздобыть драгоценные документы! У самого Каллендера шотландка свернула налево — в сторону «Торфяников», где сэр Генри Уордлоу ждет ее, чтобы поздравить с успешным завершением миссии. Иможен подумала, что не стоит рассказывать, как она нашла пакет — лучше скромно промолчать. Пусть сэр Генри сам домыслит этапы ее героической борьбы и доложит обо всем сэру Дэвиду Вулишу. Как всякая шотландка, мисс Мак-Картри умела всегда блюсти свои интересы.
Иможен почти миновала заросли кустов, за которыми уже виднелись «Торфяники», как вдруг ей показалось, будто небо стремительно летит навстречу земле или земля вдруг рванулась к звездному своду. И, не успев хорошенько обдумать столь странный феномен, мисс Мак-Картри потеряла сознание от страшного удара по голове.
Глава V
Иможен медленно приоткрыла глаза, но, несмотря на то что ее мозг уже стряхнул пелены сна, не узнала окружающей обстановки. Отсутствие сэра Вальтера Скотта на полочке напротив кровати убедило шотландку, что пробудилась она отнюдь не в собственном доме. В чьей же постели она спала? Невзирая на возраст, мисс Мак-Картри оставалась весьма целомудренной особой и тут же припомнила все когда-либо слышанные истории о нехороших мужчинах и доверчивых девушках. Мысль об этом привела Иможен в такую панику, что она совсем перестала что-либо соображать. Иначе до шотландки непременно бы дошло, что она уже далеко не прелестное дитя и вряд ли с ней могло приключиться нечто подобное, а кроме того, в любом случае сохранились бы хоть какие-то воспоминания… Мисс Мак-Картри попыталась вскочить, но тщетно — ноги ее были крепко прикручены ремнями к кровати, а руки скованы наручниками. Взглянув на стальные браслеты, Иможен задумалась, уж не в тюрьму ли ее посадили, но она ни разу не слыхала, чтобы в тюремной камере стояла плита, а между тем в дальнем углу комнаты виднелось именно это украшение кухонь. Посередине стояли некрашеный деревянный стол и два стула один напротив другого. В окно струился солнечный свет, но пленница не могла угадать, куда оно выходит. Потом шотландка припомнила вчерашнее происшествие и только теперь, двенадцать часов спустя, поняла, что ее стукнули по голове, а потом, вероятно, накачали снотворным. Должно быть, подлый валлиец выследил Иможен и, узнав, что документы снова у нее, предпринял новое нападение. А теперь, запертая в каком-нибудь заброшенном доме и к тому же связанная по рукам и ногам, она наверняка умрет с голоду. Такая перспектива привела мисс Мак-Картри в столь глубокое отчаяние, что она невольно испустила горестный вопль — так воют собаки, чуя неизбежную гибель. Это привело к довольно неожиданным результатам. Дверь распахнулась, и влетевший в комнату мерзкий ублюдок подскочил к пленнице.
— И часто это на вас находит? — осведомился он с ужасающим выговором типичного кокни. — Не вздумайте продолжать, а то меня мороз по коже продирает! Еще один звук — и я вам заткну рот, ясно?
Иможен одним рывком села на кровати. Присутствие в доме человеческого существа живо вернуло ей мужество. Что она немедленно и доказала тюремщику.
— Слушайте, вы, подонок, по какому праву вы меня тут держите? Как бы это не довело вас до виселицы, мой мальчик!
Парень фыркнул.
— Заткнитесь, куколка, а то заплачу!
Еще никто никогда не смел называть Иможен Мак-Картри «куколкой». Она остолбенела.
— Я вам вовсе не куколка, и советую вести себя с большим уважением, грязный английский выродок!
— А я вам советую закрыть пасть, да поживее, а то схлопочете по своей шотландской моське!
Ссора обрела патриотический характер. Праправнучка Мак-Грегоров не могла допустить, чтобы ею командовал какой-то мелкий пакостник, явившийся, несомненно, прямиком из Уайтчепела.
— Вы хорошо сделали, что связали мне руки, иначе я бы вам показала, как в Шотландии всегда били англичан!
Парень расхохотался.
— Право слово, забавная вы рыжая дылда! Надо думать, ваш Джонни не скучает!
Подобная фамильярность ужасно не понравилась Иможен, и она с уязвленным видом сообщила, что знать не знает никакого Джонни. Парень окинул ее сочувствующим взглядом.
— Надо ж, чтоб мозги работали с таким скрипом! Джонни — это значит ваш парень, ваш приятель, ваш милый, ясно?
— Я не замужем!
— Оттого-то у вас крыша и едет, моя крошка! Знал я таких, как вы, это кончается дурдомом!
— А вас ждет виселица!
— Повторяетесь, дорогая! Ведите себя тихо, и я, как приказано, выпущу вас отсюда вечерком, ближе к ночи.
— Чтобы ваш шеф успел унести ноги, не так ли?
— Для вашего здоровья полезнее не соваться куда не след… Слово Джимми!
В конце концов, может, парень не так уж прогнил, как ей показалось? Иможен решила испробовать другую тактику.
— Джимми… я могла бы быть вашей старшей сестрой!
— И даже матерью!
Мисс Мак-Картри сочла подобное предположение не слишком уместным. Но какого такта можно ожидать от подобных людей?
— …Поэтому-то я и не хочу причинять вам зло. Обещайте только сидеть смирно, и мы расстанемся вечером в самых дружеских отношениях. Согласны?
Немного поколебавшись, Иможен решила, что обещание, данное врагу, который к тому же подло напал на нее сзади, ни к чему не обязывает.
— Согласна!
— О'кей! А в доказательство, что я совсем неплохой малый, приготовлю-ка я вам закусон! Как насчет яичницы с беконом, а?
— Прекрасная мысль!
— Ну, крошка, сейчас вы увидите, почему Джимми называют королем яичницы с беконом!
Парень притащил полную миску яиц и громадный кусок бекона.
— Есть над чем потрудиться! — воскликнул он, с удовольствием взвесив кусок на руке. — Не поскупился для нас патрон, а?
Он расставил все на столе, достал горшок топленого свиного сала, потом взял сковородку, размеры которой несколько удивили Иможен — на такой можно запросто зажарить сразу дюжину яиц. Джимми бросил на сковороду огромный кусок сала и поставил на огонь.
— Слишком торопитесь! — невольно заметила мисс Мак-Картри.
— Спокойно!
Парень бросал в кипящий жир огромные ломти бекона, отрезая их здоровенными ножом мясника.
— Слишком толстые куски!
— Отвяжись, шотландка!
Бекон начал подгорать, и комнату заполнил едкий дым. Иможен скорчила выразительную гримасу.
— Если все англичане готовят, как вы, ясно, почему у них нет никакого вкуса!
Джимми принялся бить яйца, но Иможен довела его до такого состояния, что парень испортил один желток и выругался. Насмешливое хихиканье мисс Мак-Картри окончательно вывело тюремщика из себя.
— Это вы виноваты! Не приставали бы все время…
— Тот, кто ничего не умеет, всегда сваливает вину на других!
Кипя от злости, Джимми распахнул окно и, вышвырнув все содержимое сковородки на улицу, снова поставил ее на плиту.
— Валяйте сами, раз вы такая умница!
— Я бы не прочь, но меня не учили готовить яичницу со связанными ногами и в наручниках!
Немного подумав, парень решился.
— Ладно, сейчас я вас отвяжу, — проговорил он, беря кухонный нож. — Но предупреждаю: эта игрушка останется у меня в руке и при первом же подозрительном движении я всажу ее вам в спину!
— Прелестная перспектива!
Джимми разрезал ремни и снял наручники, и шотландка принялась массировать затекшие ноги и руки. Как только она встала, парень отступил на шаг, с угрожающим видом сжимая рукоять тесака. Для начала мисс Мак-Картри убавила огонь.
— Сковородку нельзя нагревать слишком сильно, иначе все подгорит… А теперь растопим немного сала…
Джимми следил за каждым ее движением, но Иможен как будто не обращала на него внимания.
— Я попрошу вас нарезать бекон как можно тоньше.
Парень приказал шотландке сесть, чтобы в случае чего он успел пресечь попытку бегства. Мисс Мак-Картри побросала ломтики бекона в теплое сало и, как только они подрумянились, осторожно разбила четыре яйца. Джимми, как зачарованный, наблюдал за готовкой.
— Ловко у вас получается, ничего не скажешь!
Иможен решила, что сейчас самое время попробовать изменить ситуацию в свою пользу и, призвав на помощь тени всех паладинов-горцев, схватила ручку здоровенной сковороды, а потом чуть-чуть отступила.
— Теперь — самое трудное, — сказала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул.
Джимми подошел ближе, с любопытством наблюдая за неизвестным ему шотландским способом приготовления яичницы. И тут Иможен с размаху швырнула кипящее содержимое сковороды парню в лицо. Тот взвыл от нестерпимой боли и, выронив нож, поднес руки к залитой раскаленной жижей физиономии. Не теряя времени даром, мисс Мак-Картри подняла сковороду и что было сил опустила на голову Джимми. Парень без единого стона спикировал носом в землю — так дерево падает под ударом дровосека. Иможен ошарашенно поглядела на распростертое у ее ног тело, потом, стряхнув оцепенение, без особой надежды обыскала труп (она не сомневалась, что отправила своего тюремщика к праотцам), но знаменитого пакета, конечно, не нашла. У Джимми вообще не оказалось никаких бумаг. Шотландка выпрямилась и машинально посмотрела в окно. При виде подлого валлийца Герберта Флутипола, с револьвером в руке крадущегося вдоль стены к ее комнате, мисс Мак-Картри едва не вскрикнула от ужаса, но, будучи женщиной мужественной, опять ухватила сковороду и в тот момент, когда ручка двери уже шевелилась, скользнула к стене с твердым намерением отчаянно защищаться. Глаза Иможен горели, губы были плотно сжаты. Со сковородой наготове она ждала… Сейчас Иможен чувствовала себя не машинисткой-стенографисткой Адмиралтейства мисс Мак-Картри, а настоящей дочерью Гор, готовой до последней капли крови сражаться за родной клан с клаймором[61] в одной руке и дирком[62] — в другой. Впоследствии, когда Герберта Флутипола расспрашивали о происшествии, он признавался, что вообразил, будто ему на голову рухнул потолок, причем не один раз, а дважды. Узнав, что первый удар, нахлобучивший ему шляпу до самого подбородка, нанесла Иможен, Герберт почувствовал себя глубоко уязвленным. Вторым же ударом, от которого он распростерся на земле без сознания, Флутипол был обязан лишь аккуратности мисс Мак-Картри, привыкшей всегда доводить начатое дело до конца. И пока поверженный валлиец блуждал в глубоком сумраке, сломленная страхом и усталостью Иможен с ужасом разглядывала лежащих у ее ног противников, а потом, бросив сковороду, галопом бросилась прочь, словно испуганная лань.
Когда служба требовала его присутствия в участке, где, естественно, было совершенно нечего делать, в хорошую погоду Тайлер выносил стул на тротуар и, усевшись верхом, мирно покуривал трубку, наблюдая за прохожими. Само собой, это не слишком соответствовало правилам дисциплины, и какой-нибудь служака-инспектор сказал бы, что Сэмюель создает недостойное впечатление о бдительности полиции Ее всемилостивейшего Величества, но Каллендер — это Каллендер, и живет он по своим собственным законам. Кроме того, наблюдательный пост на улице позволял Тайлеру болтать с друзьями (а таковыми считали себя чуть ли не все жители городка) и, не двигаясь с места, узнавать обо всех новостях и происшествиях.
На сей раз блаженное созерцание констебля грубо нарушила Иможен. Тайлер полагал, что его уже ничем не удивить, однако при виде растрепанной мисс Мак-Картри с перепачканным грязью лицом, в измятом платье и разорванных чулках прославленная невозмутимость оставила Сэмюеля, выпавшая у него из рук трубка разбилась об асфальт, а сам констебль замер, парализованный удивлением. Но прежде чем к нему вернулось хладнокровие, Иможен вбежала в участок. Опрокинув стул и чуть не растянувшись во весь рост, Тайлер бросился следом.
Арчибальд Мак-Клостоу решил покончить с «черными», и теперь разыгрывал «белыми» очередной гамбит королеве, дабы создать необходимые условия для славной победы, как вдруг в кабинет, едва не сорвав дверь с петель, ворвалась Иможен. Арчибальд подскочил на месте, и шахматы снова попадали и перемешались. Перепуганный сержант молча созерцал кошмарное зрелище, которое являла собой посетительница. Вошедшему следом Сэмюелю Тайлеру показалось, будто его шеф издал слабый стон — полухрип-полурыдание, словно заклиная злую судьбу избавить его от этого видения.
Но мисс Мак-Картри уже стояла у стола сержанта.
— Арчибальд Мак-Клостоу, я только что убила двоих мужчин, — заявила она.
Сержант вдруг почувствовал, что стены кабинета начинают сдвигаться, а потолок быстро съезжает вниз — короче говоря, он едва не потерял сознание. Во всяком случае, Арчи был слишком потрясен, чтобы говорить, и лишь в унисон с Тайлером издал недоверчивое восклицание:
— А?
Холодно и спокойно, словно речь шла о самом обыкновенном деле, мисс Мак-Картри повторила:
— Арчибальд Мак-Клостоу, я только что убила двоих мужчин в заброшенном домишке на дороге в Килмахог. Раньше там жили супруги Баннистер.
Сержант наконец отдышался, и, как всякий раз при виде рыжей шотландки, его охватила бешеная ярость.
— А кой черт вас туда занес?
— Меня держали там в заточении!
— Мисс Мак-Картри, неужели вы не можете развлекаться как-нибудь иначе? Или вам непременно нужно изводить двух честных слуг Короны дурацкими россказнями?
— Значит, вы мне не верите?
— Нет, не верю! И в конце-то концов, кому могло взбрести в голову вас похитить? Клянусь кишками Люцифера, ничего глупее не придумаешь!
— Это сделал Герберт Флутипол, которого вы отпустили, нарушив закон!
— Но, Господи Боже, зачем?
Иможен, не желавшая рассказывать подобным ничтожествам о своей тайной миссии, ограничилась полунамеками.
— А вы не догадываетесь?
Арчи немного помолчал, и вдруг его лицо просветлело.
— Вы имеете в виду, что…
И, не договорив, сержант, к величайшему возмущению мисс Мак-Картри, расхохотался.
— Вот, значит, как? — рыдая от смеха, пробормотал он. — Так вы еще и покоряете сердца отдыхающих?
— Арчибальд Мак-Клостоу, только такой дурак и хам, как вы, способен на подобные шуточки!
— Ага… И они, выходит, набросились на вас вдвоем?
— Совершенно верно, но по очереди!
Сержант икал и задыхался от хохота, а Тайлер лишь с величайшим трудом продолжал хранить серьезный вид, думая о милейшем капитане, который еще задолго до рождения дочери слишком злоупотреблял виски. Сумасшествие Иможен — расплата за отцовские грехи.
— Слышите, Тайлер? Все сатиры Горной Страны решили собраться в Каллендере, чтобы соблазнить нашу дорогую мисс Мак-Картри! — И немного успокоившись, он продолжал: — Вам бы надо сходить к врачу, мисс… Знаете, такие вещи очень хорошо лечит…
— Да говорю же вам, я прихлопнула обоих!
— Ладно, пускай вы их убили… Что может быть естественнее, а, Сэмюель? Но, позволю себе спросить, каким оружием вы совершили эти два убийства?
— Сковородой!
— Простите?
— Ско-во-ро-дой!
— Ско… а-а-а, ну конечно! Это ведь самое смертоносное оружие, правда, Тайлер? Мисс Мак-Картри, доктор Джонатан Элскотт — прекрасный врач, и, если угодно, я сейчас же ему позвоню…
На Иможен вдруг снизошло величайшее спокойствие. Насмешки сержанта ее больше не задевали, ибо она заранее предвкушала, в какое смятение придет Мак-Клостоу, обнаружив два трупа.
— Я не сомневаюсь, что среди окрестных пастухов вы могли бы стяжать славу первого остряка, Арчибальд Мак-Клостоу, но не проще ли проверить, обманываю я или нет, прогулявшись вместе со мной к заброшенному дому Баннистеров?
— Думаете, мне больше делать нечего, кроме как выполнять капризы тронутых девиц?
— Неужели ваши шахматы не могут чуть-чуть подождать?
Арчи закусил губу.
— Сэмюель, старина, составьте ей компанию… Может, после этого мисс Мак-Картри наконец оставит нас в покое?
Жители Каллендера не оставили без внимания прогулку Тайлера и дочери капитана индийской армии. Более всего их потряс вид Иможен. Но отправиться следом за парой, возбуждавшей всеобщее любопытство, никто не решился.
По мере того как они приближались к домику Баннистеров, констебль волновался все сильнее. А что, если она сказала правду? Вдруг он сейчас увидит два трупа? Ну и ну! А сколько неприятностей в перспективе! Лучше б уж этой Иможен оставаться в Лондоне, а то с самого возвращения в Каллендер только о ней и говорят! Они со всяческими предосторожностями проникли в заброшенное жилище, но, войдя в кухню, мисс Мак-Картри пришлось признать очевидный факт: если кровать, стол и плита по-прежнему стояли на месте, то трупов там было не больше, чем в кабинете Арчибальда Мак-Клостоу.
— И однако я совершенно уверена… — только и могла пробормотать шотландка.
Сэмюель смотрел на нее с такой жалостью, что слова замерли на языке. Иможен разрыдалась, и констебль отечески похлопал ее по плечу.
— Ну-ну, мисс… Со всяким случается… Не стоит так переживать… Отдохнете несколько дней на свежем воздухе, все придет в норму… И вы опять станете прежней… Забудем об этой истории. Я вас провожу.
Мисс Мак-Картри не стала спорить. Какой смысл? Она поблагодарила Тайлера за любезность и безропотно выпила предложенную Розмери Элрой успокаивающую микстуру. А сержант, выслушав рапорт своего подчиненного, тяжело вздохнул:
— Бедняга… Думаете, слишком долгое девичество так свихнуло ей мозги? Вот что, Тайлер, я думаю, по дороге домой вам стоит зайти к доктору Элскотту и попросить его осмотреть мисс Мак-Картри. Пусть он нам скажет потом, насколько это опасно…
Проспав два-три часа, Иможен встала совсем свежей и отдохнувшей. Шотландку, в чьих жилах струится древняя кровь Мак-Грегоров, не так просто сломить! На кухне она встретила миссис Элрой. Иможен показалось, что Розмери смотрит на нее как-то странно.
— Что-нибудь случилось, миссис Элрой?
Служанка мыла посуду, оставшуюся в раковине со вчерашнего дня. Прежде чем ответить, она аккуратно положила тарелку и губку.
— Мисс Иможен, когда миссис Мак-Картри попросила меня помогать ей по дому, я была еще совсем молоденькой девушкой, и, таким образом, на свет вы появились у меня на глазах. Потом Небо лишило вашего отца верной и преданной подруги, и я по мере сил и возможностей старалась заполнить пустоту в доме, покинутом вашей несчастной матушкой. Долгие годы я заботилась о том, чтобы капитан Мак-Картри пользовался уважением в Каллендерс, а его дочь получила воспитание, достойное барышни из приличной семьи. До тех пор пока капитан Мак-Картри не присоединился к любимой супруге, а вы не подросли настолько, что могли жить самостоятельно, я не давала согласия Леонарду Элрою, хотя он просил моей руки за десять лет до того! Так вот, мисс Иможен, я полагаю, что мои верность и безупречная служба заслуживают уважения!
Это заявление слегка удивило мисс Мак-Картри, хотя она отлично знала слабость Розмери к респекту, а потому шотландка поспешила уверить миссис Элрой, что вполне разделяет ее мнение, но та не желала так легко сдаваться.
— Позвольте заметить вам, мисс Иможен, что возвращаться домой утром в таком виде, как вы, да еще в сопровождении констебля — значит совершенно не считаться со мной! Или я, по-вашему, ничего другого не стою?
— Так ведь меня провожал Сэмюель Тайлер! Надеюсь, вы его все же узнали?
— Разумеется, узнала, — обиженно заметила Розмери. — Тем более что он единственный здешний констебль! Однако порядочную женщину не приводит домой полицейский, да еще такой грязной и оборванной, будто подобрал у порога «Гордого горца»! А кроме того, ваша постель даже не была разобрана…
— Я не ночевала дома.
— Может быть, нынешние нравы и оправдывают подобное поведение, но вы должны понять, мисс Иможен, я уже не так молода, чтобы привыкнуть к поступкам, которые в мое время навсегда поставили бы виновную вне общества!
— Если бы вы только знали, что со мной произошло!
Но миссис Элрой ледяным тоном заявила, что вовсе не желает этого знать, и в знак того, что разговор исчерпан, стала довольно фальшиво насвистывать «В горах мое сердце».
Иможен вернулась в столовую. Возмущение миссис Элрой ее позабавило, но и слегка встревожило, поскольку Розмери не без основания считалась одной из самых злоязыких старух Каллендера, а мисс Мак-Картри совсем не хотела, чтобы та бросила хоть малейшую тень на ее репутацию. В конце концов слухи могут достигнуть ушей Эндрю Линдсея и повлиять на его чувства… Бедняга Эндрю, он, наверное, увлеченно ловит рыбу в озере Веннахар, даже не подозревая, что его невеста чуть не отправилась в мир иной…
За чаем Иможен раздумывала, каким образом снова завладеть в очередной раз улетучившимися документами. От этих мыслей ее отвлекла миссис Элрой. Прежде чем отправиться восвояси, она отдала хозяйке принесенный почтальоном конверт. Служанка немного подождала, надеясь, что мисс Мак-Картри расскажет ей, что внутри и кто прислал письмо, но, поскольку Иможен явно не собиралась делать какие бы то ни было признания, довольно сухо пожелала ей доброго вечера и пошла домой. Розмери пребывала в отвратительном настроении и решила сорвать досаду на мистере Элрое — старик всю жизнь проработал в рыбнадзоре и теперь, прикованный к креслу жестоким ревматизмом, оказался в полной зависимости от жены.
Письмо было от Нэнси Нэнкетт. Девушка признавалась подруге, что ровно ничего не поняла из ее записки. О каком бесчестье писала Иможен? Не связано ли это с таинственным влюбленным, о котором она упомянула? Бедняжка Нэнси совсем растерялась и просила Иможен поскорее написать несколько строчек, чтобы успокоить ее и объяснить, что все-таки происходит.
Мисс Мак-Картри жалостливо пожала плечами. Крошка Нэнси очень мила, но английская кровь отца несколько подпортила ей мозги… Что ж, пожалуй, придется расставить все точки над «i», иначе девчушка Бог знает что вообразит! Иможен не привыкла откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, а потому, достав блокнот и ручку, тут же принялась писать крупным, немного угловатым почерком:
«Моя дорогая Нэнси,
С тех пор как я писала Вам в последний раз, произошло очень много разных событий. Меня стукнули по голове, похитили и посадили под замок. Прошлую ночь я провела связанная по рукам и ногам на чужой постели… Разумеется, я немного беспокоюсь за свою репутацию, однако хочу надеяться, что это не нарушит прекрасных планов на будущее. Он ведет себя очень робко (что немного удивительно для человека его возраста и положения) и не осмеливается открыто сказать о своей любви. К счастью, у меня хорошо развита интуиция, и я все понимаю без слов. Я еще не рискнула рассказать ему о своем бесчестье, поскольку надеюсь очень скоро все исправить. Вы меня хорошо знаете, дорогая Нэнси, и наверняка догадаетесь, что я не из тех, кто может смириться с поражением…»
У двери зазвонил колокольчик, и мисс Мак-Картри, вздрогнув, оторвалась от письма. Кто к ней мог прийти? В первую очередь Иможен подумала об Эндрю, но, решив, что впредь никто больше не застанет ее врасплох, прихватила с собой револьвер. Она уже собиралась открыть дверь, как вдруг сообразила, что, если там враг, ей будет очень неудобно защищаться, а потому, отступив на шаг и тщательно прицелившись, крикнула:
— Входите!
При виде наставленного на него револьвера доктор Элскотт, как ошпаренный, отскочил назад. А Иможен так удивил этот внезапный визит, что она не сразу оценила нелепость ситуации.
— Он з-заряжен? — испуганно пробормотал врач, указывая на оружие.
Мисс Мак-Картри опустила руку.
— Входите, входите, доктор! И простите меня, но я просто вынуждена принимать некоторые меры предосторожности.
— Понимаю…
По дороге в гостиную Джонатан Элскотт клялся в душе как следует отблагодарить Арчибальда Мак-Клостоу и Сэмюеля Тайлера за то, что они возложили на него подобную миссию. Иможен в свою очередь соображала, чему обязана посещением врача, которого ее отец ненавидел за упорные старания отлучить его от виски. Элскотт был тогда начинающим врачом и, как всякий дебютант, проявлял излишнее рвение. Сама Иможен, впрочем, тоже не испытывала к Элскотту особого почтения, ибо, по слухам, он происходил из клана Мак-Леод, с незапамятных времен враждовавшего с Мак-Грегорами.
— Могу я вас чем-нибудь угостить, доктор?
— Вы меня немного напугали, мисс Мак-Картри, и, по правде говоря, я чувствую себя… довольно неважно. Так что, если у вас найдется капелька виски…
Отправляясь за бутылкой и рюмками, Иможен торжествующе улыбалась: Мак-Грегоры одержали новую победу над Мак-Леодами! Потом она вежливо подождала, пока гость выпьет и лицо его вновь обретет нормальные краски.
— Чему я обязана таким удовольствием, доктор Элскотт?
— Арчибальд Мак-Клостоу сказал мне, что у вас неприятности…
— Это касается только меня! — сухо перебила его мисс Мак-Картри.
— Вот как? А здоровье вас не беспокоит?
— Ни в малейшей мере!
— Так вы не хотите, чтобы я вас осмотрел?
— С какой стати?
— Но, насколько я понял…
— Тут какое-то недоразумение… Этот дурень сержант явно переусердствовал! Впрочем, это ему даром не пройдет, я непременно доложу куда следует…
— Ах так? Значит, вы… вы пользуетесь в Лондоне большим влиянием?
— Боже мой, ну разумеется! В определенных кругах очень прислушиваются к моему мнению.
— А-а-а… Но вы, кажется, работаете в машинописном бюро?
— В Адмиралтействе… и причем в секретном отделе… Так что вывеска не всегда соответствует содержанию.
— Ах вот оно что…
Врач допил виски.
— Скажите, мисс Мак-Картри, вы много читаете?
— Простите?
— Я спросил, много ли вы читаете.
— Да, довольно-таки. Но к чему такой вопрос?
— А какие книги вы предпочитаете?
— Исторические…
— А как насчет шпионских романов?
— Тоже неплохо…
— Ага! А вы часто бываете в кино?
— Обычно раз в неделю, но, честно говоря, доктор, я не понимаю…
— И вам, наверное, особенно нравятся фильмы о героических подвигах?
— Должна признать, я и в самом деле смотрю их с большим удовольствием.
— Так-так… Этим-то все и объясняется… Так я и думал…
— Слушайте, доктор, вы мне наконец скажете, что все это значит?
— Последний вопрос, мисс… Когда вы бываете одна у себя в квартире в Лондоне или даже здесь… не случается ли вам… как бы это сказать?.. слышать… м-м-м… голоса? То есть вам не кажется, будто кто-то говорит, в то время как рядом никого нет?.. И этот голос поручает вам какое-нибудь важное дело… например, предлагает совершить… подвиг?
Иможен подумала, уж не издевается ли над ней доктор Элскотт, задавая такие идиотские вопросы, но вдруг до нее дошло, что врач просто-напросто считает ее сумасшедшей. Наверняка его обработал Мак-Клостоу!
— А в призраков вы верите? Ну, скажем, вот в этой комнате, где мы так дружески беседуем, не случалось ли вам видеть что-нибудь необычное, из ряда вон выходящее?
Мисс Мак-Картри вскочила. Ее душило такое бешенство, что в первую минуту слова путались, переходя в какое-то неопределенное мычание.
— Да, я вижу нечто совершенно поразительное! Я вижу грязного, паршивого лекаришку, который пытается сыграть со мной самую скверную шутку, какую только мог измыслить свихнутый потомок Мак-Леодов! И я сейчас покажу этому подлому лекаришке, с кем он имеет дело!
Джонатан Элскотт испуганно взвизгнул и одним прыжком оказался у двери, схватив по дороге шляпу. Потом он так и не смог вспомнить, каким чудом всего за несколько секунд выскочил из кресла, добрался до выхода, открыл дверь и, пробежав сад, плюхнулся в машину. Но всем, кто только желал его слушать, Элскотт рассказывал, что никогда не забудет истерического хохота мисс Мак-Картри и что до сих пор у него от этого воспоминания по коже бегают мурашки.
Глава VI
Наутро Иможен проснулась в полной боевой готовности. Ее немного огорчало, что сэр Генри Уордлоу не подает никаких признаков жизни, но он ведь сам предупреждал: мисс Мак-Картри должна рассчитывать только на себя, а он будет спокойно ждать, пока она доведет миссию до успешного завершения.
Выходя из дому, Иможен решила сначала хорошенько прогуляться. Это прояснит мысли и поможет решить, с чего и как начать контрнаступление.
Погода стояла восхитительная. И шотландка наслаждалась пешей ходьбой, полной грудью вдыхая легкий ветерок, пронизанный целебным ароматом вересковых пустошей. Природа как будто решила смягчить сердце крепкой дочери гор, и свежесть утра настраивала ее на романтический лад. Она решила добраться до озера Веннахар и немного посидеть под сенью деревьев там, где из озера вытекает река Тейт. Возможно, мисс Мак-Картри надеялась встретить там Эндрю Линдсея и услышать наконец признание в любви. Матримониальные грезы напомнили Иможен обо всех упущенных в юности случаях выйти замуж. Она вспомнила Гарри Кремпкета, лейтенанта Колдстримской гвардии, который ухаживал за ней два года, пока капитан Мак-Картри не приказал дочери выбирать между ним и поклонником. Иможен горько плакала, но она так привыкла считать отца единственным светилом своего небосвода, что прогнала Гарри. А теперь он полковник и отец пятерых детей. Двум другим претендентам — Джеймсу и Филиппу, один из которых был мелким землевладельцем, а другой преподавателем, тоже пришлось отступить перед отцовским эгоизмом мистера Мак-Картри.
Став сиротой, Иможен едва не вышла замуж за Гарри Боуленда, клерка одного лондонского нотариуса. Они познакомились на концерте в «Альберт Холле», когда дирижировал сэр Томас Бичем, а потом часто гуляли вместе и обнаружили, что их вкусы сходятся во всем, кроме одного: Боуленд был столь же страстным патриотом Англии, как Иможен — Шотландии. Разрыв произошел на поле в Твикенхеме, куда они вместе приехали смотреть матч по регби между командами Англии и Шотландии во время ежегодного турнира Пяти наций. В тот день Боуленд вдел в бутоньерку розу, а Иможен приколола к лацкану пиджака репейник. В первом полутайме оба еще сохраняли беспристрастие, но положение сильно осложнилось после того, как одного из нападающих шотландской команды оштрафовали за грубость. Судья назначил пенальти, и форварду «Розы» удалось забить гол. Мисс Мак-Картри едко заметила, что судью-валлийца наверняка подкупили англичане. Боуленд ответствовал, что грубияны шотландцы пытаются хамством возместить убожество техники. С тех пор они не обменялись ни словом. Шотландская команда проиграла, и мисс Мак-Картри вернулась в Челси одна. Скверные характеры Иможен и Боуленда помешали примирению — никто из них не желал уступить, и больше они не виделись.
Мисс Мак-Картри обошла весь берег озера, но так и не встретила Эндрю Линдсея. Она миновала заросли кустарника и подошла к самой воде, прозрачность которой вполне соответствовала душевному настрою Иможен. Подобно влюбленной деве лорда Байрона, она присела на берегу и ради собственного удовольствия стала вслух читать одну из поэм Роберта Бернса, которого считала единственным настоящим поэтом во всей истории западной цивилизации. Споткнувшись на каком-то стихе и мучительно вспоминая ускользнувшее из памяти слово, мисс Мак-Картри вдруг почувствовала, что за ней наблюдают. Резко оглянувшись, она успела заметить, как за дерево скользнула какая-то тень. Довольно поэзии! Хватит лирики! Подобно Роберту Брюсу перед решительной схваткой с англичанами при Баннокберне, мисс Мак-Картри сказала себе, что время песен прошло — настало время сражаться, и сражаться хорошо! Иможен бесшумно выпрямилась. Страха она не испытывала, а, напротив, благодарила Небо за то, что оно предает в ее руки врага — как ни мимолетно было движение, мисс Мак-Картри успела узнать котелок валлийского шпиона Флутипола. Шотландка решила, что противопоставит его коварству тонкий интеллект. Проклиная свою беспечность, из-за которой опять забыла прихватить с собой револьвер, Иможен подняла здоровенную палку и двинулась в противоположном направлении, чтобы обойти врага и напасть на него с тылу.
Как некогда в детских играх, мисс Мак-Картри шла с величайшими предосторожностями, старательно обходя сухие ветки и приглушая звук шагов. Она толком не знала, насколько это серьезно, но в любом случае маневр доставлял ей большое удовольствие. Таким образом Иможен в конце концов вышла к небольшой косе, окруженной водой. Идти дальше было невозможно, и, чтобы преодолеть препятствие, Иможен пришлось встать на цыпочки и ухватиться за нависшие над потоком ветки. Потом она резко оттолкнулась, и сухая ветка треснула. Прежде чем упасть в воду, мисс Мак-Картри успела испуганно вскрикнуть, и ее тут же унесло течением. В тот же миг заросли кустарника раздвинулись под чьим-то мощным натиском, и на косу выскочил Флутипол. Чтобы лучше видеть, он приподнялся на цыпочки и имел неосторожность ухватиться за то, что осталось от ветки, сломанной Иможен. В результате валлиец немедленно полетел в озеро следом за шотландкой.
В тот день у констебля Сэмюеля Тайлера был выходной. И, как всегда, он решил пойти на рыбалку. Для констебля этот вид спорта значил не меньше, чем для его начальника — шахматы. Благодаря этому обстоятельству Тайлер слыл одной из лучших удочек всей округи, и не только юнцы, но и старики не стыдились спрашивать у него совета (чем полицейский гордился сверх всякой меры). Все знали, что у Сэмюеля — особая наживка и что червяки, трепещущие на крючке, подвергаются особой обработке, но какой именно — оставалось загадкой, ибо констебль ревниво охранял свою тайну. Остряки утверждали, будто Тайлер маринует наживку в виски и от нее исходит такой запах, против которого шотландские рыбы просто не могут устоять.
Пускай новички и курортники катаются по всему озеру на лодках, полагая, что самая крупная добыча ждет их на глубине, а Сэмюель Тайлер устраивался недалеко от истоков реки Тейт, зная, что рыба любит эту неспокойную воду.
Добравшись до места, констебль приступал к раз и навсегда установленному ритуалу. Сначала он устанавливал раскладной стульчик и готовил наживку. После этого Тайлер позволял себе выкурить сигарету и, распечатав бутылку виски, отпивал добрый глоток. Теперь можно было переходить к серьезным вещам — подготовке крючков, и уж тогда соревнование между рыбами озера Веннахар и Сэмюелем Тайлером начиналось. Рыбак снимал куртку, осторожно складывал в нескольких шагах у себя за спиной, чтобы не забрызгать, и наконец устраивался на стуле, где ему предстояло сохранять каменную неподвижность на протяжении многих часов.
В то утро, едва опустив леску в воду, Тайлер испугался, уж не начались ли у него галлюцинации. Он прикрыл глаза левой рукой и, просидев так несколько секунд, снова посмотрел на озеро: взору предстала та же картина. Значит, это не плод воображения и над поверхностью воды действительно проплывает голова рыжей шотландки? Констебль вскочил, тихонько выругался и с тревогой поглядел на бутылку виски — уж не осушил ли он ее по рассеянности одним махом? Сэмюель еще раз взглянул на озеро и с ужасом обнаружил, что голова шотландки исчезла под водой, зато на ее месте появилась голова валлийца, по-прежнему увенчанная шляпой-котелком, усы джентльмена повисли самым жалким образом… Решив, что он, по-видимому, вдруг лишился рассудка, Тайлер чуть не взвыл от ужаса. Но в тот же миг вновь появилась мисс Мак-Картри. Похоже, эти двое еще и дерутся в воде!
— На помощь! На помощь! На помощь! — в полной панике завопил констебль.
И тут внезапно свершившееся чудо вернуло Тайлера к действительности. Иможен в очередной раз вынырнула и, отплевываясь, заорала на констебля:
— Кретин несчастный! Это мне надо звать на помощь, а не вам!
Сэмюель не мог не признать, что она правда, и устыдился.
— Не сердитесь, Иможен… — сконфуженно пробормотал он.
Голова мисс Мак-Картри и вторая, в шляпе-котелке, уже проплывали мимо.
— Да решитесь вы наконец мне помочь, Сэмюель Тайлер? Или будете невозмутимо наблюдать, как я тону?
Услышав столь энергичное напоминание о его обязанностях, констебль вздрогнул. Само собой, ему уже скоро шестьдесят, а в таком возрасте нырнуть в озеро Веннахар — вовсе не предел мечтаний, но закон велел полицейскому спасать тех, кто оказался в опасности. Под двойным напором закона, чьим безупречным служителем считал себя Тайлер, и религии, верным адептом которой он был, полицейскому пришлось сделать то, к чему он не испытывал ни малейшего желания. И вот только потому, что он носил форму полицейского Ее Величества, Сэмюель, невзирая на преклонный возраст и отчаянный страх подцепить ревматизм, бросился в воду во имя Бога, Англии и этой проклятой шотландки с огненной шевелюрой!
Арчибальду Мак-Клостоу никак не удавалось сокрушить «черных». Самая хитроумная тактика не помогала прорвать линию их обороны, и сержант раздумывал, не атаковать ли пешками, ибо они одни способны произвести смятение во вражеском лагере и толкнуть противника на неосторожный шаг. Двинув вперед двух первых
представителей «белой» пехоты, Арчи прикидывал, не стоит ли «черным» контратаковать кавалерией, как вдруг дверь кабинета распахнулась и глазам Мак-Клостоу предстало самое жуткое зрелище, которое когда-либо приходилось созерцать сержанту полиции Каллендера.
Ужасная мисс Мак-Картри вошла в совершенно мокром платье, с которого потоками струилась вода, образуя на полу огромные лужи, рядом — ее враг валлиец, сейчас похожий на только что побывавшего в ванне пуделя, а за ними Сэмюель Тайлер, одетый в штатское, но в не менее плачевном виде, чем прочие. Удивительное трио сопровождал фермер Овид Алланби, но тот хотя бы не счел нужным искупаться в одежде, прежде чем явиться пред очи Мак-Клостоу. Сержант так обалдел, что не мог выдавить из себя ни единого вопроса. Впрочем, его все равно никто бы не услышал, поскольку каждый вопил что было мочи. Сэмюель пытался объяснить, что случилось, Иможен орала, что ее хотели убить, валлиец кричал, что больше не позволит делать из себя мальчика для битья, но шляпа-котелок, похожая на крышу после дождя, придавала ему комичный вид и мешала воспринимать его всерьез. Что до Овида Алланби, тот громко интересовался, кто теперь почистит его чертову машину, после того как чертов Тайлер силой усадил в нее чертовых утопленников, заляпавших чертовы сиденья.
Чувствуя, что его авторитет под угрозой, Арчибальд Мак-Клостоу рявкнул:
— Всем молчать!
От удивления странная компания притихла, да и надо ж было хотя бы перевести дух.
— Не знаю, что вы еще придумали и каким образом устроили этот новый скандал, но предупреждаю вас, мисс Мак-Картри, мое терпение уже на пределе! — сурово предупредил Арчи.
— Выходит, вам совершенно безразлично, что меня в очередной раз пытались убить? — возмутилась Иможен.
— Нет, не безразлично! Но мне было бы гораздо спокойнее, если бы вас и в самом деле прикончили раз и навсегда! Докладывайте, Тайлер!
Констебль рассказал о происшествии, в котором, по просьбе присутствующей здесь мисс Мак-Картри, ему пришлось принять участие. Арчи недоуменно воззрился на Иможен.
— Может, расскажете, какого черта женщину вашего возраста, да еще уверяющую, будто она в здравом уме, могло с утра пораньше занести в озеро Веннахар?
— Не будь вы такой тупой скотиной, сообразили бы, что меня хотели утопить!
— Кто?
— Он!
И мисс Мак-Картри мстительно ткнула пальцем в сторону несчастного Герберта Флутипола. Сержант тут же накинулся на него:
— Ну, что вы можете возразить?
— Я нисколько не виноват в несчастном случае с мисс Мак-Картри.
— Тогда что вам понадобилось в воде?
— Я упал в озеро, пытаясь помочь!
— Лицемерный убийца!
— Замолчите, мисс! Так вы уверяете, будто он на вас напал?
— Не совсем…
— Тогда, значит, толкнул в воду?
— Тоже нет.
— Но тогда скажите, ради всего святого, что вы имели в виду!
— Он меня преследовал!
— А поточнее нельзя?
— Я сидела на берегу и вдруг заметила, как он за мной следит.
— И, чтобы удрать от преследования, прыгнули в воду?
— Нет, я упала в озеро, потому что подо мной подломилась ветка.
— И вы пытаетесь изобразить обыкновенный несчастный случай, как покушение?
— Господи Боже! Вы что, совсем ничего не соображаете?
— Довольно, мисс Мак-Картри! Мои умственные способности вас не касаются! С меня хватит и вас, и ваших выкрутасов! Слышите? Доктор Джонатан Элскотт уже прислал мне заключение! И предупреждаю: еще одна, пусть самая пустяковая выходка — и я вас на несколько недель отправлю к психам! Ясно? А теперь убирайтесь из моего кабинета, да поживее!
Тут Овид Алланби снова решил напомнить о чертовых сиденьях, на которые чертов констебль посадил чертовых утопленников. Но Арчи был уже не в том настроении, чтобы слушать что бы то ни было и кого бы то ни было.
— Овид Алланби! — прогремел он. — Вы чертов дурак и доставите мне чертовское удовольствие, если заткнетесь, сядете в свою чертову машину и как можно скорее самой короткой дорогой доставите эту чертову мисс Мак-Картри в ее чертов дом, иначе я запру вашу чертову персону в свою чертову камеру за нарушение закона! Усекли?
Овид развернулся на каблуках и вышел. Иможен колебалась, не зная, как поступить, как вдруг Флутипол кротко заметил:
— Прошу прощения, мисс Мак-Картри, но позволю себе обратить ваше внимание на то, что вы совершаете ошибку, принимая друзей за врагов, а врагов — за друзей…
— А я позволю себе заявить, что считаю валлийцев самым гнусным вкладом, который Соединенное Королевство внесло в население этой планеты! Тоже мне советчик нашелся! Да плевать мне и на ваши рекомендации, и на попытки меня убить! Правое дело победит, и в один прекрасный день я еще дождусь у двери тюрьмы сообщения, что правосудие свершилось и вас вздернули!
С этими словами шотландка ушла, ни с кем не простившись. Полицейские и валлиец, оставшись втроем, обменялись слегка растерянными взглядами, и Мак-Клостоу подвел итог:
— Не расстраивайтесь, мистер Флутипол, я составлю вам компанию, ибо мисс Мак-Картри и мне тоже пообещала пеньковый галстук. Надо будет поинтересоваться у доктора Элскотта, что может означать столь навязчивое желание отправить всех и каждого на виселицу…
Миссис Розмери Элрой не ответила на приветствие Иможен и, не ожидая вопроса, тут же перешла в наступление:
— Вчера, мисс Иможен, вас привел Тайлер. А сегодня вы являетесь домой в сопровождении этого паршивца Овида Олланби, да еще в каком виде!
— Но я упала в воду!
— Разве, по-вашему, порядочные женщины падают в воду, мисс Иможен? Во всяком случае, предупреждаю: если вы намерены продолжать в том же духе, можете на меня не рассчитывать! Мне надо заботиться о своей репутации. Обидно, конечно, за ваших маму и папу, но, я уверена, они бы меня одобрили.
Иможен чуть не ответила, что старуха может, коли угодно, убираться хоть сию секунду, но Розмери была ей нужна, а потому она прикусила язык и молча ушла в свою комнату.
Переодеваясь, мисс Мак-Картри обдумывала утреннее происшествие, и неожиданно в ее памяти всплыл совет-предупреждение валлийца. Иможен хмыкнула. Если он надеялся запудрить ей мозги такой неслыханной глупостью — значит, считает совсем дурой. Не на такую напал! Иможен начала причесываться, да так и застыла, воздев руки к огненным волосам. А что, если Герберт Флутипол сказал правду? Что, если она ошибается с самого начала? И мисс Мак-Картри припомнила, как она нашла пакет в комнате Эндрю Линдсея. Как она могла, даже не проверив, принять невероятное объяснение Эндрю? Но тогда придется допустить, что Линдсей — шпион… Так, значит, не он написал столь взволновавшее ее признание? Но кто тогда? Гован Росс или… или Аллан? Сердце Иможен учащенно забилось. Но если Линдсей — преступник, то кто Гован и Аллан? Сообщники? Или оба они так же обмануты, как и она? Мисс Мак-Картри интуитивно склонялась ко второму предположению. В любом случае необходимо выяснить правду, и Иможен решила сразу после обеда отправиться в Килмахог. А дабы и на сей раз не забыть о мерах предосторожности, она положила в сумочку револьвер и только потом отозвалась на приглашение миссис Элрой к столу.
Увидев, что к «Черному лебедю» приближается мисс Мак-Картри, Джефферсон Мак-Пантиш нахмурился. Хозяин гостиницы весьма заботился о том, чтобы к его особе относились с должным почтением, а Иможен, по-видимому, имела наглость считать его чуть ли не слугой. Поэтому на вопрос мисс Мак-Картри дома ли мистер Линдсей, Джефферсон сухо ответил, что его клиент ушел немного прогуляться. Иможен, не дожидаясь приглашения, заявила, что подождет в гостиной. Там она сделала вид, будто увлеченно разглядывает журналы. На самом деле шотландка наблюдала за Джефферсоном Мак-Пантишем, а тот в свою очередь, краем глаза следил за Иможен, считая ее весьма подозрительной личностью. Так прошло минут пятнадцать. Оба хранили полное молчание, но бдительности не теряли. Наконец Джефферсона позвали, и он исчез в недрах гостиницы. Мисс Мак-Картри тут же вскочила и бросилась на лестницу. Опыт прочитанных детективных романов подсказывал, что комнату подозреваемого лучше всего обыскать в его отсутствие. На всякий случай Иможен постучала. Никто не ответил. Не сомневаясь, что в комнате пусто, она повернула ручку, но дверь была заперта на ключ. Глубоко разочарованная мисс Мак-Картри снова спустилась в холл, решив играть ва-банк, но с радостью обнаружила, что Мак-Пантиш еще не вернулся. Замирая от страха, шотландка схватила висевший на крючке ключ Линдсея и быстро, хотя и с величайшими предосторожностями, снова поднялась на второй этаж. Мысль о том, что в любую минуту может появиться слуга или кто-то из жильцов, внушала ей трепет. Однако до комнаты Линдсея она добралась без всяких приключений и, сунув ключ в скважину, медленно повернула, потом, придерживая дверь, чтобы та не скрипнула, тихонько проскользнула в номер. Закрывая за собой дверь, Иможен чуть не закричала от страха — за спиной у нее раздался грубый мужской голос.
— По какому праву вы сюда вошли? — с сильным иностранным акцентом спросил он.
Мисс Мак-Картри всерьез решила, что сердце у нее сейчас остановится. За долю секунды в потрясенном сознании Иможен промелькнуло множество самых разнообразных предположений, и в то же время она пыталась определить, что за акцент у незнакомца. Однако, поскольку для шотландки заграница начиналась сразу за пределами Глазго, составить определенное мнение ей так и не удалось. Обернувшись, Иможен увидела, что у окна сидит мужчина. Поскольку лицо этого типа было ей совершенно незнакомо, мисс Мак-Картри сперва подумала, что ошиблась комнатой, и уже хотела извиниться, как вдруг узнала чемодан Линдсея и брошенное на кровать пальто. Незнакомец меж тем продолжал настаивать:
— Ну? Собираетесь вы отвечать или нет?
Иможен ненавидела, когда с ней разговаривали подобным тоном, а потому мигом пришла в себя.
— А вы что тут делаете?
Неожиданное контрнападение, кажется, удивило незнакомца.
— Я? Но я друг Эндрю Линдсея!
— Я тоже.
— Он не сказал мне, что пригласил вас в гости.
— Я полагаю, он не обязан докладывать вам о своей личной жизни? Впрочем, я готова уступить вам место…
И вполне довольная собой, мисс Мак-Картри собиралась выйти из номера, но иностранец вдруг вскочил и преградил ей дорогу.
— Спокойно… Раз уж вы сюда забрались, придется подождать, пока я не уйду…
— Почему это?
— У меня на то есть причины, которые вас совершенно не касаются!
Слегка встревоженная, Иможен отступила на середину комнаты.
— Мне не нравятся ваши манеры…
Незнакомец хмыкнул.
— А мне — ваши, особенно привычка залезать в чужие комнаты, когда хозяина нет дома!
Мужчина запер дверь и вернулся к столу. Мисс Мак-Картри показалось, что этот высокий тощий тип с каким-то странным, угловатым лицом слегка прихрамывает.
— Сидите тихо и не рыпайтесь, пока я не уйду, если не хотите очень крупных неприятностей, — предупредил он.
— Так вы не подождете мистера Линдсея?
— Лучше не стоит.
— Вы меня обманули, верно? Вы ведь не знакомы с Эндрю!
— И что с того?
— Вы вошли в эту комнату без ведома владельца! Я прикажу вас арестовать!
— Не думаю!
Мужчина выхватил из кармана нож.
— Может, вы и успеете крикнуть, мисс, но всего один раз! Однако мне незачем вас убивать, и, если вы обещаете вести себя разумно…
— Вы не джентльмен!
— Естественно. В моей стране таковые не водятся… Сейчас я привяжу вас к стулу и заткну рот. А милейший мистер Линдсей с радостью вас освободит, и вы сможете выразить ему благодарность в какой угодно форме…
— Хам!
Незнакомец вдруг резко изменил тон:
— Прекрати валять дурака, паршивая англичанка, или пеняй на себя!
Иможен оскорбило это презрительное «тыканье», а уж то, что ее назвали англичанкой, обожгло, как каленым железом. И шотландка решила не сдаваться без боя. Ни Роберт Брюс, ни Вальтер Скотт, ни ее отец не поняли бы позорной капитуляции. Мисс Мак-Картри вытащила из сумочки гигантский револьвер и, держа его обеими руками, навела на противника. При виде такого странного оружия мужчина на миг остолбенел, но тут же расхохотался.
— Где, черт возьми, вы откопали такое чудовище? Надеюсь, вы не настолько наивны, чтобы вообразить, будто сумеете запустить эту боевую машину? А ну-ка, давайте сюда…
— Не подходите, или я выстрелю!
— Дура! Неужто, по-вашему, я послушаюсь какой-то старой клячи только потому, что она возомнила себя артиллеристом?
Незнакомец начал приближаться.
— Тем хуже для вас! Я стреляю!
— Я участвовал в семидесяти пяти воздушных боях, и меня четыре раза сбивали… Стало быть, на этой земле мало что может меня напугать…
Все мускулы Иможен напряглись, но у нее все же не хватало духу спустить курок. И, прежде чем мисс Мак-Картри решилась, на нее налетел иностранец.
— Дайте-ка сюда револьвер!
— Нет!
Он наотмашь ударил ее по лицу. Иможен отлетела и шлепнулась на пол, но оружие не выпустила. Падая, она искала точку опоры и нечаяно нажала на курок. Грохнул выстрел, и шотландка с ужасом увидела, как верхняя часть головы склонившегося над ней мужчины исчезла — Иможен стреляла почти в упор, а такая пуля могла бы уложить и слона. От выстрела содрогнулась вся гостиница, и в одной из соседних комнат какой-то пастор вместе со всей семьей упал на колени в полной уверенности, что русские сбросили первую атомную бомбу на Горную Шотландию. Хозяин «Черного лебедя», сидевший в это время в погребе, подумал, что обвалилась крыша. А какой-то рыбак на берегу озера Веннахар, сочтя, что такой удар грома, несмотря на полное отсутствие туч на небе, предвещает редкой силы грозу, быстренько собрал всю рыболовную снасть.
Что до Иможен, то, увидев, что натворил ее револьвер, услышав глухой стук падающего тела и жуткое бульканье кровавой магмы там, где всего секунду назад было человеческое лицо, она в ужасе завопила. Очень скоро дверь вышибли, и, теряя сознание, мисс Мак-Картри успела узнать перекошенные от страха лица Джефферсона Мак-Пантиша и Эндрю Линдсея и лицемерную физиономию Герберта Флутипола.
Несмотря на грядущие осложнения, Арчибальд Мак-Клостоу ликовал. На сей раз проклятая рыжая стерва за все заплатит! Он торжествующе смотрел на Иможен, поникшую в кресле, куда Тайлер усадил ее два часа назад, сразу после того как привез из «Черного лебедя». Расследование убийства не представляло ни малейших сложностей, поскольку и жертва, и убийца, и орудие преступления оказались на месте. Впрочем, Иможен и не пыталась отрицать вину. А в свое оправдание рассказывала совершенно дикую историю. Показания Мак-Пантиша вполне подтверждали виновность шотландки. Судя по всему, мисс Мак-Картри воспользовалась его отсутствием, стащила ключ от номера мистера Линдсея и без разрешения проникла в комнату последнего. Преднамеренность убийства не вызывала сомнений. Неприятно только, что решительно никто не знал покойника. Джефферсон даже не подозревал о его присутствии в гостинице, никогда в жизни не видел и тщетно ломал голову, пытаясь сообразить, что этому типу понадобилось у Линдсея. Помимо всего прочего, обыскивая тело, не нашли ни единого документа. Выслушать показания Герберта Флутипола тоже не удалось, поскольку валлиец как сквозь землю провалился.
Арчи продолжал допрос.
— Мисс Мак-Картри, как зовут человека, которого вы убили?
— Не знаю.
— Стало быть, вы отстреливаете незнакомых людей? Своеобразное времяпрепровождение!
— Повторяю вам, он угрожал мне ножом!
— Короче, насколько я понимаю, вы настаиваете, что это была только самозащита?
— Да, законная самозащита.
— Что ж, побеседуйте со своим адвокатом и желаю вам обоим убедить судью. Но в любом случае вам придется объяснять, откуда у вас револьвер.
— Он принадлежал моему отцу.
— У вас есть разрешение носить оружие?
— Нет.
— Отлично… Это еще одно обвинение против вас.
— А вы и рады, правда?
— Мисс Мак-Картри, рад я или нет, это не имеет отношения к делу, я лишь выполняю обязанности сержанта полиции. Но, если вам так интересно, могу признаться, что и вправду очень доволен, более того, счастлив, что вы отправитесь за решетку, прежде чем свели меня с ума или начали планомерно уничтожать всех иностранцев, приезжающих в Каллендер! Тайлер сходит к вам домой и принесет все необходимое, а я запру вас в камере, мисс Мак-Картри. Тайлер!
Констебль, охранявший участок от наплыва любопытных, бросился к шефу.
— Тайлер, мисс Мак-Картри назовет вам предметы первой необходимости, и вы прогуляетесь к ней домой вместе с миссис Элрой…
Телефонный звонок помешал Арчибальду договорить. Сэмюель, стоявший ближе к столу, снял трубку.
— Полицейский участок Каллендера! — Немного послушав, он добавил: — Пожалуйста, не вешайте трубку, сейчас я его позову.
Прикрыв рукой микрофон, он повернулся к шефу.
— Это вас! Полицейское управление Эдинбурга!
Арчи тяжело вздохнул — неприятности начались!
— У телефона Арчибальд Мак-Клостоу, сержант полиции Каллендера… Мое почтение, сэр… Да, она здесь… И я как раз собирался запереть ее в камере… Что?.. Но… она же призналась!.. Что?.. Шпион?.. У нее нет разрешения на оружие… А?! Но она сама сказала, что… Хорошо… хорошо, я вас понял! Так точно, готов выполнять!..
Арчи повесил трубку и помутившимся взором окинул кабинет.
— Представьте себе, Сэмюель Тайлер, — обратился он к подчиненному, — оказывается, мы с вами полные идиоты… Во всяком случае, так считают в Эдинбурге… Мы должны немедленно выпустить мисс Мак-Картри, поскольку она убила человека без документов, которого вообще в природе не существует, а убийство призраков ненаказуемо по закону. Добавлю также, что, сама о том не ведая, мисс Марк-Картри имеет разрешение носить оружие. Стало быть, Сэмюель Тайлер, согласно приказу из Эдинбурга, вы можете вернуть мисс Мак-Картри ее артиллерию и проводить до дома со всеми почестями, полагающимися особе, которую несправедливо заподозрили в преступлении. Что до меня, мисс Мак-Картри, то позвольте принести вам глубочайшие извинения. Уж простите, что я имел глупость поверить своим собственным глазам и ушам!
Иможен встала, совершенно преобразившись от столь неожиданного поворота событий.
— На сей раз — ладно, Арчибальд Мак-Клостоу, но не вздумайте продолжать в том же духе!
И она вышла, окруженная ореолом величия, подобающим героине, испытавшей преследования и вновь вознесенной на вершину славы. А следом брел Тайлер, не зная толком, грезит ли он наяву или все это происходит на самом деле.
По доброте душевной Тайлер с большой симпатией относился к своему шефу. Догадываясь, в какой он сейчас растерянности, констебль на обратном пути купил две двойных порции виски. Мак-Клостоу и впрямь сидел в кабинете с самым пришибленным видом и тщетно пытался сообразить, что произошло.
— Вот, шеф, выпейте и взбодритесь! — жизнерадостно крикнул с порога Тайлер.
При виде выпивки глаза Арчи сверкнули. Дрожащей рукой сержант схватил стаканчик и поднес к губам. К несчастью, констебль решил еще больше обрадовать шефа.
— И знаете, я заплатил своими кровными!
Это было уж слишком! Мир, в котором убийц приходится отпускать на свободу да еще приносить извинения, а Тайлер из своего кармана оплачивает виски начальнику, этот мир больше ничуть не походил на тот, который знал Арчибальд Мак-Клостоу. И, выронив стаканчик, сержант потерял сознание. А бедняге Тайлеру, дабы привести его в чувство, пришлось, скрепя сердце, пожертвовать собственным виски…
Глава VII
«…И как видите, дорогая Нэнси, очень важно быть готовой в любую минуту пересмотреть даже то, что казалось несомненным. Скажем, мне, как и Вам, всегда внушали, что убийство — серьезное преступление, влекущее за собой ужасные последствия для того, кто его совершил, даже если речь шла о самозащите. Так вот, дорогая, ничего подобного, все это — бредни журналистов! И доказательством тому, что совсем недавно (а точнее, около полудня) я отправила на тот свет гражданина какой-то чужой страны, всадив ему пулю прямо в физиономию. Но не пугайтесь, моя девочка, я сделала это не просто так, а лишь потому, что этот тип позволил себе обойтись со мной невероятно нагло, оскорбив мою честь шотландки (я знаю, что Вы могли вообразить, но это не так). Негодяй хотел заставить меня умолкнуть как опасного свидетеля, но Вы же знаете, дорогая Нэнси, что заткнуть мне рот… Однако такой успех все же не вернул мне утраченной чести, и потому, закончив письмо Вам, я сразу отправляюсь искать то, что у меня украли. В случае поражения даже не знаю, что со мной станет, ибо, потерпев неудачу, я никогда не осмелюсь показаться на глаза сэру Дэвиду Вулишу. На кон поставлена репутация всего нашего пола, дорогая Нэнси. Следовательно, можете не сомневаться, что я намерена приложить все силы, и, если злая судьба пожелает, чтобы я пала в этой битве, прошу Вас, сохраните доброе воспоминание о Вашей
Иможен.
P.S. Что касается другой истории, давшей мне надежду наконец обрести семейный очаг, то тут я очень мало продвинулась вперед. Но я буду держать Вас в курсе, моя дорогая, поскольку, так или иначе, вы, конечно, не откажетесь быть моей свидетельницей вместе с Дженис. Целую Вас».
Мисс Мак-Картри решилась сходить в «Торфяники» к сэру Генри Уордлоу. Тот принял ее очень любезно и сообщил, что вынужден дня на четыре уехать в Лондон, где наверняка встретится с сэром Дэвидом, а потом выразил надежду, что по возвращении Иможен сумеет наконец передать ему документы, доставка которых была ей поручена. Шотландка поклялась сделать все возможное.
— Вы, конечно, знаете о драме, случившейся вчера в «Черном лебеде», сэр?
— Естественно.
— Мне пришлось выстрелить, защищаясь… Вы меня не осуждаете, сэр?
— Ни в коей мере, мисс Мак-Картри. Я, кажется, знаю, как звали вашего противника. Пусть никакие угрызения совести вас не тревожат. Вы оказали нашим агентам огромную услугу. Этот тип был для них постоянной головной болью. И я нисколько не сомневаюсь, что его появление в Каллендере непосредственно связано с похищением секретных планов «Кэмпбелла-семьсот семьдесят семь». Осталось выяснить, кто его здешний агент, то есть установить личность вора.
— Я уверена, что это мерзкий тип, якобы приехавший сюда из Уэльса. Впрочем, судя по тому, что ведет он себя как настоящий дикарь, это вполне может соответствовать действительности. Некто Герберт Флутипол. Он вечно путается у меня под ногами, но Тайлер и Мак-Клостоу не желают верить в его виновность и позволяют действовать безнаказанно. По-моему, это просто позор! Я уверена, что пакет у Флутипола, иначе зачем бы его принесло в «Черного лебедя»?
— Возможно, вы и правы, мисс, но, видите ли, в разведке самое главное — не поддаваться личным симпатиям и антипатиям. Никто не должен априори оставаться вне подозрений, и на вашем месте я бы повнимательнее пригляделся к этому мистеру Линдсею. Ведь именно в его комнате вы пережили такие тяжелые минуты!
— Эндрю?.. Но, сэр… откровенно говоря… мне кажется, он питает ко мне некоторые симпатии и даже, возможно, очень скоро попросит стать его женой…
— Порой под напускной нежностью скрывается обман, мисс Мак-Картри. Однако вам легче судить, как обстоит дело, и я вполне полагаюсь на ваш здравый смысл. Во всяком случае, вот что мне удалось для вас сделать. На почте у меня есть свой человек, и он осматривает все мало-мальски объемистые конверты. Это специалист, умеющий незаметно вскрывать и запечатывать любые письма и бандероли, причем в мгновение ока. Стало быть, у противника очень мало шансов без нашего ведома переправить бумаги по официальным каналам. И, уж простите меня, мисс Мак-Картри, но я дал приказ следить за господами Линдсеем и Флутиполом. Если в мое отсутствие один из этих джентльменов вздумает сесть на поезд или уехать из Каллендера иным путем, Эдинбург немедленно получит уведомление и примет соответствующие меры.
— Спасибо, сэр. Можете не сомневаться, что я не упущу ни единой мелочи, хотя и уверена в полной необоснованности ваших подозрений насчет Эндрю.
— Я всего лишь предупредил вас, мисс…
Сколько бы Иможен ни спорила, а замечания сэра Генри ее все же смутили. Но сердце не желало мириться с возможностью предательства со стороны Эндрю Линдсея. Человек всегда верит лишь в то, во что хочет верить. Однако у мисс Мак-Картри хватало мужества не отступать ни перед какой правдой, и она поклялась себе довести расследование насчет Эндрю до конца.
Возвращаться домой ей надо было через весь Каллендер. Добравшись до центра, Иможен заметила, что прохожие оборачиваются на нее и что-то шепчут друг другу, короче говоря, она вдруг стала привлекать всеобщее внимание. Не зная, радоваться ли такой популярности, мисс Мак-Картри решила зайти купить овсяных хлопьев. Не то чтоб они были ей позарез нужны, но бакалея Элизабет Мак-Грю и ее мужа Уильяма — единственное место, где можно точно узнать обо всем, что происходит в Каллендере.
Появление Иможен произвело сенсацию. Элизабет Мак-Грю, взвешивая фасоль для миссис Плюри, незаметно для себя всыпала в кулек лишние сто граммов. Уильям Мак-Грю показывал чулки миссис Фрэзер, но, увидев Иможен, сразу перестал слушать собеседницу. А старая миссис Шарп, собиравшаяся, как она делала на протяжении полувека, стянуть конфетку, забыв о любви к сладкому, воскликнула:
— Иможен Мак-Картри!
Это послужило сигналом к общему наступлению, и мисс Мак-Картри, окруженная со всех сторон, не знала кому отвечать. Элизабет Мак-Грю пришлось сухо напомнить, что все находятся в ее доме, и, следовательно, право первенства принадлежит ей. Кумушкам пришлось покориться и, отойдя от Иможен, уступить место миссис Мак-Грю. Та не замедлила воспользоваться преимуществом.
— Мисс Мак-Картри, я особенно счастлива вас видеть, с тех пор как узнала, с каким хладнокровием вы сумели выйти из затруднительного положения вчера в «Черном лебеде». Тайлер сказал нам, что вы уложили его одной-единственной пулей… Это правда?
— Одной хватило, миссис Мак-Грю… Я стреляла из папиного револьвера…
Миссис Шарп не удержалась от восторженного замечания:
— Будь милейший капитан еще жив, он бы гордился вами, Иможен Мак-Картри!
— Вы показали этому шпиону, что с девушками Горной Страны лучше не связываться! — поддержала ее миссис Фрэзер.
Иможен чувствовала себя на седьмом небе.
— Мисс Мак-Картри, может, вы расскажете нам, как это произошло? — снова вмешалась бакалейщица.
Мисс Мак-Картри заставила себя просить не больше, чем требовали приличия, и пустилась в повествование о своих приключениях, вдохновенно расцвечивая их такими подробностями, что вполне могла бы претендовать на духовное родство с легендарным Боб Роем, а по значению для нации ее подвиг оказался чуть ли не равен Баннокбернской битве. Все слушали открыв рот, и лишь миссис Мак-Грю, чувствуя, что ее власть и авторитет под угрозой, испытывала легкую зависть. Когда Иможен умолкла, Уильям Мак-Грю пылко пожал ей руку, уверяя, что теперь благодаря мисс Мак-Картри Каллендером заинтересуется все Соединенное Королевство. Элизабет тут же попросила супруга не отлынивать от работы, пользуясь появлением в лавке мисс Мак-Картри, а доставить ей удовольствие и сходить в подвал за керосином, поскольку наверху запас подходит к концу. Уильям рассердился.
— Господи Боже, Элизабет, неужели вы хоть на пять минут не можете оставить меня в покое?
— Во-первых, я попрошу вас, Уильям Мак-Грю, разговаривать со мной другим тоном, особенно при клиентах. А во-вторых, хочу вам напомнить, что мама родила меня на свет и до пятнадцати лет посылала в школу вовсе не за тем, чтобы я содержала никчемного бездельника.
Миссис Мак-Грю била по больному месту, ибо весь Каллендер знал, что если у бакалейщиков нет детей, то вина в этом целиком и полностью лежит на муже. Судя по выражению лиц, покупательницы получали огромное удовольствие: мало того, что они слышали рассказ Иможен, теперь их развлекают еще и семейной сценой! Но Уильям Мак-Грю после такого предательского удара больше не стал возражать и направился к лесенке, ведущей в погреб, однако, прежде чем исчезнуть в недрах бакалейного склада, он выпустил последнюю стрелу:
— Позвольте вам все же заметить, Элизабет Мак-Грю, что вы не уважаете своего мужа!
В этом простом замечании слышались отзвуки шекспировской трагедии, несмотря на то что из дыры в полу торчала лишь верхняя часть туловища Уильяма. Элизабет почувствовала справедливость упрека и, чтобы отвлечь внимание кумушек, снова обратилась к Иможен:
— Мисс Мак-Картри, а что вы ощутили после того, как прикончили мужчину?
Очень неловкий вопрос, поскольку в тот же вечер миссис Плюри разнесла всем сплетникам Каллендера весть, что у четы Мак-Грю дела идут хуже некуда и миссис Мак-Грю даже наводит справки о… короче говоря, миссис Плюри, конечно, пока не хочет никого ни в чем обвинять, но, если однажды в бакалее разразится драма, ее это удивит меньше, чем кого бы то ни было, и уж тогда она расскажет полиции все, что знает. Таким образом, в ближайшие несколько дней Элизабет тщетно ломала голову, почему все женское население Каллендера проявляет к ее особе столь назойливое внимание. Даже Тайлер, получив анонимное предупреждение, явился увещевать миссис Мак-Грю, а та, не понимая, по какому праву констебль вмешивается в ее семейную жизнь, рассердилась, наговорила гадостей и сделала Сэмюеля своим смертельным врагом.
Однако пока дело еще не зашло так далеко, и клиентки Элизабет ждали ответа Иможен.
— Вероятно, это как на охоте… Целишься, спускаешь курок — и добыча падает. Только потом соображаешь что к чему. И, честно признаюсь, нельзя не испытывать некоторого потрясения…
Как опытный оратор, Иможен понимала, что любопытство аудитории никогда не следует удовлетворять до конца, а потому она вежливо распрощалась с женщинами, заметив, что они наверняка увидятся в три часа дня на заседании следственного суда у коронера. Элизабет уже слегка завидовала новоиспеченной героине, а потому, как только мисс Мак-Картри вышла из бакалеи, решила нанести удар в спину.
— Все равно, — проговорила она, напустив на себя равнодушный вид, — если бы мистер Мак-Грю узнал, что я убила человека, пусть даже ради самозащиты… я уверена, он стал бы смотреть на меня совсем другими глазами и… и ему было бы не по себе…
Клиентки выразили бакалейщице полное одобрение, но миссис Плюри, считавшая себя необычайно проницательной особой, подумала, что подобная хитрость может ввести в заблуждение кого угодно, только не ее.
Обязанности коронера исполнял Питер Корнвей, владелец похоронного бюро. Он же делал надгробия и могильные плиты. Это был маленький щуплый человечек, как и требовало его ремесло, всегда одетый в черный костюм, с которого, впрочем, ему никогда не удавалось стряхнуть мраморную крошку, ибо трудолюбивый Питер с утра до вечера обтесывал надгробия.
Судебное разбирательство происходило в большом зале мэрии, куда принесли школьные скамьи. Питеру Корнвею помогали мэр Гарри Лоуден и секретарь Нед Биллингс. Весь Каллендер собрался в зале, не желая упустить ни малейших подробностей события, нарушившего тоскливое однообразие повседневной жизни. Сочтя, что ждать больше некого, Питер Корнвей встал, торжественно объявил заседание открытым и вызвал первого свидетеля, мисс Иможен Мак-Картри.
По просьбе коронера, надо сказать проявившего к ней необычайную предупредительность, Иможен снова рассказала о драме, в которой играла главную роль. Питер Корнвей попросил уточнить кое-какие детали, но как человек деликатный не стал акцентировать внимание на том, что мисс Мак-Картри без законных оснований взяла ключ от комнаты мистера Линдсея и в отсутствие хозяина забралась в жилище холостого мужчины. Выслушав показания Иможен, коронер предложил ей вернуться на место, что шотландка и сделала под общий восхищенный шепоток. И только самые проницательные граждане Каллендера обратили внимание, что Гарри Лоуден сидит с весьма недовольным видом и, по-видимому, не разделяет восторгов аудитории.
К Эндрю Линдсею сначала отнеслись недоверчиво, но ему удалось изменить общественное мнение в свою пользу, заявив, что он не знал покойного и, по-видимому, тот воспользовался отмычкой. Свидетель предполагал, что этот тип, увидев на лестнице «Черного лебедя» мисс Мак-Картри, бросился в первую попавшуюся комнату, но ему не повезло, поскольку именно туда и направлялась шотландка. Линдсей добавил, что он и в самом деле договорился о встрече с означенной мисс, но о причинах и целях этого свидания он никак не может говорить публично, ибо речь идет о высших государственных интересах. Слушатели по достоинству оценили деликатность чужака, а растроганная Иможен поняла, что Эндрю таким образом пытается спасти ее репутацию, и усмотрела в этом нежное признание… Повернувшись, мисс Мак-Картри одарила Линдсея самой лучезарной улыбкой. Эндрю слегка поклонился и тем окончательно завоевал симпатии женской половины аудитории.
Тайлер и Герберт Флутипол рассказали, как, зайдя в холл гостиницы «Черный лебедь» и услышав выстрел, они бросились на второй этаж, обнаружили, что дверь заперта, и, не без труда выломав ее, увидели труп незнакомца и лежащую в обмороке мисс Мак-Картри. На вопрос коронера оба ответили, что у них сложилось впечатление о непреднамеренном убийстве, совершенном в целях самозащиты. Последним давал показания Джефферсон Мак-Пантиш. С ним коронер обошелся гораздо суровее.
— Вы слышали рассказ свидетелей, Мак-Пантиш. Скажите, вы знали человека, которого нашли мертвым в комнате вашей гостиницы?
— Нет.
— А как вы можете объяснить то, что ему удалось проникнуть туда без вашего ведома?
— Я не могу этого объяснить.
Корнвей и Мак-Пантиш испокон веку терпеть не могли друг друга, и коронер не преминул воспользоваться удобным случаем поддеть врага:
— Короче, у вас не гостиница, а проходной двор?
Мак-Пантиш покраснел, как пион.
— Слушайте, Корнвей, вам бы…
— «Господин коронер», будьте любезны!
Джефферсон едва не задохнулся от ярости.
— Послушайте, господин коронер, вам бы не следовало дискредитировать мое заведение!
— Я лишь исполняю свои обязанности, мистер Мак-Пантиш, и вынужден констатировать, что вы предоставляете кров людям, о которых вам ровно ничего не известно. Признайтесь, что это все же довольно странно!
— Не более странно, чем то, что полиция не в состоянии выяснить, кто он такой!
Ответ вполне достойный, и Корнвей промолчал, однако Мак-Пантиш невольно задел честь констебля Тайлера. Сочтя, что Джефферсон позволил себе публично критиковать его действия, Сэмюель решил последить, насколько точно тот соблюдает закон о часах работы питейных заведений и продажи спиртных напитков.
— Короче говоря, мистер Мак-Пантиш, вы ничего не можете сообщить об этом типе?
— Могу. Это был не джентльмен.
— Откуда вы знаете?
— Джентльмены не ведут себя так бесцеремонно и не позволяют отправить себя на тот свет в гостинице, где не выпили даже стаканчика!
Выслушав всех свидетелей, коронер вынес вердикт. Он кратко перечислил все известные факты и заявил, что мисс Мак-Картри убила неизвестного ради самозащиты. Покойный, судя по отсутствию каких бы то ни было документов, был шпионом иностранной державы, а потому мисс Мак-Картри оказала услугу Великобритании и заслуживает поздравлений. Потом Корнвей добавил, что полиция действовала с похвальной оперативностью, а похороны состоятся за общественный счет, поскольку тело никто так и не востребовал. На сем судебное разбирательство закончилось.
Не успела Иможен выйти из мэрии, как к ней подошел Корнвей. Еще раз поздравив шотландку, он шепнул, что с радостью отдаст ей половину суммы, выделенной муниципальным советом на похороны жертвы. Иможен не успела возразить — к ней подскочил Гован Росс.
— Дорогая мисс Мак-Картри, я только сегодня вернулся в Каллендер и даже не подозревал о вашем подвиге! Примите мое глубочайшее восхищение! Какое мужество, какое хладнокровие!
Раздосадованный коронер отошел. Новоприбывший выглядел человеком весьма значительным, и Корнвею хотелось, чтобы мисс Мак-Картри представила их друг другу. Но Иможен при виде Росса тут же вспомнила об Аллане Каннингэме.
— Мистер Росс? Вот это сюрприз! А я уж думала, вы совсем забыли о Каллендере и о своих друзьях! Мистер Линдсей сказал мне, будто вы уехали в Эдинбург вместе с мистером Каннингэмом…
— Да. Аллан не может устоять перед возможностью открыть новую «звезду» мюзик-холла или кабаре. Я отправился с ним, чтобы помешать бездарно растратить отпуск и притащить обратно в Каллендер, на свежий воздух. Но парень совсем запутался в хитросплетениях контракта и приедет только через два-три дня. Надеюсь, мисс Мак-Картри, вы подробно расскажете мне о своем приключении, чтобы я мог потом поразить воображение друзей в лондонском клубе?
Иможен смущенно засмеялась, и этот низкий, грудной смех, по-видимому, глубоко взволновал Гована Росса. Шотландка в полном восторге подумала, уж не влюблен ли в нее и этот тоже. Меж тем к ним подошел Эндрю Линдсей, и все трое вышли из мэрии.
Мужчины решили проводить мисс Мак-Картри до дому, но по дороге Гован Росс попросил разрешения на минутку отлучиться — он хотел купить сигарет. Как только он отошел, Эндрю негромко осведомился, не согласится ли Иможен встретиться с ним в ближайшее время, поскольку он хочет сообщить ей нечто очень важное. Мисс Мак-Картри, догадавшись, что Линдсей решил наконец открыть ей сердце, потеряла голову от волнения и лишь пробормотала весьма неопределенное «да». А Эндрю, заметив, что к ним возвращается Росс, поспешно предложил увидеться через два часа на окраине Каллендера, у дороги в Килмахог. Там он ее подождет.
Иможен охватило такое смущение, что она только кивнула в ответ. Вне себя от счастья, она совсем не слушала болтовню Гована. У двери дома шотландка несколько торопливее, чем того требовали правила вежливости, распрощалась с обоими мужчинами, но ей не терпелось побыть одной, хоть немного прийти в себя и помечтать о ближайшем будущем.
Эндрю Линдсей ждал подругу на дороге в Килмахог, у тропинки, ведущей в лес, где Иможен по милости Флутипола едва не закончила дни свои в водах озера Веннахар. Мисс Мак-Картри показалось, что Эндрю ужасно нервничает. Но она отнесла это на счет естественного волнения, тем более что и сама чувствовала себя не в своей тарелке.
— Спасибо, что пришли, мисс…
— Разве это не естественно, Эндрю?
— Тем не менее это очень любезно с вашей стороны… Куда бы вам хотелось пойти?
Надеясь создать еще более благоприятную для себя обстановку (любовь только выигрывает, если к ней примешивается легкое восхищение), Иможен предложила показать ему место, где она упала в озеро. Как два юнца, охваченных первой любовью, они шли бок о бок, не говоря ни слова. Шотландка думала, что у ее друга, наверное, тоже комок в горле.
— Вон там! — трагическим голосом возвестила мисс Мак-Картри, как только они оказались на берегу, под сенью дерев.
— Простите?
— Вон там я упала в озеро! — немного обиженно уточнила Иможен.
— Ах, да…
Она могла объяснить столь неприличное равнодушие лишь тем, что, вероятно, Эндрю повторяет про себя торжественные фразы и слишком поглощен одной мыслью, чтобы думать о чем-нибудь другом.
— Может быть, сядем?
— С удовольствием.
Линдсей помог ей устроиться у подножия дерева возле самой воды. И легкий плеск волн вплетал в симфонию этого чудесного солнечного дня высокие, чистые ноты.
— Мисс Мак-Картри, мне очень трудно выразить то, что я хочу сказать вам, и я даже не знаю, с чего начать…
— Пусть вам подскажет сердце, Эндрю…
— Сердце?.. Ах, да… конечно… само собой… Мой дорогой, дорогой друг, могу ли я льстить себя надеждой, что вы питаете ко мне чуть больше, чем просто симпатию?
— Можете, Эндрю.
— Спасибо… мне очень нужна поддержка и… осмелюсь ли сказать?.. привязанность…
— Осмельтесь, Эндрю.
— Благодарю! Так вот… Мисс Мак-Картри, я ужасно встревожен!
— Встревожены?
— Почему этот тип сидел у меня в комнате? Вы же понимаете, что я не верю ни единому слову из того, что говорил у коронера. Парень вошел ко мне нарочно и наверняка ждал меня, чтобы убить.
— Убить вас? Но зачем?
— Потому что он несомненно принадлежит к банде, которая следит за нами, с тех пор как мы приехали в Каллендер… Меня часто видели с вами и, вероятно, воображают, будто мы действуем заодно. Сначала хотели уничтожить вас, а теперь решили расправиться и со мной… Эта мысль для меня совершенно невыносима…
Иможен была глубоко разочарована. Можно ли найти опору в человеке, который так празднует труса?
— Вы меня удивляете, Эндрю, — сухо заметила она. — Мне казалось, вы сделаны из другого материала… И чего же вы от меня ждете?
— Чтобы вы помогли мне бежать!
— Бежать? Вот уж слово, которое я не привыкла произносить и ни разу не слышала в доме своего отца! И, более того, позвольте мне выразить крайнее изумление, что, полагая, будто над нами нависла серьезная опасность, вы можете помышлять о бегстве, оставив любимую женщину на произвол судьбы!
— В том-то и дело, дорогая Иможен, в том-то и дело, что я хотел бы бежать вместе с вами!
— Сожалею, Эндрю, но на это вам нечего рассчитывать! В семье Мак-Картри не принято бросать дело на полпути… И не стану скрывать, вы меня очень разочаровали, Эндрю…
— Не сердитесь, Иможен!
— Я и не сержусь, просто мне немножко грустно… Если вы так хотите удрать, то почему бы вам просто-напросто не собрать чемоданы и не сесть в поезд?
— Я уже ездил на вокзал… и у меня сложилось впечатление, что за мной следят…
— Тогда наймите машину!
— Пробовал… но это значило бы оповестить всех и каждого, а кроме того, у гаража я наткнулся на людей, которым там явно нечего делать…
Линдсей врал, и Иможен это знала. Сейчас все в нем выглядело фальшиво: поведение, голос, жесты. Эндрю и в самом деле трясся от страха, но совсем не по тем причинам, которые он изложил мисс Мак-Картри. Иможен с горечью подумала, что Линдсей вовсе не собирается просить ее руки. И при мысли о том, в каком дурацком положении она оказалась, шотландку все больше охватывал гнев. В памяти смутно мелькало
какое-то воспоминание, но Иможен пока не могла сообразить, что именно ее тревожит.
— Вы мне не откажете в этой маленькой просьбе, Иможен? У вас, по-видимому, есть очень могущественные покровители… Да-да, не спорьте, я точно знаю… Так что с вами я ничем не рискую… мы могли бы уехать в Лондон и там… вернуться к этому разговору… Я совсем один, дорогой друг, и уже так давно страдаю от одиночества, что, если я вам не безразличен… возможно, вместе…
Тут-то Иможен наконец и вспомнила, что сэр Генри предупредил ее о расставленных им наблюдателях на вокзале и на дорогах. Теперь истина открылась ей во всей наготе. Какой же она была дурой! Мисс Мак-Картри огромным усилием воли взяла себя в руки.
— Вы подлый обманщик, Эндрю Линдсей! — с поразительным спокойствием отчеканила она. — И боитесь вы не друзей того типа, которого я убила, а полиции. Вы не знаете, как выбраться из Каллендера вместе с украденными у меня документами. Да, Эндрю Линдсей, чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что такого проходимца, как вы, свет не видывал!
— Но… но, Иможен!
— Тот человек не случайно забрался в вашу комнату, он был вашим сообщником и пришел за бумагами. Как подумаю, что вы посмели разыгрывать всю эту любовную комедию…
— Я? Да вы же сами, старая психопатка, бросились мне на шею! Влюбиться в вас? Поглядите на себя в зеркало! Господи Боже! Да я помирал со смеху, слушая ваше мурлыканье ошалевшей кошки!
— Замолчите, негодяй!
— Вы считаете себя ужасно умной, а? Но я все о вас знал, несчастная дура, решительно все! Только кретин-англичанин мог поручить такое задание впавшей в детство шотландке!
Под градом насмешек и оскорблений Иможен думала только об одном: как бы не разрыдаться на глазах у этого подонка. Она с трудом встала. Линдсей последовал ее примеру.
— А я-то думала, вы шотландец, — сама не понимая, что говорит, пробормотала Иможен.
— Еще чего! Я приехал из страны, где ненавидят и презирают всех вас — англичан, шотландцев, валлийцев! Да-да, всех вас, с вашим эгоизмом и чванством! Но настанет день, когда вам придется чистить нам сапоги! Слышите? Чистить нам сапоги!
— Кое-кто уже пробовал довести нас до подобного состояния…
— Ничего, у нас хватит времени и упорства! А пока вы поможете мне смыться из-под носа у ищеек, которых сэр Уордлоу расставил на дорогах и на вокзале… Я должен увезти планы «Кэмпбелла-семьсот семьдесят семь»!
— Значит, пакет и в самом деле у вас?
— А вы еще сомневались? Да вот он!
Линдсей с самым вызывающим видом достал из кармана знаменитый конверт с пометкой «Т-34» и помахал им перед носом у Иможен. Мисс Мак-Картри почувствовала то же самое, что, вероятно, чувствует на арене бык, увидев перед глазами мулету[63], и отреагировала именно так, как и полагалось истинной дочери гор. Выхватив у противника пакет, она бросилась бежать. Линдсей на мгновение опешил, но тут же опомнился и рванул следом. К пятидесяти годам у Иможен осталось куда больше отваги, чем спринтерских талантов. И очень скоро она сообразила, что преследователь догонит ее гораздо раньше, чем оба они выбегут на дорогу. Мисс Мак-Картри уже раз избежала смерти от воды и теперь инстинктивно свернула в сторону озера. На берегу она выронила драгоценный конверт и успела схватить увесистый камень, о который чуть не споткнулась. В тот же миг Линдсей вцепился в горло шотландки, и она изо всех сил опустила камень на лысину противника. Иможен увидела, как вдавился лоб и лицо негодяя залила кровь. Линдсей только и успел издать какое-то странное восклицание. Впоследствии мисс Мак-Картри так и не удалось точно определить, что именно он крикнул — то ли «ух», то ли «уф»… Но одно она могла сказать с полной уверенностью — это было явно не «ура!» Эндрю, пошатываясь, отступил к озеру и, навзничь рухнув в воду, уже больше не показался на поверхности.
Убедившись, что Эндрю Линдсей в свою очередь навеки вышел из игры, мисс Марк-Картри хотела было издать победный клич, подобный тому, каким ее предки шесть веков назад провожали бегущих англичан при Баннокберне, но не успела. Могучий удар по голове — и шотландка без чувств ткнулась носом в заросли вереска.
Глава VIII
Первым, кого увидела Иможен, вернувшись в наш мир, был Герберт Флутипол. Он стоял над шотландкой с огромной дубиной в руке и, по-видимому, ожидал, пока мисс Мак-Картри придет в себя. Иможен горько улыбнулась, подумав о полицейских, так упорно не хотевших верить, что валлиец ее преследует. И она пожалела, что не сумеет оставить им записку — может, хоть тогда этих паразитов замучили бы угрызения совести! Но, как дочь солдата, всегда готового к безвестной смерти, мисс Мак-Картри, собрав последние силы, крикнула Флутиполу:
— Ну, добивайте! Чего вы ждете?
— Это совершенно не входит в мои намерения… Напротив, я думаю, мы прекрасно сумеем договориться…
Иможен не попалась на удочку. Опасаясь, как бы она не позвала на помощь, Флутипол, вероятно, решил избрать другую тактику, на первый взгляд более соответствующую его лицемерному виду, и наверняка постарается придушить ее, прежде чем они выйдут на открытую местность. Если, конечно, Иможен позволит взять над собой верх, а у нее, честно говоря, не было такого желания. Помогая шотландке встать, Флутипол прислонил дубину к дереву, и мисс Мак-Картри опустила глаза, чтобы он не заметил мелькнувшего в них торжества. Поднявшись на ноги, Иможен с самым ханжеским видом попросила валлийца отвернуться, чтобы она могла поправить платье. И он послушался, дурак! Шотландка твердой рукой ухватила дубину и, по-дикарски радуясь справедливости древнего закона возмездия (око за око!), изо всех сил стукнула Флутипола по голове. Валлиец тут же занял ее место в зарослях вереска. Иможен пожалела, что противник, как всегда, был в шляпе-котелке, но у нее не хватило мужества его добить. И мисс Мак-Картри, решив удовольствоваться достигнутым, пошла в сторону Каллендера.
Однако у первых домов она застыла как вкопанная. А где же пакет? Вне всякого сомнения, он спокойно лежит в кармане у Флутипола. Надо ж было свалять дурака и не обыскать его! Рискуя ввязаться в новое сражение, в случае если Флутипол уже очухался, Иможен двинулась обратно. Не могла же она бросить вверенные ей бумаги! Однако, прежде чем войти в лесок, мисс Мак-Картри вооружилась крепкой палкой. Прислушиваясь к каждому шороху и внимательно осматриваясь по сторонам, Иможен бесшумно подкралась к полю последней битвы, но, увы, жертва исчезла, а вместе с ней и конверт! Видимо, либо валлиец пришел в себя и поспешил смыться, либо сообщники, решив, что парень совсем плох, швырнули его в озеро… Как ни странно, последнее предположение немного опечалило мисс Мак-Картри, но она решила, что это связано лишь с угрозой дополнительных осложнений — ведь тогда придется иметь дело с совершенно незнакомыми людьми, в то время как Флутипол стал уже чуть ли не своим…
Арчибальд Мак-Клостоу, вопреки до сих пор свято соблюдаемой традиции, решил сжульничать и хоть таким образом наконец сокрушить в три хода непобедимых «черных», как того требовал гроссмейстер, ведущий шахматную рубрику «Таймс». Он уже протянул было руку, но вошедший в кабинет Тайлер спас начальника от безнравственного поступка.
— Шеф…
Арчи поднял глаза.
— Она здесь!
Мак-Клостоу не стал спрашивать, кто именно, — отчаяние, написанное на лице его подчиненного, было достаточно красноречиво. И сержант счел появление мисс Мак-Картри наказанием Божьим. Очевидно, Всевышний решил немедленно покарать его за едва не совершенное жульничество. Впрочем, Мак-Клостоу не пришлось обдумывать дальнейшие действия, поскольку Иможен без приглашения вошла в кабинет.
— Арчибальд Мак-Клостоу, к вам, кажется, труднее проникнуть, чем к премьер-министру?
— Мисс, я воображал себя начальником полиции Каллендера и, как любой гражданин Соединенного Королевства, думал, что в своем доме я хозяин, — смиренно отозвался сержант. — Вероятно, это было ошибкой, раз сюда входят, как в бар, не спрашивая разрешения. Благодарю, что хоть доложили о своем приходе через Тайлера. Весьма полезная предосторожность! Вы, конечно, пришли сообщить мне о новом убийстве?
— Нет.
— Удивительно!
— О двух.
Тайлер со странным хрипом опустился на стул, чтобы не упасть, а его шеф побледнел. Заметив их волнение, Иможен уточнила:
— Но насчет второго я не очень уверена, поскольку тело исчезло.
— Скверная работа, мисс Мак-Картри. Но я убежден, что вы наверстаете упущенное… А могу я узнать имя господина, которого вы отправили в лучший мир?
— Эндрю Линдсей. Он жил в «Черном лебеде».
— Это невозможно… совершенно невозможно, — не поднимаясь со стула, тупо бормотал Сэмюель.
Мак-Клостоу не преминул обратить внимание гостьи на состояние констебля.
— Бедняга никак не может привыкнуть к новым нравам, — вкрадчиво проговорил он, — но не беспокойтесь, мисс, со временем наверняка закалится. А главное, пусть это не мешает вашей деятельности…
Сержант взял карандаш и блокнот:
— Итак, вы говорили, Эндрю Линдсей, проживающий в «Черном лебеде»… Вы что, в ссоре с Джефферсоном Мак-Пантишем?
— Нет, с чего вы взяли?
— Просто я вижу, что благодаря вам он очень скоро потеряет всех клиентов… А где тело?
— В озере.
— Отлично. Тайлер, надо бы предупредить, чтобы его выловили. Не сочтите за нахальство, мисс, но могу я узнать, каким оружием вы воспользовались, чтобы избавиться от этого господина?
— Камнем.
— Как Давид Голиафа… А потом вы, разумеется, его утопили?
— О нет, он сам… Видите ли, когда я разбила Линдсею череп, он пошатнулся от удара и упал в воду.
— Ну да, что может быть естественнее? А второй?
— Насчет второго, как я уже сказала, у меня нет полной уверенности.
— В таком случае, подождем… Да, еще одна мелочь, мисс, если, конечно, вы не сочтете, что я слишком злоупотребляю вашим терпением… Я не сомневаюсь, что у вас были серьезные основания прикончить мистера Линдсея. Но не будете ли вы так любезны тем не менее сообщить их и мне?
— Он украл у меня письмо и…
Тайлер чуть не упал со стула, и шеф тут же призвал его к порядку.
— Что это с вами, Сэмюель? У мисс Мак-Картри немного оригинальный способ забирать свою корреспонденцию, вот и все. Не понимаю, что вас так взволновало? Но сходите все же в соседнюю комнату и позвоните в Эдинбург, это избавит нас от лишней ответственности.
Однако лишь через два часа Эдинбург соблаговолил откликнуться и сообщить, что управление уже в курсе, а сержанта Мак-Клостоу просят не беспокоиться, поскольку выяснилось, что вторую жертву, не менее таинственную, чем первую, звали вовсе не Линдсеем. Но этот человек тоже известен как шпион, и контрразведка уже довольно давно искала случай накрыть его с поличным. Так что, если мисс Мак-Картри будет продолжать в том же духе, возможно, она наконец очистит Англию от всех вражеских агентов, живущих на ее территории.
День клонился к закату. Сержант Мак-Клостоу отпустил Иможен на все четыре стороны, не забыв предварительно поздравить с новым успехом, и она вернулась домой. Шотландка очень устала, и от всех приключений этого дня сохранила лишь сильнейшую мигрень. Она решила лечь спать без ужина, но сначала отправить письмо Нэнси Нэнкетт и сообщить ей последние новости.
«Моя дорогая Нэнси,
Как я рада, что всегда отказывалась следовать этой смехотворной моде на короткие волосы! Можно не сомневаться, что сегодня я осталась в живых только благодаря шиньону… Представьте себе…»
На рассвете рыбаки выловили из озера тело знаменитого Эндрю Линдсея и тут же побежали вытаскивать из постели Тайлера. Доктору Элскотту тоже пришлось встать ни свет ни заря и ехать на экспертизу в дом Корнвея, куда перевезли труп. Гробовщик не мог скрыть радостного оживления, а узнав, что и этим новым клиентом он обязан мисс Мак-Картри, завопил от восторга. Врач заявил, что Линдсей умер еще до того, как попал в воду, и обещал в свое время прислать заключение Мак-Клостоу. А пока, буркнул Элскотт, пусть от него отстанут и дадут спокойно отдохнуть те несколько часов, на которые, по крайней мере теоретически, имеет право любой подданный Ее всемилостивейшего Величества. Как только врач уехал, коронер не без удовольствия позвонил мэру, сообщил ему новость, а заодно предупредил, что судебное разбирательство состоится сегодня же в два часа в большом зале мэрии. Потом он поднял на ноги Мак-Пантиша, радуясь случаю отравить врагу утро, и наконец, весело насвистывая, принялся выбирать доски для гроба.
Тем временем констебль в отвратительном настроении отправился в «Гордого горца» выпить укрепляющего, и заодно рассказать Теду Булиту и его жене о последних событиях. Официант Томас, которого послали в бакалею за дегтярным мылом, не преминул пересказать все это Элизабет. Миссис Мак-Грю тут же поделилась новостью с мужем, но, поскольку такая аудитория была для нее явно недостаточна, оповестила всех соседних торговцев. Иможен еще спала, а весь Каллендер уже обсуждал ее новый подвиг. Однако, по правде говоря, вчерашнего энтузиазма сильно поубавилось. По общему мнению, мисс Мак-Картри явно хватила через край, а самые разумные утверждали, что город прекрасно обошелся бы без репутации, которая вполне может отпугнуть туристов. Короче говоря, слава дочери капитана индийской армии потихоньку тускнела, и если пока лишь то тут, то там раздавался ядовитый шепоток, то стараниями мисс Мак-Грю, все еще не простившей Иможен триумфального выступления в ее лавке, он грозил вот-вот перерасти во всеобщее громкое осуждение.
Ничуть не догадываясь, что о ней судачит весь город, мисс Мак-Картри открыла глаза и, как всегда, сразу увидела бюст сэра Вальтера Скотта. Иможен улыбнулась писателю, чувствуя, что все больше напоминает его героинь. Она немного понежилась в постели, считая, что после вчерашнего вполне заслуживает небольшой разрядки. Мысль об Эндрю Линдсее, который, пусть всего несколько дней, казался ей вполне подходящим кандидатом в мужья, вызвала у мисс Мак-Картри легкое сожаление, но ненадолго — бесплодных сожалений шотландка не любила. Впрочем, этот мерзавец не только хотел ее убить, но и признался, что не писал любовного письма, которое Иможен нашла в сумочке…
Так кто же тогда?
Теперь вопрос решался еще проще: либо Гован, либо Аллан. Сердцем мисс Мак-Картри мечтала, чтобы это оказался второй, но здравый смысл подсказывал, что скорее речь может идти о Говане. Иможен вспомнила добродушную круглую физиономию и неподдельное волнение, выказанное Россом после судебного разбирательства. Разумеется, он нисколько не похож на сказочного принца, но шотландка прекрасно понимала, что в ее возрасте не следует требовать невозможного.
В ванной мисс Мак-Картри не без тщеславия подумала, что, должно быть, Каллендер с гордостью обсуждает новый подвиг той, кто, несомненно, станет одной из его величайших дочерей. И она решила, что не откажет себе в удовольствии еще раз наведаться в бакалею миссис Мак-Грю. В таком счастливом расположении духа Иможен вышла на кухню. Однако миссис Элрой, даже не пожелав доброго утра, сразу набросилась на нее с упреками:
— Ну что, вчера вечером вы, говорят, опять понатворили дел?
— А вы уже в курсе?
— Еще бы! Все только об этом и говорят! Те, кто знает, что я работаю у вас, липнут с вопросами, как мухи!
Мисс Мак-Картри, радуясь, что ее подвиги вызвали такой переполох, изобразила на лице величайшее смирение.
— Да, мне очень повезло… — скромно заметила она.
— Может, там, в Лондоне, вы и называете это везением, а вот здесь говорят, что с таким ожесточением убивать ближних — очень нехорошо!
— Но это же враги Англии!
— Ну и что? Пусть ими и занимаются те, кому это положено по работе! Скажите на милость, разве дело, чтоб барышня из приличной семьи палила из пистолета или разбивала людям головы? Вас ведь совсем не так воспитывали, я — свидетель!
Иможен, которую очень злило такое непонимание, чуть не поставила эту дуреху на место, но промолчала, решив, что Розмери — существо слишком ограниченное и вступать в пререкания на недоступную ее разуму тему совершенно недостойно праправнучки Мак-Грегоров. Миссис Элрой, сочтя это признанием вины, возжаждала укрепить победу:
— Во всяком случае, такой особе, как я, о ком в жизни ничего не болтали, не очень-то хорошо служить у барышни, о которой толкуют больше, чем о нашем чудовище с озера Лох-Несс! Мисс Иможен, я вам честно говорю: коль вы собираетесь продолжать свои фокусы, предупредите меня сразу, и я уберусь отсюда прежде, чем подожгут дом!
Настойчивый звонок в дверь избавил мисс Мак-Картри от необходимости отвечать. Это оказался почтальон. Разбирая почту, Иможен на мгновение остолбенела — среди газет, журналов и рекламных проспектов лежал знаменитый конверт с пометкой «Т-34». Что бы это значило? Ведь не убийца же, в конце концов, его вернул? Но тогда… Мисс Мак-Картри так растерялась, что совсем перестала слушать Розмери, и та обиженно замолчала. Шотландка механически поднялась к себе в комнату, тщетно ломая голову над этой новой загадкой. Может быть, валлиец, боясь ареста, отправил ей конверт по почте в надежде потом снова забрать? Но в таком случае он должен знать, что сэр Генри Уордлоу в отъезде… А впрочем, Линдсей-то был в курсе… В конце концов, оставив всякие попытки решить эту непостижимую загадку, Иможен положила конверт между лифчиком и поролоновой прокладкой, которую носила, дабы создать иллюзию округлости там, где годы несколько подпортили линию. А потом, с чувством исполненного долга, мисс Мак-Картри отправилась в город слушать разговоры и наслаждаться пьянящим чувством собственной значимости.
Элизабет Мак-Грю как раз говорила мужу и клиенткам, что, если бы ее родители узнали, что она, Элизабет, ведет себя, как мисс Мак-Картри, они бы перевернулись в гробу! И кто знает? Возможно, они даже восстали бы из гроба и явились сюда за ней! Если на миссис Плюри, миссис Фрэзер и миссис Шарп столь зловещая перспектива произвела удручающее впечатление, то перед Уильямом она, очевидно, открывала самые радужные горизонты.
— Черт возьми, это было бы первой услугой, которую они мне оказали! — заявил он.
Услышав столь неприличное и, более того, клеветническое заявление, Элизабет на мгновение лишилась дара речи. Наконец, собрав всю свою энергию, она повернулась к кассе, за которой сидел супруг, и тоном неизбывной горечи проговорила:
— Уильям Мак-Грю…
Но судьбе было угодно, чтобы бакалейщица так и не смогла одержать над мужем решительную и к тому же прилюдную победу, ибо появление в лавке Иможен Мак-Картри отодвинуло семейную ссору на задний план.
— Добрый день, сударыни, добрый день, мистер Мак-Грю…
Ответил только бакалейщик…
— Здравствуйте, мисс Мак-Картри… Говорят, вы продолжаете вносить в жизнь нашего городка некоторое оживление?
Но соперница Иможен, не желавшая, чтобы та выиграла хоть одно очко, перебила мужа:
— Это правда, что вы убили еще одного?
Польщенная таким вниманием, но совершенно не уловив истинного значения вопроса, Иможен пустилась в драматическое повествование о схватке с Эндрю Линдсеем. Элизабет тут же заметила, с каким страстным вниманием следят за рассказом ее покупательницы, и, чтобы отвратить новую угрозу своему авторитету, грубо перебила героиню:
— Я, конечно, не хочу оскорбить вас, мисс Мак-Картри, но, по-моему, с порядочной женщиной не может дважды приключиться такая неприятная история… Иначе невольно подумаешь, что она ищет приключений нарочно.
Иможен не могла снести подобного оскорбления.
— На что это вы намекаете, миссис Мак-Грю?
Теперь враждебные действия, бесспорно, начались, и покупательницы, предвкушая неизбежную схватку, плотоядно облизнулись.
— Я не намекаю, мисс Мак-Картри, а, напротив, говорю честно и ясно, что женщине, которая слишком любит мужскую компанию и не боится назначать свидание в лесу, в случае неприятностей следует пенять только на себя!
— Миссис Мак-Грю!
— Да, мисс Мак-Картри! Девушкам Каллендера не раз случалось встречаться с мужчинами в укромных уголках, хотя обычно эти девушки несколько моложе вас…
Замечание звучало достаточно ехидно, и кумушки встретили его шумным одобрением. Впрочем, растерянность Иможен, сбитой с толку таким неожиданным выпадом, и без того подталкивала их на сторону победительницы. А та, чувствуя моральную поддержку, продолжала наступать:
— Но чтоб дама к тому же прикончила кавалера — такое у нас случилось впервые!
— Миссис Мак-Грю, вы нахалка!
— А вы — бесстыдница, мисс Мак-Картри! И уж позвольте мне высказать вслух то, о чем каждый думает про себя: совершенно непонятно, почему Арчибальд Мак-Клостоу до сих пор не засадил вас в тюрьму!
— На самом деле, миссис Мак-Грю, вы просто завидуете!
— Завидую? Хотела бы я знать, чему и кому!
— Да тому, что на вас мужчины никогда не смотрели!
Бакалейщица торжествующе рассмеялась.
— Может, они на меня и не смотрели, но нашелся хотя бы один, кто на мне женился!
— Вероятно, как раз потому, что не рассмотрел хорошенько, Элизабет, — невозмутимо заметил Мак-Грю.
Бакалейщицу совершенно вывело из себя то, что ее муж неожиданно помог противнице, и она в ярости завопила:
— А вы вообще молчите!
И она снова набросилась на Иможен:
— А на вас, может, и смотрели, только никто не захотел связываться с подобной особой! И, судя по тому, что сейчас происходит, совершенно правительно сделали!
Миссис Фрэзер трусливо и подло бросилась добивать поверженную жертву.
— Кому ж охота раньше времени отправиться на тот свет? — ядовито пропела она.
Как некогда англичане при Баннокберне, столкнувшись с новой тактикой шотландцев, впали в полную панику, мисс Мак-Картри, пораженная непредвиденной изменой, не выдержала и, пробормотав несколько весьма благородных слов (на которые никто не обратил внимания, поскольку на лице Иможен слишком явственно читалось глубокое потрясение), поспешно отступила за пределы бакалейной лавки. Бесславный финал! Закрывая за собой дверь, она услышала, как Элизабет снова принялась отчитывать мужа:
— А теперь, Уильям Мак-Грю, объясните-ка мне, что вы имели в виду насчет моих родителей?
Когда Иможен вернулась домой, Розмери еще не ушла. И мисс Мак-Картри, не желая рассказывать ей о своем поражении (и так, увы, слишком быстро узнает!), бросилась к себе в комнату и заперла дверь на ключ.
Иможен была какой угодно, но только не злой женщиной. При всей своей отваге, сталкиваясь с мелкой людской злобой, она терялась, как младенец. Теперь она понимала все величие той работы, за которую ненадолго взялась. Непонимание, презрение и даже ненависть современников — вот награда неизвестным героям секретных служб! Испытав на себе мстительную глупость мисс Мак-Грю, Иможен чуть не крикнула ей в лицо, что, убивая тех, кто покушался на нее, мисс Мак-Картри, она защищала всех этих хихикающих идиоток, а вместе с ними и миллионы других жителей Великобритании. Но, не желая нарушать клятву, Иможен промолчала. Никто не должен знать, что сейчас она — один из неведомых борцов с врагами Короны! Немного поразмыслив о тернистых путях тайных агентов, о преданности и безвестности, мисс Мак-Картри окончательно успокоилась и взяла себя в руки. Она внимательно поглядела на портрет Роберта Брюса, хотя за долгие годы знала наизусть каждую мелочь, и прошептала:
— Теперь я понимаю, Роберт, что герои обречены на полное одиночество…
В дверь постучали, но Иможен, для которой миссис Элрой сейчас составляла одно целое с глупыми сплетницами Каллендера, вовсе не испытывала желания с ней болтать.
— Ну, что там еще? — самым неприязненным тоном спросила она.
— С вами хочет поговорить какой-то господин, — отозвалась из-за двери старая служанка.
— Он не сказал, как его зовут?
— Кажется, Росс.
— Пусть подождет в гостиной, я спущусь через минуту!
На лестнице послышались тяжелые шаги — Розмери спускалась вниз. Гован Росс? Что ему нужно? Может, тоже пришел упрекать Иможен в смерти своего друга? А что, если он сообщник убитого шпиона? Или, подобно самой мисс Мак-Картри, лишь по наивности попал впросак? Однако среди множества вопросов, теснившихся в голове шотландки, все же явственно слышался голосок, нашептывавший, что теперь, после гибели человека, которого считал своим соперником, Росс пришел признаться, что это он написал письмо, и сказать о своей любви. В гостиную вышла гордая, уверенная в себе женщина, ничуть не похожая на несчастную барышню, расстроенную неблагодарностью жительниц Каллендера и робко проскользнувшую в свою комнату.
При виде ее Гован Росс с трудом высвободил грузное тело из кресла, в котором его устроила миссис Элрой, и поспешил навстречу хозяйке дома.
— Дорогая мисс Мак-Картри… сегодня утром я узнал… ужасную новость… я… я… просто не знаю, как вам выразить… Вот негодяй!.. Мне и в голову не приходило…
Гован так волновался, что его речь весьма походила на бессвязное бормотание, но Иможен, тронутая таким вниманием к ее особе, приняла его очень сердечно.
— Успокойтесь, мистер Росс. Давайте сядем.
— Да… конечно… с удовольствием. Я так рад, что вы живы и здоровы!
Иможен вновь поведала о драматической схватке с Линдсеем. Рассказ звучал достаточно патетично, и Гован Росс внимал каждому слову, вытаращив глаза и широко открыв рот от удивления. Когда мисс Мак-Картри добралась до подлого нападения Флутипола, Росс не мог больше сдержать возмущение и, вскочив, отчаянно замахал короткими ручками.
— Мисс Мак-Картри, если позволите, я сейчас же пойду и изобью этого типа!
— Успокойтесь, дорогой друг… Он слишком хитер… для вас, для нас обоих… по крайней мере, пока… Надо действовать осторожно и противопоставить хитрости еще большую хитрость. У меня нет свидетелей, а выдумать он может что угодно.
— Мерзавец!
— А что вы думаете о покойном Эндрю Линдсее, мистер Росс?
Гован заявил, что познакомился с Линдсеем у себя в клубе и дружба возникла из-за общей страсти к рыбалке. А кроме того он ничего не знал и, конечно, не мог даже вообразить, что за приятным, хоть и несколько суровым фасадом скрывается такое низкое и подлое создание. И Гован попросил у Иможен прощения за то, что против воли оказался сообщником негодяя Эндрю (да накажет его Небо!), признав, что в пятьдесят два года он, Росс, так и не научился разбираться в мужчинах.
— Должна ли я из этого сделать вывод, что в отношении женщин вы настоящий эксперт? — кокетливо спросила Иможен.
Гован покраснел до корней волос.
— Нет-нет… ничего подобного! И доказательство — то, что я до сих пор хожу холостым, в то время как мои ровесники давным-давно обзавелись внуками…
— Быть может, вы ненавидите особ моего пола?
— О, мисс Мак-Картри, как вы могли подумать такое! Нет, видите ли, я ужасно застенчив… не знаю, возможно, вы это заметили? Поэтому я не осмеливаюсь говорить из опасения показаться смешным.
Иможен поймала мячик на лету.
— Так вы, значит, пишете?
Удар, казалось, совершенно сразил Росса, и хозяйка дома испугалась, как бы он не упал в обморок.
— Вы… вы догадались? — пробормотал Гован.
— Это было нетрудно! — цинично солгала Иможен.
— Наверное, вы считаете меня очень дурно воспитанным?
— Женщину, получившую такого рода признание, обычно не слишком волнует, соответствует оно правилам хорошего тона или нет.
— Тогда… могу ли я надеяться?..
— Дорогой мистер Гован… Прежде чем думать о себе и о своем будущем, я должна выполнить некую миссию…
— Да, верно! Я слышал, вы заняты поисками украденных у вас документов?
— Благодарение Господу! Они снова у меня.
— А, тем лучше! Но вы не боитесь, что их снова похитят?
Мисс Мак-Картри с восхитительной стыдливостью намекнула, что документы в надежном тайнике и, дабы украсть их, врагу придется сначала убить ее, Иможен, а потом еще и раздеть. Такая перспектива, по-видимому, бесконечно взволновала Гована Росса.
— Дорогая мисс Мак-Картри, я не успокоюсь, пока вы не покончите с этими ужасными приключениями. А до тех пор, надеюсь, вы позволите мне стать вашим телохранителем? Хотите, завтра с утра я заеду за вами и мы устроим пикник в скалах Троссакса?
Иможен приняла предложение с восторгом, и они договорились, что Росс наймет машину и заедет за шотландкой в десять утра. Расстались они в самых дружеских отношениях, решив отныне называть друг друга по имени.
Визит мистера Росса и нежное полупризнание вернули Иможен утраченное мужество. Теперь она могла противостоять плохо скрываемой враждебности публики, собравшейся на заседании коронера. Последнее оказалось точным повторением предыдущих слушаний. Корнвей заявил, что покойный Эндрю Линдсей именовался совсем по-другому, был, судя по всему, иностранцем и по приказу свыше должен упокоиться на кладбище Каллендера за общественный счет. Наиболее интересным моментом были показания доктора. От его рассказа о том, что именно произошло с черепом Линдсея, когда мисс Мак-Картри ударила его камнем, по рядам слушателей прокатилась волна ужаса. На Иможен стали смотреть очень косо, и даже слышались весьма резкие замечания на ее счет. Это, однако, не помешало ей дать показания. Потом выступил Герберт Флутипол. Он заявил, что присутствовал при нападении на мисс Мак-Картри, но был слишком далеко, чтобы разглядеть виновника. Тем не менее он, Флутипол, уверен, что именно его крики спасли даме жизнь. Любопытство аудитории вызвал рассказ о том, как, подбирая дубину, он позаботился обернуть руку носовым платком, чтобы не повредить отпечатки пальцев. Но констебль Тайлер немедленно высмеял мирных туристов, слишком увлеченных детективными романами, а потому воображающих себя великими сыщиками. Разумеется, на дубине не обнаружили никаких отпечатков, и красный от смущения Флутипол вернулся на место. Коронер вынес заключение, что мисс Мак-Картри совершила непреднамеренное убийство ради самозащиты, но на сей раз, боясь повредить собственной популярности, поздравлять ее не стал.
Выходя из зала, мэр довольно невежливо заявил Иможен, что, если она вознамерилась разорить муниципальную казну, пусть предупредит сразу — тогда, по крайней мере, они успеют обсудить возможность займа. Зато, вернувшись домой, мисс Мак-Картри получила коробку шоколадных конфет от коронера.
Вечером этого обильного приключениями дня констебль Тайлер по обыкновению метал стрелки в «Гордом горце», как вдруг хозяин заведения, Тед Булит, громко осведомился, почему уже два дня никто не видел его шефа, Арчибальда Мак-Клостоу. Тайлер положил стрелки и, повернувшись к другим игрокам, начал рассказ:
— Представьте себе человека, который терпеть не может никаких осложнений. Он находит прелестный, мирный уголок и надеется спокойно дослужить там до отставки… А теперь вообразите, что в этом тихом городке однажды вечером появляется шотландка с огненной шевелюрой…
Глава IX
Иможен спала плохо. Всю ночь она проворочалась в постели от лихорадочного нетерпения. Шотландке казалось, что утро никогда не настанет и не придет самый важный в ее жизни день, день, когда мисс Мак-Картри должна принять самое важное в своей жизни решение: ответить Говану Россу «да» или «нет». Но имеет ли Иможен право приобщить постороннего к культу Роберта Брюса, сэра Вальтера Скотта и своего отца? Если Гован любит Иможен, ему придется разделить ее вкусы, ибо она ни в коем случае не согласится пожертвовать старыми друзьями ради нового.
Услышав, что миссис Элрой пошла в кухню, мисс Мак-Картри оторвалась от приятных грез.
Мрачный вид старой служанки, ее угрюмое молчание и то, как она сквозь зубы ответила на весьма любезное приветствие Иможен, достаточно красноречиво свидетельствовали, что Розмери по-прежнему разделяет мнение Каллендера о слишком экстравагантном поведении своей подопечной. Но мисс Мак-Картри не могла допустить, чтобы дурное настроение прислуги испортило ей такой прекрасный и долгожданный день. Она позавтракала с большим аппетитом и вернулась к себе в комнату придумывать туалет, в котором строгость, приличествующая безупречной добродетели, сочеталась бы с ноткой непринужденности, располагающей к пылким признаниям и мудрой решимости. Мисс Мак-Картри была готова еще до назначенного срока и, сама не зная зачем, положила в сумочку револьвер.
Ровно в десять часов снизу послышался негромкий сигнал клаксона, и сердце Иможен учащенно забилось. Тотчас же Розмери, не поднимаясь на второй этаж, крикнула:
— Мисс Иможен, вас спрашивает вчерашний господин!
— Иду!
Уходя, мисс Мак-Картри окинула взглядом привычную обстановку комнаты — возможно, по возвращении она станет смотреть на все это другими глазами… Но подойти к Роберту Брюсу, Вальтеру Скотту и отцу Иможен не решилась, ибо в глубине души чувствовала себя почти предательницей.
Шотландка с удовольствием проскользнула бы, не прощаясь с миссис Элрой, но та, как будто угадав намерения хозяйки, стояла на пороге. Очевидно, Розмери не желала упустить ни единой подробности.
— Так вы, значит, уезжаете?
— Да, мы решили позавтракать на природе.
— Вдвоем?
— Да, а что?
— Ничего, но вот что подумал бы капитан, узнав, что его дочь едет за город с мужчиной, не прихватив с собой компаньонку!
Мисс Мак-Картри невольно рассмеялась.
— Вы, кажется, забыли, что мне скоро пятьдесят лет, миссис Элрой?
— Неважно. Девушка есть девушка! И уж во всяком случае, постарайтесь хоть этого привезти обратно живым!
Выпустив эту парфянскую стрелу, очень довольная собой старуха повернулась на каблуках и исчезла на кухне, а слегка сбитая с толку Иможен смотрела ей вслед. Но тут подбежал Гован, радостно бормоча, как он рад провести с ней целый день на свежем воздухе. Такое воодушевление глубоко тронуло мисс Мак-Картри, но она все же не могла не посетовать про себя, что сочетание цветов в одежде ее поклонника изрядно грешит против чувства гармонии. Впрочем, Иможен решила, что, как только они поженятся, уж она привьет Говану хороший вкус.
В Троссаксе, где за каждой скалой ей мерещились лучники Боб Роя, Иможен подумала, что Росс выбрал далеко не лучшее место для ухаживаний. И в самом деле, эта знаменитая местность настраивала скорее на героический лад, нежели располагала к нежностям. Мисс Мак-Картри старалась отогнать наваждение и почувствовать себя женщиной, которой вот-вот предложат руку и сердце, но, невзирая на все усилия, слышала не биение собственного сердца, а далекий галоп конницы Боб Роя.
— Иможен, я хочу еще раз принести вам извинения за Линдсея, вернее, за типа, которого я так звал… Я все же чувствую некоторую ответственность… Мое присутствие рядом было для него в какой-то степени прикрытием. Но, повторяю, это лишь клубное знакомство, как, впрочем, и Аллан Каннингэм.
На сей раз шотландка все же услышала, как затрепетало ее сердце, но постаралась изобразить полное равнодушие.
— Мистер Каннингэм показался мне хорошо воспитанным молодым человеком, — спокойно заметила она.
— Да, по-моему, он джентльмен… Я говорил, что он просил передать вам привет?
— Очень любезно с его стороны. Так он скоро вернется в Каллендер?
— Я думаю, Аллан не замедлит появиться, как только покончит со своей певичкой.
Иможен снова почувствовала уколы ревности.
— Вероятно, очаровательное создание?
— Вот уж не сказал бы! Голос и в самом деле чудесный, но сама девица показалась мне на редкость вульгарной…
Росс вдруг стал Иможен гораздо симпатичнее.
Оставив машину на обочине дороги, Гован прихватил корзинку с провизией, и они отправились бродить среди скал. Очень скоро толстяк вспотел и начал задыхаться, и мисс Мак-Картри подумала, что непременно заставит его по утрам делать хоть несколько гимнастических упражнений. Хуже всего было то, что Росс, полагая, будто он обязан болтать без умолку, то и дело застревал посреди фразы, отчаянно хватая ртом воздух. Шотландка с трудом сдерживала смех, хотя речь шла о предметах вполне серьезных: Гован рассказывал ей о своей жизни. Отца он не знал, и воспитывала его мать, судя по всему, женщина с очень крутым характером, ни разу не позволившая сыну высказать мнение, отличное от ее собственного. Разумеется, о том, чтобы водворить вторую женщину в доме, где желала единолично царить миссис Росс, не могло быть и речи. Из запуганного ребенка получился забитый подросток, потом безвольный мужчина, а затем и старый холостяк, в пятьдесят лет боявшийся мамочки точно так же, как и в два. А в прошлом году миссис Росс неожиданно скончалась, предоставив сына себе самому. И теперь бедняга Гован пребывал в полной растерянности. Короче, мисс Мак-Картри сразу поняла, что, избавившись от рабства, Росс только и мечтает скинуть слишком тяжкое для него бремя свободы. Такого человека проще простого водить за нос, и мисс Мак-Картри, в чьих жилах текла деспотичная кровь капитана индийской армии, с удовольствием представляла себя в роли полновластной хозяйки дома. Да, из Гована Росса получится вполне подходящий для нее муж.
Наконец они добрались до скалы, возвышавшейся над всеми прочими. Иможен вскарабкалась на вершину первой и, протянув руку, одним мощным рывком втащила за собой Росса. Переводя дух, оба оглядели окрестности и сразу пришли к единодушному заключению, что Шотландия — самая красивая на свете страна и только полное отсутствие чувства справедливости мешает иностранцам это признать.
Гован Росс открыл корзину и стал доставать припасы. Сначала — омлет с конфитюром на картонной тарелке, украшенный незабудками, потом салат из сырой моркови и, наконец, главное блюдо — холодный рассыпчатый пудинг, один вид которого заставил бы в ужасе отшатнуться любое человеческое существо, родившееся к югу от Чивиот Холлз. Поистине лишь желудок шотландца способен без особых затруднений переварить это жуткое месиво из потрохов и овсянки! Последним Росс извлек из корзины главное украшение этой импровизированной трапезы — бутылку виски. Для начала Иможен и ее спутник выпили по капельке во славу Шотландии, потом еще по одной за дружбу и по третьей — за поражение врагов мисс Мак-Картри. На высокой скале, овеваемой ароматным ветром вересковых пустошей, Иможен и Гован чувствовали себя почти как Адам и Ева до закрытия земного рая. И Росс, собрав наконец все свое мужество, решился.
— Позвольте мне, дорогая Иможен, признаться, что в вашем обществе я чувствую себя особенно хорошо…
— Вы мне льстите… Гован…
— И что… что… короче говоря, я бы хотел… больше не расставаться с вами…
Мисс Мак-Картри издала тихий грудной смешок, в котором слышались и нежное воркование горлинки, и ласковое подшучивание.
— Уж не следует ли мне из этого заключить, Гован, что вы просите меня стать вашей женой?
— Это мое самое горячее желание!
— Я думаю, мы будем очень счастливы вместе.
— О! О! Дорогая Иможен!
И Росс, как влюбленный юноша, принялся покрывать поцелуями руку мисс Мак-Картри. Иможен хотелось и смеяться, и плакать. В то же время ее охватила великая гордость: никто еще не обручался столь романтическим образом — на скалах Троссакса и без иных свидетелей, кроме неба Шотландии! Оба выпили за будущее счастье, и от виски их охватила легкая эйфория. В нескольких метрах поодаль корявое, но еще крепкое дерево стояло словно часовой, охранявший их от возможного нашествия врагов. Однако Иможен, как истая шотландка, никогда не забывала о практической стороне вопроса.
— В Адмиралтействе мне платят двенадцать фунтов в неделю…
— А я каждую пятницу вечером получаю от «Айрэма и Джорджа» двадцать один фунт.
— Значит, в сумме у нас получится тридцать три…
— По-моему, нам вполне хватит, верно?
— Я тоже так думаю. И мы, разумеется, поселимся у меня, в Челси.
— Я всегда мечтал там жить!
С удовольствием убедившись, что ни одна мелочь не вызывает у них разногласий, Иможен и Гован выпили еще немного за взаимопонимание. Затем они расправились с салатом из сырой моркови, и, прежде чем приняться за пудинг, Росс заметил:
— Если бы вы только захотели, Иможен, мы могли бы стать гораздо богаче и устроиться с большим комфортом… Разве вам бы не понравилось зимой греться на солнышке?
Мисс Мак-Картри подумала, что Гован переносит виски гораздо хуже ее самой.
— И я бы перестала работать в Адмиралтействе?
— Как и я — у «Айрэма и Джорджа»!
— Но каким чудом?
— У вас есть документы, которые стоят очень много денег…
Иможен сочла это довольно тяжеловесной шуткой.
— К несчастью, они принадлежат Англии!
— Но вы же не англичанка, а шотландка!
Мисс Мак-Картри помрачнела — направление разговора нравилось ей все меньше и меньше.
— Когда речь заходит о национальной безопасности, нет больше ни англичан, ни шотландцев, Гован, — очень сухо заметила она.
— Но я уверен, что вы могли бы получить не меньше десяти тысяч фунтов…
В голове Иможен мелькнуло ужасное подозрение: а что если Росс ухаживал за ней лишь в надежде толкнуть на эту гнусную сделку?
— Перестаньте так шутить, Гован, по-моему, это совсем не остроумно!
— Зато я нахожу шутку на редкость забавной.
От внезапно изменившегося тона спутника по позвоночнику мисс Мак-Картри пробежала дрожь. Что все это значит?
— Я не понимаю вашего поведения, Гован, — уже без прежней самоуверенности проговорила она.
— Мне очень жаль, Иможен, но, я думаю, мы уже достаточно позабавились и пора переходить к более серьезным делам.
На глазах перепуганной шотландки Росс вдруг совершенно преобразился. Куда подевался кругленький застенчивый человечек с детски наивным взглядом, красневший из-за каждого пустяка? Перед Иможен сидел, правда, невысокий, но очень крепкий мужчина, и стальной блеск глаз придавал всему его облику некую пугающую монолитность. Чувствуя, что ее охватывает паника, мисс Мак-Картри вскочила.
— Гован Росс, прошу вас немедленно отвезти меня обратно в Каллендер! — крикнула она, стараясь совладать с голосом.
Он тоже встал.
— Не сердитесь, Иможен, а лучше послушайте меня внимательно.
— Если вы опять собираетесь говорить об этом глупом предложении, лучше помолчите, а то…
— А то — что?
— Я заберу обратно данное вам слово!
Гован разразился таким грубым хохотом, что мисс Мак-Картри сразу поняла горькую правду: миссис Росс ей не
стать так же, как и миссис Линдсей… Однако, не желая услышать подтверждение своей догадке, Иможен решила прекратить разговор. Вот только, чтобы уйти, ей нужно было пройти мимо Росса!
— Стойте на месте, мисс! Мне нужны документы, и имейте в виду: не отдадите добром — возьму силой!
Иможен с отчаянием поглядела на сумочку с револьвером, но, увы, она лежала за спиной у Росса. Шотландка попыталась хитростью выиграть время.
— А я-то поверила в вашу любовь!
— Нельзя же быть такой дурой! У меня есть дела поважнее, чем нашептывать нежности пожилым шотландкам… И, само собой, я и не думал писать любовную записку, которая так поразила ваше воображение! Вы убили моего старого друга, моего боевого товарища и дорого за это заплатите! Ну, гоните бумаги, или я сам до них доберусь!
Мисс Мак-Картри отступила на самый край площадки, но дальше шел пятиметровый обрыв, и шотландка не решилась спрыгнуть. Сломай она руку или ногу — оказалась бы в полной власти этого бандита! Как сестра Анна на своей башне, Иможен без всякой надежды поглядела вокруг, но ничего утешительного не увидела и поняла, что это конец.
— Ну, пеняйте на себя!
И Гован Росс бросился к Иможен Мак-Картри. Но, очевидно, призрак Боб Роя, витавший в этих краях, не мог допустить, чтобы его далекая праправнучка пала от руки предателя, а потому он устроил так, чтобы подлый негодяй, в нетерпеливом стремлении завладеть бумагами, наступил на омлет с конфитюром, поскользнулся и, упав навзничь, хорошенько треснулся головой о скалу. Иможен охватила жажда мщения, и она всем телом навалилась на грудную клетку поверженного врага. Тот зашипел, как проткнутая шина. Похоже, Гован Росс надолго вышел из строя… И мисс Мак-Картри, сидя на бесчувственном теле противника, с облегчением переводила дух, как вдруг рядом послышался спокойный голос:
— В конце концов, может, вы и впрямь переломали ему все ребра?
Иможен, испуганно вскрикнув, вскочила, готовясь встретить нового врага лицом к лицу. Это, разумеется, был Герберт Флутипол, несомненно явившийся исправить неудачную попытку сообщника, а может, и соперника (в конце концов, кто знает, из какой он разведки?). Флутипол стоял в том месте скалы, где Иможен с Гованом поднялись на вершину. Мисс Мак-Картри сообразила, что теперь вполне может добраться до сумочки, и, не успел противник опомниться, как она уже целилась в него из револьвера.
— Молитесь, проклятый валлиец! — завопила мисс Мак-Картри. — Сейчас вы предстанете перед Богом!
Он мигом поднял руки:
— Не сердитесь, Иможен…
К счастью для Флутипола, пуля пролетела в добрых четырех метрах от его головы и в щепки разбила ветку дерева-часового, которым шотландка любовалась всего несколько минут назад, ветку диаметром по меньшей мере в полдюйма! Валлиец не стал ждать новой пули и задал стрекача, причем полы его пиджака подпрыгивали, как пачка балерины. Иможен выстрелила еще раз, и пуля отбила от скалы громадный кусок. Призрак Боб Роя мог спокойно удалиться!
Грохот привел Росса в сознание, и он со стоном попробовал распрямиться. Но мисс Мак-Картри теперь снова чувствовала себя дочерью доблестных Мак-Грегоров. Она опустилась на колени рядом с противником и как следует стукнула его по голове рукоятью револьвера. Из раны на лбу хлынула кровь, и Гован совершенно утратил интерес к происходящему. Приняв таким образом необходимые меры предосторожности, Иможен стала связывать врага. Не колеблясь ни минуты, она вытащила рубаху Росса из брюк и, оторвав несколько полосок, обзавелась достаточно прочными пеленами. Тщательно скрутив ему руки и ноги, мисс Мак-Картри решила, что, поскольку хорошее воспитание не позволяет ей слушать площадную брань, неплохо бы заткнуть Говану рот. Сказано — сделано. Иможен замотала нижнюю часть лица Росса, заботливо оставив нос открытым. Теперь можно съесть кусочек пудинга и запить добрым глотком виски! Гован уже очнулся и наблюдал эту сцену горящими от ненависти глазами. Мисс Мак-Картри подняла стакан.
— За ваше здоровье, Гован Росс, и будете знать, как нападать на горянок!
Покидая место так и не состоявшегося праздника, Иможен ухватила Росса за шиворот и как мешок с картошкой поволокла к машине, оставленной ими у дороги. Надо полагать, пленник испытал множество на редкость тягостных минут. При этом он так отчаянно извивался, всячески демонстрируя глубокое недовольство столь невежливым обращением со своей особой, что мисс Мак-Картри пришлось сурово предупредить его о возможных последствиях:
— Послушайте, Гован, по-вашему, я делаю это для собственного удовольствия? Напротив, мне ужасно тяжело вас тащить, но, к сожалению, это необходимо. Так что не усложняйте мне работу, иначе придется снова ударить вас по голове револьвером. Ясно? Ну вот и подумайте хорошенько, стоит ли так себя вести!
Фермер Питер Говенан пребывал в замечательном настроении. Он только что съездил в гости к Коллинзам, на чьей единственной дочери, Рут, мечтал жениться. Молодого человека приняли весьма любезно, и он пришел к заключению, что дела идут как нельзя лучше, а их с Рут ждет безоблачное будущее. Полагая, что подобный успех следует отметить, Питер решил съездить в Каллендер и пропустить стаканчик в «Гордом горце». Но в двух километрах от городка он увидел у обочины дороги машину и склонившуюся над мотором женщину. Галантный кавалер, Говенан готов был видеть свою возлюбленную Рут в каждой особе ее пола, а потому сразу затормозил. Он тут же узнал машину Билла Васкотта, владельца гаража из Каллендера, и вежливо предложил услуги высокой рыжеволосой женщине. Почему-то она с первого взгляда показалась Питеру на редкость бойкой особой.
— Что-нибудь не в порядке, мисс?
Иможен озабоченно повернулась к доброму самаритянину:
— Мотор пару раз икнул, и машина остановилась.
Питер льстил себя надеждой, что неплохо разбирается в механике, и очень скоро пришел к выводу, что мотор в полном порядке. Он уже раздумывал, как выйти из положения, не потеряв лица, но вдруг его осенила счастливая мысль проверить уровень горючего. Молодой человек с облегчением вздохнул.
— Вы когда-нибудь слышали, мисс, что эти штуковины работают на бензине?
— Что за странный вопрос, молодой человек!
— О, я сказал это просто потому, что у вас в баке не осталось ни капли этой жидкости.
— Ну и ну!
— А вам далеко ехать?
— Да нет же, всего-навсего до Каллендера!
— В таком случае, я могу вас выручить — у меня есть в запасе пятилитровый бидон.
Говенан сходил за бидоном и заправил машину Иможен. Мисс Мак-Картри рассыпалась в благодарностях и, собираясь расплатиться, открыла сумочку. При виде громадного револьвера Питер едва не подскочил на месте. Теперь ему хотелось только одного: удрать отсюда как можно быстрее! Он проклял рыцарский порыв, побудивший его броситься на помощь такой опасной женщине. Когда мисс Мак-Картри отдала деньги за бензин, молодой человек пробормотал «спасибо» и торопливо пошел к своей машине. Только тут он заметил на заднем сиденье автомобиля Иможен окровавленного и скрученного в бараний рог мужчину. У Питера едва не подкосились ноги. На долю секунды он задумался, как поступить. Не будь у той рыжей пистолета, Говенан попытался бы спасти несчастного, но при нынешнем раскладе самое разумное — как можно скорее добраться до полицейского участка в Каллендере. Питер заставил себя спокойно сесть в машину, мягко тронуться с места и, проезжая мимо, вежливо помахать рукой Иможен. Лишь увидев в зеркальце, что ужасная женщина больше не обращает на него внимания, молодой человек изо всех сил нажал на газ, и машина рванула прочь. Мисс Мак-Картри опустила капот и, с удивлением обнаружив, что ее спаситель под жалобный стон покрышек уже исчезает за поворотом, покачала головой: нынешняя молодежь порой ведет себя очень странно.
Смирившись с неизбежным, после недельной борьбы Арчибальд Мак-Клостоу решил отказаться от бесплодных попыток совладать с «черными». Но самолюбие его жестоко страдало. Трагическим жестом сержант указал на шахматную доску, на которой в очередной раз были в безукоризненном порядке расставлены черные и белые фигуры.
— Как, по-вашему, Сэмюель, можно ли вообще сделать «черным» мат в три хода? — спросил Арчи, и констебль уловил в его голосе всю горечь побежденного воина.
Тайлер погрузился в изучение предложенной проблемы, но не успел высказать свое мнение, ибо у полицейского участка под бешеный скрип тормозов остановилась машина, а долю секунды спустя в кабинет Арчи как бешеный ворвался Питер Говенан.
— Шеф! Шеф!.. — вопил он.
И, не в силах сказать больше ни слова, молодой человек упал на стул — очевидно, потрясение было слишком сильным. Полицейские переглянулись, не понимая толком, то ли парень пьян, то ли это дурацкий розыгрыш. Мак-Клостоу ухватил Питера за плечи и хорошенько встряхнул.
— Ну, что на вас нашло, мой мальчик? Вы хоть понимаете, где находитесь?
— Ох, если б вы только знали, шеф…
— Что?
— Эта женщина…
Полицейские опять невольно переглянулись, ибо с тех пор как они поближе узнали мисс Мак-Картри, слово «женщина» означало для обоих неминуемую катастрофу.
— Да соберетесь вы когда-нибудь рассказать, в чем дело?
— Она прячет в сумочке пистолет! Я его заметил, когда она расплачивалась! И еще тот тип, весь в крови, связанный и с кляпом во рту… Она забыла налить в бак бензин, иначе я бы ничего не заметил…
— Я не раз слышал, что безумие заразительно, — спокойно проговорил Арчибальд Мак-Клостоу. — И вот вам пример, Тайлер. Достаточно было этой рыжей чертовке появиться в наших краях, как все стали свихиваться один за другим…
Питер вскочил.
— Да, она и впрямь рыжая! Я даже подумал сначала о сестре пастора…
Тайлеру удалось немного успокоить молодого человека, и тот в конце концов почти связно рассказал о встрече с Иможен.
— Мы хорошо знаем вашу незнакомку, — с отвращением проговорил сержант. — Это мисс Мак-Картри.
— Та, которая…
— Да, она самая.
— И вы даже не попытаетесь спасти несчастного?
— Успокойтесь, молодой человек, мисс Мак-Картри имеет обыкновение приносить добычу нам… Впрочем, судите сами — вот и она!
И глазам обалдевшего Питера предстала Иможен.
— У меня для вас кое-что есть, Тайлер, — сказала она констеблю. — Там, в машине…
Арчибальд подмигнул молодому фермеру:
— Ну, что я вам говорил? А теперь — брысь отсюда!
Говенан попробовал было схитрить и остаться. Ему страшно хотелось поглядеть, что будет дальше, но Мак-Клостоу без колебаний выставил парня за дверь.
Зато Иможен пришлось ждать, пока за Гованом Россом приедут полицейские из Эдинбурга. Арчибальд, как того требовали правила, сразу позвонил в управление сообщить о новом подвиге мисс Мак-Картри и с раздражением узнал, что начальство уже в курсе (каким чудом — Мак-Клостоу не понимал, и это-то злило его больше всего) и что за преступником уже выехала машина. Совершенно деморализованный Гован Росс настолько утратил всякую волю к сопротивлению, что сразу во всем признался. И лишь когда его уводили полицейские из Эдинбурга, Росс позволил себе гневный выпад: остановившись перед мисс Мак-Картри, он весьма невежливо обозвал ее стервой. И в наступившей тишине громко и отчетливо послышалась реплика Арчибальда Мак-Клостоу:
— Порой и бандиты отличаются наблюдательностью…
Иможен, бросив на него испепеляющий взгляд, вышла из участка. При виде ее уже собравшиеся на тротуаре зеваки беззвучно расступились, и это молчание ранило шотландку больнее, чем самая грубая ругань. Что она им всем сделала? Неужели не понимают, что это ради них Иможен рискует жизнью? Вот она, неблагодарность толпы… Миссис Элрой, по-видимому, ожидала возвращения хозяйки.
— Вы вернулись, миссис Элрой?
— Да, мисс Мак-Картри, вернулась, но только для того, чтобы сказать о своем уходе.
— Вы уходите?
— Я вас предупреждала! Узнав о том, как вы поступили с тем мужчиной в Трассаксе…
— Но это же преступник!
— Моя мать говорила: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»… Если бы покойный капитан узнал…
— Если бы покойный капитан узнал, что идиотка вроде вас вмешивается не в свое дело да еще позволяет себе рассуждать о том, в чем абсолютно ничего не смыслит, он бы восстал из гроба и хорошенько пнул ее в задницу!
Миссис Элрой чуть не подавилась вставной челюстью. Впервые за семьдесят лет с ней посмели разговаривать подобным тоном! Розмери хотела было дать отпор, но, поглядев на Иможен, раздумала.
— Вы мне должны два фунта и шесть пенсов, — только и сказала она.
Мисс Мак-Картри пошарила в сумочке.
— Вот они, а теперь — убирайтесь!
— Еще бы я осталась в доме такой особы!
После того как миссис Элрой ушла, вконец измотанная Иможен ушла плакать к себе в комнату. Сейчас ее не успокаивало даже привычное трио покровителей — Роберта Брюса, Вальтера Скотта и отца. Да и что могли противопоставить злобе живых бесплотные тени? Шотландка едва не впала в отчаяние, как вдруг в беспросветном мраке мелькнула мысль, наполнившая ее сознание самым нежным, теплым и бодрящим светом: если ни Линдсей, ни Росс не писали любовного письма, это мог сделать лишь Аллан Каннингэм!.. Аллан, милый Аллан, стоило только подумать о нем, и мисс Мак-Картри чувствовала себя юной Джульеттой… Правда, она годилась скорее в тетушки своему Ромео, нежели в возлюбленные, и это соображение несколько охлаждало пыл дочери капитана индийской армии. Однако она уговаривала себя, что для сердца возраст не имеет значения, тем более если это сердце так и осталось невостребованным. Наверное, Аллан пережил какую-то трагедию и теперь ищет подругу, которая была бы для него и матерью, и сестрой, и возлюбленной одновременно. Мисс Мак-Картри считала, что вполне способна сыграть все эти роли. Бедняжка, как он, должно быть, скучает среди всех этих певичек и танцовщиц в «Розе без шипов»! И, наверное, думает, будто о нем забыли? Безумец!.. А как он будет гордиться своей Иможен, узнав, сколь ловко она разоблачила двух шпионов, которых сам Аллан наивно считал друзьями! Пока сэр Генри Уордлоу не вернулся в «Торфяники», мисс Мак-Картри сочла, что заботу о ее безопасности должен взять на себя тот, кто со временем станет ее естественным покровителем: Аллан Каннингэм. Поэтому шотландка тут же решила написать письмо и позвать на помощь. И она сочинила очень милую записку, в которой, не отступая, разумеется, от целомудренной сдержанности (молодой человек не преминет ее оценить), все же намекала, что ему не стоит терять надежду, поскольку его мечты, возможно, сбудутся даже раньше, чем он думает…
Поставив точку в конце этого первого в своей жизни любовного письма, Иможен вдруг сообразила, что не знает точного адреса своего Ромео. Но такой пустяк не мог остановить мисс Мак-Картри: как все влюбленные, она полагала, что мир не без добрых людей и о ее любви позаботятся, а потому взяла чистый конверт и крупным угловатым почерком написала: «Эдинбург, кабаре «Роза без шипов», Аллану Каннингэму. Поручаю заботам почтальона».
И мисс Мак-Картри, снова уверовав в себя, твердым шагом отправилась на почту, а вернувшись, обнаружила в саду Нэнси Нэнкетт.
Глава X
Иможен отличалась большой сдержанностью во всем, что касается проявлений чувств, но на сей раз, едва справившись с первым удивлением, открыла подруге объятия и пылко расцеловала ее, прежде чем отвести в дом. Готовя легкий обед, она с любопытством расспрашивала Нэнси.
— Каким чудом вы оказались в Каллендере, дорогая Нэнси?
— Из-за ваших писем…
— Из-за моих писем?
— Ну да! Они меня так напугали! Вы писали о нападениях на вас, о каких-то мужчинах, которых вы убили с поразительным хладнокровием! Вот я и подумала, что вас больше нельзя надолго оставлять одну… Дженис Левис уступила мне свою очередь в отпуск, я села в первый же поезд на Каллендер — и вот я здесь!
Иможен поставила перед ней тарелку порриджа.
— Нэнси, я никогда не забуду, что вы для меня сделали! — дрожащим от волнения голосом проговорила она.
— Ну, вы ведь всегда стояли за меня горой, Иможен!
— Это еще не повод тратить на меня отпуск!
— Не беспокойтесь, Иможен, я твердо намерена просить вас показать мне Горную Страну, так что отпуск не пострадает.
— Обещаю вам, Нэнси, что, как только закончу миссию (а осталось совсем немного), я стану вашим экскурсоводом, и, вернувшись в Лондон, вы будете знать наши края не хуже любого горца!
Как только они перешли в гостиную, Иможен, несмотря на возражения Нэнси, открыла бутылку виски, заявив, что из-за последних приключений несколько утратила вкус к вечернему чаю, а портвейн для человека, то и дело играющего со смертью, по правде говоря, пресноват. Эти слова произвели на мисс Нэнкетт такое впечатление, что она больше не решилась спорить.
До поздней ночи шотландка рассказывала подруге обо всем, что случилось с тех пор, как она уехала из Лондона. Решив, что теперь, когда сэр Генри Уордлоу вот-вот вернется, уже нет особых причин держать все в полной тайне, мисс Мак-Картри рассказала Нэнси о поручении сэра Дэвида и о том, что теперь носит драгоценные бумаги при себе. Мисс Нэнкетт в отличие от подруги не напоминала всегда готовую к бою амазонку. Рассказ ее так напугал и взволновал, что, несмотря на легкое отвращение к виски, она то и дело подносила рюмку к губам. Наконец Иможен предложила ей высказать свое мнение. Нэнси заявила, что, очевидно, безжалостные враги мисс Мак-Картри (особенно тот голубоглазый тип с тюленьими усами) не отступятся до той решающей минуты, когда им волей-неволей придется признать поражение. А раз полицейские Каллендера никуда не годятся, то не подсказывает ли элементарный здравый смысл, что надо бы попросить подкрепления из Лондона? Вот тут-то Иможен и призналась, что ждет Аллана Каннингэма, и рассказала о любовных переживаниях, так тесно сплетавшихся с ее героической деятельностью. Эта сторона вопроса заинтересовала Нэнси гораздо больше. Иможен подробно описала, каким образом обнаружила в сумочке любовную записку (она даже не поленилась достать письмо из шкафа и, в подтверждение своих слов, показать Нэнси), как сначала, из осторожности, решила, что автор — Эндрю Линдсей или Гован Росс, и лишь потом, когда два члена троицы отпали, пришла к выводу, что это Аллан Каннингэм любит ее и не решается открыть свои чувства иначе, как в такой деликатной манере. По просьбе мисс Нэнкетт Иможен набросала восторженный и такой точный портрет Аллана, что подруга не могла скрыть удивление.
— Но… он, кажется, совсем молод? — невольно вырвалось у нее.
Иможен покраснела.
— Знаете, ему все же около сорока…
— Но сорока еще нет?
— Пожалуй… О, я догадываюсь, о чем вы думаете…
— Уверяю вас…
— Да, да, и это вполне естественно! Каким образом молодой человек мог увлечься уже далеко не юной женщиной!?! Как вы понимаете, я тоже задавала себе этот вопрос. Однако любовь порой выбирает причудливые тропы, и, благодаренье Богу, возможно, на свете еще есть мужчины, более чувствительные к внутреннему совершенству, нежели к внешнему… Впрочем, Аллан так давно возится с певичками, что ему наверняка уже осточертели безмозглые красотки… А кроме того, против очевидности не попрешь, так что нет смысла ломать голову.
Утро уже почти миновало, когда Иможен приготовила завтрак и на подносе отнесла гостье. Та приняла его с благодарностью и легким смущением. Пока Нэнси ела, мисс Мак-Картри, устроившись у изголовья постели, рассказывала о придуманной ею программе на день. Главным образом Иможен собиралась показать подруге места своей боевой славы. Однако объяснения прервал звонок — кто-то твердой рукой дергал колокольчик у калитки. Мисс Мак-Картри вскочила на ноги:
— Это Аллан!
И, подбежав к зеркалу (чем немало позабавила и умилила Нэнси), шотландка бросилась открывать.
— Я ужасно смешна, верно? — крикнула она на бегу.
Мисс Нэнкетт рассмеялась.
— Нет, просто вы влюблены, моя дорогая!
Но это оказался не Аллан — разочарованному взору мисс Мак-Картри предстал констебль Тайлер.
— Что вам надо? — весьма нелюбезно осведомилась Иможен.
— Прошу прощения за беспокойство, мисс, но я пришел к вам не совсем официально…
— И зачем?
— По просьбе сержанта…
— Ну?
— Дело вот в чем… у шефа сегодня выходной… и он хотел бы половить рыбу…
— А мне какое дело, поедет Арчибальд Мак-Клостоу на рыбалку или нет? Да пусть отправляется хоть к самому дьяволу! Я полагаю, ему не требуется мое разрешение?
— В какой-то мере, мисс… Шефу хотелось бы знать, намерены ли вы сегодня продолжать опустошения… Тогда, как вы понимаете, он останется в участке ждать трупов…
— Сэмюель Тайлер, вы что, уже с утра пьяны? Или Арчибальд Мак-Клостоу совсем идиот? А может, вы просто издеваетесь надо мной?
— Не сердитесь, Иможен, и…
— Прочь отсюда, Тайлер, пока я и вправду не разозлилась, и передайте сержанту, что он самый тупой кретин во всей Шотландии!
И, подведя таким образом итог разговору, мисс Мак-Картри повернулась спиной к озадаченному констеблю.
Нэнси надела фартук и принялась помогать Иможен по хозяйству. Обе дамы бодро орудовали тряпками и вениками, что не мешало им разговаривать, причем главную роль играла, разумеется, мисс Мак-Картри — накануне она далеко не все успела рассказать подруге. Так, в хлопотах и разговорах, прошло время до полудня. Потом они отправились на кухню готовить простой, но достаточно плотный обед: как-никак им предстояла долгая прогулка по окрестностям Каллендера. Иможен чистила лук, когда в калитку сада неожиданно постучали. Она вытерла тыльной стороной кисти распухшие от слез глаза и сняла фартук.
— Надеюсь, это не Алан! Видок у меня сейчас…
Но это был он. Увидев мисс Мак-Картри, молодой человек бросился навстречу и схватил ее за руки.
— Я очень спешил… Но вы, кажется, плачете?
— Я чистила лук.
Столь прозаический ответ несколько подпортил романтический порыв Аллана, и на мгновение молодой человек совсем растерялся, но Иможен поспешила на помощь:
— Входите скорее, дорогой Аллан! Я уверена, что теперь, когда вы здесь, моим несчастьям конец!
— Во всяком случае, я твердо намерен вас защищать и живейшим образом посоветовал бы тем, кто вам докучает, держаться подальше. Не в моих привычках позволять кому-либо отравлять жизнь человеку, которого я… который мне… Короче говоря, вы ведь понимаете, что я имею в виду?
— Да, Аллан…
Шотландка вложила в этот коротенький ответ все чувства, на какие только была способна. Они вместе пошли на кухню. Нэнси встала.
— Дорогая Нэнси, позвольте представить вам Аллана Каннингэма… Аллан, это Нэнси Нэнкетт, она тоже приехала мне помогать.
— Мистер Каннингэм, Иможен много говорила о вас…
— Весьма польщен, мисс… Надеюсь, вы не услышали ничего особенно дурного?
— О нет, скорее, наоборот!
Иможен покраснела.
— Прошу вас, Нэнси, замолчите… А вы, Аллан, уж будьте любезны, расскажите мне, по каким таким причинам вы бросили меня, едва приехав в Каллендер?
— Избавьте меня от необходимости отвечать, Иможен… Честно говоря, прочитав ваше такое доверчивое, такое теплое письмо, я надеялся, что вы… поняли истинные причины моего… бегства?
Мисс Мак-Картри не знала, смеяться ей или плакать.
— Кто бы мог подумать, Нэнси, что такой большой мальчик настолько застенчив?
— В самом деле… Ну что ж, в наказание мистер Каннингэм поможет нам готовить!
— С удовольствием!
Занимаясь стряпней (один чистил овощи, другой резал мясо, третий накрывал на стол), обитатели старого дома вели оживленный разговор. Впрочем, Нэнси очень скоро вышла из игры. Узнав о покушениях Линдсея и Росса, Аллан не мог сдержать возмущение и пару раз довольно грубо выругался, но, правда, тут же попросил у дам прощения. По мнению молодого человека, клубные знакомые решили использовать его как прикрытие. Аллан собирался по делам в Эдинбург, и, когда Линдсей заговорил о поездке в Шотландию, с восторгом принял предложение отдохнуть вместе: он ведь тоже заядлый рыболов. А потом, познакомившись в поезде с Иможен и решив, что ей гораздо симпатичнее Линдсей, Аллан воспользовался звонком из Эдинбурга, чтобы отойти в сторонку. Иможен, искренне забыв о матримониальных планах насчет Линдсея и Росса, заявила, что Эндрю ее нисколько не интересовал. Молодой человек расцвел от удовольствия.
— Но я все же кое-чего не понимаю, Иможен… — наконец проговорил он. — Зачем этой парочке непременно понадобилось ехать в Каллендер? Почему они с таким ожесточением вас преследовали и даже пытались убить?
Мисс Мак-Картри колебалась всего несколько секунд. Считая, что не вправе утаивать от будущего мужа правду, она поведала ему о своей миссии и о том, что благодаря скорому приезду сэра Генри Уордлоу дело близится к развязке. Потрясенный Каннингэм едва верил собственным ушам, а потом с чисто юношеским пылом заявил, что Иможен — самая удивительная женщина, какую он когда-либо встречал. Нэнси поддержала молодого человека, и покрасневшая от счастья мисс Мак-Картри, чтобы скрыть смущение, побежала за виски.
После обеда (Аллан признался, что в жизни не ел ничего вкуснее) трое друзей отправились на прогулку. Предварительно они решили, что Каннингэм тоже поселится в доме — присутствие Нэнси спасало приличия.
Когда они зашли в «Гордого горца» выпить чаю, Аллан Каннингэм, по описанию Иможен, сразу узнал Герберта Флутипола. Валлиец что-то спокойно жевал в дальнем углу зала и, по-видимому, не обращал ни на кого внимания. Тед Булит, разливавший по кружкам пиво, радостно приветствовал Иможен и немедленно послал Томаса принять заказ. Мисс Мак-Картри устроилась так, чтобы видеть Герберта Флутипола: под защитой Аллана она чувствовала себя очень храброй. Для начала она отпустила несколько весьма нелестных замечаний в адрес валлийцев, потом посмеялась над любителями носить слишком длинные усы. Каннингэм с удовольствием поддержал разговор, зато Нэнси, вне себя от смущения, умоляла их прекратить. Герберт Флутипол вскинул голубые глаза и стал пристально смотреть на обоих насмешников… Те попытались было продолжать в том же духе, но тяжелый взгляд валлийца портил все удовольствие. Наконец Аллан встал и двинулся к столику Флутипола.
— Мне не нравится, как вы нас разглядываете, сэр…
В зале мгновенно наступила тишина, а Тед Булит, вытирая руки, поспешно вышел из-за стойки.
— Не нравится — пересядьте.
Шотландцы привыкли к бурному кипению страстей, и невозмутимое спокойствие Флутипола по контрасту выглядело жестоким оскорблением. Почувствовав это, посетители «Гордого горца» уставились на противников и уже не отводили от них глаз, а официант Томас подошел к телефону, готовясь в случае неприятностей сразу позвать на подмогу Сэмюеля Тайлера. Тед Булит попробовал вмешаться:
— Джентльмены! Не забывайте, что здесь дамы…
— Именно поэтому я не могу допустить, чтобы этот тип так по-хамски себя вел! — хмыкнул Каннингэм.
Герберт тяжело вздохнул.
— Вы, кажется, хватили лишку?
— Я? Ну и наглость! Встаньте-ка, и я вам покажу, что с координацией движений у меня все в порядке!
— Пожалуйста, если вы так настаиваете… Но, по-моему, это ужасно глупо…
Валлиец тяжело поднялся на ноги. Присутствующие сразу решили, что шансы у двух противников удручающе неравны, и внезапно прониклись острой неприязнью к Аллану. Тед Булит, сообразив, что его миротворческие усилия ни к чему не привели, подал условленный сигнал Томасу, и тот потихоньку набрал номер полицейского участка, а потом начал отодвигать столы и стулья, чтобы освободить врагам место. По правде говоря, Каннингэм не слишком гордился собой: хорошенький подвиг — лупить толстого, рыхлого старика! Не будь здесь женщин, он бы пошел на попятную, но теперь уже не мог отступить. Флутипол, аккуратно положив на стол шляпу, поглядел на Аллана — тот возвышался над ним почти на голову.
— Ну?
— Если хотите избежать трепки, извинитесь перед дамами!
— Предпочитаю трепку!
Спокойствие и твердость валлийца произвели на окружающих такое благоприятное впечатление, что теперь почти все симпатии были на его стороне.
— Так пеняйте на себя!
Аллан приподнялся на цыпочки и, сделав два-три обманных движения, нанес короткий удар левой рукой. Целился он в переносицу, полагая, что боль и вид крови мигом урезонят противника. Но кулак Каннингэма не коснулся лица Флутипола, а то, что за этим последовало, так и осталось для молодого человека тайной. Придя в себя, он обнаружил, что лежит на спине, а все тело мучительно ноет — похоже, Аллан каким-то образом перелетел через валлийца и тяжело грохнулся об пол. Приятели Теда Булита разразились громким «ура!», а Иможен, спеша на помощь своему поверженному рыцарю, как фурия налетела на Флутипола, который, по-видимому, вовсе не думал продолжать сражение. Но, услышав чей-то суровый голос, все застыли на месте.
— Ну, что еще такое?
В дверном проеме высилась внушительная фигура Сэмюеля Тайлера. При виде Иможен констебль вздохнул.
— Мне следовало бы сразу догадаться…
Появление стража порядка сразу успокоило кипение страстей. Посетители снова уселись за столики, и, поскольку никто не подавал жалобы, констебль согласился выпить стаканчик, предложенный ему Тедом Булитом в награду за беспокойство. Мисс Мак-Картри и ее друзья при общем неприязненном молчании покинули «Гордого горца», и шотландка с грустью подумала, что продолжает наживать в Каллендере врагов.
Когда они добрались до дома, Нэнси сказала, что ее слишком напугало происшествие, и попросила разрешения лечь спать без ужина. Иможен отпустила ее, пообещав принести чашку чая. Она очень любила девушку, но сейчас гораздо больше беспокоилась о здоровье Аллана. Заставив молодого человека проглотить изрядную порцию виски, мисс Мак-Картри осведомилась, как он себя чувствует и не болит ли у него что-нибудь.
— Нет, ничего, кроме самолюбия, дорогая Иможен… Так опозориться у вас на глазах! Никогда себе этого не прощу!
— Не болтайте чепухи, дорогой друг!
— Этот тип казался ужасным размазней… Откуда я мог знать, что он так здорово владеет дзюдо?!
— Разумеется, Аллан! И только трус способен пользоваться подобными приемами!
— Вы и вправду на меня не сердитесь, дорогая Иможен?
Растроганная мисс Мак-Картри погладила молодого человека по щеке.
— Аллан… Я никогда не забуду, что ради меня вы рисковали жизнью… Но сейчас мне надо отнести чаю бедняжке Нэнси. Расслабьтесь и отдохните. Я скоро вернусь.
Мисс Нэнкетт слишком разнервничалась, чтобы уснуть. Ее лихорадочное возбуждение встревожило шотландку, и она подумала, не разумнее ли вызвать врача. Однако Нэнси, узнав о ее намерениях, резко воспротивилась. Девушка сказала, что волнуется только потому, что до нее наконец дошло, какой опасности подвергается Иможен. Сама Нэнси еще не скоро забудет мрачный взгляд этого ужасного валлийца! Она нисколько не сомневалась, что он без колебаний убьет Иможен, лишь бы завладеть документами, и дрожала от страха за подругу. Мисс Мак-Картри еще никто никогда не выказывал такого участия, и, вне себя от смущения, она с трудом сдерживала слезы.
— Я обещаю вам вести себя очень осторожно, дорогая Нэнси!
— Этого мало, Иможен… Мы не может все время быть рядом с вами, а я чувствую, как это чудовище бродит вокруг, выжидая удобного момента!
В голосе Нэнси звучала такая убежденность, что мисс Мак-Картри невольно прониклась ее тревогой.
— Дорогая моя, не могу же я ускорить возвращение сэра Генри!
— Зато, быть может, стоит подыскать другой тайник? Это избавило бы вас от необходимости таскать документы при себе!
— Я не знаю ничего надежнее!
— Но, послушайте, это ведь так опасно!
— Тем хуже.
— Не говорите так, Иможен, вы сводите меня с ума… Вот что, а почему бы вам не доверить бумаги мистеру Каннингэму?
— Аллану?
— Вы ведь ему доверяете, правда?
— Разумеется, но не могу же я подставить Аллана под удар вместо себя!
— А кто об этом узнает? Наоборот, отдать бумаги мистеру Каннингэму — самый надежный способ уберечь их от этого гнусного типа! И я уверена, что мистер Каннингэм будет глубоко тронут таким знаком доверия…
Последний аргумент открывал перед мисс Мак-Картри весьма заманчивые перспективы. Поистине, вручив Аллану свою честь, Иможен сделает тем самым нежнейшее признание, и, возможно, тогда молодой человек решится сказать слова, которых она так ждет…
— Вы, несомненно, правы, Нэнси… Я подумаю…
Каннингэм по-прежнему сидел в гостиной. Виски мисс Мак-Картри, несомненно, пришлось ему по вкусу. Как только она вошла, молодой человек вскочил и продолжал стоять, пока Иможен не опустилась в кресло напротив.
— Как себя чувствует мисс Нэнси?
— Лучше… Бедная девочка тревожится за меня. Боится, что на меня снова нападут и отнимут планы «Кэмпбелл-семьсот семьдесят семь», а потому даже уговаривала отдать пакет вам.
— Блестящая мысль! Клянусь, что уж у меня его точно никто не отнимет!
— Не сомневаюсь, Аллан… но вы ведь должны понимать, что эти бумаги доверили мне… и я не могу передать их постороннему.
— Разве я для вас посторонний, Иможен?
— Нет, конечно, но…
Молодой человек быстро схватил ее за руки.
— Иможен… пора открыть вам всю правду… Вы ведь догадались, какие чувства я к вам питаю, да? Я не осмелился подписать то письмо… Но, быть может, теперь вы позволите мне сделать признание, на которое я так долго не решался?
— Про… прошу вас…
— Иможен, я люблю вас… Хотите стать моей женой?
Шотландка вскрикнула, как раненая птичка.
— Я рассердил вас? Вы мне отказываете?
— Нет-нет, Аллан… но… я старше вас… на много лет…
— И что с того? Любовь не обращает внимания на возраст… У вас сердце двадцатилетней девушки! Гораздо моложе моего… Скажите «да», Иможен! И вы сделаете меня счастливейшим из людей!
— Подождите… подождите минутку… я…
Мисс Мак-Картри вскочила и, выбежав на кухню, поспешно заперла за собой дверь. Потом она выпила стакан холодной воды, расстегнула платье, достала драгоценный пакет и, снова застегнувшись, вернулась в гостиную.
— Вот документы, которые едва не стоили мне жизни, Аллан… То, что я отдаю их вам, — знак наивысшего доверия… Но раз мы поженимся и будем делить горе и радость, вполне справедливо уже сейчас нести бремя ответственности вдвоем.
Каннингэм положил конверт в карман.
— Иможен, пока я жив, они его не получат!
— Им придется убить и меня вместе с вами, дорогой Аллан!
Романтический порыв вознес обоих на такую высоту, что теперь они смущенно переминались с ноги на ногу, не зная толком ни что говорить, ни что делать. Наконец, поборов стыдливость, мисс Мак-Картри проговорила:
— Разве обычай не требует, чтобы жених поцеловал невесту?
— Я не осмеливался…
Каннингэм заключил Иможен в объятия, и она протянула губы, надеясь насладиться первым в жизни поцелуем, но Аллан чмокнул ее в лоб. И шотландка подумала, что ее милый и в самом деле слишком робок.
Перед сном Иможен решила выпить чашечку чаю, и Аллан побежал на кухню. Вернувшись, он заявил, что теперь каждый вечер будет сам готовить ей чай. Такая забота слишком тронула мисс Мак-Картри, и она не посмела сказать жениху, что чай у него получился очень неважный — и горьковат, и сахар он явно забыл положить. Наверное, от волнения, решила она.
Скоро Иможен погрузилась в блаженное тепло, перед глазами замелькали приятные видения, и она поняла, что засыпает. Шотландка попыталась бороться со сном, но усталость одержала верх над ее волей. Иможен распрощалась с Алланом и, еле передвигая ноги, стала подниматься по лестнице. Проходя мимо комнаты Нэнси, она хотела было заглянуть к девушке и рассказать об их с Алланом обручении, но сил не хватило. Даже раздевалась она бесконечно долго, то и дело впадая в сонное оцепенение и лишь с величайшим трудом возвращаясь к действительности. Наконец мисс Мак-Картри натянула ночную рубашку и упала на кровать. Последнее, что она успела заметить, — это шум ветра, налетевшего с вересковых пустошей. И в его завываниях Иможен явственно расслышала звуки «Свадебного марша» Мендельсона.
Глава XI
Пробудившись, мисс Мак-Картри чувствовала себя так, будто провела бессонную ночь в переполненном вагоне, пассажиры которого твердо решили скорее наглотаться всевозможных микробов, чем открыть окно хотя бы на миллиметр. Распухший язык едва ворочался во рту, в горле пересохло, а голову железным обручем сдавила невыносимая мигрень. Иможен попробовала вспомнить, что она пила, но так ничего и не припомнила, кроме чая… Неужто она заболеет именно теперь, когда в доме ее жених? Столь отвратительная мысль быстро вернула шотландке прежнюю энергию. Мисс Мак-Картри вскочила с кровати, но перед глазами все поплыло, и она чуть не упала. Звать на помощь Иможен не посмела, понимая, что первым прибежит Аллан, а показываться ему на глаза в таком виде она не хотела. Цепляясь за кровать, за стол, за спинку кресла, шотландка кое-как добралась до шкафа, где на случай недомогания всегда стояла бутылка виски. Иможен отвинтила крышку и прямо из горлышка отхлебнула большой глоток. Сначала ей показалось, будто в горло льется раскаленная лава, но уже в следующую секунду все ее существо окутало блаженное тепло. Старое доброе виски!.. С умилением глядя на спасительную бутылку, мисс Мак-Картри едва не запела песнь Роберта Брюса, но, поразмыслив, решила, что рискует разбудить Аллана, а он, быть может, не оценит ее искусства в такой ранний час.
В доме царила полная тишина. Должно быть, гости еще спали. Иможен собиралась снова скользнуть под одеяло, но внезапно почувствовала странную необъяснимую тревогу. В ее привычном мирке что-то было явно не так. Мисс Мак-Картри стала раздумывать, в чем же дело, и вдруг до нее дошло, что мертвая тишина совсем не вяжется с ярким дневным светом. В легкой тревоге шотландка поглядела на часы, потом недоверчиво поднесла их к уху. Равномерное тиканье убеждало, что механизм в полном порядке, меж тем стрелки показывали половину двенадцатого! Еще ни разу в жизни Иможен так долго не валялась в постели! Что подумают Аллан и Нэнси? Но почему в доме не слышно ни единого шороха?
Стыдясь столь несвойственного ей приступа лени, Иможен быстро надела халат и со всяческими предосторожностями выскользнула из комнаты. В ванной она облегченно перевела дух. Несмотря на поздний час, мисс Мак-Картри дольше обычного приводила себя в порядок, ибо хотела предстать перед женихом в самом выгодном свете. Увидев в зеркале четко обозначившиеся морщины, Иможен пришла в ужас, тем более что очень отчетливо представляла себе молодое и гладкое лицо Аллана. Решительно, приходилось признать, что утро начинается довольно скверно, если, конечно, полдень можно назвать утром…
Покончив с умыванием, шотландка выбрала самое красивое платье и постучала в дверь Нэнси. Никто не отозвался, и мисс Мак-Картри вошла. Пусто. В комнате Каннингэма тоже не было ни души. Иможен вышла в сад и позвала:
— Ал-лан! Нэн-си!
Никакого ответа. Немного удивленная мисс Мак-Картри отправилась на кухню. Вероятно зная, что она спит, и не желая нарушать благотворный отдых после всех пережитых за последние дни тревог, Нэнси и Аллан пошли гулять. И правильно сделали! В наказание за слишком долгое бездействие шотландка приговорила себя к каторжным работам на кухне. Великолепный обед будет для друзей самым приятным сюрпризом, а для нее, Иможен, лучшим способом заслужить прощение. Мисс Мак-Картри достала тетрадь с рецептами и принялась готовить огромный сливовый торт, который она решила подать после «бабл и сквик»[64] и бараньей лопатки (к счастью, мясник, мистер Хэчмори, уже выполнил заказ и прислал баранину на дом). Обед, конечно, получится малость тяжеловат, но шотландские желудки не реагируют на подобные пустяки.
К двум часам Иможен покончила с готовкой, правда, теперь волосы ее торчали в разные стороны, а по лбу стекали струйки пота. Но ни Аллан, ни Нэнси по-прежнему не подавали признаков жизни, и теперь мисс Мак-Картри начала тревожиться. Не обращая внимания на то, что торт обугливается, баранья лопатка пересыхает, а «бабл и сквик» уже превратился в бесформенную массу, Иможен решила накинуть еще полчаса. Теперь она больше не сомневалась, что на Аллана напали и отняли документы. И зачем только она согласилась с предложением Нэнси? А кстати, что с ней? Шотландке стало стыдно. До сих пор она нисколько не думала о судьбе бедняжки мисс Нэнкетт… В четверть четвертого мисс Мак-Картри решилась на очень трудный для нее шаг, но она чувствовала себя не вправе и дальше увиливать от правды…
У Арчибальда Мак-Клостоу оставалось всего двадцать четыре часа на то, чтобы отправить в «Таймс» свое решение шахматной задачи. В очередной раз расставив фигуры на доске, он напряженно думал. Когда Тайлер сообщил, что пришла мисс Мак-Картри, сержант подскочил как ужаленный.
— О нет, нет!
Но Сэмюель проявил настойчивость:
— Она сама не своя, шеф…
— А?
— Да, какая-то погасшая, словно убита горем…
Мак-Клостоу в отчаянье указал на доску:
— Все как будто сговорились не дать мне решить эту задачу!
И тут этот дурень Тайлер, какой-то жалкий констебль, взял белого коня, потом слона того же цвета и, передвинув две черные фигурки, заявил:
— Вот «черные» и получили мат в три хода, шеф… Теперь можно мне впустить мисс Мак-Картри?
Но Арчи сидел вытаращив глаза, не в состоянии ответить что бы то ни было. И Сэмюель, решив, что молчание — знак согласия, пошел за Иможен. При виде рыжей шотландки сержант снова обрел дар речи.
— Опять вы? — проворчал он.
— Мак-Клостоу… Сегодня утром никто не находил труп?
— Право же, нет… А по-вашему, это должны были сделать?
— Не знаю… не знаю…
— Уж не боитесь ли вы, случаем, конкуренции?
Но Иможен слишком страдала, чтобы ввязываться в перепалку с Мак-Клостоу. Дрожащим голосом она поведала об исчезновении Аллана и Нэнси.
— А с чего, черт возьми, вы взяли, будто их прикончили? Жители Каллендера, вообще говоря, не имеют обыкновения развлекать гостей таким образом! Они молоды?
— Кто?
— Эти мистер Каннингэм и мисс Нэнкетт?
— Да.
— Так успокойтесь. Наверняка милуются где-нибудь на природе и совершенно забыли о времени.
Тупость сержанта так возмутила Иможен, что она
чуть не взорвалась и не рассказала Мак-Клостоу о своей помолвке с Алланом. Но какой смысл? Этот грубиян все равно ничего не поймет. И мисс Мак-Картри предпочла гордо ретироваться. Мак-Клостоу так и не понял, почему, уходя, она снова обозвала его дураком.
Сколько бы Иможен ни хорохорилась, но засевшее в голове замечание сержанта насчет Аллана и Нэнси причиняло ей боль. Возвращаясь домой, она твердила себе, что Мак-Клостоу не знает Каннингэма и судит о нем по другим молодым людям. Только она одна знает истинную цену Аллану. А Нэнси? Добрая и ласковая Нэнси, примчавшаяся из Лондона на помощь подруге… Разве можно заподозрить ее в такой черной измене? Чепуха! Она, Иможен, напрасно морочит себе голову! Однако в памяти всплыло виденное утром отражение в зеркале, и мисс Мак-Картри невольно сравнивала собственное поблекшее морщинистое лицо со свеженькой мордашкой Нэнси. Шотландка так погрузилась в мрачные думы, что едва не сбила с ног коронера Питера Корнвея.
— Счастлив вас видеть, мисс Мак-Картри.
— Как поживаете, мистер Корнвей?
— Намного лучше, чем мои клиенты, мисс!
Эту шутку давно знал весь город, и она больше никого не смешила, кроме самого Питера. Иможен выдавила из себя улыбку и хотела попрощаться, но Корнвей был настроен поболтать.
— Что ж это друзья так быстро вас покинули?
Шотландка вдруг почувствовала, что у нее подгибаются колени.
— Мои друзья, мистер Корнвей?
— Ну да, молодой человек и девушка, с которыми вы вчера гуляли. Разве они жили не у вас?
— Да.
— Жених и невеста, наверное?
Мисс Мак-Картри показалось, будто вся кровь застыла в жилах, а тело вдруг превратилось в камень.
— Сегодня в девять утра я видел, как они садились на поезд в Эдинбург, — продолжал коронер. — Все время под ручку — что твои голубки. Сразу видно, влюбленные… Но что с вами, мисс?
— Ничего… Просто со вчерашнего вечера я себя очень неважно чувствую… Прошу прощения, мистер Корнвей…
Питер Корнвей, недоуменно глядя вслед едва бредущей мисс Мак-Картри, как и прочие жители Каллендера, внезапно подумал, уж не унаследовала ли дочь от папы-капитана пагубное пристрастие к бутылке…
И они посмели так с ней обойтись?.. Но почему? Почему они решили так жестоко подшутить над Иможен? К чему вся эта гнусная игра? Зачем было подсовывать ей в сумочку любовное письмо? Для смеху? Только потому, что нет ничего забавнее старой девы, поверившей, будто ее любят? Нэнси… Нэнси так хорошо знала Иможен… Как же она согласилась участвовать в этой жестокой шутке? Быть может, как дурочка, не устояла перед очарованием Аллана? А вдруг она сейчас сгорает от стыда, думая о подруге? Бедная Нэнси…
Мисс Мак-Картри с огромным трудом выбралась из кресла, где сидела, перебирая в уме невеселые мысли. Сейчас она чувствовала себя древней старухой. Заставив себя подойти к зеркалу и безжалостно оценить собственное изображение, Иможен пожала плечами. Куда ей соперничать с молодостью Нэнси! Все правильно. Молодые — с молодыми, старики… С кем? Шотландка поглядела на фотографию капитана индийской армии.
— Ну скажите, папа, с кем же?
Роберт Брюс… Вальтер Скотт… Иможен угадывала, что теперь ей будет трудно довольствоваться только их обществом. Неужто и она тоже способна на предательство? Мисс Мак-Картри пошла на кухню и вдруг замерла, пораженная ужасной мыслью. Откуда Аллан и Нэнси знали, что сегодня утром Иможен проснется так поздно? Ведь обычно она вскакивает с первыми лучами солнца! Шотландка сразу вспомнила странный вкус приготовленного Алланом чая, охватившее ее потом оцепенение, а утром — горечь во рту и мигрень… Снотворное! Они подсыпали ей снотворного! Но, в таком случае… У мисс Мак-Картри замерло сердце… Бумаги! Она бросилась на лестницу, распахнула дверь и радостно вскрикнула: драгоценный конверт лежал на камине, на самом видном месте! От волнения у Иможен подкосились ноги, и она тяжело упала на стул. По крайней мере Аллан хоть не вор… Обычная любовная история! Хороший урок для тебя, Иможен! В следующий раз хорошенько подумаешь, прежде чем забывать о возрасте! Интересно, посмеет ли Нэнси теперь поглядеть ей в глаза, когда обе вернутся на работу? Дрожащей рукой мисс Мак-Картри схватила бесценный пакет. Наверное, сэр Генри уже вернулся в «Торфяники»… надо как можно скорее завершить миссию и уехать в Челси, в свою уютную квартирку… И больше ничего ей не надо, ничего…
Шотландка сменила платье на грубый твидовый костюм, а изящные туфельки — на привычные башмаки без каблука и, снова превратившись в ту Иможен, которую так хорошо знал Каллендер, отправилась в жилище сэра Уордлоу.
Сэр Генри принял ее немедленно. Взглянув на измученное лицо мисс Мак-Картри, хозяин дома задумался, уж не переборщил ли малость его друг сэр Дэвид Вулиш.
— Садитесь, мисс Мак-Картри… Тяжко пришлось, да?
— Очень тяжко. Но вот планы «Кэмпбелла-семьсот семьдесят семь».
— Я не сомневался в вашем успехе.
— Спасибо.
Сэр Генри взял нож для бумаги и распечатал большой конверт. И снова ему в руки скользнула пачка чистых листов. Уордлоу не решался посмотреть на гостью, боясь, что такой удар ее окончательно добьет, но, когда наконец поднял глаза, с изумлением обнаружил, что всего за несколько секунд с шотландкой произошла невероятная метаморфоза — все следы растерянности исчезли, лицо посуровело, и выражение отчаянной решимости, казалось, вновь вернуло ему краски молодости. Иможен сама заговорила первой:
— Так, значит, он был их сообщником…
— Простите?
— У меня не было оснований ему мстить, но теперь это уже совсем другое дело… До завтра, сэр Уордлоу.
— Куда вы идете?
— За планами «Кэмпбелла-семьсот семьдесят семь».
— Вы знаете, где они?
— Во всяком случае — у кого.
— Будьте осторожны!
— Зачем? Мне больше нечего терять.
Линдсей, Росс, Каннингэм… Вся троица! Они сговорились ограбить Иможен, но каждый действовал по-своему. И дурочка Нэнси могла поверить обещаниям этого проходимца? Мисс Мак-Картри должна не только вернуть похищенное, но и вырвать глупенькую мисс Нэнкетт из когтей негодяя. «Роза без шипов»… Иможен не забыла сведений, сообщенных ей Гованом Россом. В чемодане она везла револьвер.
Мисс Мак-Картри прибыла в Эдинбург в десять часов вечера и сняла номер в гостинице «Рутланд» у самого вокзала. Быстренько смыв следы усталости и переложив огромный револьвер из чемодана в сумочку, шотландка спустилась в холл. Элегантный молодой человек из справочной чуть не упал в обморок, узнав, что Иможен нужен адрес «Розы без шипов». Он, правда, ответил на вопрос, но счел своим долгом предупредить:
— Позвольте обратить ваше внимание, мисс, что это совсем не подобающее место для столь достойной особы…
— Позволить-то позволю, но это не помешает мне туда отправиться.
И она вышла решительной поступью, достойной гренадера Кольдстримской гвардии. Услышав свисток швейцара, таксист подогнал машину к крыльцу гостиницы. Когда пассажирка приказала ехать в «Розу без шипов», он тоже на мгновение остолбенел.
— Прошу прощения, мисс, но вы и в самом деле сказали: «В «Розу без шипов»?
— Совершенно верно.
— Однако это не очень… э-э… приличное место…
— Догадываюсь!
Шофер не стал спорить, но, переключая скорости, подумал, что Соединенное Королевство ждет печальная судьба, коли даже пожилые мисс, по виду похожие на школьных учительниц, вздумали проводить вечера в самом зловещем притоне, какой только можно найти во всей Шотландии.
Однако ни изумление служащего гостиницы «Рутланд», ни удивление шофера такси не могли сравниться с тем, что испытал швейцар «Розы без шипов», когда до него дошло, что Иможен и в самом деле намерена войти в кабаре.
— Прошу прощения, мэм…
— Мисс!
— Простите, мисс, но здесь не кино…
— Откровенность за откровенность, молодой человек: я не королева Англии. Мне нужен Аллан Каннингэм.
— Как вы сказали?
— Аллан Каннингэм.
— Сожалею, мисс, но такой джентльмен к нам не ходит.
— Вы что, смеетесь надо мной, приятель? Он очень важная шишка в вашем заведении!
И шотландка подробно описала мерзавца Аллана. Швейцар добродушно ухмыльнулся:
— Так вы ж мне рассказываете о хозяине, о мистере Освальде Фертрайте!
Выходит, Каннингэм, как Линдсей и Росс, назвался вымышленным именем… Мошенники!
— Я хочу немедленно поговорить с ним!
— Вам назначена встреча?
— Последнюю ночь он провел у меня, в Каллендере!
— Не может быть!
Но мисс Мак-Картри была слишком наивна, чтобы уловить оскорбительный смысл замечания, и парень, смеясь про себя, впустил ее в кабаре. Девица-гардеробщица, одетая в лифчик и коротенькую юбчонку, едва прикрывавшую попку, сразу перестала улыбаться и растерянно пробормотала:
— Вы кого-нибудь ищете, мэм?..
Иможен долго сверлила ее пристальным взглядом.
— На вашем месте, дитя мое, — наконец сухо заметила она, — я бы сбегала одеться. Ну можно ли выходить на люди в таком виде? А что если бы вместо меня сюда вошел мужчина?
И мисс Мак-Картри повернулась спиной, оставив девицу в легком столбняке. Придя в себя, та еще долго не могла сообразить, что это было: галлюцинация или чей-то розыгрыш.
Чуть подальше Иможен остановил управляющий. Всю жизнь прожив вне закона, чего он только не навидался, но, столкнувшись в кабаре с мисс Мак-Картри, невольно вздрогнул. Богатый жизненный опыт подсказал ему правильное обращение:
— Что вам угодно, мисс?
— Я хочу видеть мистера Освальда Фертрайта… Он меня ждет!
Управляющий поклонился, не сомневаясь, что подобная особа врать не станет.
— Будьте любезны следовать за мной, мисс.
Он проводил Иможен до конца коридора и, отодвинув драпировку, с поклоном указал на лесенку:
— Первая дверь направо, мисс.
Несмотря на внешнюю чопорность, управляющий любил подшутить. Поэтому он тут же подскочил к телефону и набрал номер шефа. Услышав голос телохранителя Билла, он сообщил, что к ним поднимается потрясающая куколка.
Иможен постучала в дверь и, услышав голос человека, которого по-прежнему называла про себя Алланом, на мгновение ощутила легкую слабость. Но он крикнул: «Войдите!», и мисс Мак-Картри быстро взяла себя в руки. Фертрайт складывал в чемодан бумаги и не сразу заметил шотландку, зато гигант Билл, широко открыв глаза, ошарашенно пробормотал:
— Ну ничего себе «куколка»…
Почувствовав по тону телохранителя, что происходит нечто не совсем обычное, Аллан поднял голову и удивленно присвистнул.
— Каким образом, черт возьми… Билл, скажи Майку, что он уволен! Будет знать, как впускать кого бы то ни было без моего разрешения!
— Ясно, патрон.
А Каннингэм с насмешливым видом повернулся к Иможен:
— Вы решили устроить мне сцену, дорогая?
Мисс Мак-Картри затрясло от ярости, но она сдержалась.
— Вы не шотландец, верно?
— Только этого не хватало!
— Прошу вас немедленно сказать мне, куда вы подевали Нэнси Нэнкетт, и вернуть украденные бумаги.
— Слышишь, Билл? — расхохотался Аллан.
— Похоже, нахальства ей не занимать, а, патрон?
— Дорогая мисс Мак-Картри, за Нэнси можете не волноваться — у нее все в полном порядке. А что касается документов, которыми вы так дорожите, то тут я вынужден признать, что они действительно у меня и у меня же останутся.
И, желая лишний раз поддеть Иможен, молодой человек показал ей большой конверт с пометкой «Т-34».
— Вы бессовестный вор, Освальд Фертрайт!
— Ну-ну… не сердитесь, Иможен!
— Вряд ли это возможно, подлый негодяй!
— Решительно, вы начинаете меня утомлять, дорогая… Закрой-ка дверь, Билл.
Телохранитель задвинул засов.
— В таком смысле, какой вкладывают в это понятие господа из Скотленд-Ярда, я вовсе не вор, милейшая Иможен… Коли угодно, можно сказать, что у нас с вами просто разные работодатели.
— Но вы предаете родину!
— У меня нет родины… И это очень удобно, поскольку избавляет от ненужных терзаний… Но я счастлив, что познакомился с таким феноменом, как вы, мисс Мак-Картри. Будь все англичанки похожи на вас, вы бы остались первой нацией в мире. Жаль только, что вы так сентиментальны…
— Я не англичанка, а шотландка, и прошу вас немедленно вернуть то, что вы у меня стащили.
Мужчины весело переглянулись.
— Простите великодушно, дорогая Иможен, но нас с моим другом Биллом ждет самолет, и, поскольку я вовсе не хочу, чтобы вы какими-нибудь эксцентричными выходками создавали мне осложнения, посидите до завтра в чулане. Утром уборщица вас выпустит. Ну как, пойдете добровольно или Биллу придется тащить вас силой?
— Сначала, Освальд Фертрайт, я хочу вам кое-что показать!
— Правда?
Иможен открыла сумочку, сделала вид, будто что-то ищет, и, сняв предохранитель, вдруг выхватила револьвер.
— Отдайте бумаги, или я вас пристрелю! — крикнула она, держа Освальда на мушке.
Мужчины окаменели от удивления.
— Я еще ни разу не видал такой штуки, патрон, — не веря собственным глазам, проворчал Билл. — Это что, атомная пушка?
Фертрайт выпрямился.
— Хватит, Иможен! Прекратите валять дурака, мне вовсе не смешно!
— А вам вообще недолго осталось смеяться! Если я выстрелю…
— Довольно! Билл, забери у нее эту дурацкую игрушку!
Телохранитель осторожно шагнул к мисс Мак-Картри.
— Ну, тетенька, это ж несерьезно, в вашем-то возрасте… Разве вы не слыхали, что с огнестрельным оружием играть запрещено?
— А вы, горилла, лучше стойте на месте!
Билл замер и с тревогой посмотрел на Освальда.
— Как вы думаете, она выстрелит, патрон?
Фертрайт пожал плечами.
— Дурень! Эта штуковина годится разве что как дубина, да и то…
— Уж больно страшный у нее вид…
— В любом случае, если эта идиотка выстрелит в тебя, я ей такое устрою, что перед смертью горько пожалеет, зачем полезла в эту историю!
Обещание, по-видимому, не особенно утешило Билла.
— Да, но со мной-то что будет?
— Продолжай в том же духе — и живо окажешься безработным!
Угроза подействовала, и гигант двинулся к Иможен с протянутой рукой.
— А ну, тетенька, отдайте игрушку племяннику!
Иможен выстрелила, когда их отделяло друг от друга не более метра. Она не могла промахнуться — разве что повернулась бы спиной. Заряд угодил в грудную клетку, и Билл замер. Комнату наполнил дикий грохот. Телохранитель, инстинктивно зажав рану рукой, с удивлением смотрел на сочащуюся между пальцами кровь. Он еще успел обиженным тоном заметить Фертрайту:
— Она все-таки выстрелила, патрон! — и ничком рухнул на пол.
Мисс Мак-Картри отошла в сторону, не желая, чтобы ее сшибло с ног это громадное тело, от падения которого, казалось, вздрогнули даже стены. На лестнице послышался топот, и в запертую дверь отчаянно забарабанили. Бледный от злости и страха Освальд поспешно закрыл чемоданчик и, сунув большой конверт в карман, бросился к потайной двери на лестницу, откуда пришла к нему мисс Мак-Картри. Но Иможен снова подняла револьвер и выстрелила беглецу в спину, буквально пригвоздив его к деревянной панели. Мгновение Фертрайт простоял неподвижно, потом тяжело осел. Мнимый Аллан Каннингэм последовал за столь же мнимыми Эндрю Линдсеем и Гованом Россом. У мисс Мак-Картри хватило мужества перевернуть тело, вынуть из кармана конверт и положить его за вырез платья. Потом она открыла дверь, готовясь лицом к лицу встретить тех, кто так упорно ломал дубовую дверь.
Майк и трое его официантов чуть не растянулись посреди комнаты. Увидев, что творится в кабинете, все четверо лишились дара речи. Майк первым стряхнул оторопь.
— Это вы, а? Вы устроили такую бойню? — зарычал он, угрожающе надвигаясь на Иможен.
Не ожидая ответа, управляющий с искаженным от злобы лицом подскочил к шотландке и наотмашь ударил по щеке. Мисс Мак-Картри покачнулась от удара. Майк снова замахнулся, но, услышав насмешливый голос, замер.
— Что, Майк, теперь вы принялись колотить женщин?
На пороге стояли двое полицейских, и Иможен с облегчением перевела дух.
Глава XII
Вопреки ожиданиям мисс Мак-Картри, полиция Эдинбурга не стала чинить ей ни малейших неприятностей. По-видимому, здесь о ней прекрасно знали. Принимавший Иможен комиссар чуть ли не поздравил соотечественницу с тем, что она избавила столицу от пары самых отъявленных негодяев, а заодно дала правосудию отличный повод прикрыть наконец «Розу без шипов». Правда, как человек осторожный, он тут же посоветовал мисс Мак-Картри незамедлительно вернуться в родной Каллендер.
Не считая служащих вокзала, коронер Питер Корнвей первым узнал о возвращении Иможен Мак-Картри. Гробовщик уже неделю ждал новую партию сосновых досок и приехал узнать, не прибыл ли наконец его заказ. Узнав ту, кого он считал своей благодетельницей, Питер бросился приветствовать ее и настоял, что сам отвезет домой и поможет отнести вещи. По дороге коронер не преминул выразить надежду, что мисс Мак-Картри надолго обоснуется в Каллендере, где без нее существование выглядит более чем тусклым. Корнвею очень хотелось узнать, почему у Иможен ссадины и синяки на лице, но задать прямой вопрос он не посмел, ибо, во-первых, считал себя джентльменом, а во-вторых, слишком хорошо знал характер мисс Мак-Картри. Избавившись от верного почитателя у крыльца, она сразу поднялась к себе в комнату. Шотландке казалось, что она не была там много лет, но, вспомнив, как еще только позавчера Нэнси и Аллан гостили в этом доме, Иможен чуть не всплакнула.
Питер Корнвей не мог отказать себе в удовольствии оповестить всех и каждого о возвращении мисс Мак-Картри. Завсегдатаи «Гордого горца» разразились троекратным «ура!» в честь «рыжеволосой воительницы», как окрестил ее Тед Булит. Миссис Элизабет Мак-Грю расценила приезд соперницы как личное оскорбление и жестоко обругала мужа, посмевшего заявить, что всякий гражданин Соединенного Королевства имеет полное право ездить куда ему вздумается. Весть о возвращении в Каллендер ужасной шотландки глубоко потрясла констебля Сэмюеля Тайлера. Полагая, что его долг — как можно скорее предупредить Арчибальда Мак-Клостоу, Тайлер помчался в участок. Сержант сначала воспринял это как неудачную шутку и сурово призвал подчиненного к порядку, однако убедившись, что тот и не думает его разыгрывать, бросился звонить доктору Джонатану Элскотту. Арчи потребовал, чтобы врач немедленно приехал в участок, где его ждет больной. Элскотт стал спорить, ссылаясь на другие срочные вызовы, но сержант не желал ничего слушать. Если врач сию же секунду не явится, заявил Мак-Клостоу, он, сержант; по всей форме напишет жалобу за отказ в медицинской помощи и подаст на Элскотта в суд. Через несколько минут доктор с чемоданчиком в руках влетел в кабинет Арчи.
— Ну, где раненый?
Мак-Клостоу окинул его враждебным взглядом.
— Насколько я помню, речь шла не о раненом, а о больном!
— Ладно. Так где он?
— Перед вами.
— Что?
— Я болен, Элскотт, и требую, чтобы вы на неделю уложили меня в постель!
— Вы что, издеваетесь надо мной, Арчибальд Мак-Клостоу?
— Не понимаю, с чего вы…
— Вот как? Как мне передали, вчера вы оставались в «Гордом горце» до самого закрытия этого заведения, демонстрируя невероятную ловкость в метании стрелок…
— Дело в том… что вчера я чувствовал себя в прекрасной форме, — скромно подтвердил польщенный сержант.
— И ничего не предвещало внезапной болезни, которая вас будто бы скрутила?
— А то вы и без меня не знаете, что болезнь всегда обрушивается на нас неожиданно?
— Да? А ваш недуг называется, случаем, не мисс Мак-Картри?
— Послушайте, Элскотт, мы с вами дружим с того дня, как я приехал в Каллендер… И я прошу, как о дружеской услуге: найдите у меня какую-нибудь болячку, которая могла бы избавить меня от этого чудовища хоть на неделю! Неужели трудно сделать для меня такой пустяк?
Элскотт снова подхватил чемоданчик.
— Арчибальд Мак-Клостоу, я, как, впрочем, и вы, давал присягу, — сухо заметил он. — И если вы готовы грешить против совести, обманывая Корону, то я на это никогда не пойду. До свидания.
И, весьма гордый собой, врач покинул полицейский участок, оставив сержанта терзаться стыдом и тревогой.
Иможен приводила себя в порядок, когда ей вдруг показалось, что на первом этаже кто-то ходит. Шотландка прислушалась. Да, без сомнения, кто-то крадучись поднимается по лестнице. Иможен в панике оглянулась, ища оружие, но ничего подходящего так и не нашла. Сейчас она горько жалела, что оставила револьвер эдинбургской полиции. Делать нечего, надо хотя бы попытаться спрятать конверт, но не успела Иможен сунуть его в привычный тайник, как дверь открылась и вошла мисс Нэнкетт. От удивления мисс Мак-Картри застыла на месте.
— Нэнси!
— Оставьте этот конверт на столе, Иможен!
Пораженная шотландка только сейчас заметила, что в руках у гостьи — маленький блестящий револьвер и дуло его угрожающе смотрит в ее, Иможен, сторону.
— Нэнси! — повторила она.
— Отойдите, Иможен, иначе я выстрелю!
Мисс Мак-Картри попала в безвыходное положение. Пришлось уступить. Нэнси схватила пакет.
— Но как же так, Нэнси…
— Сейчас я вас прикончу, Иможен. Вы мне ответите за смерть Освальда!
— Не может быть, чтобы вы поверили лживым уверениям этого проходимца, Нэнси!
— «Проходимец», как вы его назвали, три года был моим мужем, а вы застрелили его!
— Вашим му…
Иможен совсем растерялась. Мысли отчаянно путались в лихорадочно горящем мозгу. Нэнси, Аллан, Линдсей, Росс…
— Вы… так вы обо всем знали?
— А для чего, по-вашему, я устроилась на работу в Адмиралтейство?
— Шпионка? Вы?
— И что с того? Каждый сражается за свою страну как может! Я ненавижу Англию и англичан! А кому бы пришло в голову, что робкая незаметная девушка передает на сторону все сведения, какие ей только удастся раздобыть… И вы, несчастная дура, еще воображали, будто оказываете мне покровительство! Вы сами разболтали о своей миссии, и мне оставалось только предупредить Освальда, а уж он сообщил друзьям… И только невероятное везение помогло вам выпутаться и уничтожить людей, которые были в сто раз достойнее вас! Это я, зная о вашей дурацкой сентиментальности, посоветовала товарищам сыграть на чувствах, а вы, жалкая идиотка, попались на крючок! Но теперь вам уже не удастся передать бумаги сэру Генри — они у меня, и никто больше их у меня не отнимет! Помолитесь, пока я не отправила вас следом за вашим любимым папочкой, грязная шотландка!
Иможен стерпела бы любые оскорбления в адрес Англии и англичан, но, как известно, она не допускала ни малейших непочтительных замечаний насчет Шотландии и своего отца. Услышав, что ее обозвали грязной шотландкой, мисс Мак-Картри уже не думала о смертельном риске и, как бык кидается на мулету тореро, ринулась отстаивать честь Мак-Грегоров и славу Шотландии. От удивления Нэнси не успела толком прицелиться и выстрелила наугад. Мисс Мак-Картри почувствовала, как ей обожгло плечо, но такая мелочь не могла остановить ее порыва. Шотландка с лету стукнула мисс Нэнкетт головой в живот, и та, не выдержав натиска, отлетела в другой конец комнаты. Вот тут-то сэр Вальтер Скотт, несомненно ожидавший подходящего момента принять участие в схватке, не преминул воспользоваться случаем. Нэнси ударилась о стену под полочкой, на которой, улыбаясь вечности, стоял бронзовый бюстик писателя, и, таким образом, духу сэра Вальтера оставалось лишь слегка шевельнуть пальцем — и его скульптурное изображение спикировало вниз, прямиком на голову мисс Нэнкетт. Последняя на время утратила интерес к происходящему.
Теперь, когда противница лежала без сознания, Иможен снова забрала у нее конверт и, благоговейно стерев с бюстика Скотта пятнавшую его капельку крови, с почтением водрузила на место. Но что делать с Нэнси? В память о прошлом мисс Мак-Картри очень не хотелось сдавать ее в полицию. В то же время она не могла позволить себе проволочку — стоит мисс Нэнкетт очухаться, и молодая женщина быстро возьмет верх над ней, Иможен, ибо, при всей ее жизненной энергии, годы все же брали свое. Может, лучше всего позвонить сэру Генри и спросить у него совета? Обдумывая положение, шотландка внезапно почувствовала боль в плече и увидела, что ее левая рука залита кровью. Иможен затошнило, и перед глазами появился легкий туман. Ей вдруг показалось, что стены качаются, пол куда-то едет, а сэр Вальтер Скотт вот-вот опять спрыгнет со своей полочки и отправится поболтать с висящим напротив портретом Роберта Брюса. Да и капитан индийской армии, похоже, намерен покинуть привычное место на комоде и присоединиться к двум остальным. Чтобы не упасть, шотландка схватилась за деревянную спинку кровати. Она хотела добраться до ванной, но тут с ужасом увидела, как дверь снова бесшумно открылась, а на пороге с револьвером в руке вырос Герберт Флутипол. Голову его, как всегда, украшала шляпа-котелок, а усы висели даже печальнее обычного. Это было больше, чем утомленные нервы мисс Мак-Картри могли выдержать, и, подобно кораблю, под градом пушечных ядер противника камнем идущему на дно, она без чувств медленно осела на пол.
Придя в себя, мисс Иможен Мак-Картри увидела склоненное над ней лицо доктора Элскотта и, покраснев от стыда, обнаружила, что лежит в постели. Врач улыбнулся.
— Ну, мисс, вы все же решили вернуться к нам?
Однако Иможен не хотелось поддерживать шутливый тон доктора. Поглядев туда, где лежала Нэнси, мисс Мак-Картри убедилась, что молодая женщина исчезла. Элскотт, проследив за направлением ее взгляда, заметил:
— Ваша подруга уехала.
— Уехала?
— Ну да, с двумя джентльменами. Одного зовут Арчибальд Мак-Клостоу, второго — Сэмюель Тайлер. Могу добавить, что оба весьма радовались ее обществу. Во всяком случае, судя по тому, как крепко они держали молодую особу за руки… А вам, мисс, в первую очередь нужен отдых. Рана — пустячная, просто царапина. Я ее перевязал, и через несколько дней вы обо всем забудете. Послать вам кого-нибудь?
— Нет, спасибо, доктор. Мне и так хорошо.
Как только Элскотт ушел, Иможен принялась искать конверт, не питая, впрочем, особых иллюзий. Теряя сознание, она видела зловещего валлийца, и это убивало всякую надежду. Мисс Мак-Картри провалила доверенную ей миссию… Побежденная обстоятельствами, Иможен уступила. Презирая себя, она набрала номер сэра Генри и сообщила, что больше ничего сделать не в силах, а потому возвращается в Лондон. Однако, к ее огромному удивлению, Уордлоу заявил, что знает о последних событиях, поблагодарил за мужество и обещал позвонить сэру Дэвиду Вулишу, чтобы поздравить его с удачным выбором агента и дать ей, Иможен, самую лестную характеристику. Кроме того, он просил мисс Мак-Картри не беспокоиться из-за Герберта Флутипола — его агенты не спускают с валлийца глаз, так что далеко ему не уйти. И сэр Генри закончил разговор пожеланием приятного путешествия и уверениями, что был счастлив познакомиться с мисс Мак-Картри.
Иможен приехала в Лондон поздно ночью и добралась до Паултон-стрит на такси. Закрыв за собой дверь, она, не раздеваясь, села в холле на стул. Таким образом шотландка надеялась побороть страшную усталость, словно огромный камень, пригибавшую ее к земле. Теперь, когда Иможен вернулась в привычную обстановку Челси, Каллендер казался ей очень далеким… Скорее всего, мисс Мак-Картри туда больше не вернется… Даром что в Каллендере остались папин дом и родные могилы на маленьком кладбище… Во всяком случае, Иможен понадобятся долгие годы, чтобы забыть и убитых ею мужчин, и Нэнси… Подумать только, что за все эти несчастья, смерти и жуткие воспоминания ее не вознаградил даже успех! Негодяй с тюленьими усами наверняка уже едет в какую-нибудь чужую страну с планами «Кэмпбелл-777» в кармане. Иможен не слишком поверила словам сэра Генри Уордлоу. Шотландка впала в такую депрессию, что стала подумывать, не подать ли Арчтафту просьбу об отставке. Уж очень страшно было возвращаться в машбюро. Безжалостные коллеги, конечно, обо всем знают и непременно постараются отомстить Иможен за прежнее высокомерие… Но пока следовало в первую очередь выспаться и набраться сил для завтрашних тяжких испытаний. Иможен встала и, собираясь наконец снять пальто и шляпу, включила свет. Только теперь она заметила, что под дверь подсунули телеграмму из Адмиралтейства. Сэр Дэвид Вулиш просил мисс Мак-Картри зайти к нему до работы.
Утром Иможен лишь с огромным трудом впихнула в себя немного порриджа. Такое отсутствие аппетита свидетельствовало о полной растерянности. Что она скажет сэру Дэвиду? Как объяснит свой провал? Но даже больше, чем самого сурового порицания, мисс Мак-Картри боялась жалости. От одной мысли о таком унижении лицо у нее горело огнем. Бедняга Иможен снова чувствовала себя как в детстве, когда после какой-нибудь глупой шалости просила у отца прощения в надежде избежать заслуженной порки… Уходя, мисс Мак-Картри взяла в руки фотографию отца.
— Простите меня, папа, — прерывающимся голосом пробормотала она, — я опозорила нашу семью…
А в Адмиралтействе ее ожидал еще больший удар. Войдя в кабинет сэра Дэвида, она увидела, что в кресле рядом с Большим Боссом сидит начальник ее отдела, как всегда, элегантный и подтянутый Джон Масберри. Дэвид Вулиш сердечно поздоровался с Иможен и предложил сесть напротив. Не обращая внимания на правила дисциплины, мисс Мак-Картри решилась сжечь все мосты и заговорить первой:
— Простите меня, сэр… Мне не удалось выполнить ваше поручение… Я не смогла передать документы сэру Генри Уордлоу… У меня… их… украли… Я… прошу отставки… Я… я оказалась ни на что не способной… вот и все…
Услышав, как, заканчивая это признание, мисс Мак-Картри тихонько всхлипнула, Джон Масберри презрительно рассмеялся.
— Нашли время скулить! Сэр Дэвид, позвольте мне заметить, что, если бы вы сделали мне честь и послушали моего совета, я бы непременно отговорил вас от мысли доверить планы «Бэ-сто двадцать восемь» этой тщеславной шотландке! Иного от нее и ждать не следовало! Мисс Мак-Картри, надо думать, воображает себя воплощением покойной Марии Стюарт! Жаль только, что из-за ее дурацкой гордыни урон понесли мы! И, с вашего позволения, сэр Дэвид, я бы с удовольствием принял ее прошение об отставке…
Иможен молчала, опустив голову. Да и что она могла бы возразить? Шотландка лишь дрожала от ярости и думала, с каким удовольствием она бы сейчас схватила со стола Большого Босса тяжелую стальную линейку и стукнула по голове этого Масберри! Ведь он просто мстит ей, да еще так подло… Сэр Дэвид отозвался не сразу. Он спокойно закурил и откинулся в кресле.
— Хоть я и англичанин, но всегда восхищался шотландцами, — наконец проговорил он. — А теперь я думаю, что и шотландки вполне достойны преклонения, особенно когда у них огненные волосы…
Удивленно вскинув голову, Иможен увидела, что сэр Дэвид смотрит на нее с улыбкой. Значит, Большой Босс не сердится! И мисс Мак-Картри, сама не зная толком почему, вдруг снова обрела надежду. Зато Масберри, на секунду растерявшись, опять пошел в наступление:
— Но, сэр Дэвид, после ее провала…
— Ни о каком провале не может быть и речи, мистер Масберри… Благодаря мисс Мак-Картри уничтожена целая шпионская сесть, и мы знаем, кто из наших сотрудников был предателем… Нэнси Нэнкетт, точнее, Мэри Фертрайт. Позвольте заметить вам, мистер Масберри, что в этом деле вы допустили очень серьезную небрежность…
— Не мог же я предположить, что у этой девицы хватит нахальства…
— А шпионаж как раз и требует изрядной доли этого качества, и не мне вам об этом напоминать, дорогой мой.
— А кстати, сэр Дэвид, вы вполне уверены, что Нэнси — предательница? Стоит ли верить на слово мисс Мак-Картри? Она, как известно, может выдумать что угодно!
Иможен вскочила:
— Как вы смеете так говорить? Мне пришлось хорошенько стукнуть ее по голове, чтобы вернуть бумаги!
— Вот как? Но если вы забрали документы, где они теперь?
— У меня их украли!
— Кто ж это?
— Герберт Флутипол!
— Мы в курсе и прекрасно знаем Флутипола, — вмешался сэр Дэвид.
— Вы его арестуете?
— Это уже сделано, мисс Мак-Картри.
— А… а документы?
— Вот они.
Сэр Дэвид открыл ящик стола и, достав знаменитый конверт, бросил его на стол.
— Мисс Мак-Картри, мне придется извиниться перед вами…
— О! Передо мной?
— Да, мы вели с вами не слишком честную игру, но не могли поступить иначе, не загубив всю операцию…
— Я… я не понимаю, сэр…
— Мисс Мак-Картри, мы заметили, что уже около года в Управлении идет утечка информации… После тщательного расследования выяснилось, что противник сумел заслать своего агента в одно из наших бюро… Я решил расставить ловушку, а потому, к величайшему возмущению мистера Джона Масберри, поручил вам, мисс, передать сэру Генри Уордлоу якобы очень важные документы. Я знал, что вы, с вашим пылким, неукротимым характером, — прямая противоположность тайному агенту, а потому догадывался, что коллеги очень скоро узнают о вашей миссии и тот или та, кого я ищу, непременно попытается украсть бумаги. На самом деле вам передали поддельные чертежи, и их исчезновение никому бы не повредило. Поэтому-то я и вынужден просить у вас прощения, мисс Мак-Картри: вы рисковали жизнью из-за ничего не стоящих бумажек.
Иможен вспомнила все перенесенные испытания.
— Если бы я только знала… — невольно вырвалось у нее.
— Вот именно, мисс, вы ни в коем случае не должны были знать правду! Нас ведь интересовали не документы, а те, кто попытался бы их стащить! Наши секретные службы прекрасно знали людей, которые представились вам как Эндрю Линдсей, Гован Росс и Аллан Каннингэм. Мы видели, как они вошли в ваш вагон, и могли бы арестовать сразу по приезде в Каллендер, но, как я уже сказал, важнее всего было выяснить имя того или той, кто их предупредил. Мы тут же поняли, что это кто-то из близких вам людей, следовательно, из машбюро, и, когда Нэнси Нэнкетт приехала в Каллендер, сочли, что обнаружили наконец недостающее звено, а ее бегство с Фертрайтом окончательно подтвердило подозрения. Сэр Генри нарочно уехал — мы не могли допустить, чтобы вы передали ему документы, пока преступник не попался с поличным. Вы играли роль подсадной утки с таким хладнокровием и мужеством, мисс Мак-Картри, что привели и сэра Генри, и меня в полное восхищение. Я поздравляю и благодарю вас от имени Короны.
Джон Масберри с явным неудовольствием присоединился к поздравлениям начальства.
А сэр Дэвид меж тем продолжал:
— Только учитывая строго секретный характер миссии, я не могу, и вы, надеюсь, это поймете, представить вам официальное доказательство того, как высоко Ее Величество оценила ваши заслуги…
Иможен, полузакрыв глаза, наслаждалась триумфом. На мгновение ей пришла в голову мысль, что, возможно, следовало бы встать и во всю силу легких исполнить шотландский гимн, но, решив, что это не слишком соответствовало бы секретности, о которой только что упомянул сэр Дэвид, она воздержалась от бурных проявлений восторга. Впрочем, не без сожалений…
— Тем не менее, мисс Мак-Картри, я считаю необходимым вознаградить вас за столь поразительные решимость, энергию и отвагу, а потому с сегодняшнего дня вы будете возглавлять бюро вместо мистера Арчтафта.
Иможен так растрогалась, что не могла произнести ни слова. Зато Масберри отреагировал очень болезненно:
— Сэр, неужели вы хотите лишить меня мистера Арчтафта, такого великолепного администратора? Но его присутствие просто необходимо для нормальной работы отдела!
— Напрасные опасения! Арчтафт там и останется, поскольку я решил назначить его на ваше место.
— На мое место? А как же я?
— А с вами дело обстоит намного неприятнее… Боюсь, вам придется сесть в тюрьму, Масберри.
Тот вскочил:
— Что вы сказали?
— Разве что вы сумеете немедленно представить убедительные объяснения кое-каких весьма странных фактов, — невозмутимо продолжал сэр Дэвид. — Например, почему вы приняли на работу Нэнси Нэнкетт без необходимой проверки, каким чудом за последние пятнадцать месяцев так резко увеличился ваш счет в банке, и, наконец, откуда вы знали, что в пакете, переданном мисс Мак-Картри, планы «Бэ-сто двадцать восемь», а не «Кэмпбелла-семьсот семьдесят семь», как думала она сама и все остальные… Серьезная ошибка, Масберри, и я очень опасаюсь, как бы она не привела вас на эшафот…
Иможен казалось, что все это страшный сон. Выходит, Джон Масберри работает на врага?! А тот выхватил из кармана револьвер.
— Ладно, сэр Дэвид, вы меня раскусили… Но я вовсе не хочу попасть на виселицу, так что уж извините. Я буду стрелять в каждого, кто попытается встать поперек дороги, а потому, если хотите избежать кровопролития, не мешайте мне удрать отсюда!
— Бегство вас не спасет, Масберри!
— Это уж мое дело! Дайте мне слово, что в ближайшие десять минут не поднимете тревогу.
Вулиш пожал плечами:
— Мы поймаем вас раньше, чем вы покинете пределы Лондона. А слово я вам даю.
Столь неожиданная уступчивость Большого Босса возмутила Иможен. На его месте шотландка скорее рискнула бы жизнью, чем позволила мерзавцу сбежать. Шпион, не сводя глаз с сэра Дэвида и по-прежнему держа его на мушке, попытался быстро отступить к двери, но мисс Мак-Картри, которую он имел глупость упустить из виду, в мгновение ока подставила подножку. Масберри споткнулся и сел на пол. Иможен не дала ему опомниться — схватив со стола сэра Вулиша тяжелую линейку, она с огромным удовольствием стукнула бывшего шефа по голове. Тот без чувств растянулся на ковре. Сэр Дэвид смеялся до слез.
— Мисс Мак-Картри, вы просто великолепны!
— Я не хотела, чтобы он сбежал!
— Не беспокойтесь, у Масберри не было ни единого шанса. Оглянитесь!
Иможен повернула голову и чуть не взвыла от ужаса: на пороге с револьвером в руке стоял Герберт Флутипол. Шотландка ткнула пальцем в его сторону.
— Ва-ва-валлиец! — заикаясь крикнула она. — Арестуйте его! На-на помощь!
Сэр Дэвид поднялся на ноги и, опасаясь, что шотландка набросится на старого врага, встал между ними.
— Мисс Мак-Картри, позвольте представить вам старшего инспектора Дугласа Скиннера из Скотленд-Ярда. Ему было поручено охранять вас во время путешествия в Шотландию.
Полицейский поклонился Иможен:
— Как поживаете, мисс Мак-Картри?
Но Иможен уже не знала толком, как она поживает, — уж слишком быстро, на ее вкус, чередовались события…
— Мы избрали старшего инспектора Скиннера, — с напускным равнодушием продолжал сэр Дэвид, — во-первых, поскольку это первоклассный полицейский, а во-вторых… потому что он шотландец!
Скиннер улыбнулся.
— Из Дорноха, в Горной Шотландии, — уточнил он.
Когда мисс Мак-Картри переступила порог машбюро, все коллеги встали и дружно приветствовали ее громким пением «Its a very jolly good felloy!»[65]. Иможен разрыдалась. Дженис Левис обняла ее, а Арчтафт поздравил от всего машбюро. Мисс Мак-Картри улыбнулась сквозь слезы и, сделав вид, будто сердится, крикнула:
— Только не пытайтесь меня растрогать, вы все! Вы еще увидите, чем шотландка отличается от валлийца и как я умею заставить англичанок вкалывать!
Дженис Левис изобразила крайний испуг.
— Не сердитесь, Иможен! — шутливо взмолилась она.
В тот день в машбюро мисс Мак-Картри никому не пришлось слишком много работать.
Вечером того памятного дня, принесшего Иможен величайший триумф, а ее врагам — жестокое поражение, мисс Мак-Картри вернулась домой слегка опьяненная собственной славой. Даже не сняв пальто и шляпку, она бросилась к фотографии отца.
— Папа, надеюсь, теперь вы гордитесь своей дочерью?
Потом она заговорщицки подмигнула Роберту Брюсу — теперь они были на равной ноге. Надевая халат, Иможен поставила на проигрыватель пластинку с записью выступления волынщиков Шотландской гвардии — единственную музыку, которая в настоящий момент соответствовала ее душевному настрою. Из-за пронзительных звуков волынки мисс Мак-Картри не сразу расслышала, что в дверь стучат. Она пошла открывать. На пороге стоял смущенный Дуглас Скиннер со шляпой-котелком в руке. Иможен не могла сразу забыть, что все эти невыносимо тяжелые дни считала его своим злейшим врагом, а потому встретила инспектора не слишком ласково.
— Мистер Скиннер?
Такой холодный прием, казалось, совсем расстроил полицейского, и он еще больше смутился.
— Прошу вас, позвольте мне войти, если я вам не очень мешаю…
Не нарушив приличий, мисс Мак-Картри не могла отклонить столь вежливую просьбу, и ей пришлось уступить.
— Прошу вас…
Она проводила Скиннера в гостиную.
— Садитесь…
Инспектор опустился в кресло.
— Мисс Мак-Картри, я пришел просить у вас прощения за то, что не представился сразу, но я получил строгий приказ и не мог его нарушить…
— Разумеется.
— А еще я хочу сказать, как меня восхищало ваше мужество во всех этих трудных испытаниях…
Иможен оттаяла.
— Не стоит преувеличивать, мистер Скиннер…
— Но я говорю чистую правду! По долгу службы мне пришлось наблюдать за работой очень многих людей, но я еще ни разу не встречал такой удивительной женщины, как вы, мисс Мак-Картри… И, если позволите, я бы даже сказал, что только истинная дочь гор способна проявить подобное присутствие духа!
Иможен подумала, что при ближайшем рассмотрении Скиннер гораздо симпатичнее, чем на первый взгляд. Сколько детской кротости в его голубых глазах… А что до усов, то человек, мнением которого он дорожит, всегда сумеет уговорить инспектора от них избавиться…
— Хотите чашечку чаю, мистер Скиннер?
Предложение, судя по всему, вознесло полицейского на седьмое небо, и мисс Мак-Картри решила, что ему очень немного нужно для счастья.
Они пили чай с печеньем и обсуждали трагические часы, пережитые обоими в Каллендере. Скиннер объяснил Иможен, что, в сущности, ни на минуту не сводил с нее глаз, чтобы в нужный момент прийти на помощь. Он признался, что очень грустил, когда мисс Мак-Картри решила, что это он ударил ее по голове, хотя на самом деле, после того как тело Линдсея исчезло в озере, на нее напал Росс. Потом полицейский поведал, как он расстроился, когда Аллан стал нарываться на ссору, и с каким удовольствием грохнул его об пол…
— С удовольствием, мистер Скиннер?
— Конечно! Ведь я думал, что вы его любите!
В неожиданно наступившей
тишине Иможен обдумывала смысл этого невольного признания, а Дуглас молчал, понимая, что выдал себя с головой. Мисс Мак-Картри попыталась все свести к шутке:
— Гм… послушать вас, мистер Скиннер… еще вообразишь… буд… будто вы… ревновали, а?
— Но я и в самом деле ревновал, мисс!
Эти слова так потрясли Иможен, что ей пришлось глотнуть чая. Почти пятьдесят лет мужчины, в сущности, не интересовались ею, и вдруг на закате дней мисс Мак-Картри то и дело выслушивает любовные признания! Правда, любовь первых трех воздыхателей на поверку оказалась ложью и надувательством, но, быть может, на сей раз…
— Мисс Мак-Картри, не сочтите меня слишком назойливым, но, честно говоря, я уже не первый год работаю в основном с Управлением сэра Дэвида и давным-давно вас заметил. Я очень хотел познакомиться с вами, но не решался ни подойти, ни попросить кого-нибудь представить меня… Именно из за своей нерешительности я в конце концов совершил поступок, который до сих пор камнем лежит у меня на совести, и хотел бы получить прощение…
— Поступок? По отношению ко мне? — удивилась Иможен.
— Да… письмо, которое я положил вам в сумочку, пока вы спали…
— Что? Так это вы…
— Д-да…
Мисс Мак-Картри не знала, смеяться ей или плакать. Подумать только, какой ужас внушал ей этот робкий воздыхатель, псевдо-Герберт Флутипол!
— Вы… вы очень сердитесь на меня?
— Да нет, нисколько, даже наоборот… В моем возрасте только лестно получить такое милое письмо… Мне ведь скоро пятьдесят, Дуглас…
Старший инспектор покраснел и тем окончательно растрогал мисс Мак-Картри.
— А мне через месяц стукнет пятьдесят три, Иможен…
И снова наступило молчание. Они понимали, что сейчас решается их судьба.
— Вы когда-нибудь думали о замужестве, Иможен?
Шотландка не посмела признаться, что сама-то она думала, да желающих что-то не находилось.
— Я ни разу не встретила человека, которому могла бы полностью доверять…
— А как вы думаете… на меня вы могли бы положиться?
Наслаждаясь смятением Скиннера, Иможен ответила не сразу, а потом протянула руку:
— Да, кажется, могу, Дуглас.
Два часа спустя они уже обо всем договорились и знали друг о друге почти все. Решили, что венчание состоится в Каллендере во время очередного отпуска Иможен. Просто, чтобы позлить бакалейщицу миссис Мак-Грю! А на свадьбу они пригласят Арчибальда Мак-Клостоу, Сэмюеля Тайлера, Теда Булита и его жену.
Мисс Мак-Картри заявила, что не может в день свадьбы надеть белое платье, хотя, как она подчеркнула, стыдливо опустив глаза, имеет на это полное право. Но она должна всегда носить цвета своего клана, родственного Мак-Грегорам. Дуглас выразил полное одобрение, сказав, что тоже наденет галстук с тартаном[66] своего собственного, связанного с Мак-Леодами. Иможен взвилась как ужаленная.
— Что вы сказали?
Совершенно сбитый с толку Скиннер не понимал, с чего она вдруг разозлилась.
— Но… только то, что собираюсь надеть галстук… цветов…
— Тартан Мак-Леодов! Никогда, слышите, никогда праправнучка Мак-Грегоров не свяжет свою судьбу с Мак-Леодами! Вы можете вернуться в Скотленд-Ярд и оставить меня в покое!
— Послушайте, Иможен, неужели вы готовы разрушить наше счастье из-за каких-то старых счетов? Надо ведь когда-нибудь положить конец древней вражде! Разве мы с вами виноваты, если наши предки повздорили несколько веков назад?
В глубине души мисс Мак-Картри понимала, что он совершенно прав, но не любила признавать свои ошибки.
— Прошу вас, Иможен, не сердитесь!
Шотландка улыбнулась, очень довольная тем, что Скиннер сумел найти столь приятный для ее самолюбия выход, и снова села.
— Обещаю вам больше никогда не сердиться, Дуглас… — нежно заверила Иможен.
Она лгала.
ОВЕРНСКИЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ

I
Всякий раз как он пытался поцеловать ее в губы, женщина ловко отстранялась, а комнату наполнял вызывающе насмешливый хохот. Франсуа не понимал поведения Сони, тем более что она лежала почти голая в его постели. Может, ей доставляло удовольствие унижать его? Однако Соня достаточно умна и не может не понимать, что, достигнув наконец предела своих страстных желаний, Франсуа не отступит. Уж лучше убьет и ее и себя! Надеясь сломить сопротивление, он навалился на нее всем телом, но тут же скатился с кровати и… проснулся. Франсуа Лепито, двадцатичетырехлетнему клерку мэтра Альбера Парнака — самого почитаемого нотариуса в Орийаке, как всегда, снилось, что он спит с женой хозяина.
Три года назад мэтр Альбер Парнак после семилетнего вдовства привел в дом новую жену. До этого хозяйство вела его дочь, Мишель, очаровательная блондиночка, еще не достигшая двадцати лет. Темноволосая Соня, которую нотариус привез из Бордо, была на редкость красивой женщиной. Она уже перешагнула тридцатилетний рубеж и, по слухам, до того дня, как поймала в сети весьма состоятельного законника, вела довольно бурную жизнь. Мишель очень мило встретила мачеху, несмотря на то что великолепие Сони несколько заслоняло ее собственный блеск. Один мсье Дезире, старший брат мэтра Парнака, невзлюбил невестку. Он считал ее вульгарной и терпеть не мог ее претензий на утонченную изысканность. Благодаря браку с дочерью владельца мукомольного завода из Клермон-Феррана, у которой хватило тактичности пораньше умереть, оставив мужу прекрасные воспоминания и внушительный счет в банке, мсье Дезире слыл самым богатым человеком в семье. Что же до Франсуа Лепито, то он был сиротой. Ценой многих лишений он добился возможности заниматься юриспруденцией и вот уже три года, работая в конторе мэтpa Парнака, готовил диплом. В Соню Франсуа влюбился, как говорится, с первого взгляда. Молодую женщину эта юношеская страсть очень забавляла, и она не без налета довольно-таки порочного кокетства поощряла поклонника. Кроме того, Соня догадывалась, что ее падчерица, Мишель, питает к Франсуа нежные чувства, и ей нравилось без всякой борьбы торжествовать над более молодой соперницей.
Привычный к одиночеству, Франсуа населил свою комнатку на улице Пастер пленительными мечтами. Как человек, купивший билет национальной лотереи, порой начинает уповать на будущее, полное великолепия, так и Франсуа грезил о том, что в один прекрасный вечер он похитит Соню Парнак и они уедут наслаждаться возвышенной и бессмертной любовью на какой-нибудь остров греческого архипелага. Грецию Франсуа избрал потому, что она казалась ему менее всего похожей на Орийак. Никто, и в первую очередь сам Лепито, не мог бы сказать, действительно ли он надеется осуществить свою мечту, но все говорило о том, что достаточно лишь малейшего поощрения, чтобы нежная страсть переродилась в настоящее исступление.
Как и у многих одиноких людей, у Франсуа появилась скверная привычка разговаривать с самим собой. Ясно, что все его речи были обращены к Соне, словно она была безмолвной, но готовой согласиться с любым его утверждением супругой. В ответ на столь глубокую привязанность Франсуа считал своим долгом поверять ей все свои заботы. Об этой его мании знал лишь один человек — Софи Шерминьяк, пятидесятилетняя овернская вдова, могучая, словно из камня вытесанная, женщина, не лишенная своеобразного величия и чем-то напоминавшая вулканы своей родины. Порой кажется, что такой вулкан угас окончательно и бесповоротно, на самом же деле незатухающий огонь в его недрах только и ждет подходящего момента, чтобы вырваться наружу. Софи была одновременно и владелицей и консьержкой дома на улице Пастер, куда допускались лишь самые благовоспитанные жильцы.
Мадам Шерминьяк любила подглядывать в замочную скважину и подслушивать у дверей холостяков, которым она преимущественно и сдавала меблированные комнаты, правда с условием никогда не принимать у себя гостей противоположного пола. Можно представить, как было подогрето и без того неуемное любопытство Софи, когда она услышала страстные тирады Франсуа. Сначала сердце домовладелицы пронзило ужасное подозрение, что молодой Лепито, несмотря на категорический запрет, прячет у себя какую-то «особу». С решительностью прокурора почтенная матрона почти без стука толкнула дверь в комнату и, к своему величайшему изумлению, никого там, кроме молодого человека, не обнаружила. Операция была проделана мадам еще несколько раз, пока наконец с облегчением она не уразумела, что ее подопечный беседует сам с собой.
Что бы там ни думали все те, кто принимает овернцев за грубых ограниченных материалистов, озабоченных лишь пополнением денежного мешка, — на самом деле это люди с богатым воображением, страстные и увлекающиеся. Будучи настоящей уроженкой Оверни, Софи Шерминьяк без труда внушила себе, что это к ней Франсуа Лепито пылает тайной страстью, что он обожает ее точно так же, как в стародавние времена паж мог обожать хозяйку замка — и только разница в возрасте мешает ему открыться.
Эта разница в возрасте, которая, как ей думалось, пугает Франсуа, саму Софи ничуть не беспокоила. Она чувствовала себя еще достаточно молодой и вполне способной сделать мужчину счастливым. И вовсе не обязательно для этого, считала вдова, заставлять его предварительно пройти через мэрию или церковь. Опьяненная мыслью о предполагаемых ранах, нанесенных ею сердцу Франсуа, мадам Шерминьяк удвоила внимание к постояльцу, надеясь, что в один прекрасный день или лучше вечер клерк позволит себе какой-нибудь жест, который освободит их обоих от излишней робости. Обоих, поскольку Софи, при всей широте ее взглядов, получила от папы-фармацевта слишком строгое воспитание, чтобы отважиться на первый шаг. Что до Франсуа, то, ни сном ни духом не догадываясь о нежных чувствах Софи Шерминьяк, он простодушно радовался, что у него такая заботливая домовладелица.
Отчасти из благодарности, а отчасти потому, что этого требовали элементарные правила вежливости, уходя утром из дому, Франсуа никогда не проходил мимо мадам Шерминьяк, не сказав ей несколько любезных слов. Это случалось каждое утро, ибо, по правде говоря, Софи ежедневно поджидала своего жильца и, разумеется совершенно случайно, оказывалась у него на дороге.
— Здравствуйте, мадам Шерминьяк, — поздоровался Франсуа в то знаменательное утро. — Надеюсь, вы хорошо провели ночь?
— Прекрасно, мсье Лепито, благодарю вас. И это несмотря на то, что имела глупость приготовить на ужин потроха. Нам, одиноким женщинам, приходится искать утешения в гастрономических причудах… одиночество порой так тягостно…
Подобные замечания обычно сопровождались весьма выразительными вздохами.
— А как вы, мсье Лепито? Хорошо отдохнули?
— Так себе… я очень неспокойно спал… представляете, даже свалился с кровати.
— В вашем возрасте, да еще когда вы влюблены… — заметила Софи голосом, в котором звучало обещание безграничных наслаждений.
— О мадам, не воображайте, пожалуйста, будто…
Она заговорщицки подмигнула.
— Шило в мешке не утаишь… В ваши годы, мсье Лепито, мужчины воображают, будто женщины — бесчувственные или слепые создания… и что разница в положении, а тем более в возрасте — непреодолимое препятствие… Какая глупость! Каждой женщине приятно и лестно чувствовать себя любимой… так что наберитесь мужества, мсье, и смело бросайтесь в бой!
— Вы… вы действительно думаете, что…
— Если вы не просите, то как же вам могут предложить… — В ее голосе послышались более чем многообещающие интонации. — Как же вам осмелятся предложить то, чем, несомненно, мечтают одарить вас?
Посмотрев вслед озадаченному постояльцу, мадам Шерминьяк вернулась в свою квартиру на первом этаже, уверенная, будто сильно продвинулась в осуществлении своих греховных замыслов. Вся в предвкушении грядущих страстных объятий, она отдалась потоку своего воображения…
Выйдя на улицу, Франсуа стал размышлять о том, каким образом мадам Шерминьяк пронюхала о его нежной страсти к Соне. Никогда он не говорил ей об этом, да и Соня никогда не была у него в гостях… Откуда же тогда? Однако намеки на разницу в положении и особенно в возрасте несомненно означают, что домовладелица обо всем знает…
Нисколько не догадываясь о смятении, которое он внес в сердце почтенной дамы, Франсуа окольным путем — как всегда, в последнее время — направился в контору мэтра Парнака. Контора находилась слишком близко от дома, и молодому человеку пришлось изобретать довольно фантастический маршрут, чтобы прогуляться, а главное — помечтать о Соне. С улицы Пастер он шел на бульвар Монтион, потом от площади Жербер — к площади Рузвельта и, наконец, по улице Фрэр добирался до авеню Гамбетта. Там в тенистом саду стоял особняк мэтра Парнака, часть которого занимала процветающая нотариальная контора. Сегодня прогулка особенно затянулась — услышав от мадам Шерминьяк, что возраст не помеха, Франсуа явно был на седьмом небе от счастья. Гуляя, он разглядывал витрины, особенно охотно останавливаясь у тех, где выставляли подарки, платья и манто. Возле первых молодой человек выбирал, что бы он подарил Соне, будь у него достаточно средств, а возле вторых пытался представить себе, пойдет ли то или иное платье или нет. Словом, забот у молодого влюбленного было предостаточно.
Еще ни разу Франсуа не удалось открыть решетку ограды, окружавшей владения мэтра Парнака, не испытав сильнейшего сердцебиения — ведь здесь же обитала его Возлюбленная! Стараясь идти как можно медленнее, но так, чтобы это не было слишком экстравагантным, Франсуа двигался по главной аллее, естественно пренебрегая более короткой тропинкой, ведущей в офис и к отдельному павильону, обиталищу «Мсье Старшего» — Дезире Парнака, который занимался финансовыми делами конторы. Наконец Лепито добрался до дому, поднялся на три ступеньки крыльца и вошел в офис, занимавший правое крыло особняка. Толкнув дверь, Франсуа тут же покинул область грез и оказался в самой суровой действительности. Молодой клерк всегда приходил последним, но это не значит, что он постоянно опаздывал. Просто другие — кто по привычке, а кто от избытка рвения — являлись раньше времени.
Такое рвение, например, круглый год с утра до вечера демонстрировал старший клерк, Антуан Ремуйе. Сорокалетний холостяк, он мечтал когда-нибудь стать нотариусом в одном из крупных городов Оверни, а для этого нуждался в моральной и финансовой поддержке мэтра Парнака, чьей правой рукой он себя считал. Добродушный толстяк, скорее трудолюбивый, чем умный, Антуан пользовался в приличном обществе Орийака репутацией человека серьезного и положительного, а потому многие матушки, обремененные дочками на выданье, считали его неплохим кандидатом в зятья. Благодаря этим тайным умыслам Ремуйе получал множество приглашений на семейные обеды и, надо отдать ему должное, никогда не отказывался — таким образом он увеличивал сбережения и копил жирок. Старший клерк отличался жизнерадостным нравом, любил довольно-таки соленые шутки, вкус к которым унаследовал от предков-крестьян, и в различных обществах, где обычно исполнял роль казначея, слыл весельчаком.
Роже Вермелю и Мадлен Мулезан было уже не до рвения, оба действовали по привычке. Проработав в конторе по сорок лет (они начинали еще у Парнака-отца, воспоминания о котором почтительно хранили до сих пор), ни тот, ни другая не мечтали ни о чем ином, кроме как попозже уйти в отставку, а потому приходили первыми и уходили последними, чтобы доказать свою незаменимость. Невысокий худенький Роже Вермель, по обычаю прежних времен, которым он оставался верен — ведь надо же быть чему-то верным до конца, — всегда работал в черной шапочке, и все недоумевали, каким образом ему удалось раздобыть сей анахронизм. Мадлен Мулезан, серенькая, бесцветная, словно из тумана сотканная старушка, была тремя годами моложе Вермеля и утверждала, будто ей шестьдесят два. Ничто в ней не привлекало взгляд, как если бы она была не живым человеком, а просто тенью. Если Вермель любил поворчать, то мадемуазель Мулезан воплощала безграничную любезность. Еще ни разу на своей памяти она никому не отказала в услуге, и коллеги, естественно, частенько этим злоупотребляли.
В эту несколько склерозированную среду молодость Франсуа вносила свежую, жизнетворную струю. Только Вермелю это немного действовало на нервы, но настроения мсье Вермеля решительно никогда не волновали. Короче, весь этот благообразный мирок жил в тишине и добром согласии. Иногда, правда, мсье Антуан вносил некоторое возмущение, рассказывая о своих победах, но мадемуазель Мулезан делала вид, будто она ничего не слышит. Роже Вермель изредка поверял своей ровеснице тайные сведения о случайно обнаруженной бакалейной или мясной лавке, где можно купить еду подешевле, а та в благодарность делилась с ним рецептом, как использовать с толком остатки курицы или кролика. Таким образом, здесь царила атмосфера тусклой, но честной посредственности.
Если за делами, порученными двум старожилам, первый клерк и не думал следить, зная, что они сами разберутся гораздо лучше него, то в отношении Франсуа он выполнял свой долг в полной мере. Не без тайной мысли он видел в молодом человеке своего будущего преемника. Если ему доведется открыть собственное дело, думал Ремуйе, то он сумеет оставить достойную замену, а это побудит мэтра Парнака поблагодарить его гораздо теплее и… ощутимее.
— Послушайте, Франсуа, вчера вечером, уходя отсюда, я положил на ваш стол досье дела «Мура-Пижон». Изучите его внимательно и составьте для патрона краткую выжимку.
— Ладно, сейчас примусь.
И Франсуа тотчас погрузился в одну из тех бесконечных тяжб, когда наследники никак не могут договориться и дело затягивается, причем каждое судебное разбирательство порождает лишь новые жалобы. Добравшись до пятой страницы, Лепито тихонько чертыхнулся. Услышав приглушенное ругательство, мадемуазель Мулезан возмущенно охнула, а Вермель пробормотал, что молодое поколение привносит в нотариальные нравы довольно странные новшества. Антуан Ремуйе лишь с любопытством взглянул на молодого клерка, сидевшего на другом конце стола, напротив него. Франсуа, похоже устыдившись того, что нарушил атмосферу всеобщего прилежания, покраснел и как будто бы вновь погрузился в изучение досье. На самом же деле его чрезвычайно занимал вопрос, у кого это хватило наглости сунуть в дело «Мура-Пижон» фотографию, увидев которую он утратил самообладание. Поразмышляв, он решил, что это могла сделать лишь та особа, чье личико улыбалось ему с фотокарточки, а именно Мишель Парнак, единственная дочь нотариуса.
Вот уже больше года юная Мишель усердно осаждала Франсуа Лепито. Она любила его так, как любят в двадцать лет, то есть безоглядно. Ей и в голову не могли прийти соображения о тех материальных осложнениях, которыми чревата ее нежная страсть, девушка грезила лишь о том дне, когда выйдет из храма Нотр-Дам-о-Неж в белом подвенечном платье под руку со своим мужем — Франсуа Лепито. Разумеется, она не открыла этих намерений никому, кроме своего героя. Тот же изрядно приуныл, поскольку не испытывал к Мишель ничего, кроме братской симпатии, и не без оснований опасался с ее стороны какой-нибудь нескромности или, хуже того, весьма несвоевременных открытий. Да и нежность Мишель была на его вкус слишком навязчива.
— Что-нибудь не так, Франсуа? — осведомился Антуан Ремуйе.
— Нет-нет, пустяки, просто нервы…
Мадемуазель Мулезан не могла упустить такой удачный случай и тут же посоветовала превосходную микстуру от нервов, которая — уж она-то точно знала — очень помогает молодым людям. Вермель хмыкнул и сказал, что, по его мнению, их коллега нуждается не в микстурах, а кое в чем другом. Мадемуазель Мулезан искренне удивилась.
— Что же ему тогда, по-вашему, нужно?
— Напомните мне, и я объясню вам на досуге.
Обожавший такие шутки, Ремуйе рассмеялся, а вконец смущенный Франсуа не поднимал головы от досье.
Мэтр Парнак, войдя в контору вместе с братом, испытал, как всегда, величайшее удовлетворение — служащие не отлынивали от работы и он имел все основания полагаться на их трудолюбие. Нотариус каждому сказал несколько любезных слов и остановился около старшего клерка расспросить о срочных делах. Если Альбер Парнак, казалось, всеми порами излучает добродушие, то суровый мсье Дезире являл собой полную противоположность брату. Впрочем, в них вообще не было ни малейшего сходства. Маленький и кругленький Альбер с его вечно улыбающимся лицом и большой лысиной, обожавший поговорить — чаще всего просто так, из любви к искусству, — был чувствителен и сентиментален. Ничего не стоило тронуть его до слез или вырвать из него какое-нибудь обещание, а приступы величайшего воодушевления быстро сменялись столь же глубоким отчаянием. «Паяц, — говорил о нем брат, — паяц, пляшущий под Сонину дудку». Клерки любили нотариуса, хотя и не особенно принимали его всерьез. По общему мнению, контора недолго бы продержалась без надроза мсье Дезире.
Мсье Дезире, человек на редкость серьезный, считал смех почти что непристойностью. Злые языки утверждали, будто супруга Парнака-старшего тут же скончалась, как только поняла, что ее муж не изменится никогда. Для мсье Дезире любая слабость граничила с преступлением, а ошибка была просто предательством. Длинный, худой и желчный, с тщательно прилизанными редкими волосами, он никогда и ничему не радовался и даже в блестяще выполненной работе умудрялся найти предлог для язвительных замечаний. Не будь у Дезире столько денег, которые рано или поздно должны были перейти к нотариусу или его дочери, Альбер давно расстался бы с братом, ведь, по правде говоря, с годами он делался совершенно невыносимым.
После того как старший клерк упомянул, что дело «Мура-Пижон» передано для изучения Франсуа Лепито, нотариус с улыбкой подошел к молодому человеку.
— Придется вам поднапрячься, юноша. Все эти наследники, устав от грызни, теперь-то уж не замедлят согласиться на наши предложения.
— Досье будет скоро готово, мэтр.
— Прошу вас… э-э-э… отнеситесь к делу повнимательнее, — и, немного поколебавшись и слегка понизив голос, нотариус добавил: — Я говорю это потому, Франсуа, что в последнее время, мне кажется, вы немного рассеянны… Я, конечно, понимаю — на дворе весна, а в вашем возрасте в это время больше тянет преследовать нимф и дриад, которые, наверное, все еще прячутся в наших лесах, чем заниматься тяжбами этих склочников.
— Благодаря этим склочникам мы и зарабатываем на жизнь! — резко оборвал брата мсье Дезире.
— Разумеется… Так я могу положиться на вас, Франсуа?
— Да, мэтр.
Нотариус собрался уходить, как вдруг его брат счел нужным добавить:
— Поверьте, мсье Лепито, ничто не принесет вам такого покоя, такого душевного равновесия, как изучение Права. Со своей стороны я был бы счастлив видеть, что вы посвящаете ему все свое время, а не лезете туда, где вам совершенно нечего делать.
Эти слова и особенно тон, каким они были произнесены, заставили всех притихнуть и с затаенным любопытством воззриться на «Мсье Старшего». Только задиристый, как молодой петушок, Франсуа возмутился:
— Я, кажется, не совсем уловил, на что вы намекаете, мсье?
— Знайте, молодой человек, я никогда и ни на что не намекаю! Я всегда говорю то, что я говорю, ни больше и ни меньше, нравится это кому-либо или нет. А кроме того, я попросил бы вас вспомнить о своем положении в этом доме и говорить со мной другим тоном!
— Но послушай, Дезире… — вмешался нотариус.
— Оставь меня в покое! Мы с мсье Лепито отлично поняли друг друга. Не так ли, мсье Лепито?
Тут только до Франсуа дошло, что «Мсье Старший» мог проведать о его записках Соне. Эта мысль пронзила его, и он просто оцепенел от страха.
— Я… я уверяю вас, что…
— Так вот! В следующий раз я поставлю все точки над i! Но в ваших же интересах, чтобы этого не произошло!
Нотариус с трудом утащил брата из конторы и, едва они оказались за дверью, воскликнул:
— Я совершенно не понимаю, за что ты устроил ему такую выволочку, Дезире!
— Да ты просто убил бы меня, если б хоть что-нибудь когда-нибудь заметил!
— Ладно-ладно, поди узнал, что у Франсуа есть подружка. И что с того? Он еще молод, разве нет? Не все же такие, как ты!
Мсье Дезире с состраданием поглядел на брата.
— Мой бедный Альбер, порой ты бываешь глуп… ну просто до умиления.
— Я запрещаю тебе…
— Отвяжись! В отличие от тебя мне надо работать!
И, повернувшись на каблуках, «Мсье Старший» проследовал в свой кабинет.
После ухода хозяев оставшиеся принялись обсуждать выпад мсье Дезире. Мадемуазель Мулезан громко возмущалась, что с клерком публично разговаривают столь резким тоном. «Да-а, теперь не то, что раньше, — философски заметил мсье Вермель, — добрые отношения между хозяевами и нами, увы, уходят в прошлое безвозвратно». Ремуйе очень заинтересовала причина разноса. И только Франсуа, испуганно помалкивал. У него не было никакого желания откровенничать. Заметив эту растерянность молодого коллеги, старший клерк немедленно поспешил на помощь.
— Не отчаивайтесь, старина… Мсье Дезире всегда готов отделать человека… Да еще помешан на морали — другого такого чистоплюя навряд ли найдешь. Полагаю, пронюхал о какой-то вашей интрижке… а, приятель?
— Да что вы, какая еще интрижка?!
Франсуа говорил вполне искренне. Ему бы и в голову никогда не пришло назвать подобным пошлым словом то исключительное, божественное чувство, которое влекло его к Соне Парнак. Антуан пожал плечами.
— В конце концов это ваше дело! Во всяком случае, никто не имеет права соваться в вашу личную жизнь! А кстати, подите-ка погуляйте немного, это вас успокоит. Заодно отнесите досье Мулиэрна мэтру Живровалю, он как раз просил его прислать. А дело «Мура-Пижон» дайте-ка мне, я его малость приведу в порядок.
Обрадовавшись, Франсуа живо собрал бумаги, кое-как запихал их в папку и протянул ее Ремуйе. В этот момент из папки вывалилась фотография Мишель Парнак. Практически тут же три пары округлившихся от удивления губ издали громкое «О-о-о!»
— Так вот где собака зарыта! — ухмыльнулся довольный Антуан.
Слегка смущенный Лепито подхватил это чертово фото.
— О чем это вы еще? — пробормотал он.
— Как о чем? Да ведь мсье-то выступал потому, что не хотел, чтоб вы обхаживали племянницу!
— А я ее и не обхаживаю!
— Ну конечно, вы совершенно ни при чем — вот только фото! Не крали ж вы его, а?
— Да нет, конечно…
— Малышка Мишель… — умиленно вздохнула мадемуазель Мулезан.
— А мальчуган неглуп… Конечно, в наше время люди были щепетильнее, — кило-сладким голосом начал было Вермель.
Но тут Ремуйе встал, обнял Лепито за плечи и вывел за дверь.
— Не слушайте этих старых идиотов… Я вполне вас понимаю, будь я помоложе, сам не отказался бы приударить… У мэтра Парнака нет сына, стало быть, зять, знающий наше дело, вполне может прийтись ко двору… Даю только добрый совет: нужно как можно скорее получить диплом. Это ключик к богатству и любви. С мсье Дезире поосторожнее: этот тип все видит!
Франсуа хотел было уверить коллегу, что между ним и Мишель ничего нет, но, подумав, вовремя смекнул, что заблуждение Антуана и всех прочих, особенно мсье Дезире, очень кстати, а потому и не стал спорить.
Возвращаясь от мэтра Живроваля, Лепито решил немного прогуляться по берегу реки. Хорошо было Франсуа в одиночестве мечтать о Соне, не опасаясь любопытных и подозрительных глаз… Так он и бродил, совершенно не замечая никого вокруг, пока не услышал звонкий голосок:
— Франсуа! Постойте же!
Молодой человек обернулся и увидел, что к нему бежит Мишель Парнак. Ну вот только этого ему и не хватало! Если об этой встрече станет известно мсье Дезире, то теперь-то уж наверняка он незамедлительно попросит молодого клерка перенести свои немногочисленные познания в другую контору. Видимо, эти опасения так явственно проступили на лице Лепито, что девушка невольно остановилась и воскликнула:
— Ну и личико сегодня у вас! Что стряслось-то?
— Да ничего… А что, по-вашему, со мной могло случиться?
— Откуда же мне знать?
— Да, кстати… Признайтесь, Мишель, вам не стыдно?
— Стыдно? Это еще почему?
— Посмотрите-ка, можно подумать, что это не вы сунули свой снимок в досье «Мура-Пижон»?
Девушка лукаво рассмеялась.
— Я думала, что вам быстро надоест смотреть эти бумажки и приятно будет обнаружить мое фото между страницами.
— Не об этом же речь!
— Как раз об этом, Франсуа! Вы же знаете — я люблю вас!
— Не смейте произносить слова, смысл которых вам неизвестен!
— Послушайте, Франсуа, уж не считаете ли вы меня слабоумной? Можно подумать, что и в двадцать лет я продолжаю считать, будто детей находят в капусте?
— Тс-с, что это вы кричите! Нас же могут услышать…
— Вот еще, да пусть все знают, что я люблю вас!
— Ах, боже мой, но зачем же вы преследуете меня?
— Какой непонятливый — да потому что я вас люблю, люблю!
«Экая бестолочь», — подумал про себя Франсуа и сказал:
— Но в конце концов должна же быть какая-то причина?
Мишель отступила на шаг, склонила голову набок и внимательно лукавыми глазами оглядела его с ног до головы.
— При-чи-на?! — протянула она насмешливо. — Причина в том, что вы похожи на пингвина…
— А я и не знал, что вы питаете особую слабость к водоплавающим.
— Ну раз они похожи на вас…
— Вы что, издеваетесь надо мной?
К ужасу Франсуа, девушка взяла его под руку. Если они встретят хоть одного знакомого, об этом узнают не только братья Парнак (о том, что тогда произойдет, лучше вообще не думать), но еще и Соня решит, что он ее обманывает.
— Франсуа… почему вы не хотите меня полюбить?
— Но я очень люблю вас, Мишель.
— На черта мне такая любовь? Ну что вам во мне не нравится? Посмотрите, я совсем не плохо сложена!
— Ну я прошу вас… на эту тему…
— А что тут особенного? У нас, как и у всех, будет брачная ночь, разве нет? И я предупреждаю, что вам не грозит разочарование, вот и все! Что вас так удивило? А может быть, вы ханжа?
— Нет, нисколько, но знаете ли… как-то не принято…
— Я умираю со смеху от этих ваших приличий! Мой папа тоже считал, что как только переспал с женщиной, так уже и обязан жениться — вот и приволок сюда эту шлюху!
— О, как вы можете так… говорить о мадам Парнак!
— Да просто потому, что она шлюха, черт возьми! — невозмутимо ответила Мишель.
— О!
— Вы так поражены? Бедненький, только вам это неизвестно! — А ну-ка поглядите мне в глаза!
Мишель притянула молодого человека за плечи и впилась в него подозрительным взглядом.
— Уж не влюбились ли вы в нее? Смотрите, я этого не потерплю!
— Но вы-то здесь причем?
— Ах, вот оно что? Да вы просто гнусный тип, Франсуа! Предпочесть потасканную бабу такой девушке, как я? Так вот почему вы меня не любите?
Франсуа обратил к небу взгляд, полный безнадежности — рассчитывать на поддержку оттуда не приходилось, ибо силы небесные крайне редко приходят на помощь тем, кто не слишком почитает святость семейного очага.
— И как только это взбрело вам в голову?
— Ну нет, Франсуа, я не поверю, пока не поклянетесь, что это неправда!
Лепито был убежден, что истинный рыцарь, защищая честь дамы, может пойти даже на клятвопреступление, а потому, не дрогнув, выполнил требование. Клятва вполне успокоила Мишель — ну как не поверить тому, кому хочется верить. Но здравый смысл редко покидал эту девушку.
— Запомните, Франсуа, я вас люблю и вы женитесь на мне, хотите вы этого или нет! Надо поскорее рассказать о нашей любви отцу!
— Ни в коем случае — нет, нет и нет!
— Вы что, боитесь?
— Боюсь? Почему это я должен бояться?
— Но почему тогда вы против?
— Да просто потому, что я не люблю вас и вовсе не собираюсь на вас жениться!
Услышав это, девушка пришла в такую ярость, что закричала гораздо громче, чем это допускают принятые в Орийаке нормы благопристойности:
— Да как вы осмелились сказать, что не любите меня?
— А почему бы и нет — ведь это правда!
— Ох какой лжец! Какой обманщик!
Не в силах вынести такое оскорбление, мадемуазель Парнак, забыв о правилах приличия, посреди улицы, при всем честном народе влепила Франсуа Лепито, клерку своего отца, звонкую пощечину. С этого момента он приобрел репутацию молодого человека весьма сомнительных нравов, способного — ну не ужас ли? — делать благовоспитанным девушкам предложения, которые они не в силах слушать, не отреагировав самым бурным образом. И в тот же день добродетель мадемуазель Парнак получила высочайшую оценку законодателей общественного мнения, а лицемерие молодого Лепито, так долго притворявшегося приличным юношей, стало предметом пересудов кумушек Орийака. Осуждение было тем более суровым, что весьма скромные доходы Франсуа не позволяли видеть в нем возможного жениха.
Мишель возмущенно вскрикнула и — не иначе как женская логика подсказала такой выход — бросилась бежать. Некоторые потом утверждали, будто клерк имел наглость преследовать дочь своего хозяина как бесстыдный козлоногий сатир, жаждущий совратить испуганную нимфу. Но те, кто это говорил, были люди грамотные, воспитанные Святыми Отцами, а потому наделенные богатым воображением.
В действительности же Франсуа никак не мог побежать за обидчицей, он просто остолбенел от изумления, не в силах понять, что за странный ход мысли заставил Мишель счесть его достойным подобной награды.
— Вот как, вы уже деретесь на улице?
Этот вопрос вернул Лепито на землю. Перед ним стоял инспектор Ансельм Лакоссад, с которым клерк всегда поддерживал дружеские отношения. Полицейский был пятью-шестью годами старше Франсуа, но мягкость характера и застенчивость делали его в умственном отношении ровесником Лепито. Высокий, нескладный и рыжеволосый Лакоссад, несмотря на блестящие оценки на конкурсных экзаменах, был послан обычным инспектором в Орийак, весьма далекий от его родной Тулузы, — и все только потому, что вечно витал в облаках. Для полицейского это большой недостаток. Одержимый жаждой познания, Ансельм был готов на любые подвиги во имя просвещения, но как-то не находил им применения, пока однажды не наткнулся у какого-то старьевщика на сборник пословиц, сентенций и максим. Лакоссад хотел просто полистать его, но был сражен им навечно. В двадцать девять лет Ансельм проникся той простой истиной, что все в этом мире уже сказано. С тех пор он отказался от учебы, которая вдруг стала ненужной, и даже от надежд на повышение, поскольку и это теперь не вдохновляло: Ансельм с наслаждением окунулся в беззаботную жизнь. Так он и жил, стараясь держаться этой прекрасной грани между реальным и воображаемым, обретая трезвость рассудка, лишь когда этого требовала работа. Ансельм выполнял ее, надо сказать, без особой радости, но честно. Короче говоря, он являл собой овернский вариант «Доктора Джекила и мистера Хайда»[67], и, что бы там ни думали другие, такая жизнь доставляла инспектору массу удовольствия, и даже более чем скромное финансовое положение не мешало наслаждаться ею.
— Но ведь это не я…
Лакоссад улыбнулся.
— Влюбленному, как и слуге, лучше не зарываться, приятель. Арабская мудрость гласит: «Если у муравья отрастают крылья, то лишь ему же на погибель».
У Лепито как-то не было настроения рассуждать о достоинствах арабских пословиц.
— Да начхать мне на ваших арабов, и на муравьев тоже!
— Ну-у, вы не правы, приятель. Берусь вам это доказать.
— Возможно! Но мне, знаете ли, не до того: если так пойдет и дальше, то в конце концов я кого-нибудь прикончу непременно.
— Да, вот в это я верю. Не скажите ли, кого же конкретно? — вкрадчиво осведомился полицейский.
— Пока не знаю! Но убью точно, непременно убью. Прощайте!
И клерк быстрыми шагами двинулся прочь — так некогда Аристид удалялся в изгнание по вине предателя Фемистокла.
Вернувшись в сад мэтра Парнака, Лепито все еще кипел от негодования, но дурное настроение мигом улетучилось, едва он увидел идущую навстречу (вернее, к калитке) женщину своей мечты. Владычица грез, Соня Парнак и в самом деле была красавицей. Высокая, плотная, но вовсе не толстая, она обладала всеми достоинствами, которые вызывают вожделение у любого мужчины. На ходу Соня покачивала бедрами почти без нарочитости, но достаточно, чтобы пробудить интерес. У нее были темные волосы, серьге глаза и полное румяное лицо — впрочем, такой цветущий вид свойствен многим молодым южанкам. Озорной смех придавал облику Сони особое очарование, своего рода изюминку. Короче говоря, это была одна из тех женщин, о которых мужчина грезит с юных лет и до глубокой старости. Было, правда, небольшое «но», заметить которое могли лишь наиболее разборчивые (и, надо сказать, не без оснований), — это некоторая вульгарность, выдававшая довольно темное происхождение. Однако на сей счет в салонах Орийака лишь строили тщетные предположения.
По мере того как Франсуа приближался к той, кого мечтал однажды заключить в объятия, сердце его колотилось все отчаяннее. Еще издали он увидел, что молодая женщина улыбается, и ощутил такое блаженство, что почти утратил земное притяжение.
— Добрый день, мадам…
— Здравствуйте, Франсуа… Вы сегодня не работаете?
— Я… меня послали отнести досье мэтру Живровалю…
— Вас что, перевели в посыльные?
— Нет… это Антуан… он увидел, что я нервничаю… и почел за благо дать мне возможность немного расслабиться…
— А почему это вы нервничали, мой маленький Франсуа?
— Я поссорился с мсье Дезире.
Соня пожала красивыми плечиками.
— Охота вам связываться с этой старой развалиной! Ладно, можете немного проводить меня, я хочу с вами поговорить…
— Но… но… нас могут увидеть! — пробормотал Франсуа, замерев от страха и восторга.
— И что с того?
Молодой человек так мечтал, чтобы его уговорили, что сразу же сдался. Они вместе вышли из сада и двинулись по авеню Гамбетта.
— Малыш Франсуа… Вы ужасно неосторожны… Эта записка в моей шляпе… ведь ее мог прочесть кто угодно!
— Вы… вы сердитесь?
— Нет, конечно, но нужно вести себя умнее. От вас такое беспокойство. За столом я не решаюсь развернуть салфетку, а если кто-то рядом, то даже не могу ни сумку открыть, ни туфли надеть — везде может оказаться ваша записка. Вы что же, подкупили кого-то из слуг, а? Наверное, Розали, да? Признайтесь, плутишка!
— Нет-нет, клянусь вам! Просто я выдумываю всякие предлоги, чтобы попасть в дом, когда там нет ни вас, ни мэтра Парнака…
— Это все-таки опасно. Бросили бы вы эту писанину…
— Я не могу!
— Правда?
— Когда я вам пишу, мне кажется, будто я говорю вам то, что не осмеливаюсь высказать вслух.
— Это уж точно, у вас просто духа не хватит произнести эти ужасные слова, — с легким смешком и какой-то двусмысленной улыбкой сказала мадам Парнак.
— Ужасные слова? — растерялся Франсуа.
— Черт возьми! Вы ведь говорите не только о порывах своего сердца… вы описываете меня… причем в таких подробностях, что я чувствую себя как у оценщика… Это очень гадко…
Но это «очень гадко» было произнесено таким воркующим голоском, так многообещающе, что Франсуа решил развивать тему и дальше.
— Так вы меня любите, Франсуа?
— И вы еще сомневаетесь?
— Мужчины так легко лгут, чтобы добиться своего…
В распоряжении Сони Парнак был небогатый набор весьма расхожих истин, которые она пускала в ход при всяком удобном случае. Это позволяло ей сойти за умную в глазах дураков. Франсуа был далеко не глуп, но, как всегда и везде на этом свете, любовь превратила его в невольное подобие идиота.
— Мне труднее судить о вашей искренности — вы-то ведь никогда мне ничего не говорили…
— Злючка…
Молодой Лепито уже не шел, а парил над землей.
— Вы… вы могли бы полюбить меня?
— Ну не знаю, да ведь у меня есть муж!
— О-о-о!
Это «о-о-о» красноречиво свидетельствовало, что мэтр Парнак не внушает особых опасений своему клерку.
— Но, Франсуа, как это дурно предполагать, что я способна любить кого-то, кроме мужа… во всяком случае…
— Да-а-а, и… что же? — До ошалевшего от счастья Лепито как-то не доходили столь очевидные истины.
— …для этого мне надо встретить искреннюю любовь… человека, который бы жил только для меня… чтобы я могла положиться на него до конца своих дней…
— Такого человека не нужно искать, моя Соня! Он уже есть, и это я!
Совершенно неожиданный хохот мадам Парнак обрушился на молодого человека словно холодный душ.
— Да вы… вы издеваетесь надо мной? — задохнулся юный обольститель.
— Да нет же, уверяю вас… — трясясь от смеха, едва произнесла красавица.
— Не нужно уверений. К несчастью, это так… Вы не принимаете меня всерьез… Ни единого знака расположения от вас… — с грустной надеждой канючил опустивший крылышки голубок.
— Неблагодарный! А кто же нашел для вас комнату у этой опасной вдовы?
— Что ж говорить теперь о моем жилье?
— Вам там не нравится? Меня это очень огорчает, — поворачивает разговор опытная в амурных делах Соня.
— Дело не в этом.
— А в чем же?
— Вы обещали зайти в гости, но так ни разу и не пришли! Почему?
— Мне это нелегко, я не слишком уверена в себе…
Франсуа опять понесло на седьмое небо:
— Соня — вы моя любимая, моя жизнь, моя милая, моя единственная… Соня…
Молодой женщине пришлось довольно ощутимо похлопать его по руке — без шлепков Франсуа, видимо, в последнее время просто не мог жить.
— Прошу вас, Франсуа…
Лепито схватил ее за руку.
— Обещайте прийти ко мне в гости!
Она попыталась вырваться.
— Вы с ума сошли! А вдруг нас увидят?
— Пусть видят! — клерка несло.
— Ладно, ладно, обещаю.
— Нет, скажите: я клянусь!
— Клянусь!
Франсуа отпустил руку мадам Парнак.
— Мне бы следовало рассердиться, — без всякого раздражения заметила она.
— Но вы не можете сердиться на меня, потому что в глубине души понимаете, как я люблю вас, как я вас обожаю, как я преклоняюсь перед вами…
Соня поспешила оборвать эти излияния.
— Франсуа, милый, вам давно надо быть в конторе…
— Я подчиняюсь, потому что люблю вас, и ухожу, потому что спешу исполнить ваше желание!
Лепито оставил молодую женщину и танцующими, легкими шагами двинулся серединой улицы обратно. Встретившийся ему настоятель храма Сен-Жеро поначалу опешил от такого способа
передвижения, потом окинул Франсуа весьма суровым взглядом, призывая к порядку. Клерк его даже не заметил: Соня его любит! Все сомнения рассеялись сегодня как легкие облачка в летнем небе. Она будет принадлежать ему! Что его ждет впереди, молодого человека нимало не заботило. Он был счастлив сегодня и, наверное, навсегда. Франсуа вошел в сад мэтра Парнака, танцуя фарандолу на манер пастушка Ватто. Он уже собирался взлететь на крыльцо, как вдруг знакомый резкий голос словно пригвоздил его к месту.
— Мсье Лепито?
Франсуа испуганно обернулся. Дезире Парнак жег его взглядом.
— Мсье Лепито, как только вам надоест изображать клоуна — кстати, по-моему, это занятие вовсе не обязательно для клерка нотариуса, — будьте любезны зайти в мой кабинет. Я вас там подожду.
Столь внезапно отрезвленный, Франсуа с видом побитой собаки вошел в контору. Не поднимая глаз, он сообщил Антуану, что мсье Дезире засек его пляшущим в саду и требует теперь вот пред светлые очи. Старший клерк воззрился на него круглыми от изумления глазами.
— Танцевали в саду?! М-м… любопытно… С кем же это вы… танцевали?
— Один! — скромно сказал Франсуа.
— Один?! Но… почему?
— Потому что она меня любит!
Ремуйе просиял.
— Не может быть!
— Честное слово!
— Но тогда, стало быть, ваши дела идут лучше некуда?
— По-моему, да.
— В таком случае, старина, не забудьте обо мне…
— Что? Не забыть о вас — простите, но вы-то здесь причем?
— Черт побери! Неужто вы, став зятем патрона, не подсобите мне открыть дело?
Франсуа не сразу, но все же сообразил, что и старший клерк, как и мсье Дезире, воображает, будто он пытается попасть в семейство Парнак через парадный вход, в то время как на самом деле…
— Ну, разумеется! Какие тут могут быть сомнения? — сказал он, правда, не слишком уверенно.
— Благодарю! Благодарю, дружище! Я хочу первым поздравить вас и пожелать всевозможного счастья. Раз девчушка с вами заодно — она уговорит отца, и тогда «Мсье Старшему» придется заткнуться!
— Ну а пока мне все же придется его выслушать.
— Не позволяйте ему помыкать вами!
— Вот этого я уж не позволю! — распетушился Лепито и в самом воинственном настроении отправился в кабинет мсье Дезире. Но едва он увидел Парнака-старшего, весь заряд куда-то исчез. Ему даже не предложили сесть.
— Я раскусил вашу игру, мсье, и она мне очень не нравится, — сухо и презрительно бросил Дезире Парнак.
— Мне очень жаль.
— Перестаньте валять дурака, это может дорого вам обойтись!
— Поверьте, мсье, я не намерен ни валять дурака, ни тем более выслушивать оскорбления! — встрепенулся Лепито.
— Вы можете покинуть наш дом немедленно — это зависит лишь от меня и от вас, мсье Лепито.
— От вас — возможно, но от мэтра Парнака — наверняка.
— Думаете, он встанет на вашу сторону?
— А почему бы ему не сделать это?
— Действительно, ему сразу же нужно встать за вас горой, как только узнает о ваших шашнях с его женой!!!
Это был нокаут — в одну секунду Франсуа утратил всякую возможность сопротивляться.
— Что же вы вдруг замолчали, молодой человек?
— Но это… это неправда… — едва прошептал он.
— Морочьте кого угодно, только не меня! Я только что видел вас обоих. И как это вы посмели шляться вместе? Положим, эта женщина способна на любую низость, но вас-то я считал совсем другим…
— Мадам Парнак просила немного проводить ее.
— И под каким же предлогом?
— Я… я не помню, — пролепетал загнанный в угол Франсуа.
— Не морочьте голову! Мне достаточно известно: я прочитал одну из тех записок, что вы имели наглость писать ей почти ежедневно. Чушь ужасная, но, должен признать, у вас хороший слог.
Франсуа вдруг потерял опору под ногами и ухватился за спинку стула, чтобы не упасть. Но и в таком жалком положении он пытался защищаться.
— Вы… вы не имели права читать!
«Мсье Старший» издал что-то вроде довольного ржания.
— А вы, значит, вправе рушить семью моего брата, марать дом, в котором вас пригрели? Да вы стопроцентный маленький негодяй, мсье Лепито.
— Я… я не разрешаю вам…
— Молчать! Я один могу здесь что-либо разрешать или запрещать! — И, выдержав довольно мучительную для Франсуа паузу, мсье Дезире язвительно добавил: — Итак, мы изображаем юного менестреля и поем серенады жене хозяина? Чтобы хвастать потом перед приятелями, выставляя на позор дом Парнаков? Так вот, каналья, зарубите себе на носу, я этого не позволю!
— Это неправда!
— Что неправда?
— То, что вы сейчас сказали! Я люблю ее, я просто люблю ее, вот и все, и ничего больше.
— Каков нахал — говорит мне о любви к жене моего же брата!
— Но ведь это святая истина!
— Мсье Лепито, да вы просто начисто лишены чувства порядочности! Я боюсь, что это убьет Альбера, иначе тут же сообщил бы ему о ваших безобразиях… Хотя нам он все равно не поверил бы… Эта шлюха его просто околдовала! Что это вы вытаращились? Не знаете, что она шлюха! Ну конечно, только такой кретин, как вы, можете это не заметить. В любом случае совершенно ясно одно: вы должны немедленно убраться из этого дома.
— Вы меня прогоняете?
— Вам лучше без скандала подать прошение самому.
— Никогда!
— Вот как?!
— Мне здесь неплохо и работа нравится…
— Так-так, решили держаться поближе к Соне и продолжать свои гнусные игры?
— Думайте что хотите, но я не уйду!
— Поживем — увидим. Пошлите-ка ко мне Ремуйе.
Ремуйе провел в кабинете мсье Дезире более получаса. Вернулся он красный и встревоженный. Поджидавшему старшего клерка Франсуа никак не удавалось встретиться с ним взглядом. Полдень уже наступил, но Вермель и мадемуазель Мулезан, почувствовав, что происходит что-то необычное, никак не решались уйти обедать. Старший клерк не оставил без внимания слишком откровенный маневр снедаемых любопытством стариков.
— Что это вы застряли сегодня в конторе? — рявкнул он.
— Но, Антуан, мы с мадемуазель Мулезан… — вяло начал Вермель.
— Убирайтесь! Мне надо поговорить с Франсуа наедине!
— Нас никогда не интересовали чужие секреты, — заметила обиженная старая дева. — Нескромность нам совершенно не свойственна.
— Дожить до ваших лет и так и не избавиться от иллюзий — ну что может быть прекраснее?!
Когда надувшиеся скромники закрыли за собой дверь, Антуан повернулся к Лепито.
— Мсье Дезире жаждет вашей крови.
— Я знаю.
— И он своего добьется.
— Это еще посмотрим!
— О, уверяю вас, тут все однозначно. Он поручил мне выставить вас за дверь из-за какой-нибудь профессиональной ошибки.
— Какой подлец!
— Совершенно с вами согласен.
— Надеюсь, вы послали его к черту?
— Нет, разумеется.
— Что? Вы заодно с этим подонком против меня?
— Презирайте меня, осыпьте ругательствами, старина, но я просто обязан совершить эту маленькую подлость ради собственного благополучия. Понимаете, Франсуа, мне уже сорок лет и я как проклятый работаю, чтобы стать нотариусом у себя на родине… В том городке три тысячи душ… Через год место освободится. Без моральной и финансовой поддержки Парнаков все мои мечты обратятся в прах. А поэтому, при всей моей к вам симпатии, придется принести вас в жертву.
— И вам не противно, а?
— Что делать, старина, — сама жизнь отвратительна.
— Так что же вы намерены предпринять?
— Вы оказали бы мне громадную услугу и помогли сохранить остатки уважения к себе, если бы уволились по собственному желанию, — смиренно предложил Антуан.
— И не надейтесь!
— Это ваше окончательное решение?
— Да, и бесповоротное.
— Паршиво, старина… вы, видимо, желаете, чтоб я поступил как последняя сволочь… Ну что ж, раз вы этого хотите? У меня-то ведь нет ни малейшего призвания к мученическому венцу.
Франсуа с любопытством поглядел на Антуана.
— И что же вы собираетесь делать?
— О, это очень несложно… Все мелкие погрешности, ошибки, которые вам раньше прощались, надо слегка, чуть-чуть преувеличить и составить солидное досье… боюсь, что после этого вам вообще придется расстаться с нашей профессией… Прошу вас, Лепито, подумайте… Зачем терять любимую работу?..
— Все эти мерзости подсказал вам мсье Дезире?
— Разумеется…
— Я пойду к нему!
— Не делайте этого!
Немного поколебавшись, Франсуа снова сел.
— Пожалуй, вы правы. Я готов убить его!
Франсуа ушел из конторы, заявив, что к завтрашнему дню обдумает положение и окончательно решит, как быть. А там, чем черт не шутит, вдруг мсье Дезире немного успокоится за ночь? Старший клерк воспринял такое предположение весьма скептически.
Некоторое время Лепито провел спрятавшись неподалеку от дома Парнаков. Молодой человек надеялся подкараулить Соню и рассказать ей о том, что произошло, а главное — спросить, как теперь себя вести, чтобы не потерять ее окончательно. Но Соня так и не показалась, и во избежание ненужных пересудов влюбленному пришлось покинуть засаду ни с чем. Домой, на улицу Пастер, Франсуа вернулся разбитый и несчастный. На душе было скверно, и он не мог решить напиться ли ему, или покончить с собой. Мадам Шерминьяк, по обыкновению наблюдавшая между делом за прохожими в окошко, очень удивилась раннему возвращению молодого клерка. Она живо отбросила работу и поспешила навстречу Лепито.
— Что случилось, мсье Франсуа?
Он удрученно пожал плечами.
— Что-нибудь серьезное?
— Да, я уезжаю, мадам Шерминьяк.
— Уезжаете? Куда же это?
— Не знаю… Но в Орийаке я не останусь…
— Но… но почему?
— О… несчастная любовь… Я не хочу больше жить с ней в одном городе…
Вдовье сердце гулко застучало. «Бедный мальчик, — думала она, ни секунды не сомневаясь, что юноша страдает от любви к ней, — он не решается открыть свое сердце». Мадам Шерминьяк была и счастлива, и встревожена одновременно, и, когда она наконец собралась ответить, в голосе ее звучала и бесконечная нежность, и пленительные обещания, и мягкое поощрение к действию.
— Если вы искренни, Франсуа, любовь не может быть несчастной.
— Я тоже так думал, мадам Шерминьяк.
— И вы не ошиблись!
— Нет, мадам, я заблуждался! Я не подумал, что вокруг люди, и не принял в расчет их злобу…
— Какое вам дело до других, если ваша любовь взаимна!
— Ах, если бы это было так!
— Но, уверяю вас, вы любимы!
— …Д-да?!
Лепито ошарашенно воззрился на мадам Шерминьяк, а та ласково улыбалась ему (по правде говоря, улыбка показалась молодому человеку довольно странной). Франсуа с тревогой спрашивал себя, что может знать домовладелица о его отношениях с Соней и откуда у нее такая уверенность, что мадам Парнак его любит?
— Но… мадам Шерминьяк, как вы это узнали?
— Допустим, догадалась.
— И вы думаете, меня любят так же страстно, как я сам?
— Не требуйте от меня ответа, Франсуа… во всяком случае, пока… но обещаю, что очень скоро все ваши сомнения развеются… до встречи!
И, сделав изящный пируэт, мадам Шерминьяк упорхнула к себе, оставив клерка мэтра Парнака в полном недоумении.
Франсуа никак не мог понять загадочного поведения домовладелицы — об истинной причине он, разумеется, даже не подозревал. Весь вечер он провел у себя в комнате и рано лег спать, но сон не шел. Около часа ночи молодой человек встал и решил прогуляться по пустынному городу в надежде немного успокоиться. Софи Шерминьяк тоже не спалось. Услышав шаги Франсуа, она очень удивилась, что он бродит по ночам, а потом и перепугалась — вдруг молодой человек решил вот так, на цыпочках, осуществить свое намерение — навсегда покинуть город? Тревога терзала ее целых полтора часа, пока клерк не вернулся. Успокоившись, Софи снова нырнула под одеяло, раздумывая, куда это мог ходить ее предполагаемый воздыхатель.
II
Добродушная толстуха Агата Шамболь отличалась удивительно спокойным нравом. В свои двадцать шесть лет она уже нисколько не сомневалась, что так до конца жизни останется служанкой у овернских буржуа. Одна из немногих оставшихся в живых представителей племени дворовых людей, давно ушедшего в прошлое, Агата вела размеренное существование, всецело подчиняясь раз и навсегда установленному хозяевами графику. Весь день ее был рассчитан по минутам. Так, в шесть часов Агата принималась готовить завтрак для всего семейства Парнак. При этом соблюдалась строгая иерархия: в семь часов следовало отнести чай в комнату «Мсье Старшего», в семь тридцать — подать в столовую чай для мэтра Парнака и его дочери, в восемь тридцать — разбудить мадам и поставить ей на колени поднос с чашкой шоколада и рогаликами. После этого Агата возвращалась на кухню и готовила основную часть завтрака, поджидая горничную Розали, в чьи обязанности входила уборка комнат.
В то утро кухарка, как всегда, поставила на маленький подносик, специально предназначенный для мсье Дезире, чайник с заваркой, кувшин горячей воды, сахарницу и пошла через сад к павильону. Постучав, она по привычке, не ожидая ответа, распахнула дверь, вошла, поставила поднос на столик и принялась раздвигать шторы. Все это Агата проделывала каждый день, а потому действовала механически, думая о чем-то своем. Покончив с занавесками, девушка подошла к постели, собираясь похлопать «Мсье Старшего» по плечу и крикнуть: «Семь часов!»
Однако на сей раз Агата так и не произнесла традиционного утреннего приветствия. Рука замерла в воздухе, слова — в широко открытом рту, дыхание пресеклось. Жуткое зрелище предстало перед ее расширившимися от ужаса глазами. На подушке, залитой кровью, неподвижно застыла разбитая голова. На полу у изголовья кровати валялся пистолет. Однако кухарка не закричала и не упала в обморок — природная флегма ее была непробиваема. Практически тут же придя в себя, она благочестиво, словно делала это каждый день, прикрыла глаза «Мсье Старшему» и спокойно, без какой-либо спешки, не то что паники, ровным шагом отправилась стучать в дверь мэтра Парнака.
— Спасибо, Агата! Я уже проснулся…
— Мсье…
— Что еще, Агата?
— Несчастье, мсье…
— Несчастье… подождите минутку!.. Так, теперь входите!
Заспанный мэтр Парнак в спешно накинутом халате встретил кухарку, прямо скажем, не слишком любезно.
— Что это вы болтаете?
— Настоящее несчастье, мсье!
— Несчастье, несчастье, — передразнил он ее, — да дело-то в чем? Говорите же скорей. Боже мой.
— Мсье Дезире умер.
— Да вы что? С чего бы ему умереть?
— Ну, знаете, с пулей-то в голове…
— Что-что?
На крики мэтра Парнака прибежала его дочь, Мишель. Узнав о смерти дяди, она бросилась в павильон, а следом побежали мэтр Парнак и служанка. Все оказалось так, как сказала Агата. Они молча взирали на труп, не понимая, как это могло произойти. Через какое-то время появилась и Соня, а за ней, не успев снять шляпы, — Розали. Обе остановились несколько сзади пришедших раньше. Перед лицом трагедии те стояли в гробовом молчании, не в силах отвести глаз от чудовищной картины крови и смерти. На этом фоне некоторая суетливость мадам Парнак, обиравшей свою ослепительную ночную рубашку, казалась почти непристойной.
— Дезире болен? — спросила наконец она.
— Он умер, мадам, — невозмутимо объяснила Агата.
— Умер? — удивилась Соня, подошла поближе и, увидев изуродованную голову деверя, воскликнула: — Боже мой! Его убили!
— Прошу тебя, Соня, не болтай чепухи, — резко одернул ее муж. — Мой несчастный брат покончил с собой.
— Самоубийство? Но… почему?
— Откуда мне знать? Надо вызвать врача.
Соня тут же вышла и из кабинета покойного позвонила доктору Жерому Периньяку, жившему на улице Карм. Он обещал быть на месте через десять минут.
Жером Периньяк был домашним врачом семейства Парнак, как, впрочем, и всех сколько-нибудь состоятельных семей города. Этот красивый и элегантный сорокалетний мужчина с равным успехом ставил диагнозы, играл в бридж и теннис. Светское общество охотно прощало ему многое, даже нежелание жениться. Все знали, что Периньяк обожает женщин, «шалит» (как это стыдливо называли благовоспитанные дамы) исключительно вне города. А потому с огромной благодарностью воспринимали то, что здесь, в городе, напротив, Жером Периньяк вел себя безукоризненно. Все в один голос утверждали, что ни одна из многочисленных больных ни разу не пожаловалась на какую-либо вольность или хотя бы неуместное слово. Впрочем, завистливые коллеги прекрасного Жерома возражали, так как вряд ли эти особы станут жаловаться мужьям на некоторое внимание к себе, если сами только о том и мечтают. Как бы то ни было, доктор Периньяк обзавелся преданной клиентурой и репутация позволяла ему при желании устроиться в каком-нибудь городе покрупнее Орийака.
Доктор, как обещал, приехал очень быстро и немедленно занялся покойным. Долгого обследования не потребовалось.
— Мне очень жаль, мэтр, — сказал он Альберу, — но я вынужден подтвердить то, о чем вы уже догадались: ваш старший брат покончил с собой, и мне остается лишь написать свидетельство о смерти. Позвольте принести самые искренние соболезнования и вам, мсье, и вам, мадам, и вам, мадемуазель… Я мало знаком с мсье Дезире, ибо, как вам известно, он относился к медицине с величайшим презрением, однако я знаю, что это был в высшей степени достойный человек. Весьма сожалею о его кончине. К несчастью, мы очень плохо знаем, что творится в душах ближних… Разве кто-нибудь сможет сказать, что побудило такого человека, как мсье Парнак-старший, наложить на себя руки? Быть может, вскрытие…
Нотариус подскочил от возмущения.
— Вскрытие? Какой ужас! Нет, я не позволю такого надругательства! И потом, какой смысл узнать, почему брат поступил так ужасно? Увы, он уже это сделал.
Как всегда, мягко и дипломатично — одно из качеств, позволивших ему достичь завидного положения в Орийаке, — доктор заметил, обращаясь к Парнаку:
— Во всяком случае, зная, какие чувства покойный питал к вам, зная его несомненную приверженность святой вере, пожалуй, можно смело сказать, что в тот момент он был не в себе… Вероятно, депрессия… Я уверен, что клир Нотр-Дам нас прекрасно поймет. А в случае необходимости я сумею все объяснить… с медицинской точки зрения, разумеется…
Успокоив Альбера тем заверением, что поможет избежать скандала и даже создать что-то вроде дружеского сочувствия драме, копаться в которой, в сущности, никому не захочется, доктор принял благодарность нотариуса как вполне заслуженную.
Если Мишель и ее отец были явно не в себе, то Соня не особенно стремилась скрывать равнодушие. Она давно знала, что деверь не одобрял ее появления в семействе Парнак, и не хотела, да и не понимала, зачем лицемерить, раз уж случай избавил ее от врага. Нотариус посмотрел на нее и вздохнул.
— Теперь, когда вы его осмотрели, доктор, может быть, Агата и мадам Невик, наша верная горничная, займутся покойным… уберут моего несчастного брата…
— Конечно-конечно… чуть попозже… после того как мы получим разрешение полиции.
— Полиции?
— Да, мэтр. О каждом случае самоубийства сообщают полиции. Таков закон. Не беспокойтесь так — это пустая формальность. Если вы не против, я займусь этим, позвоню комиссару Шаллану, расскажу о вашем горе, попрошу прислать офицера и… лично выбрать, кого именно.
Комиссар Шаллан был кругленький, улыбчивый, очень вежливый и покладистый коротышка. Единственное, пожалуй, чего он не мог терпеть, так это когда его беспокоили во время одного из важнейших, как он считал, моментов бытия, а именно во время завтрака. Намазывая поджаренный хлеб маслом и медом, он обсуждал со своей женой, Олимпой, меню на день. Оба страстные гастрономы, они считали стол неким священным алтарем, доступ к которому может получить далеко не каждый. Сейчас Олимпа Шаллан рассказывала, как она собирается сегодня готовить по рекомендованному ей рецепту знаменитую «Пулярку моей мечты». Рецепт не был ее изобретением — комиссарша славилась в основном замечательной точностью исполнения, с фантазией у нее было слабовато.
— Понимаешь, Эдмон, сначала я разрезаю пулярку на куски, потом выкладываю в сотейницу двести пятьдесят граммов мелко нарезанного лука, три толченые дольки чеснока и шесть очищенных и измельченных помидоров. Все это я подогреваю и постоянно помешиваю, пока не получится однородная масса, а тогда кладу туда кусочки пулярки, добавляю базилика и грибов и ставлю томиться на медленном огне примерно на полчаса, а дальше…
Звонок доктора Периньяка оборвал это кулинарное блаженство так же неожиданно, как если бы молния прочертила внезапно и резко безоблачное августовское небо. Супруги вздрогнули и переглянулись, ощутив одинаковую враждебность к тому, кто нарушил их покой. Комиссар помрачнел, встал и пошел к телефону. Вернулся он еще более мрачный.
— Скверное дело, Олимпа… да и, вправду, очень скверное…
Хорошо зная своего супруга, мадам Шаллан не стала приставать с расспросами и молча — о боже! — стала убирать со стола.
— Надеюсь, моя пулярка тебе понравится, — только и вымолвила она.
— Не сомневаюсь, милая, — так же коротко ответил комиссар.
Когда жена вышла из комнаты, Шаллан снова взял трубку и, набрав номер инспектора Лакоссада, попросил его зайти.
Лакоссад глубоко уважал своего шефа. Не столько как полицейского, сколько за чисто человеческие качества. Особенно привлекала его та эпикурейская философия, которую с давних пор исповедовал комиссар Шаллан. Словом, было кое-что общее, что сближало двух столь несхожих внешне людей. Ансельм не сомневался, что, коли уж комиссар решил прибегнуть к его помощи, значит, дело не простое и требует, скажем так, некоторой сообразительности.
Через несколько минут Лакоссад уже стоял у небольшого домика на улице Жюль-Ферри, где главной комнатой считалась, безусловно, кухня. Его встретил сам Шаллан и тут же проводил в столовую.
— Чашечку кофе?
— Если бы я был уверен, что не слишком обеспокою мадам Шаллан… но ее кофе так хорош!
— Вы нарочно расхваливаете кофе, чтобы ей польстить, старый ловелас!
Олимпа поздоровалась с Лакоссадом — единственным из подчиненных мужа, кого она ценила за любезность и хороший вкус, а потом подала обоим мужчинам кофе.
— Речь идет не о расследовании, — объявил Шаллан, когда жена вышла из комнаты. — Это, скорее, гм-гм… мероприятие… Но нужно проявить максимум деликатности: сегодня ночью покончил с собой Парнак-старший.
— Не может быть! — выдохнул инспектор.
— Да, Лакоссад, от него меньше чем от кого бы то ни было можно было ожидать столь экстравагантного поступка, но таковы факты, и доктор Периньяк, сделав заключение, уже выписал свидетельство о смерти. Вам остается лишь подтвердить его заключение и принести наши соболезнования семье.
— Но я не понимаю, зачем…
— Дорогой мой, — прервал его комиссар, — мы живем, к сожалению, может быть, не в вашей очаровательной и всегда… как бы это сказать… немного еретичной Тулузе. Увы, овериды — это суровые пуритане и не мыслят своей жизни без предрассудков. А как вы знаете, самоубийца, по крайней мере теоретически, отторгается от лона церкви. Хороший тон — считать, что человек из приличного общества мог решиться на подобный шаг лишь в минуту помрачения ума. Это всех устраивает и никому не вредит. Итак, я жду от вас рапорта… как бы это сказать… не слишком противоречащего медицинскому заключению. Отметьте, например, что с некоторых пор покойный выглядел мрачным и… Ну, да сами знаете всю эту музыку. Я думаю, вы не будете возражать, если Парнаку-старшему устроят отпевание в церкви?
— Нисколько.
— Что ж, вот и отлично. Попозже зайдите все-таки сюда и расскажите о своих впечатлениях. Я жду вас здесь.
У Парнаков Лакоссада встретил доктор Периньяк. Мужчины давно знали и даже уважали друг друга, хотя и принадлежали к разным кругам общества и встречались не чаете.
— Если б не эти трагичные обстоятельства, я бы сказал, что счастлив видеть вас, инспектор.
— Я тоже, доктор, уверяю вас.
Врач повел полицейского в комнату покойного.
— Как и положено, я запретил что-либо трогать до вашего прихода.
— Вы очень мудро поступили, доктор.
— Признаться, у меня лично не вызывает сомнений, что это самоубийство. Взгляните на коричневый кружок вокруг раны. Мне вряд ли стоит объяснять вам, что это следы пороха, и, значит, дуло было прижато к самому виску.
— Кто-нибудь слышал выстрел?
— Насколько я знаю, нет.
— И как вы считаете, в котором часу наступила смерть?
— Приблизительно часа в два-три ночи. Точное время может показать только вскрытие. Но зачем?
— Больше всего в этой истории меня удивляет, что в ночной тишине звук выстрела не перебудил весь дом.
— Как человек воспитанный, мсье Дезире не пожелал тревожить близких даже своей смертью и потому обернул револьвер простыней. Я не сомневаюсь, что обнаружил бы в ране фрагменты ткани. А револьвер лежит у ваших ног.
Лакоссад нагнулся и, осторожно обернув платком, поднял оружие.
— Что ж, доктор, думаю, мне тут почти что нечего делать. Он не оставил какого-нибудь письма или записки?
— Насколько мне известно, нет.
— Ну хорошо, тогда до встречи, доктор! Пойду задам пару-другую вопросов тому, кто первым обнаружил тело, — надо же хоть что-то написать в рапорте.
— До свидания, инспектор.
На сей раз Лакоссада встретила Мишель. Пробормотав все полагающиеся соболезнования, тот поглядел на девушку и решил, что у Франсуа совсем недурной вкус. Потом полицейский попросил привести к нему того, кто утром первым вошел в комнату мсье Дезире. Мишель проводила инспектора в маленькую гостиную и тут же послала к нему Агату. Увидев эту Юнону, посвятившую себя конфоркам, он был восхищен могучими формами, и ему подумалось, что подобная величавость, почти совершенно утраченная в наши дни, должно быть, и придавала женщинам прошлого такую непобедимую уверенность в себе, что никакие бури не могли поколебать их невозмутимого покоя.
— Как вас зовут? — обратился он к царице плодородия.
— Агата Шамболь.
— Когда вы родились?
— В тысяча девятьсот тридцать втором.
— Где?
— В Польминьяке.
— Расскажите мне, пожалуйста, поподробнее о том, как вы обнаружили утром господина Парнака.
— Да тут и говорить-то вроде нечего…
И Агата все подробно рассказала.
— Это вы обычно будили мсье Дезире? — спросил инспектор, когда кухарка умолкла.
— Каждый божий день, вот уже четыре года.
— Я не совсем понял, постучали вы, прежде чем войти в комнату, или нет?
— Если я и стучала, то больше для виду, ну просто потому, что так полагается. Когда мсье Дезире спал, его и пушка бы не разбудила, не то что стук.
— Вот как? И он не запирал дверь на ключ?
— Никогда! Бедный мсье Дезире боялся, что ему станет плохо и никто не успеет прийти на помощь… а потому не только дверь не закрывал, но и одно окно держал приоткрытым и летом и зимой…
— Правда? И много людей знало об этой мании мсье Дезире?
— Да почитай все домашние!
— Это очень интересно… Спасибо, Агата. Спросите, пожалуйста, мсье Парнака, не согласится ли он принять меня.
Кухарка быстро вернулась и повела инспектора в кабинет, где его ждал мэтр Парнак. Лакоссад с первого взгляда понял, что горе нотариуса непритворно. Распухшее от слез лицо свидетельствовало о том, что этот, в общем-то не привыкший к бурным проявлениям скорби, человек много плакал. «Да-а, — подумал полицейский, — никто бы сейчас не узнал в мэтре Парнаке того весельчака и жизнелюба, каким его привыкли считать в Орийаке».
— Вы хотели поговорить со мной, инспектор?
— О каждой… скажем так, не совсем обычной кончине мы должны писать рапорт…
— Я к вашим услугам.
— Прежде всего, мэтр, могли бы вы сказать, что побудило вашего брата так неожиданно свести счеты со своей жизнью?
— Совершенно не представляю. По крайней мере ни здоровье, ни материальное положение не могли послужить причиной.
— Простите, но, быть может, причину стоит поискать в области чувств и…
— Эта область была совершенно закрыта для моего брата, — прервал его мэтр Парнак. — Рано овдовев, он упорно хранил верность покойной супруге… Я ни разу не слышал ни о каком, хотя бы мимолетном увлечении… Дезире вообще трудно представить в роли влюбленного.
— Да, в самом деле это верно…
— Более того, он был почти что женоненавистником. Знаете, он женщин презирал и всегда старался их избегать. Симпатию брат испытывал лишь к своей племяннице, моей дочери.
— А в чем причина такой враждебности к слабому полу?
— По правде говоря, Дезире было очень трудно понять… Мне всегда казалось, что, искренне оплакивая Маргариту — так звали мою невестку, — в глубине души брат не мог простить ей преждевременного ухода. Он воспринимал ее смерть как своего рода дезертирство. Ну, а тут недалеко до вывода, что ни на одну женщину нельзя положиться.
— А какова была роль мсье Парнака-старшего в вашей конторе?
— Дезире вложил в нее большую часть капитала, поэтому и вел, коротко говоря, всю финансовую часть.
— А теперь, когда его больше нет? Это тяжелый удар для конторы?
— Моральный — бесспорно, поскольку Дезире обладал в своем деле феноменальными качествами, редкостным нюхом к биржевым спекуляциям. Он умел удивительно выгодно вкладывать деньги, находить самые надежные акции. Но в целом материально ничто существенно не изменится, поскольку я его наследник.
— Мсье Дезире составил завещание в вашу пользу?
— Совершенно верно. И если я первым уйду из жизни, то все состояние перейдет к моей дочери.
Узнав о смерти «Мсье Старшего», мадемуазель Мулезан расплакалась, а мсье Вермель омрачился, усмотрев тут предвестие собственной кончины — они с Дезире принадлежали к одному поколению. Что до Антуана, то, когда первые минуты растерянности прошли, он почувствовал большое облегчение от того, что теперь не придется выполнять порученное ему дело. Однако его очень волновало, будет ли он прощен Франсуа. Старший клерк не сомневался, что теперь, когда мсье Дезире не сможет ставить палки в колеса, молодой человек добьется своего. Женившись на Мишель, он станет зятем и преемником мэтра Парнака. Согласится ли тогда Франсуа помочь ему, Антуану, устроить свои дела? Вспомнит ли король Англии об оскорблениях, нанесенных принцу Уэльскому? Ах, если бы Антуан мог предвидеть… но кому бы такое пришло в голову?
— Правду говорят: что одному — горе, другому — счастье, — вдруг брякнул Вермель, тоже, видимо, вспомнивший о Франсуа.
— О да! — всхлипнула мадемуазель Мулезан.
Антуан был не в том состоянии, чтобы спокойно слушать такого рода банальности.
— А ну-ка тихо, вы! Возьмитесь-ка лучше за работу, чем болтать попусту. Ну будь в ваших рассуждениях хоть крупица оригинальности, я бы еще как-то простил… Вам, Вермель, придется завершать работу над «Мура-Пижон», ну, во всяком случае, если к нему снова не подключится Франсуа.
Старик подскочил от возмущения.
— Франсуа? Уж не хотите ли вы сказать, что у него хватит наглости вернуться, после того что произошло вчера?
— Это было бы просто позорно! — поддакнула мадемуазель Мулезан.
Старший клерк рассердился не на шутку.
— Заткнете вы когда-нибудь свои поганые глотки или нет?
От такой грубости по тощей спине мадемуазель Мулезан пробежал озноб, и она притихла.
— Насколько мне известно, — продолжал Ремуйе, — Франсуа никто не выгонял.
— Но вы же отлично знаете, что мсье Дезире… — попытался что-то пискнуть взъерошившийся Вермель.
— Мсье Дезире разговаривал со мной! — перебил его старший клерк. — И могу вам сообщить только одно: этот господин замышлял изрядную подлость!
— О!
— Никаких «о»! Если хотите знать, ваш Дезире был отъявленным мерзавцем! И Франсуа достойно займет свое место, — заколачивал гвозди Антуан. — Впрочем, он никогда его и не лишался. А вам, я чувствую, нужно вспомнить о возрасте, и коли не хотите крупных неприятностей, лучше б помалкивать.
Лакоссад, входивший в это время в контору, услышал конец фразы. Поздоровавшись со служащими, он вежливо поинтересовался:
— Франсуа Лепито еще нет?
Расстроенный Антуан ляпнул первое, что пришло в голову:
— Вчера он неважно себя чувствовал и появится только во второй половине дня.
— Это неправда! Совершенная неправда! — взвилась мадемуазель Мулезан, она вскочила, закинув голову подобно христианской мученице, готовой принять удары порочной толпы. Глаза ее горели гневом, щеки пылали, и даже очки вздрагивали от негодования. Наверное, вот так праведницы вещали истину миру, поддавшемуся искушениям сатаны. — Пусть со мной сделают что угодно, но я скажу правду! Никакие угрозы и оскорбления не заставят меня молчать!
— Да заткнешься ты или нет, старая дура! — загремел Антуан, поборов первое замешательство. Но мученица закусила удила.
— Никто, никто не принудит меня к молчанию!
Вермель, предосторожности ради закрыв лицо досье, наслаждался сценой.
— И что за истину вы хотите провозгласить, мадемуазель? — осведомился Лакоссад, которого эта сцена тоже позабавила.
— Вчера вечером мсье Дезире вышвырнул Франсуа за дверь! Он собирался сообщить об этом мэтру Парнаку лишь сегодня утром и, как нарочно, ночью умер! Выводы можете делать сами! Что до меня, то я выполнила свой долг!
— Ах ты чертова старая коза! Да тебе лечиться надо, истеричка!
— Хам!
— Ну погоди, гадюка!..
Инспектор попытался восстановить тишину.
— А могу я спросить вас, мадемуазель, не знаете ли вы о причинах увольнения мсье Лепито?
— Причина нравственного свойства, инспектор! Больше я ничего не скажу!
— Сумасшедшая! Шизофреничка! — прохрипел Антуан, чувствуя, что его вот-вот хватит удар.
— Не сердитесь, мсье Ремуйе, — мягко успокаивал его Лакоссад. — Вы же знаете: «в каждом из нас таится безумие, только одни лучше умеют это скрывать…» — начал он было декламировать, но тут же понял, что нужны более сильные средства.
— Мсье, я думаю, нам стоит выйти в сад… и немного побеседовать… Прошу вас.
Взглянув на стенные часы в столовой, комиссар Шаллан решил, что Лакоссад слишком долго возится с таким пустяковым заданием. Но тут в дверь позвонили, и комиссар сам впустил инспектора.
— А знаете, я уже начал подумывать, куда это вы могли провалиться.
— Боюсь, что у меня возникли некоторые сложности, господин комиссар.
— У вас, сложности? С чего бы это вдруг?
— Мсье Дезире Парнак прострелил себе голову. Так говорится в выписанном по всей форме свидетельстве о смерти.
Комиссар с любопытством поглядел на своего подчиненного.
— Вы что же, не согласны с врачом, Ансельм?
— Еще не знаю…
— Вот как?.. Ну что ж, сейчас вот раскурю трубку, а вы расскажите мне подробненько обо всех своих сомнениях.
Шаллан знал, что Лакоссад не любитель фантазий на криминальные темы, и если уж его что-то смущает, то не иначе как какая-то серьезная причина.
— Ну, старина, я вас слушаю.
Инспектор спокойно и точно передал содержание своих разговоров с доктором, Агатой и нотариусом. Не забыл он описать и словесную баталию между старшим клерком и мадемуазель Мулезан, объяснив комиссару, почему счел необходимым увести Антуана Ремуйе в сад и выжать из него всю правду.
— И там-то, господин комиссар, он рассказал, что у мсье Дезире и Франсуа Лепито накануне произошла бурная сцена и первый потребовал от второго немедленно уволиться.
— Почему?
— По-видимому, молодой Франсуа ухаживает за мадемуазель Парнак и ему отвечают взаимностью.
— Что, род Растиньяков еще не угас? — улыбнулся Шаллан.
— Похоже, что нет, господин комиссар, но сегодня они уже не считают нужным ехать за состоянием в Париж и вполне довольствуются провинцией. Как бы то ни было, мсье Дезире, будучи, похоже, против предполагаемого союза, предложил Франсуа Лепито добровольно покинуть контору. Судя по всему, молодой человек отказался это сделать весьма категорично. Тогда «Мсье Старший» посоветовал ему все-таки подумать и к утру принять окончательное решение. Потом он переговорил со старшим клерком, и тот довел до Франсуа, что мсье Дезире поручил ему отыскать в работе Франсуа любую ошибку, которая оправдывала бы увольнение. Таким образом он собирался положить конец интриге между мадемуазель Парнак и мелким служащим.
— Не очень-то красиво со стороны покойного, а?
— Конечно, но вы не хуже меня знаете, господин комиссар, что в целях самообороны наши буржуа порой используют не слишком высоконравственные средства.
Шаллан выбил трубку о край пепельницы.
— И что вы обо всем этом думаете, Лакоссад?
— Даже не могу сказать точно.
— Вернее, не хотите, хе-хе-хе, есть тут маленькая разница. Что ж, придется мне сделать это самому. Итак, у вас есть смутное подозрение, что Франсуа Лепито, желая спасти свою любовь, вынужден был прикончить мсье Дезире. Так?
— Да, комиссар.
— Но у нас только свидетельство о смерти и никаких мало-мальски весомых улик, чтобы начать расследование, верно?
— Вы, как всегда, правы, шеф.
— Послушайте, Ансельм, мы не можем, не имеем никаких оснований судить по внешним признакам. У нас пока не вызывает сомнений, что для Лепито самое главное — любовь к Мишель. Можно не сомневаться и в том, что у мсье Дезире наверняка были какие-то более серьезные проблемы, чем брак племянницы с тщеславным, но, в сущности, довольно приятным молодым человеком, не лишенным к тому же вполне очевидных достоинств. Теперь давайте посмотрим с другой стороны: о покойном мы ничего конкретно не знаем, все, что нам известно о Лепито, никак не позволяет видеть в нем возможного убийцу. При таком раскладе, Лакоссад, лучше оставить убийство безнаказанным, чем устроить скандал без всяких на то оснований… Внешность, вечно нас обманывает внешность… Вот, например… м-м-м… возьмем хоть мою жену, Олимпу. Для всех она что: дурнушка, с плохой фигурой, больше похожа на замарашку, чем на богиню.
— Господин комиссар! — насколько мог, возмутился инспектор.
— Но такую Олимпу, малыш, видят другие… — с лукавой укоризной произнес Шаллан. — Только один я знаю, какой поразительной красавицей бывает вдохновенная Олимпа, когда, сидя рядом со мной, пробует блюдо, которое ей особенно удалось. Опять же, когда эта обиженная природой женщина садится за арфу, разве может кому-то прийти в голову, что, как только ее пальцы коснутся струн, она станет и моложе, и прекраснее любой другой. Вам, Ансельм, я могу признаться, что во всей Франции нет и двадцати таких арфисток, как Олимпа.
— Охотно верю вам, господин комиссар… Да-а, еще две тысячи лет назад Квинт Курций учил нас: «Самые глубокие реки всегда безмолвны».
Тихий и вежливый с виду инспектор Ансельм Лакоссад отличался вместе с тем фантастическим упрямством. Он, конечно, всегда внимательно прислушивался к чужому мнению, но его собственная точка зрения от этого, как правило, не менялась. К комиссару Шаллану Лакоссад питал особое уважение и охотно внимал его теориям. Однако Ансельм был еще слишком молод, чтобы проникнуться философией комиссара до конца и научиться сразу и безошибочно отделять факты, которые полицейский не имеет права упускать из виду, от менее важных. Лакоссад любил свою работу за то, что она позволяла ему общаться со многими людьми, и он старался выполнять ее как можно лучше. Инспектор еще недостаточно устал от расследований, чтобы закрывать на что-то глаза вопреки укорам совести, а потому худому миру предпочитал пока добрую ссору.
Чем больше Лакоссад размышлял над кончиной мсье Дезире, тем меньше, верил, что это самоубийство. Он, конечно, не знал, что произошло на самом деле, но и доводы комиссара Шаллана его не убедили. Человек, раздумывал инспектор, может наложить на себя руки только в случае каких-либо неразрешимых для него проблем: финансового или сентиментального характера либо же если он смертельно болен. Между тем, по всей видимости, Парнак старший отличался довольно завидным для своих лет здоровьем, материальное его положение также не внушало ни малейших тревог, ну а уж о какой-либо пассии никто никогда и не слышал. Так с чего бы ему это вдруг вздумалось прострелить себе голову?
Пока у Лакоссада не было никаких доказательств, кроме доводов здравого смысла (а стало быть, с точки зрения закона — ничего). Впрочем, подумал он, эта ссора между покойным и Франсуа Лепито может дать какую-то зацепку. Внезапно приняв решение, инспектор, вместо того чтобы отправиться в комиссариат, пошел к молодому клерку.
У входа в дом на улице Пастер Лакоссад столкнулся с вдовой Шерминьяк.
— Будьте любезны, мадам, подскажите мне, пожалуйста, где живет мсье Лепито? Он дома сейчас?
Софи окинула пришельца подозрительным взглядом.
— Кто вы такой?
— Инспектор Лакоссад.
— Из полиции?
— Ну… да.
— Разве… разве Франсуа что-нибудь…
— Не беспокойтесь так, мадам, я добрый знакомый Франсуа Лепито и просто пришел просить его помочь мне разобраться в одной довольно запутанной истории.
— Не уверена, что от него сейчас большой прок…
— Вот как? А почему?
— Он в расстроенных чувствах… из-за несчастной любви…
— Правда?
— Да, правда… Франсуа до смерти влюблен в женщину. Но она старше его и у нее к тому же большое состояние… Вот бедняжка и не решается открыть ей свое сердце.
— Стало быть, он и в самом деле ее любит, ибо, если верить Петрарке, «кто может сказать о страданье, тот страстью не так опален».
— Ах, вы совершенно правы, инспектор! Но как же Франсуа не понимает, не догадывается, что эта женщина, быть может, готова упасть в его объятия и лишь ждет первого знака? Я говорю вам это только потому, что очень волнуюсь за Франсуа…
— Неужто его состояние столь плачевно?
— Бедный, он почти не ест и не спит… Вчера ночью, например, я слышала, как он вышел на улицу где-то в час, а вернулся только лишь около трех. Ну скажите, господин инспектор, разве это нормально для такого порядочного молодого человека, как мсье Лепито?
— Разделяю ваше мнение, мадам. Оно мне кажется весьма рассудительным.
Польщенная, мадам Шерминьяк тут же приосанилась.
— Бог свидетель, еще никто не жаловался на мои советы. Вот только Франсуа почему-то не хочет довериться мне. Ну, разве любовь — это преступление?
— О нет-нет, мадам, всего-навсего
болезнь.
— …Что? — опешила женщина.
— Прошу прощения. Просто я вспомнил один английский афоризм: «Любовь — как ветрянка, чем позже ее подхватишь, тем тяжелее протекает». А теперь, мадам, скажите мне, где обретается наш романтик?
— На последнем этаже. Вы увидите на двери его визитную карточку.
Франсуа проснулся в самом скверном расположении духа. В ближайшие часы ему надо было принять окончательное решение… Впрочем, уже одно то, что молодой клерк не пошел в контору, означало, что он готов склониться перед волей «Мсье Старшего». «Что ж, — успокаивал он себя, — отыщется какая-нибудь другая возможность видеться с Соней. Да и контора Парнака в конце-то концов не единственное место, где можно работать». Такое рассуждение взбодрило Франсуа, он ощутил заманчивый привкус свободы. Твердым шагом наш герой двинулся было к шкафу, где висели оба его костюма, как вдруг в дверь тихонько постучали.
— Кто там? — удивленно спросил Лепито.
— Лакоссад… мне нужно сказать вам пару слов, дорогой мой.
— Минутку!
Накидывая халат, Франсуа подумал, зачем это он понадобился полицейскому, и открыл дверь.
— Я не застал вас сегодня в конторе, приходится беспокоить дома, — немного насмешливо извинился инспектор.
— Ничего страшного, вы не особенно меня потревожили.
— Любезная дама снизу многое рассказала мне о вас. Она так волнуется о вашем здоровье, особенно о сердечных делах…
Франсуа рассмеялся.
— Да-а, вдова — добрейшая женщина — опекает меня, как наседка цыпленка.
— Но знаете, после разговора с прекрасной вдовой я в некотором заблуждении. В конторе мне рассказывали, будто вы поссорились с мсье Дезире из-за его племянницы, в которую, как они говорят, вы влюблены. И вдруг мадам Шерминьяк заявляет, что вы сохнете по какой-то старушенции! Как вам это понравится, Франсуа? Вы не находите тут некоторого противоречия?
— Моя личная жизнь — это моя личная жизнь. Она касается меня одного, мсье инспектор! Но уж если так угодно, то, во-первых, мадам следовало бы перестать совать нос в чужие дела! А во-вторых, я вовсе не влюблен в мадемуазель Парнак, она сама не дает мне проходу!
— Так что ж, мсье Дезире ошибся?
— Ну нет, мерзавец попал в самую точку.
— А из-за чего тогда вышла ссора?
— Послушайте! Вам не кажется, инспектор, что вы несколько назойливы?
— Что делать, такое уж ремесло!
— Вы пришли по-приятельски или официально!
— И то и другое.
— Это как же?
— Вы мне симпатичны, поэтому как друг я не хочу, чтобы вы влипли в историю, из которой не так-то легко будет выпутаться…
— В какую еще историю? — возмутился Франсуа.
— Сейчас скажу… Я по делу, приятель, из-за того, что мсье Дезире сегодня ночью не стало.
— Что-о? Мсье Дезире… не стало…
— Вы, что же, не знали об этом?
— Да откуда же мне знать? Я еще не выходил из дому!
— Утром-то — да, ну а вот ночью?
— Ночью?!. Ах, ну да… Ночью действительно я ходил гулять. Ну так и что?
— И где же вы гуляли?
— Где гулял? По правде говоря… бродил, знаете ли, просто так, наугад, точно не помню. Вам-то это зачем?
— Жаль… А как, по-вашему, мсье Дезире мог покончить с собой?
— Покончить с собой? Он? Никогда! Да вы что сегодня?
— Странно… Между тем врач сделал заключение о самоубийстве.
— Этого просто не может быть!
— Вот и я тоже никак не могу в это поверить. Сдастся мне, что мсье Дезире прикончили.
— Прикон-чи-ли? — заикаясь произнес Лепито.
— Да-да. При-кон-чи-ли. Только не спрашивайте меня почему да кто — я не сумею пока ни ответить, ни объяснить. Это чисто интуитивно.
— Да что вы сегодня, право? Несете какую-то чушь! Ну кому это могло понадобиться убивать мсье Дезире?
Лакоссад пристально посмотрел на Франсуа.
— Вам, — очень мягко заметил он.
— Мне-е-е? — почти шепотом протянул опешивший и вытаращивший глаза Франсуа.
— Сами подумайте. Достаточно убрать мсье Дезире, проникшего в тайну ваших любовных дел (а насколько я понял, они весьма деликатного свойства), и вы можете спокойно продолжать свой нежный дуэт, да еще и место сохранить в конторе.
— И что вам за охота пришла задаваться нелепицами! Ну не может же быть, чтобы вы и в самом деле так думали!
— Увы, но пока вы единственный, кому, как говорится, выгодна смерть мсье Дезире. Насколько я помню, кто-то при нашей последней встрече горел желанием кого-то убить. Разве не мсье Дезире вы имели в виду, Франсуа? Что вы теперь на это скажете?
— Да причем здесь ваш Дезире! Меня просто достала приставаниями со своей любовью Мишель! Но, разумеется, я говорил тогда не всерьез.
— Конечно, в шутку… Ну что ж, по официальной версии мсье Дезире сам покончил счеты с жизнью, так и нечего вам портить себе кровь.
Франсуа плюхнулся в кресло. Выглядел он очень подавленно.
— Господи! И каких только неприятностей не приносит любовь!..
— Это заметили задолго до вас, дорогой друг… К примеру, я читал у Овидия: «В любви не меньше горя и скорбей, чем на брегу морском ракушек разных».
Когда Франсуа проходил мимо двери мадам Шерминьяк, которую та всегда держала приоткрытой, чтобы следить за передвижениями жильцов, вдова бросилась на него, как паук на запутавшуюся в сетях добычу. Молодой человек казался таким убитым и расстроенным, что полное любви сердце дамы не выдержало и она буквально затащила его в комнату, заставив выпить стаканчик «Аркебюза». Мадам считала его — и, видимо, не без оснований — панацеей от всех недугов — как сердечных, так и телесных.
— Вы что-то плохо выглядите сегодня, мсье Франсуа. Наверное, вы заболели?
— Да, мне в самом деле как-то не по себе, мадам Шерминьяк.
— Пожалуйста, зовите меня Софи… Так будет душевнее.
— Почему Софи? — спросил размякший и, похоже, потерявший остатки соображения Франсуа.
— Да потому что это мое имя!
— Я… я никогда не осмелюсь…
— Вы слишком застенчивы, мсье Франсуа, так нельзя. Я же вам говорила: не надо бояться людей… Искренность трогает даже самые непреклонные сердца… Ну, смелее!
— Это трудно… она так прекрасна… просто богиня…
Софи Шерминьяк закрыла глаза от удовольствия. Вдова уже так отдалась своим мечтам, что сейчас ей казалось возможным решительно все — даже то, что кто-то мог счесть ее красивой.
— А вы, случайно, не преувеличиваете, ну хотя бы самую малость? — проворковала она. — По-моему, от любви вы немножко утратили чувство реальности… Конечно, она недурна… я бы даже сказала, прекрасно сохранилась, новее же не настолько, чтобы сравнивать ее с богиней…
— Так вы знаете, кому я поклоняюсь?
— Думаю, да, дорогой Франсуа, думаю, да! — жеманно просюсюкала мадам Шерминьяк.
— Тогда вы должны понимать всю силу моего отчаяния…
— О нет! Вот этого как раз я и не понимаю! Вы делаете из мухи слона. Послушайте, Франсуа, ну почему бы вам не отправиться вдвоем со своей милой в Лимож или в Клермон-Ферран?
— На это нужны деньги, а у меня их нет.
— Господи, деньги! Они наверняка есть у той, кого вы любите? Кто сам страстно любит, разве откажется помочь вам устроиться?
— Вы правы… Софи. Вы и представить не можете, как поддержали меня! Я просто воспрял от ваших слов! Я снова верю, верю в возможность счастья… и ни за что не уеду из Орийака. Раз вы говорите, что она меня любит или полюбит очень скоро…
— Уже полюбила! — воскликнула вдова, сделав было движение, но, вспомнив о стыдливости, опустила глаза и добавила: — Во всяком случае, я так думаю.
Уходя, Франсуа Лепито опять оставил Софи Шерминьяк во власти самых радужных грез.
В особняке же на авеню Гамбетта была совершенно иная атмосфера. Здесь все говорили вполголоса и ступали неслышно. Темные костюмы, креповые повязки, венки из поникших от грусти цветов — все это медленно перемещалось к комнате, где возлежал «Мсье Старший», а мэтр Парнак принимал соболезнования. Лепито подошел к нему. Нотариус с большой признательностью выслушал набор банальных фраз и сжал руки клерка.
— Спасибо, Франсуа… Вы знаете, я сейчас подумал, как брат доверял вам, как ценил вас… Да, да, это большая утрата для нас обоих…
«Да, — сказал себе Лепито, — порой с усопшими происходят поразительные метаморфозы». Он не осмелился подойти поздороваться с мадам Парнак и отправился в контору.
Если Антуан Ремуйе громко выразил радость по поводу возвращения молодого коллеги, то оба старика обдали его просто-таки ледяным презрением. Лепито же как ни в чем не бывало уселся за стол и занялся многострадальным досье «Мура-Пижон». Вторая половина дня прошла в сосредоточенном молчании, как, впрочем, и полагается в порядочном доме, где каждый знает, что ему делать. Только около пяти часов тишину особняка нарушили тяжелые шаги гробовщиков. Как какая-нибудь длинноногая птица на краю африканского болота, поднимающая голову к небу и прислушивающаяся к шороху ветра, чтобы узнать, не грозит ли ей опасность, так и мадемуазель Мулезан с трагическим видом воздела нос к потолку.
— Всегда найдутся люди, которых смерть ближних очень устраивает, — изрекла она.
— Таков уж наш несправедливый мир, дорогой друг, — поддержал Вермель. — Вы же знаете, что первыми всегда уходят самые лучшие…
— Не понимаю, чего вы ждете в таком случае, — зарычал старший клерк. — Кому-кому, а уж вам-то давно пора. Или оба уже не стоите ни шиша?
— Как вы смеете говорить такое женщине, которая вам в матери годится? — взорвалась старая дева.
— По счастью, Бог, в его безмерном милосердии, избавил меня от такого горя! Уж простите, мадемуазель, но мой отец был человек с хорошим вкусом!
Мадемуазель Мулезан задохнулась от негодования.
— И все это потому… что вы… постыдно… защищаете Франсуа.
Прикрывшись досье, Франсуа в это время грезил о Соне. Услышав свое имя, он удивленно поднял голову.
— А от чего это меня надо защищать?
— От угрызений!
— Меня, от угрызений? Это от каких же?
— Не слушайте, старина, — вмешался Антуан, — вы же видите, она не в своем уме! Так всегда с этими девственницами. Их трясет при виде любой пары брюк!
— Да вы просто представления не имеете о порядочности, мсье Ремуйе!
— Если порядочность хоть что-то имеет от вас, я предпочту никогда с ней не встречаться!
В спор полез Вермель.
— Но вы же не станете отрицать, что мсье Дезире покончил с собой почти сразу после ссоры с Лепито? — задребезжал он, считая, что задал коварнейший вопрос.
— Видимо, не вынес угрызений совести?..
— В любом случае, — прошипела мадемуазель Мулезан, — теперь нашему честолюбцу двери открыты. Никто не помешает строить куры богатой наследнице! Что бы вы там ни говорили, а смерть мсье Дезире ему очень на руку!
— Ну нет, гораздо больше нас всех устроило бы совсем другое! Не догадываетесь что именно, мадемуазель Мулезан? Так это ваша кончина!
— Я не могу допустить, Ремуйе, чтобы вы в моем присутствии подобным образом третировали нашу достопочтенную коллегу, — продекламировал Вермель.
— Оставьте этот номер для старых маразматиков вроде вас, Вермель, а сейчас постарайтесь-ка лучше отработать хоть часть тех денег, что вам тут каждый месяц платят из чистой благотворительности?
— Из благотворительности? — почти завизжал оскорбленный хранитель добродетелей.
— Вот именно.
И тут наконец вступил Франсуа. Он встал и обратился к старшему клерку:
— Вы считаете меня воспитанным человеком, мсье Ремуйе?
— Несомненно.
— Что же, тогда постарайтесь угадать, что я, при всем своем хорошем, нет, блестящем воспитании, думаю об этих двух мокрицах, погрязших в злословии и клевете?
— Могу предположить.
Лепито повернулся к мадемуазель Мулезан и Вермелю.
— Дорогая мадемуазель Мулезан, почтеннейший мсье Вермель, имею честь сообщить вам: вы гов-но! Я надеюсь, мы не разошлись в мнениях, мсье Ремуйе?
— Нисколько, мсье Лепито.
После этого инцидента — самого серьезного из всех, когда-либо происходивших в конторе мэтра Парнака, — временно оставленные врагами позиции вновь охватила тишина. Наконец пробило половину шестого — время окончания рабочего дня для клерков. Звон часов долго отдавался в пустом доме раскатами мрачного эха и, казалось, рвал на части обретенный после схватки покой. Собираясь уходить, мадемуазель Мулезан заметила:
— В мое время, когда в доме кто-то умирал, все часы останавливали.
— Не всем удалось пожить в средние века, — невозмутимо парировал Антуан.
После того как шаги мадемуазель Мулезан и Вермеля затихли в саду, Лепито тоже собрался уходить. Старший клерк задержал его.
— Хочу сказать вам пару слов, Франсуа.
— Вот как? Ну что ж, выкладывайте, старина!
— Я должен просить у вас прощения за то… за то, что собирался сделать по приказу мсье Дезире…
— Ладно, забудем об этом.
— Войдите в мое положение.
— Я и так все понял…
— …и не держите на меня зла, когда вы станете… короче, потом.
— Успокойтесь, я уже выкинул это из головы.
— Честное слово?
— Клянусь.
— Благодарю вас!
Появление Мишель Парнак прервало это изъявление взаимных симпатий. При виде девушки Франсуа подскочил от досады. Зато Антуан заговорщически улыбнулся.
— Добрый вечер, мадемуазель Мишель… Я как раз ухожу. Мы с Франсуа немного задержались, потому что говорили о вас.
— Обо мне?
Лепито попытался угомонить старшего клерка, решившего оказать ему услугу.
— Прошу вас, Ремуйс!
— Вы только посмотрите, мадемуазель, как он смущен! И знаете почему? Другой темы, кроме «мадемуазель Парнак» для него не существует. Он просто замучил меня.
— Ну сколько можно, Ремуйс? Прекратите!
— Хорошо-хорошо, умолкаю. У меня никакого желания выболтать эту очаровательную тайну. До свидания, мадемуазель! Франсуа, до свидания…
Молодые люди проводили Ремуйе глазами, помолчали.
— Это правда? — наконец спросила Мишель.
— Да нет, конечно!
— Тогда почему он это говорит?
— Воображает, будто я в вас влюблен!
— А вы опять скажете, что это не так?
— Ну конечно, что же еще?
— Я вижу, вы все такой же трусишка!
— Умоляю вас, оставим этот разговор!
— Не понимаю: какой смысл прятаться! Ведь все уже знают, что мы любим друг друга. Ну что может помешать вам любить меня?
— Уверяю вас, Мишель…
— Ах, лучше молчите! Ну кто, скажите, сумеет любить вас больше меня. Кто, лгунишка? И в конце-то концов я единственная дочь мэтра Парнака… Это тоже кое-что значит, разве я не права?
— Но в конце-то концов, Мишель, что вы во мне-то нашли?
— Как что, вы же ужасный растяпа. Что может быть лучше мужчины, у которого вечно такой вид, будто он с луны свалился… Вы прозрачны, Франсуа, как стекло, это просто восхитительно, водить вас за нос… в ваших же интересах, — заливалась довольная Мишель.
— Очень мило с вашей стороны, но я предпочитаю передвигаться самостоятельно.
— Господи, Франсуа, неужто вы не понимаете, что совершенно на это не способны?
— С меня хватит. Я, пожалуй, пошел.
— Однако вы забыли принести мне свои соболезнования, Франсуа! Печально, что вам приходится напоминать такие вещи.
— Простите… Благоволите принять мои… Нет, к черту! Ваш дядя ненавидел меня, и я платил ему той же монетой!
— Наконец-то вы говорите искренне! Не стану скрывать, я не ожидала от вас такой правдивости!
В это время в дверь постучали.
— Тут кто-нибудь есть?
— Соня! — растерянно пробормотал Лепито.
Мишель смерила его подозрительным взглядом.
— Вы зовете мою мачеху просто по имени?
— О, это по привычке.
— По привычке?
— Да, когда мы тут говорим о мадам Парнак без посторонних… короче говоря, немного фамильярничаем… но это все из-за большой нежности…
— Нежности?
— Ну да, коллективной… вернее сказать, из-за привязанности…
— Почему?
— Что почему?
— Почему вы испытываете коллективную привязанность к Соне?
— Но… потому что она — супруга мэтра Парнака.
— Вы что, меня за дуру принимаете?
— Нет, за кого угодно, только не за дуру.
В окно они видели, как Соня спустилась в сад.
— Что-то вы темните, Франсуа… и похожи на клятвоотступника. Может, вы не так уж равнодушны к моей мачехе?
— Вы с ума сошли!
— Не знаю… Во всяком случае, еще раз предупреждаю: я этого не потерплю!
— Господи боже мой! Оставьте меня в покое! Займитесь наконец своим делом!
— Вот именно, дорогой мой Франсуа, это как раз мое дело, и только из упрямства вы не хотите этого признать. До свидания.
Сделав вид, будто раскладывает оставшиеся на столе досье, Франсуа подождал, пока Мишель отойдет подальше, а потом побежал догонять Соню. Он догнал ее на улице Поль-Думе.
— Мадам Парнак!
Молодая женщина с притворным удивлением обернулась.
— Мсье Лепито?
— Мне необходимо поговорить с вами, это очень важно, — прошептал он.
— Важно?
— Очень!
— Надеюсь, вы меня не обманываете? — немного поколебавшись, спросила она.
— Мне? Обманывать вас? О!
— Что ж, ладно! Тогда в одиннадцать часов в саду, за павильоном моего покойного деверя.
Франсуа пошел обратно и у самого поворота на улицу Пастер столкнулся с вконец расстроенной Мишель. Лепито застыл на месте.
— Вы…
Девушка смотрела на него, не пытаясь скрыть огорчения.
— И вы туда же, Франсуа…
«Уж лучше бы она кричала!» — подумалось незадачливому влюбленному.
— Я… я не понимаю… по крайней мере не совсем… — лепетал он.
— Так вы тоже ее любовник?
— Уверяю вас, Мишель, я даже не знаю, о чем вы…
— Значит у вас у всех такая привычка, да? Вы называете ее просто по имени… из почтения к мужу… Низкий вы человек, Франсуа!
— Позвольте мне все объяснить.
— Какие уж тут объяснения! Все и так ясно. Вы мне казались совсем другим… Я думала: такой человек наверняка полюбит хорошую девушку…
— Вроде вас?
— Вот именно, вроде меня, мсье Лепито! Во всяком случае, уж не эту потаскуху, которая позорит моего отца с первым встречным!
— С первым встречным?
— Уж не считаете ли вы себя единственным ее избранником? Ничто такую не останавливает! Даже в день смерти дяди отбирает жениха у его племянницы. Признайте все-таки, что ваша любовь — первостатейная стерва!
— Я не позволю вам…
— Ах, вы не позволите? А как насчет этого?
И Франсуа Лепито второй раз за двое суток умудрился получить оплеуху от влюбленной девушки.
— Так, теперь, я вижу, вы наконец в состоянии меня выслушать! Несмотря на ваше предательство, я все-таки люблю вас, Франсуа Лепито! И как только вы станете моим мужем, можете в этом не сомневаться, я заставлю вас заплатить за все, что мне пришлось пережить сегодня!
— Да никогда я на вас не женюсь!
— Поживем — увидим!
— Тут и смотреть нечего, все и так ясно!
— Значит, вам мало разрушить семью моего отца? Вы хотите уничтожить еще и нашу?
— Голову даю на отсечение: у меня с вашей мачехой отношения совсем не те, что вы себе вообразили!
— Тем лучше для нее! Но имейте в виду: если эта дрянь не прекратит свои штучки, я ее просто убью!
Франсуа нехотя пообедал — у него начисто пропал аппетит. От мысли о предстоящем свидании немного лихорадило. Неспокойно было на душе и от раздумий о том, что может выкинуть еще пылкая Мишель.
По правде говоря, пробираясь в саду мэтра Парнака к павильону, где еще недавно жил «Мсье Старший», Франсуа чувствовал себя довольно неуверенно. Где-то в одиннадцать Соня не замедлила присоединиться к нему, внезапно появившись из темноты.
— Ну, что случилось? Неужто и в самом деле что-то серьезное? Сами без ума и меня на всякие авантюры толкаете?
Молодой человек рассказал о разговоре с покойным мсье Дезире и о том, как сурово тот отзывался о своей невестке. Но Соня восприняла этот эпизод довольно беззаботно.
— Он меня ненавидел… и хотел, видимо, чтобы брат, как и он сам, был верен покойной жене… Брак Альбера он считал предательством. Впрочем, не стоит и говорить об этом, раз Дезире умер. Ему теперь не до нас…
— Я бы хотел… позвольте мне задать один вопрос?
— Ну, в чем дело?
— Мсье Дезире сказал мне… будто у вас есть… другие мужчины…
Услышав грудной смех Сони, Франсуа почувствовал, как по его коже побежали мурашки.
— Ревнуете?
— До смерти!
Молодая женщина тонкими пальчиками провела по щеке влюбленного.
— Дитя… мой деверь готов был сказать что угодно, лишь бы опорочить меня в ваших глазах…
— Но зачем?
— Может быть, он догадывался, что вы мне не безразличны?
Блестя глазами и быстро наклонившись, Соня слегка коснулась губами губ Франсуа.
— Со… ня, лю… бовь моя! — полузадушенно прохрипел тот.
— А теперь — уходите живо!
Лепито не шел, а летел.
Единственное, что могло нарушить покой Агаты Шамболь — так это привидения. С детства напичканная жуткими историями о потустороннем мире, девушка боялась не столько самого покойника, сколько того непонятного и страшного, что было в нем после смерти. То, что мертвый Дезире, а стало быть превратившийся в нечто совершенно иное, все еще лежит в доме, наполняло ее неясной тревогой. Агата не могла бы точно сказать, чего именно она боится, но была достаточно встревожена, чтобы не спать.
Примерно в четверть двенадцатого кухарка встала, подошла к окну и в лунном свете увидела вдруг, как какой-то мужчина проскочил в калитку и исчез за оградой. Почти в это же время послышалось что-то вроде крика о помощи. Накинув халат и сунув ноги в тапочки, кухарка направилась на улицу. Проходя по коридору мимо комнаты, где лежал покойный мсье Дезире, она быстро перекрестилась — что, если покойник встал из гроба и поджидает ее?
Выйдя в сад, Агата на мгновение остановилась, прислушиваясь. На сей раз она совершенно явственно услышала стон. Он донесся из-за павильона, где жил раньше брат хозяина. У кухарки кровь застыла в жилах от ужаса. Придя в себя, она вернулась в дом, взяла на кухне фонарик и, немного поколебавшись и решив, что будить хозяина все-таки не стоит, отправилась к павильону. Освещая дорогу перед собой, Агата обошла его и за углом неожиданно наткнулась на Соню Парнак. Молодая женщина лежала на газоне лицом вниз, затылок у нее был весь в крови. Подумав, что она мертва, кухарка так пронзительно завизжала, что перебудила весь дом.
III
Врач, которого мэтр Парнак разбудил среди ночи, утром снова находился у изголовья больной. Там и увидел его комиссар Шаллан, решивший, что, учитывая общественное положение жертвы, он обязан лично выяснить все обстоятельства покушения. Поздоровавшись с нотариусом и с врачом, который, как он знал, был другом дома, комиссар выяснил, что Соня, ненадолго придя в себя, пробормотала лишь несколько бессвязных слов, и Агате, бывшей рядом с ней, показалось, будто хозяйка повторяла один и тот же странный вопрос: «Ты… ты, дитя мое… но… но почему?» Никто из присутствующих не мог понять, что значит эта фраза. А та, что могла бы дать объяснение, после лечебных манипуляций, проделанных с ней доктором, впала в глубокий сон, и врач категорически запретил будить ее. Шаллан решил пока допросить Агату. Девушка рассказала обо всем, что видела.
— Вы уверены, что, незадолго до того, как вы услышали стоны, из сада выбежал мужчина? — первое, о чем спросил ее комиссар.
— Уж что-что, а отличить мужчину от женщины я, наверное, сумею? — усмехнулась Агата.
— Он был высокий или маленький? — невозмутимо продолжил комиссар.
— Среднего роста, — буркнула кухарка.
— Толстый, худой?
— Средний.
— Вы не заметили, откуда он бежал?
— С того места, где чуть не прикончил мадам, черт возьми!
— Подумайте… Вы действительно видели, как он двигался со стороны павильона, или домыслили это, увидев окровавленную мадам Парнак?
Агата наморщила лоб, изо всех сил стараясь вспомнить, как было дело.
— Да, теперь, когда вы сказали… Точно-точно, я увидела его, когда он уже был у ограды…
— Значит, вы не могли заметить, с какой стороны он появился?
— Нет, этого я не говорю, но раз мадам…
— Ну и долго вы его видели?
— Нет, не долго, мсье. Как раз, когда он удирал за калитку.
— Так… всего несколько десятых секунды… И вам этого хватило, чтобы разглядеть, мужчина перед вами или женщина?
— Черт возьми! Но он же был в брюках!
— Вы меня удивляете, Агата… Вы что же, ни разу не видели женщин в брючном костюме?
— Ах, да… об этом я как-то не подумала.
— Короче, это могла быть и женщина?
— Да, в таком разе всяко может быть…
Комиссар посмотрел на нотариуса и врача.
— Вот, пожалуйста! И так всегда… Ну хоть вы, доктор, можете сообщить какие-то детали, способные навести меня на след?
— Боюсь, что нет, комиссар… Попытки убить человека тупым предметом обычно требуют физического усилия, и потому мы привыкли ожидать этого скорее от мужчины, но нынешние женщины и девушки почти не уступают сильному полу… Так что я не в состоянии сказать, кто напал на мадам Парнак — мужчина или женщина. Могу лишь заметить, что рана очень глубока, и сначала я даже опасался, не поврежден ли череп.
— Вы делали рентген?
— К счастью, не вижу необходимости.
— Простите, я, конечно, не смею давать вам советы, но не спокойнее ли было бы нам всем, если бы…
— Уверяю вас, комиссар, — сухо оборвал полицейского врач, — что, будь у меня хоть тень сомнения…
— О, разумеется… А что вы скажете, мэтр?
Нотариус пожал плечами.
— После всех пережитых волнений я крепко спал… Меня разбудил крик Агаты. Я еще не успел перемолвиться с женой ни единым словом.
— Да, боюсь, это не очень продвинет мое расследование… Ну а вы, мадемуазель Парнак? Я полагаю, вас тоже разбудили крики Агаты?
— В самом деле.
— Мадам Парнак не говорила вам о каких-то своих заботах и опасениях? Что-нибудь такое тревожило ее в последние дни?
— Мачеха не считает нужным рассказывать мне о своих делах.
По ее тону Шаллан понял, что женщины не слишком любят друг друга.
— Значит, вы не представляете, зачем мадам Парнак вышла в сам в такое позднее время?
От полицейского не ускользнуло, что, прежде чем ответить, девушка немного смутилась.
— Нет, — наконец сказала она.
«Врет, — подумал Шаллан, — но почему?»
Вернувшись в комиссариат, он погрузился в размышления. Некоторые подробности дела выглядели довольно странно: что означает вопрос, который в полубреду повторяла Соня? Какое дитя она имела в виду? Может, Мишель? Она ведь явно солгала, сказав, что не знает, зачем ее мачеха вышла в сад? И врач почему-то не стал делать рентген? От Сони мысли комиссара вернулись к мсье Дезире и его неожиданной кончине… Мсье Дезире… Мадам Парнак… Кто следующая жертва? Больше всего Шаллана раздражало, что он ничего не понимает. Между мсье Дезире и его невесткой — никакой связи, напротив, все знали, как они ненавидят друг друга. Но кому тогда они оба так сильно мешали? Если, конечно, самоубийство мсье Дезире сымитировано, что еще требуется доказать.
Отчаявшись добраться до истины, комиссар набрал номер Лакоссада.
Франсуа Лепито заканчивал последние штрихи туалета. В тот день он одевался с особой тщательностью. Во-первых, ему придется через весь город идти за гробом Дезире Парнака, а во-вторых, и это главное, там будет Соня, его Соня. Парень был так влюблен, что даже похороны воспринимал как предлог для нежного свидания. Когда инспектор постучал в дверь, Франсуа завязывал галстук — эта сложная операция требовала особой заботы, и молодой человек всегда посвящал ей уйму времени.
— Войдите!
Дверь распахнулась.
— Вы? — удивленно воскликнул Франсуа при виде Лакоссада.
Полицейский с улыбкой поклонился.
— Спасибо, что не сказали: «Опять вы!», даже если и подумали это про себя.
— Чем могу служить?
— Покажите мне свои подошвы.
— Простите, не понимаю.
— Я хочу посмотреть на ваши ботинки.
— На мои ботинки? Но они у меня на ногах!
— Нет, мне нужны те, которые на вас были вчера.
— Зачем?
— Вот взгляну, а уж потом объясню вам причину своего любопытства.
— Ну и странный вы народ, полицейские!
— Это, наверное, потому, что у нас работа такая?
Франсуа принес ботинки, которые снял накануне, перед сном. Они были все в глине.
— Прошу прощения, но я не успел их почистить.
— Надеюсь!
Лакоссад внимательно осмотрел ботинки.
— Вы гуляли где-нибудь за городом?
— Я? Ну что за дикий вопрос? Разумеется, нет!
— Тогда откуда на подошвах земля?
— По правде говоря, не знаю.
— Зато я знаю!
— В самом деле?
— Из сада мэтра Парнака, где вы прогуливались сегодня ночью.
— Но…
— Дорогой мой Лепито, позвольте мне как старшему сказать вам, что из-за своей романтической любви вы впутались в очень темную историю. Вам бы следовало усвоить персидскую поговорку: «Никогда не открывай дверь, если не уверен, что сможешь ее закрыть».
— И что это значит?
— Зачем вы пытались убить Соню Парнак?
Увидев, какое впечатление произвели эти слова на Франсуа, Лакоссад подумал, что вряд ли этот парень виновен.
— Она… она…
— Нет, убийца не достиг цели.
— Благодарю Тебя, Господи!
— Вы встречались с Соней Парнак в саду сегодня ночью?
— Да.
— С какой целью?
— Мне очень нужно было с ней поговорить.
— Вы что, поссорились?
— Этого просто не может быть! Никогда!
— Во сколько вы расстались?
— Не знаю… часов в одиннадцать… минут десять двенадцатого. Мы провели вместе всего несколько минут. Она ранена?
— Насколько я узнал по телефону от комиссара, рана пустячная.
— Но когда же это случилось?
— Почти сразу после того, как вы ушли.
— И кто же это сделал?
— Мы думали, признаться, что вы.
— Как мило с вашей стороны!
— Просто тогда все встало бы на свои места. Но, насколько я вижу, мы ошиблись. О вашем свидании никто не знал?
— Сами понимаете…
Внезапно вспомнив о Мишель, Франсуа запнулся.
— Вы о ком-то подумали? — насторожился Лакоссад.
— Нет-нет, а Соня ничего не сказала?
— В полубреду она, похоже, обвиняла какого-то молодого человека, а может быть, девушку, — трудно сказать.
— Девушку?
— Как вы думаете, кого она могла иметь в виду?
— Не знаю. Просто не могу себе представить.
— Вы, конечно, врете, Лепито, но это не имеет значения. Ваше молчание говорит куда больше, чем любая история, сочини вы ее, чтоб кого-то выгородить. До скорого.
Легкими шагами спускался Лакоссад по лестнице. Опыт, приобретенный им за время работы в полиции, говорил ему: Франсуа невинен, как выпавший из гнезда птенец.
У последней ступеньки лестницы инспектора караулила бледная, с лихорадочно сверкающими глазами мадам Шерминьяк. Ни слова не говоря, она ухватила полицейского за руку, втащила к себе в комнату и, плотно закрыв дверь, задвинула засов. Лакоссад много повидал за время службы, но такое, надо признать, с ним произошло впервые.
— Садитесь, господин инспектор…
Лакоссад повиновался.
— Хотите капельку ратафии?
— Нет, спасибо.
— Тогда, если позволите, я тоже сяду.
— Прошу вас.
— Господин инспектор, я слышала все, что вы рассказали мсье Лепито.
— Вот как? Вы нас подслушивали?
— Только ради него.
— Ну-ка, ну-ка, объясните, в чем дело.
— Франсуа не любит ту женщину, с которой он виделся в саду!
— Но почему в таком случае…
— Это она заставила его прийти! Хотела посмеяться над его простотой и наивностью! А может, попросить о какой-то услуге… Он так любезен, так услужлив! Во всяком случае, если эта Соня (между нами говоря, такое имя годится только какой-нибудь певичке из кабаре), так вот, если она говорила вам, будто Франсуа ее любит, это наглая ложь!
— Откуда вы знаете?
— Просто его сердце уже занято.
— Вот как?
— Женщиной старше его, но еще красивой и сумевшей сохранить девичью душу, несмотря на вдовство.
— Это, конечно, вы? — прошептал Лакоссад.
— Я, — чуть слышно выдохнула мадам Шерминьяк.
— И вы уверены в его чувствах?
— Я женщина, господин инспектор. Франсуа не осмелился пока объясниться, да и я сама, из вполне понятного целомудрия, не сочла нужным разжигать страсти… И потом, молодой человек беден… а он, наверное, догадывается, что у меня есть кое-какие средства… и это, конечно, мешает ему открыть сердце… Франсуа боится, что его сочтут корыстным…
— Но он же ничего вам не сказал, откуда…
— Ах, это молчание так красноречиво! Вы когда-нибудь любили, господин инспектор?
— Как все, мадам, как все…
— Тогда вы должны понимать, какие муки испытывает Франсуа! Он может умереть!
— Успокойтесь, мадам, еще Маргарита Наваррская писала, что «любовная болезнь убивает лишь тех, кому и так пришло время умирать».
— Я никогда не слыхала об этой даме, но, должно быть, она не очень-то разбиралась в любви!
— История утверждает обратное. А могу я спросить, почему вы сами не поговорите с Франсуа, если настолько уверены в его чувствах? Вы ведь, кажется, чуть-чуть постарше?
— Вы думаете, я могу так поступить, не нарушив законов благопристойности?
— Совершенно убежден в этом.
— Спасибо, господин инспектор! Вы указали мне, в чем мой долг. Уж я сумею защитить Франсуа от всяких интриганок!
Покинув улицу Пастер, Лакоссад из первого попавшегося кафе позвонил комиссару Шаллану.
— Господин комиссар? Это Лакоссад. Я только что от Лепито. Не думаю, что он как-то замешан в покушении на мадам Парнак. Говорит, правда, будто об их свидании никто не знал. Врет, конечно.
— Не беспокойтесь, в доме Парнаков мне тоже наврали. Я имею в виду крошку Мишель. Не удивлюсь, если тот, кого не хотел назвать ваш приятель, и моя маленькая лгунья — одно и то же лицо… Пойдите-ка поболтайте с ней, Лакоссад, а потом зайдите ко мне домой — а я как раз соберусь на похороны.
— Договорились. Я скоро приду.
В особняке Парнаков теснился народ. Люди, желавшие проститься с «Мсье Старшим», непрерывно входили и выходили, и особый церемониймейстер, приглашенный из похоронного бюро, регулировал оба потока. Лакоссад, остановившись невдалеке, раздумывал, как поприличнее выполнить возложенную на него миссию, но вдруг счастливый случай послал ему на помощь Агату. Кухарка, собираясь на рынок, выскользнула через черный ход. Полицейский поспешил к ней.
— Мадемуазель Агата! Я очень рад, что встретил вас. Может, вы сумеете оказать мне одну услугу? Дело вот в чем. Шеф приказал мне во что бы то ни стало поговорить с мадемуазель Парнак. Сделать это сегодня вообще нелегко, а тут еще и дом полон людей. Будьте любезны, пожалуйста, попросите ее выйти в сад. Хорошо?
Поручение не слишком обрадовало Агату.
— Ладно. Так уж и быть… но как бы мне за вас не нагорело… если я запоздаю с завтраком, так только по вашей милости…
— Сомневаюсь, чтобы у ваших хозяев был сегодня хороший аппетит.
— Ну уж это глупости! Ничто так не действует на желудок, как горе.
Кухарка ушла и очень скоро вернулась вместе с Мишель.
— Вот господин, который хотел вас видеть, мадемуазель. А я пошла, иначе на рынке ничего не останется.
И богиня конфорок двинулась прочь. Твердой ее поступи мог бы позавидовать любой гвардеец, охраняющий Елисейский дворец.
— Что вас привело ко мне, мсье?
— Нам надо поговорить о Франсуа Лепито.
— Вот как?
— Он влип в ужасную историю.
— Тем хуже для него!
— Вряд ли вы так думаете на самом деле.
— Именно так я и думаю! Нечего было тащиться на это свидание! Дурак!
— А откуда вы знаете, что у него было свидание с вашей мачехой? — вкрадчиво осведомился Лакоссад.
— Догадалась… Франсуа глуп поразительно: ухаживает за одной, а любит совсем другую…
— И кого же он любит?
— Как кого? Разве не ясно? Меня! Да-да, меня он любит, кретин такой, но не хочет признаться! А все потому, что эта охмурила его: и бедрами-то вихляет, и жеманничает, и воркует, а уж грудь прямо под нос ему сует…
Инспектора позабавила ярость девушки.
— Насколько я понимаю, вы не особенно любите мачеху, а? — прервал он ее.
— Терпеть не могу!
— А это не вы, случайно, стукнули ее по голове?
— К несчастью, нет…
— К несчастью?
— Потому что вся эта история с покушением — просто туфта! Если бы я шарахнула эту красотку по макушке, она бы сейчас лежала рядом с дядюшкой!
— А вы бы угодили в тюрьму, и надолго.
— Да, признаю, это было бы ужасно досадно.
— Слабовато сказано, мадемуазель. Так, говорите, никакого покушения не было? Откуда тогда рана взялась?
— Ударилась, наверное. Уверяю вас, эта особа способна на что угодно.
— Но врач заявил…
— О, этот-то! — сердито оборвала его девушка. — Да он на все готов, лишь бы ей понравиться! Честно говоря, просто не понимаю, и что в этой бабе такого особенного, но ведь всех мужчин превратила в идиотов? Вам, поди, она тоже нравится?
— Никогда об этом как-то не задумывался. А вот вы, конечно, влюблены в Франсуа Лепито?
— Естественно.
— И уверены, что он вас тоже любит?
— Никаких сомнений. Любит, но сам этого не понимает.
— И вы ревнуете?
— Ну и что? Обычное дело!
— Обычное, но очень опасное… Нинон де Ланкло, прекрасно разбиравшаяся в таких вещах, утверждала: «Ревность душит любовь, как пепел — огонь». Кстати, как это вы узнали о свидании Франсуа со своей мачехой?
— Вчера вечером я последила за Франсуа, когда он побежал за мачехой. Разговор у них был короткий, и я догадалась, что они договорились где-то встретиться. Тогда я стала наблюдать за мачехой. Но мне и в голову не пришло бы, что у них хватит наглости встречаться чуть ли не на глазах у моего отца!
— Значит, это он ударил вашу мачеху?
— Отец?! Эта мокрая курица?! Вот уж кто на такие вещи не способен! Он же слушается ее, как собака хозяина!
— Но кто же тогда?
— Говорю же вам, долбанулась где-то, а потом решила напугать всех.
— Что ж, может быть, и так. Очень рад, что поговорил с вами.
— Скажите… положение Франсуа все-таки не очень… серьезно?
Инспектор улыбнулся.
— Ради вас мы не станем причинять ему особых неприятностей.
— Спасибо… Но все-таки какой кретин!
— После того как мы познакомились поближе, мадемуазель, трудно с вами не согласиться.
Когда Лакоссад пришел к комиссару, тот пребывал в отвратительном расположении духа. Шаллан терпеть не мог всяких светских обязанностей, и необходимость явиться на похороны при полном параде выводила его из себя. Мадам Шаллан, вытащив из шкафа все; что могло потребоваться мужу, благоразумно ушла к себе в комнату.
— Помоги мне надеть этот чертов галстук, Лакоссад!.. Дайте же мне рожок для обуви — он лежит вон там, на столике. Спасибо!
Облачившись наконец, комиссар вновь обрел обычное добродушие.
— Давайте хлебнем немножко черносмородинного вина, и вы мне все расскажете.
Шаллан принес бутылку «Пуйи-Фюиссе» и вино из черной смородины. Приготовив смесь, он опустился в кресло напротив инспектора.
— Ну, теперь валяйте!
— Прежде всего, господин комиссар, скажите, известно ли вам, что Франсуа Лепито настоящий Дон-Жуан и женщины не дают ему проходу?
— Кроме шуток?
Заинтриговав начальство, Лакоссад с большим воодушевлением стал рассказывать, что Франсуа, по всей видимости, до безумия увлечен Соней Парнак, в то время как его не менее страстно любит Мишель.
— Между нами говоря, у вашего Лепито все ли в порядке с головой? Когда человек в его положении имеет счастье вызвать нежные чувства красивой дочки мэтра Парнака…
— Во всяком случае, ваше мнение вполне разделяет главное заинтересованное лицо — сама юная Мишель! А кроме того, есть еще вдова Шерминьяк!
— А это кто такая?
— Владелица дома, в котором живет наш герой. Особа лет под пятьдесят, натуральная Федра! Тоже убеждена, что Франсуа ее боготворит, хотя тот и словом не заикнулся. Парню будет нелегко вырваться из ее когтей!
— Это его забота! Как, по-вашему, кто покушался, Лепито?
— Похоже, нет. Он был просто потрясен, когда услышал, что его любовь подверглась нападению.
— Может быть, та девушка?
— Мишель тоже ни при чем. Но, как она сама говорит, «возьмись я за дело, мачеха тут же б отправилась в мир иной».
— Крошка с характером! Она мне нравится! Но если это не Лепито и не Мишель, то кто же тогда?
— Мадемуазель Парнак полагает, что вся эта история с покушением — я цитирую ее собственные слова — «просто туфта».
— Но зачем тогда?
— Чтобы привлечь к себе внимание.
— В полночь, в саду? Да еще весь этот шум! По-моему, мадам Парнак гораздо больше бы устроило, чтобы ее ночные похождения остались тайной. Нет, такая версия никуда не годится. В то же время очень сомнительно, что тут работал профессионал… иначе бы ей не выжить.
— Загадка…
— Да, не слишком-то мы продвинулись. И что за напасть вдруг свалилась на Парнака? Сначала брат застрелился, потом это покушение… Вырисовывается цепочка, если б не самоубийство Дезире.
— Самоубийство-то, прямо скажем… подозрительное.
— Да, верно, но подкопаться невозможно, придется смириться. Ладно, Лакоссад, пошли, проводим «Мсье Старшего» в последний путь.
Миновав богатые кварталы, растянувшийся кортеж двигался вдоль нескончаемой улицы Курмали. Впереди молча шли мэтр Парнак и его дочь. Остальные, чуть поотстав, как обычно, болтали и злословили о покойнике и его родственниках. Комиссар, шагавший рядом с инспектором, тихонько шепнул:
— Как вам это нравится, а, Лакоссад?
— Да, господин комиссар… Лучше не умирать… По крайней мере надеюсь, что покойники не слышат.
— Странно, как это вы не вспомнили сегодня какую-нибудь подходящую поговорку.
— Ну как же! Китайцы, например, говорят: «На похоронах богачей есть все, кроме людей, которые бы о них пожалели».
— Всякий раз поражаюсь мудрости сыновей Неба.
На ходу провожающие перемешивались: одни слишком торопились, другие, напротив, еле передвигали ноги, и комиссар оказался рядом с Роже Вермелем. Тот вежливо приветствовал соседа.
— Здравствуйте, господин комиссар.
— Добрый день, мсье Вермель… В какой печальный момент мы с вами встретились…
— Увы, не все испытывают грусть.
— Что вы имеете в виду?
— Бывает, что чья-то смерть кого-то очень устраивает.
— Может быть, но ведь нельзя же заставить
человека покончить с собой.
— Ну уж в это я никогда не поверю! Чтобы мсье Дезире покончил с собой… быть этого не может!
— Однако…
— Да… Да… я хорошо знал «Мсье Старшего», он иногда делился со мной своими мыслями.
— И что же?
— Так вот, уверяю вас: мсье Дезире, человек глубоко верующий, никогда бы не решился на самоубийство. Для него это самый непростительный грех. Кроме того, он страшно боялся всякого огнестрельного оружия. Мсье Дезире избегал даже простого участия в охотах…
— Но врач говорил, что во время депрессии…
Вермель хмыкнул.
— Откуда бы ей взяться! Во всяком случае, за несколько часов до смерти мсье Дезире пребывал в достаточно здравом уме. На моих глазах он так, знаете ли, отделал этого интригана Лепито! Да, мсье Дезире вывел его на чистую воду…
Они вошли на кладбище, народ стал тесниться, и комиссар не смог больше продолжать эту содержательную беседу. Он подошел к Лакоссаду и попросил передать его соболезнования семье и сказать, что комиссара-де срочно вызвали. Сам же, воспользовавшись тем, что выкроил свободные полчаса, помчался обратно, к Парнакам. Там Шаллан сразу прошел на кухню, где Агата месила тесто для торта.
— Вы меня узнаете? Я комиссар Шаллан.
— Да-да, мсье, но каким образом…
— Вряд ли нам дадут спокойно поговорить, Агата. Поэтому не станем отвлекаться на пустяки. Скажите, как складывались отношения между мадам Парнак и ее деверем?
— Отношения?
— Они ладили между собой?
— Ну что вы! Он вообще ни с кем не ладил. Ко всем придирался. Хозяина упрекал, что тот не занимается конторой. Мадам он терпеть не мог. Его бесило, что она заняла место прежней хозяйки. Даже мадемуазель читал нотации, что она плохо себя ведет и тратит слишком много денег.
— Мсье Дезире был добрым католиком?
— По-моему, да. Каждое утро ходил к мессе.
— Мне говорили, он был превосходный охотник.
— Он? Охотник? Ну надо же! Да мсье Дезире ни в жизнь не притрагивался к оружию… он пуще чумы боялся всего, что стреляет!
— Может быть, и боялся, Агата, но, к несчастью, как мы теперь знаем, он все же взял в руки пистолет…
— Верно, конечно… и все-таки мне не верится, что мсье мог это сделать…
— А что, он всегда держал пистолет у себя в комнате?
— Можно сказать и так… Мсье спрятал его в комоде, под кучей нижнего белья, но об этом весь дом знал.
— Ясно… Я помню, вы говорили, что мсье Дезире спал очень крепко?
— Еще бы! Даже будильника не слышал. Потому-то я и приходила будить его каждое утро, а уж заодно приносила и чай.
Разговор с кухаркой испортил настроение комиссару. «Действительно, — размышлял он на ходу, — кто-то вполне мог проникнуть в комнату Дезире через незакрытое окно, вытащить из комода пистолет, обернуть его тряпками, а потом простыней, чтобы никто не услышал выстрела, и прижать дуло к виску Парнака-старшего». К несчастью, никаких подтверждений этой любопытной гипотезы у комиссара не было.
В день похорон Дезире Парнака контора открылась во второй половине дня. Взволнованный мсье Альбер прочитал своим служащим проповедь, в которой долго и нудно воспевал несравненные достоинства покойного брата. В конце концов у присутствовавших на лицах появилось одно и то же кислое выражение, призванное засвидетельствовать, что все поняли, какую невосполнимую утрату они понесли. Уловив это, довольный нотариус попросил удвоить усилия в память о том, кто, хоть и ушел навсегда, но чей дух, несомненно, навеки останется здесь. Мадемуазель Мулезан, как водится, пролила слезу, и мсье Альбер со скорбным достоинством покинул контору. Не успел он закрыть дверь, как Вермель тоже завел что-то вроде надгробной песни в честь «Мсье Старшего». Рассказ об исполненной благородства жизни Дезире Парнака поверг мадемуазель Мулезан в величайшую скорбь. Похоже, покойник все-таки ошибался, оценивая мадемуазель: он считал ее дурой и, ничуть не стесняясь, говорил об этом во всеуслышание.
Как только Вермель покончил с панегириком мсье Дезире, старший клерк велел мадемуазель Мулезан перестать изображать плакучую иву и приниматься за работу.
— Простите меня, мсье Антуан, — пролепетала она, — но я глубоко привязана ко всем членам семьи Парнак… Ведь я начинала работать еще у мэтра Альсида, отца мсье Дезире и мсье Альбера… При мне родилась мадемуазель Мишель, а мадам Анриэтта, первая супруга хозяина, была так добра ко мне… Ах, ее смерть тоже стала для нас невосполнимой утратой…
Вермель не мог упустить случая позлословить.
— Уж ее-то точно не нашли бы ночью в саду с разбитой головой и почти без одежды…
— Почему? — сухо осведомился Франсуа.
— Потому что мадам Анриэтта была порядочной женщиной! Она почитала семейный очаг!
— Так вы считаете, что вторая супруга мэтра Парнака…
— …не много стоит, если хотите знать мое мнение!
А мадемуазель Мулезан сочла нужным ввернуть очередной «коварный» вопрос:
— С чего бы это вдруг мадам в столь легком одеянии оказалась среди ночи в саду?
— Да еще за домиком мсье Дезире, где ее никто не мог ни увидеть, ни потревожить, — уточнил казуист Вермель.
— Не иначе на свидание с одним из своих любовников выскочила, уж можете не сомневаться! — хихикнула старая дева.
Франсуа резко вскочил, в очередной раз уронив многострадальное досье «Мура-Пижон», и запальчивым фальцетом завел:
— Мадемуазель Мулезан и вы, Вермель, вы просто низкие, подлые люди!
— Что? — вскричали оба старейшины в один голос.
— Как вы смеете говорить такие вещи о супруге своего хозяина?
— Мы знаем, что говорим, — прошипел Вермель.
— Вы ненавидите ее за то, что она молода, а вы — старые развалины! Вы хотите опорочить женщину из-за того, что она красива, а вы — уроды!
— Господи, и что нам только не приходится выслушивать последнее время! — простонала мадемуазель Мулезан.
— Ах, вот оно что, вам уже мало дочери? — нанес неотразимый удар Вермель.
Ремуйе едва успел схватить Франсуа, бросившегося на обидчика.
— А ну, успокойтесь! Как только вам не стыдно! Придется все рассказать мсье Альберу. Сядьте на место, Франсуа, и займитесь наконец делом! А вас, одры, чтоб я больше не слышал. Если еще хоть что-то пикните, погоню к мэтру Альберу пинками в зад! Вот там все и расскажите!
Выволочка возымела мгновенное действие, и до самого вечера в конторе стояла свинцовая тишина, лишь изредка нарушаемая всхлипываниями мадемуазель Мулезан и тихим ворчанием в животе Вермеля. Поверх досье Антуан с любопытством поглядывал на Лепито. Неужели он и вправду втрескался в мадам Парнак? А как же быть с Мишель? Старший клерк был кем угодно, но только не дураком, и в голове у него роилось множество вопросов.
К вечеру мадам Парнак просила передать мужу и падчерице, что чувствует себя лучше и хотела бы повидать их. Нотариус, до сих пор влюбленный в жену как мальчишка, бросился к изголовью ее постели. Мишель отправилась навещать мачеху с гораздо меньшей поспешностью. Увидев отца, опустившегося на колени возле тумбочки и державшего мачеху за руку, девушка явно расстроилась. Нотариус млел от удовольствия, а жена свободной рукой теребила ему волосы и сюсюкала.
— Неужто мы так боялись потерять свою маленькую Соню? — ворковала она. — Значит, мы все-таки любим нашу маленькую Соню?
— Глупышка! Как будто ты этого не знаешь.
— А что, если б меня убили?
— Запрещаю тебе даже говорить об этом! О ужас! Что бы со мной было без моей дорогой крошки?
Мишель и смешно и неприятно было видеть это унизительное слюнтяйство со стороны отца, и она не без иронии заметила:
— Надеюсь, я вам не помешала?
Оба с удивлением посмотрели на нее, и мэтр Парнак простодушно уверил дочь, что ее приход никого не потревожил.
— В таком случае, — резко возразила девушка, — меня смущают подобные неумеренные излияния чувств.
— Уж не ревнуете ли вы, Мишель? — рассмеялась Соня.
— Да нет, скорее, мне просто… гадко.
Нотариус вскочил.
— Мишель!
— Мне гораздо больше нравится, когда ты стоишь, папа, а не полозишь, как только что.
— Я не позволю тебе…
— Пощадите! — закатила глаза мадам. — Ваши крики для меня — пытка!
И она театральным жестом подняла руки к голове. Альбер тут же бросился с извинениями.
— Любовь моя, прости… прости меня, ради бога… — И, повернувшись к дочери, строго выговорил: — Видишь, что мы натворили! И все из-за тебя! Как только тебе не стыдно?
— Ах, папа! Бедный мой папа… Ну ладно, с супружескими нежностями покончено. Соня, может, вы все-таки объясните, что с вами произошло?
— Да-да, верно, расскажи нам, как это случилось, мой ангел? — подхватил Альбер.
— Я не знаю.
— Не знаешь?
— Нет. Я шла по газону и вдруг как будто камень, что-то тяжелое свалилось с крыши и прямо мне на голову. Удар! — и больше ничего не помню…
— Это ужасно, дорогая моя! Попадись мне только этот мерзавец…
— Успокойся, мой Мишук, я ведь еще жива…
Находившийся, видимо, на супружеской диете нотариус воспринял это как сигнал и бросился было обнимать жену, но, услышав голос дочери, вынужденно остановился.
— Что за странная манера: гулять по саду в ночной рубашке в одиннадцать часов ночи! — с издевкой заметила Мишель.
Соня слегка отстранила мужа и пристально посмотрела на недоброжелательницу.
— Что же здесь странного, милочка? Представьте себе, меня мучила страшная мигрень, никакие таблетки не помогали. Вот я и подумала, может, на воздухе станет легче. Это ведь так естественно.
— Ну конечно, моя маленькая, конечно! Ты только не волнуйся. Никто с тобой и не думает спорить… — заблеял обеспокоенный супруг.
— Однако мне показалось, что Мишель…
— Дорогая, прошу тебя, не обращай внимания! Мишель сегодня что-то не в духе, уж не знаю почему… Похоже, нынешние девушки все такие — нахальные и невыносимые.
— Может, и нахальные, зато верные! — резво вставила Мишель.
Отец какое-то время молча смотрел на нее.
— Верные? Кажется, ты решила изъясняться загадками? Верные кому?
— Допустим… своим обязательствам…
— Интересно, ну что ты-то можешь в этом понимать? Помолчи-ка лучше, в конце концов ты меня рассердишь! Соня, любовь моя, прости, но я должен уходить — меня ждут клиенты.
— Да, мой толстячок, иди…
— Я приду как только освобожусь, но, если ты заснешь, не стану тебя будить.
— Как ты деликатен, мой дорогой…
Поцеловав еще раз больную в лоб, Альбер попросил дочь немного побыть с мачехой в его отсутствие. Оставшись одни, женщины с нескрываемой ненавистью взглянули друг на друга. Первой не выдержала мадам Парнак.
— Вы терпеть меня не можете, правда?
— Не то слово!
— Вот как? И за что же?
— Святая невинность! Разве не по вашей милости отец оказался в столь жалкой роли?
— Какой еще роли?
— Обыкновенной — рогоносца.
— Какие гадкие слова, — насмешливо бросила Соня, — напрасно вы слушаете сплетни.
— Тут и без посторонних ясно что к чему.
— Ну-ну!
Мишель подошла к постели.
— Вот тебе и ну! Зарубите себе на носу, мадам. На ваших любовников мне плевать. Раз отцу нравится, когда его топчут ногами, то это его личное дело! Но Франсуа вам лучше бы не трогать!
— Франсуа?
— Да-да, того самого Франсуа, с которым вы встречались ночью!
— Хотите сказать, что это он меня ударил?
— Вы же отлично знаете, что не он!
— Тогда… это вы?
— Будь это я, вы бы так легко не отделались.
Соня расхохоталась.
— Приятно видеть, моя крошка, как ревность делает из вас настоящую женщину… безоружную, правда.
— Ничего, у меня есть то, чего больше нет у вас: молодость!
Соня пожала плечами.
— Это быстро проходит.
— Да, в этом нетрудно убедиться, глядя на вас!
Мадам Парнак улыбнулась.
— Неплохо… Но успокойтесь, крошка, я вовсе не желаю зла вашему Франсуа…
— Вот это и настораживает!
— Можете думать все что угодно, Мишель, но я еще не в том возрасте, чтобы связываться с сосунками.
— Поэтому-то он все время и крутится вокруг вас.
— По-вашему, я уж и понравиться не могу?
— Конечно-конечно, Франсуа настолько вам безразличен, что вы, замужняя женщина, назначаете ему ночью свидание!
— Причем здесь свидание? Он сказал, что должен сообщить мне что-то очень важное!
— Какой все-таки дурак!
— Это верно, вы составите неплохую пару… если, конечно, не станет возражать третий, ваш отец.
— Как-нибудь разберемся, только не мутите воду!
— Мне-то зачем?.. Но вы забыли одну вещь, Мишель, — Франсуа не любит вас.
— Главное, чтоб вы не лезли, а это уже мое дело! — закончила Мишель и вышла из комнаты мачехи. В холле она наткнулась на Франсуа Лепито.
— Ах, и вы здесь! — воскликнула Мишель, даже не дав ему времени поздороваться. — Какого черта вас сюда занесло?
— Но… я хотел узнать, как себя чувствует мадам Парнак…
— И вам не стыдно?
— Стыдно? — изумился Лепито.
— Какой наглец! Только отец в кабинет, а этот уже шасть к его жене? — возмущалась Мишель. — Что вам здесь нужно в конце-то концов? Ну?
— Ничего, обычный долг вежливости. Повторяю, я хотел узнать о ее здоровье.
— Так я вам и поверила! Долг вежливости!.. Вам-то что за дело до здоровья моей мачехи?
— По-моему…
— Молчали б лучше! Одно у вас на уме, развратник! А может, вас, как всякого убийцу, тянет на место преступления?
— Ну что вы несете? Совсем рехнулись? — слабо отбивался Лепито.
— Во-первых, попрошу вас разговаривать со мной вежливо! А во-вторых, нечего из меня дуру делать!
— Совершенно не понимаю, в чем…
— Вы что же, воображаете, будто ваше ночное свидание с мачехой для меня тайна? Это вы ее стукнули?
— Нет-нет, клянусь вам, это не я!
— Жаль! Это единственное, что я охотно простила бы вам! А теперь убирайтесь!
В это время нотариус вышел из своего кабинета и, увидев, что молодой клерк разговаривает с его дочерью, спросил:
— Вы хотели меня видеть, Франсуа?
— Пальцем в небо! — фыркнула Мишель.
— Я… я пришел… вернее, я хотел… узнать, как себя чувствует мадам Парнак.
— Очень мило с вашей стороны, Франсуа.
— Просто нет слов, как мило! — сквозь зубы пробормотала девушка.
Мэтр Альбер рассердился.
— В конце концов это просто невыносимо, Мишель! Какая муха тебя сегодня укусила? Твои замечания нелепы и неуместны.
— Нелепы и неуместны, да?
— Вот именно!
— Что ж, разбирайтесь сами! Почему б тогда не отвести его к Соне? Пусть убедится, что твоя супруга жива.
— Очень хорошо! Как раз это я и собираюсь сделать. Вы идете, Франсуа?
Мишель испустила вопль, похожий на крик бешеного слона, готового вонзить бивни в соперника.
— О-о-о! Полтора идиота!
И, повернувшись на каблуках, она выбежала в сад. Мэтр Парнак покачал головой и повел клерка в комнату жены.
— С моей дочерью что-то неладное. По-моему, она ревнует.
Франсуа показалось, что у него остановилось сердце.
— Ревнует? — прошептал он, побледнев.
— Да, Мишель, наверное, считает, что я люблю ее меньше, чем раньше. Глупенькая! Разве можно сравнивать любовь к жене и любовь к дочери!
Если Соня и удивилась, увидев Франсуа, то никак не выдала своего недоумения.
Эдмон Шаллан и Ансельм Лакоссад разрабатывали план действий на завтрашний день. Неожиданно дежурный сообщил, что с комиссаром хотел бы поговорить мэтр Парнак.
Нотариус снисходительно поздоровался, как и подобало богатому буржуа в разговоре с полицейским.
— Господин комиссар, я позволил себе побеспокоить вас, чтобы просить, не щадя сил, искать виновника покушения, которое едва не стоило жизни моей жене.
— Поверьте, мэтр, мы делаем все возможное, но у нас слишком мало исходного материала. Мадам Парнак не сообщила вам никаких подробностей?
— Нет. Жена ничего не помнит. Она вышла в сад, надеясь облегчить тяжелый приступ мигрени, и неожиданно получила страшный удар по голове и сразу потеряла сознание.
— Крайне скупая информация, мэтр. Согласитесь, что нам будет довольно трудно добиться результата… Я лично считаю, что виновен какой-нибудь бродяга, задумавший ограбить домик мсье Дезире, после того как узнал, что хозяин умер и там никого нет… Внезапно встретив мадам Парнак, он ударил ее исключительно из чувства самозащиты… Впрочем, мог быть и другой вариант…
— Да? Какой же?
— Допустим… кто-то и в самом деле хотел убить вашу жену.
— В конце-то концов, ну кто ж это может так ненавидеть Соню, чтобы желать ей смерти?
— Пока я не могу ответить на этот вопрос, мэтр, и вы сами понимаете почему. У вас есть враги?
— Насколько мне известно — нет. Завистники наверняка есть, но вряд ли кому-то из них может прийти в голову убить мою жену.
— Позвольте задать вам несколько нескромных вопросов, мэтр. Уж простите, но это необходимо.
— Прошу вас. Мне нечего скрывать. Жизнь Альбера Парнака прозрачна как горный хрусталь.
— Вы богаты, мэтр?
— И впрямь странный вопрос, но я все же отвечу. Да, я богат, особенно теперь, когда получаю наследство брата — его состояние гораздо значительнее моего.
— Вы уже составили завещание?
— Разумеется. Оно лежит у мэтра Вальпеля.
— Не согласились бы вы сообщить мне его содержание? Обещаю хранить профессиональную тайну.
— Право же, не вижу никаких причин напускать туману. Все мое состояние в равных долях переходит жене и дочери, а после смерти одной из них все получит другая. Но откуда такой интерес к моему имуществу и наследникам?
— По правде говоря, еще не могу сказать точно, почему это нас заинтересовало. Мы бредем на ощупь и, как слепые, то и дело останавливаемся, ожидая, пока кто-нибудь подскажет дорогу.
— В таком случае будем надеяться, что сострадательный прохожий скоро появится… Мне было бы весьма жаль, господин комиссар, если бы пришлось просить ваше начальство несколько оживить ход расследования. До свидания, господа.
— Будьте осторожны, — бросил вслед нотариусу Шаллан, — особенно по ночам. После того как с вашей женой случилось несчастье, лишние предосторожности не повредят.
— Предосторожности?
— А вдруг тот, кто напал на вашу жену, вздумает приняться за вас?
— Какая ерунда!
Однако в голосе мэтра Альбера не было уверенности. Когда он ушел, комиссар обернулся к Лакоссаду.
— Что вы думаете об этом типе?
— Могу лишь с удовольствием повторить фразу Публия Сира: «Лишь людская алчность сделала из Фортуны богиню».
— Да, кажется, наш нотариус — хорошее тому подтверждение.
Франсуа Лепито возвращался домой в полной растерянности. Ссора с Мишель, а потом свидание с Соней так потрясли молодого человека, что на некоторое время он совершенно утратил способность размышлять. Клерк даже не заметил, что Софи Шерминьяк поджидает его у порога, и обратил на нее внимание, лишь когда не в меру страстная вдова крепко схватила его за руку и втянула к себе в комнату. Франсуа почувствовал себя так же, как, видимо, чувствует себя рыба в щупальцах осьминога. Софи усадила его на стул, заставила проглотить стаканчик «Аркебюза», от которого молодой человек мучительно закашлялся, и, пока он переводил дух, бросилась в атаку.
— Ну, Франсуа, пора с этим кончать!
Тот ошарашенно уставился на вдову.
— Кончать? С кем?
— Как это с кем? Со всеми, кто решил вас извести: с полицейскими, конечно, но прежде всего с этой бесстыжей распутницей.
— Мадам Шерминьяк! — округлив глаза, выдохнул Франсуа.
— Ни слова больше! Я знаю все! Мадам Парнак заманивает вас в сети. Но я этого не допущу! Она еще не знает Софи Шерминьяк!
— О чем? Я ни слова не понимаю…
— О, я знаю, у вас душа дворянина и вы не можете обвинить женщину! Но вы не должны угодить в ее ловушку. Тем более что любите другую и любимы ею!
Лепито подумал, что, наверное, к вдове приходила плакаться Мишель.
— Откуда вы знаете? — спросил он.
— По некоторым признакам. Они никогда не обманывают! Да, Франсуа, можете не сомневаться — вам платят взаимностью… или, если хотите, чтобы я поставила все точки над i, — вас любят! От вас ожидают лишь слова или жеста, чтобы открыть объятия! Одно движение — и вы сможете прикорнуть у нее на груди!
Все еще думая, что вдова имеет в виду Мишель, молодой человек возразил:
— Прикорнуть! Не такая уж у нее большая грудь!
— Для вас она станет огромной, ибо любовь способна на все! Ну, теперь вы верите мне?
— Право же…
— Надеюсь, вы не заставите порядочную женщину совершить насилие над собственной стыдливостью и первой кинуться в ваши объятия?
— Нет, конечно, нет…
— Так решайтесь же!
— Вы думаете, надо?
— Чем раньше — тем лучше!
— Вы находите?
— Послушайтесь наконец веления своего сердца!
Но, вопреки тому, на что, вероятно, надеялась вдова Шерминьяк, веление сердца толкнуло Лепито не к ней на грудь, а на лестницу, ибо молодой человек мечтал сейчас только об одном: лечь спать и хотя бы на время забыть о кошмарном лабиринте, в котором он окончательно заблудился.
Лакоссад только собрался попрощаться с комиссаром и отправиться домой, как дверь неожиданно распахнулась, и в кабинет ввалились дежурный полицейский и Альбер Парнак. Что касается последнего, то это был уже не тот самоуверенный буржуа, совсем недавно свысока беседовавший с полицейскими, а бледный, растерянный и вконец перепуганный человечек. Прежде чем дежурный успел открыть рот, собираясь извиниться за подобное вторжение, нотариус воскликнул:
— Вы были правы, господин комиссар! Кто-то преследует всю мою семью! Я лишь чудом избежал смерти!
Мэтра Парнака усадили в кресло, дали стакан воды, и, когда он немного пришел в себя, Шаллан спросил:
— Так что с вами случилось?
— В мою машину подложили бомбу!
— Бомбу?
— Да, и она разнесла машину через несколько минут после того, как я из нее вышел!
— Надо думать, не рассчитали время, — меланхолично заключил Ансельм Лакоссад.
IV
Комиссар поудобнее устроился в кресле.
— А что, если вы расскажете нам все поподробнее, мэтр?
— Хорошо… В первую пятницу каждого месяца я езжу в Польминьяк к вдове Форэ. У этой дамы весьма значительное состояние, и я веду ее дела с незапамятных времен. Точнее говоря, еще мой отец взял на себя заботу об интересах этой семьи. И вот сегодня я, как обычно, поехал навестить свою клиентку. У мадам Форэ очаровательная вилла чуть в стороне от деревни. Мы с мадам Форэ разговаривали, как вдруг услышали ужасный взрыв. Я бросился к окну и увидел охваченные пламенем обломки моей машины. Можете мне поверить, я был потрясен до глубины души!
— Охотно верю.
— Мадам Форэ всегда отличалась завидным хладнокровием, а кроме того, она в том возрасте, когда все волнения далеко позади. Поэтому она нисколько не утратила присутствия духа и немедленно позвонила пожарным. Они примчались довольно быстро, но все уже было кончено. Таким образом, меня спасла лишь счастливая случайность!
— Мэтр, вы помните слова Макиавелли: «Случай управляет лишь половиной поступков, остальное — в наших руках»? — не замедлил вставить Лакоссад.
— И что с того?
— Легче всего объяснить все как случайность, мэтр.
— По-прежнему не понимаю, куда вы клоните.
— Скажите, каждую первую пятницу месяца вы выезжаете в Польминьяк в одно и то же время?
— Точность — моя болезнь, инспектор, поэтому я выезжаю ровно в восемнадцать тридцать — ни минутой раньше, ни минутой позже. К своей клиентке я приезжаю в восемнадцать пятьдесят, покидаю ее в девятнадцать тридцать и в девятнадцать пятьдесят возвращаюсь домой.
— А когда произошел взрыв?
— В восемнадцать сорок.
— Но если вы приезжаете в Польминьяк в восемнадцать пятьдесят, то должны были находиться в дороге?
— Да, но сегодня я выехал на пятнадцать минут раньше. Мне хотелось вернуться еще до того, как моя жена уснет.
— По-видимому, это решение спасло вам жизнь, мэтр. Теперь вы видите, что случай управляет далеко не всем.
— Вы правы. Я сам себя спас.
— Вот именно.
— Блестящие логические построения Лакоссада, — заметил, в свою очередь, комиссар, — вполне очевидно доказывают, что преступник прекрасно знает все ваши привычки и имеет возможность, не привлекая внимания, подойти к машине. Иными словами, мэтр, это кто-то из вашего окружения.
— Уж не намекаете ли вы, что преступником может быть кто-то из моих родных? Невероятно! Подобное предположение просто чудовищно!
Ансельм Лакоссад не мог упустить случай прочесть нравоучение:
— У датчан есть такая пословица: «Нет худших друзей, чем родня, — говорила лисица преследующей ее собаке».
— Плевать мне на датчан и на их пословицы! Из всей родни со мной живут только жена и дочь! Вы ведь не станете утверждать, что…
— Не волнуйтесь так, мэтр, — успокоил его комиссар, — я говорил не о родственниках, а об окружении. Кроме того, ваша жена и дочь, раз уж вы сами о них упомянули, не могли не знать, что вы решили выехать пораньше. Кстати, когда вы приняли это решение?
— Почти перед отъездом.
— Стало быть, преступник не знал об этом и полагал, что вы, как обычно, уедете в восемнадцать тридцать. Кто, кроме жены и дочери, может подойти к вашей машине, не вызывая недоумения?
— Боже мой…
— Позвольте ответить за вас: прислуга…
— Абсурдно!
— …или кто-то из служащих конторы…
— Вы отдаете себе отчет, комиссар, что, по сути дела, обвиняете одного из моих клерков в попытке меня убить?
Зазвонил телефон, и Шаллану передали, что с ним хочет поговорить жена.
— Я слушаю… что случилось, Олимпа?
— С чем тебе приготовить на ужин телячью отбивную — с лисичками или со сморчками?
— Я занят и…
— Занят ты или нет, но на вопрос-то ответить можешь. Так с чем?
— Со сморчками.
— Ладно, только если я положу сморчки…
И пока нотариус обсуждал с инспектором леденящую кровь историю неудачного покушения, открывшую перед мэтром Альбером самые мрачные перспективы, Эдмон Шаллан и его жена ушли в дебри одной из тех бесчисленных кулинарных бесед, которые доставляли так много удовольствия им обоим. Когда комиссар наконец повесил трубку, глаза его блестели, словно он уже сидел над тарелкой и видел золотистую корочку котлетки, покрытой белым соусом бешамель, а сморчки распространяли тот волшебный аромат, от которого у любого гурмана заранее слюнки текут. Возмущенный таким равнодушным отношением комиссара к своей особе нотариус раскричался:
— По правде говоря, я вас не понимаю! На мою жизнь покушались, и я все еще в опасности, ибо ничто не доказывает, что убийца отступится…
— Можете не сомневаться, он не отступится, — вкрадчивым голосом перебил Шаллан.
— …и вместо того, чтобы защищать, вы ведете разговоры о кухне? Неужели у вас совсем нет сердца?
— Позвольте не согласиться с вами, мэтр, — возразил Ансельм Лакоссад, — и напомнить слова Вовенарга: «Только у человека с душой может быть хороший вкус».
— Когда мы имеем дело с преступным умыслом, — снова заговорил комиссар, — самое главное, мэтр, — не утратить хладнокровия, только тогда есть шанс остаться в живых. Этот разговор с женой для меня своего рода профессиональная уловка. Таким образом я восстанавливаю равновесие и даю другим возможность обсудить положение. Теперь, мэтр, мой помощник и я сам, мы нисколько не сомневаемся, что по какой-то пока неизвестной причине (впрочем, некоторые подозрения у нас уже есть) кто-то вознамерился устранить одного за другим почти всех членов вашей семьи. Сегодня мы можем вам признаться, что инспектор Лакоссад всегда питал глубокие сомнения относительно самоубийства вашего брата.
— Сомнения?
— Инспектор считает, что его убили. Должен признать, то, что произошло вчера с вашей женой, а сегодня с вами, побуждает меня разделить его точку зрения.
— Но это же безумие! Послушайте, ведь доктор Периньяк высказался вполне определенно!
— Доктора Периньяка могла ввести в заблуждение тонко продуманная инсценировка. Вспомните, выстрела ведь никто не слышал!
— Но доктор сказал, что мой несчастный брат обернул пистолет простыней.
— Этого мало! Чтобы заглушить шум, нужна была более плотная ткань, и преступник — если таковой существует — унес ее. Разумеется, вы понимаете, мэтр, что это строжайшая тайна. Не исключено все же, что мы ошибаемся. А поэтому дайте мне слово никому не говорить о наших подозрениях, решительно никому!
— Даю вам честное слово.
— Благодарю. Если же мы с инспектором не ошиблись и вашего брата действительно убили, то опять-таки придется признать, что для преступника многое не было секретом: тайник с револьвером, открытое окно, крепкий сон жертвы и так далее. Стало быть, как и в вашем случае, это был кто-то из ближайшего окружения. Вы не согласны со мной?
— Увы… Но представить, что кто-то из тех, кого я считал самыми преданными друзьями, мог попытаться прикончить меня и покушаться на моих близких…
Комиссар вздохнул, показывая тем самым, что вполне понимает смятение нотариуса и глубоко сочувствует, а Лакоссад, как всегда, выразил занимавшие его мысли пословицей:
— Еще наши далекие предки мудро заметили, что «рукоять топора обращается против родного леса».
Франсуа Лепито плохо спал той ночью — ему снилось, словно в кошмарном бреду, что его рвут на части разъяренные фурии, похожие на Соню, Мишель и вдову Шерминьяк. В доме Парнаков тоже мало кто наслаждался покоем. Охваченный лихорадкой, нотариус вздрагивал от каждого скрипа половицы и с минуты на минуту ожидал появления некоего безликого убийцы, замыслившего стереть его семью с лица земли. Соня раздумывала над всем происшедшим, а Мишель вертелась с боку на бок, не в силах побороть подозрение, что Франсуа решил уничтожить ее отца как главное препятствие между ним и Соней. Комиссар Шаллан благодаря прекрасному пищеварению спал сном праведника и не видел снов, а инспектор Ансельм Лакоссад бодрствовал до поздней ночи — он обнаружил очаровательный сборник исламских пословиц. Софи Шерминьяк проводила время в раздумьях о том, как ей строить свое будущее, после того как она превратится в мадам Лепито. Никогда не упускавшая случая вздремнуть, Агата Шамболь мирно почивала и сегодня.
Утром все изменилось.
Встав спозаранку, Мишель отправилась на бульвар Монтион поджидать появления Франсуа. Увидев молодого человека, она с воинственным видом бросилась навстречу.
— Вы, конечно, направляетесь в контору?!
— О боже! Она опять за старое?
— А вы?
— Что я?
— Хотите еще раз попробовать отнять жизнь у моего отца?
— У вас явно не все дома!
— Нет, это у вас не хватает мужества отвечать за свои поступки. Подлый трус!
— Мишель, я очень хорошо отношусь к вам…
— Ах, подлец! И как не стыдно говорить это, после того что было?
— …я очень хорошо отношусь к вам, и мне бы не хотелось, чтобы вы заболели… Вам надо подлечиться.
— Перестаньте крутить! Уж лучше сразу скажите, что я чокнутая!
— Лучше возьмите себя в руки, иначе действительно этим может кончиться. И не вздумайте снова бить меня по лицу! Предупреждаю: на сей раз получите сдачу.
— У меня достаточно здравого смысла, чтобы не связываться с убийцей!
— С кем, с кем?
— С убийцей! С «мокрушником», если вам так больше нравится! Ну что вам сделал мой бедный папа? Мало того, что вы пытаетесь увести у него жену, бесстыдник этакий! Имейте в виду, я никогда не выйду замуж за человека, на котором хоть капля крови моего отца! Я выдам вас полиции, слышите? Я все расскажу!
И, оставив в очередной раз нокаутированного клерка, Мишель помчалась на частные курсы, где отнюдь не числилась среди лучших учениц.
Всю дорогу до дома мэтра Парнака Франсуа не мог прийти в себя. Едва он коснулся двери конторы, как вдруг услышал, что кто-то тихонько зовет его. Молодой человек обернулся и увидел Соню, стоявшую на пороге своей комнаты. Молодая женщина знаком предложила ему войти. Клерк вне себя от смущения поспешил исполнить приказ. Мадам Парнак пропустила его в комнату и закрыла дверь.
— Мой бедный Франсуа, — взволнованно спросила она, — вы до такой степени меня любите?
Лепито подумал, что, должно быть, злой рок сегодня утром не дает ему понять ни слова из того, что говорят ближние.
— Вы же знаете, Соня, я… я обожаю вас.
— Но я никак не ожидала, что ваша страсть может быть так сильна! Мой бедный малыш, как же вы, наверное, страдали, если пошли на такое дело?
— На какое?
— Тс-с-с! Вы с ума сошли! Безумец! Оставим лучше эту ужасную тему! Незачем все это вспоминать… Хорошо? Слушайте, хоть вы этого и не заслуживаете, но я хочу навестить вас сегодня часов в пять.
— Ах, Соня…
— А теперь бегите, только посмотрите сначала, нет ли вокруг нескромных глаз.
Вне себя от радости, Франсуа довольно ловко выскользнул за дверь, но тут же едва не растянулся в полный рост посреди коридора, так он был поражен, услышав шепот своей возлюбленной:
— Только не пытайтесь убить моего мужа! Прошу вас! Мне не нужно никаких доказательств вашей любви!..
Сначала Мишель, а теперь еще и Соня подозревают его в каких-то мрачных умыслах против мэтра Парнака… Что все это значит? Тут он увидел Агату Шамболь — воплощение повседневности и домашних забот. Одно ее присутствие придавало каждой вещи весомость и рассеивало любые грезы.
— Агата… это в самом деле вы? И я действительно стою тут, напротив вас?
Она взглянула на него с невозмутимостью коровы, созерцающей уступы родных гор.
— Господи, вас тоже выбило из колеи это преступление!
— Преступление?
— Разве вы не знаете, что нашего хозяина пытались взорвать?
— Взорвать?
— Представьте себе! В его машину засунули бомбу. И вот сидит он у дамы из Польминьяка, как вдруг — бум!
— Бум?
— Машина хозяина разлетелась на тысячу кусков. Счастье еще, что его там не было… Тот, кто это затеял, плохо рассчитал время… Ну, Иисусе Христе, есть же на земле такие злые люди!
Франсуа в каком-то заторможенном состоянии, как сомнамбула, толкнул дверь в контору. Он совершенно ничего не мог понять. Разумеется, коллеги уже знали о происшествии, но, вопреки его ожиданиям, никто не проронил ни слова, и клерк прошел к своему столу в полном молчании. События превосходили всякое понимание. Каждый из этих людей привык жить в том мире, где даже мысли о преступлении не допускалось. И то, что в их размеренное существование вдруг проникло нечто страшное и отвратительное, о чем можно прочитать разве что на страницах криминальной хроники, совершенно не укладывалось в голове.
Около девяти часов в контору вошел нотариус. Он появился с таким скорбным и мрачным лицом, какое, вероятно, было бы у Цезаря, если б он узнал о намерениях Брута. Мэтр Альбер замер посреди комнаты, пристально вглядываясь в лица служащих. Кто же из них убийца? Под чьей улыбкой прячется смертельная ненависть? Кто под подчительностью скрывает измену?..
— Мадемуазель, господа…
Все положили перья и со смутной, почти болезненной тревогой воззрились на хозяина.
— …вы не можете не знать о покушении и о том, что я лишь чудом избежал смерти… Я думал, меня окружают одни друзья, и вот…
Голос нотариуса сорвался.
— Мне мучительно думать, что кто-то из живущих рядом жаждет моей гибели…
Никто не возразил. Взрыв бомбы заранее обесценил любые уверения в преданности.
— Естественно, я обратился в полицию и попросил начать расследование. Я хочу знать своего врага. Пока же могу только сказать, что он трус. Мадемуазель, мсье… Полицейские обязаны предпринять определенные шаги. И я попрошу вас в меру своих возможностей облегчить им задачу. Заранее благодарю вас.
Увидев, что мэтр Альбер собирается уходить, старший клерк вскочил.
— Мэтр, я думаю, что выражу общее мнение, сказав, как все мы были потрясены, узнав…
— Общее мнение, Ремуйе? — с горечью прервал его нотариус. — Боюсь, что вы ошибаетесь.
И он, не желая больше ничего слушать, вышел из конторы. Антуан повернулся к коллегам.
— Честное слово, он, кажется, подозревает кого-то из нас?
— Так ли уж он не прав? — хмыкнул Вермель.
Появление Агаты предотвратило грозу, которую едва не вызвало замечание старого клерка.
— Хозяин ожидает мадемуазель Мулезан у себя в кабинете, и немедленно!
Нотариус предоставил свой кабинет в распоряжение инспектора Лакоссада. В первую очередь тот решил выяснить, кто из служащих разбирается в механике. Если человек не смыслит в механизмах, вряд ли он сможет сделать бомбу и тем более установить ее в мотор, ничего не нарушив.
Допрос мадемуазель Мулезан и Вермеля не отнял много времени. Первая даже не понимала, о чем ее спрашивают, а второй, напротив, стараясь показать, будто он в курсе всех современных технических достижений, с самым претенциозным видом изрекал невероятные глупости. Зато Антуан Ремуйе, не будучи специалистом, все же знал достаточно, чтобы инспектор оставил его в числе подозреваемых. Однако зачем все эти преступления старшему клерку? Напротив, все его надежды зиждутся на долголетии Парнаков. Он занимает в конторе привилегированное положение, а, кроме того, нотариус обещал помочь ему открыть собственное дело. Само собой, это обещание может быть выполнено только при жизни мэтра Альбера. Прикинув все это, Лакоссад решил, что подозревать Антуана не имеет смысла. Что до Франсуа, то он, как и все современные молодые люди, знал о механике все, что только можно узнать. Немного помолчав, полицейский спросил:
— Вы догадываетесь, почему я вам задаю все эти вопросы, нисколько не связанные с юриспруденцией?
— Полагаю, что это связано с покушением на мэтра Парнака.
— Верно. И должен с грустью сообщить вам, что вы — основной подозреваемый.
— Я?
— Подумайте сами: покушение явно подготовлено здесь, в доме. О том же, что нотариус несколько изменил расписание, знали только домашние, стало быть, жену и дочь мы исключаем. Не думаю также, чтобы можно было всерьез рассматривать вопрос о виновности Агаты. Остаются служащие. Вероятно, вас нисколько не удивит, что я тут же отбросил мысль о мадемуазель Мулезан и Вермеле. Остаетесь вы с Ремуйе. К несчастью, из вас двоих только у вас есть мотив.
— И какой же?
— Мадам Парнак.
— Какая глупость!
— Ничуть. На редкость обычная история. Влюбленный убивает мужа в надежде занять его место.
— У вас богатое воображение!
— Нет, просто кое-какой опыт.
— Я люблю мадам Парнак, это правда. И, судя по тому, с какой невероятной быстротой распространяются сплетни, скоро в неведении останется разве что муж. Да, я люблю ее, но не настолько, чтобы стать убийцей!
— А может быть, вы оказались настолько дороги этой даме, что она готова даже пойти на преступление? Как говорят англичане, «мужчина ищет женщину до тех пор, пока она его не поймает». По-моему, вас уже изловили.
Лепито только руками развел.
— Ну что я могу вам ответить? Раз уж все так уверены, то я хочу прикончить своего хозяина, тащите меня за решетку. Это защитит его.
— Вы сказали все?
— Конечно, все. Сегодня утром Мишель обвинила меня в том, будто я пытался взорвать ее отца, чтобы он не мешал мне ухаживать за Соней. И Соня тоже в этом уверена. Она просто в восторге — думает, что только сильное чувство может толкнуть на такой поступок. Впрочем, мадам Парнак очень просила меня прекратить покушения на ее супруга. Похоже, что все, кажется, не видят ничего странного в том, что я вдруг стал убийцей…
— Да, ситуация неприятная. Вам надо держаться настороже. Как говаривали в таких случаях в прежние времена на Руси, «Христа распяло общественное мнение». Что ж до вашего стремления за решетку, то мы об этом еще поговорим, если угодно. Но несколько позже.
Покинув дом Парнаков, Лакоссад отправился докладывать о результатах комиссару Шаллану. Инспектор сказал, что всерьез подозревать можно пока только Франсуа Лепито, однако сам он не верит в виновность молодого человека.
— Почему?
— По-моему, я достаточно хорошо его знаю. Франсуа — человек мягкий, хорошо воспитанный и очень застенчивый…
— Ну не так уж он робок, раз ухлестывает за женой хозяина!
— Это как раз лишнее свидетельство его наивности.
— Если не хитрости.
— Честно говоря, не понимаю…
— А вдруг вся эта его страсть к прекрасной Соне Парнак — сплошное притворство? Может, ваш Франсуа разыгрывает спектакль для отвода глаз?
— Зачем?
— Чтобы разбогатеть.
— Не улавливаю…
— Я долго думал обо всей этой истории, старина, и если мсье Дезире в самом деле убили, то цепь преступлений, начавшаяся гибелью первой жертвы, ранением второй и лишь чудом сорвавшимся покушением на третью, находит только одно объяснение: деньги.
Давайте прокрутим все еще раз. Мсье Дезире умирает, и его деньги переходят к брату. После его кончины состояние обоих братьев в равных долях унаследуют жена и дочь. Со смертью Сони (а ведь это едва не случилось) все деньги получает Мишель. Может быть, крошка не прочь получить внушительное наследство?
— А вам не кажется, что здесь небольшой перебор? Девушка убивает подряд дядю, отца, мачеху… Я, конечно, не слишком высоко ставлю человеческую породу, но тут все-таки вы хватили через край…
— Я думал не о Мишель Парнак, а о Франсуа Лепито.
— Но какого черта он мог…
— Позвольте мне изложить вам свою версию, а уж потом высказывайте любые замечания. Жил-был неглупый молодой человек приятной наружности, любимец женщин… Короче, из тех, кто мужчинам внушает доверие, а в наших спутницах пробуждает материнскую любовь. Меж тем парень честолюбив, а скромное материальное положение не позволяет ему развернуться. Рядом оказывается состоятельная семья, и, к счастью для нашего честолюбца, в него влюбляется единственная дочка хозяина. Но предполагаемого приданого барышни ему мало. Парень хочет получить сразу все. Поэтому он изображает бешеную страсть к жене хозяина (на мой взгляд, эта любовь уж слишком демонстративна), чтобы, не вызывая подозрений, обогатить ту, на которой хочет жениться. Кому придет в голову обвинять воздыхателя Сони? Ведь в таком случае миллионы Мишель его нисколько не касаются. Зная о завещании мсье Дезире, молодой человек устроил его «самоубийство», потом попытался убрать Соню, а следом едва не отправил к праотцам и нотариуса. Мишель, возможно, действовала с ним сообща, но, по правде говоря, я склонен согласиться с вами,
что они здесь ни при чем. Некоторые моменты настолько не укладываются в голове, что лучше воздержаться от этого предположения. Поэтому я готов ставить на полную невиновность девушку. А вот Соня наверняка знает, что ее ударил Франсуа, но не хочет ничего сказать, опасаясь скандала. По-моему, ей угрожает опасность. Лепито незачем оставлять мадам Парнак в живых, она одна знает о его преступлениях. Ну что вы об этом скажете?
— Пожалуй, я слишком растерян, чтобы составить определенное мнение. Мне надо хорошенько обдумать вашу версию. Во всяком случае, если Франсуа виновен, ему бы следовало обмозговать испанскую пословицу: «Кто ждет богатства к концу года, не дотянет и до лета».
Увидев в окно, как Франсуа Лепито возвращается домой с букетом цветов, Софи Шерминьяк подумала, что молодой человек наконец решился сделать признание, и сердце ее бешено застучало. Софи хотела выпить для храбрости капельку «Аркебюза», но, подумав, что ее ждет первый поцелуй, воздержалась. Мадам Шерминьяк уселась в свое самое красивое кресло, быстро поправила волосы и приняла позу, сочетавшую, как ей казалось, нежную покорность и чувство собственного достоинства, приличествующее владелице собственного дома.
Софи ждала напрасно. Франсуа, не останавливаясь, прошел мимо ее двери и поднялся по лестнице. Если эти цветы не для нее, то кому же они предназначены? Змея ревности обвила сердце пылкой вдовы.
Уходя из конторы, Франсуа предупредил Антуана, что плохо себя чувствует и поэтому не вернется после обеда. Чтобы скрасить ожидание, он решил навести порядок в комнате. Молодой человек расставил цветы, перелил в унаследованный от родителей хрустальный графин бутылку только что купленного портвейна и с особой нежностью разгладил складки на диван-кровати. Чем ближе подходил час свидания, тем больше он нервничал. В четверть пятого в дверь постучали, и Лепито окончательно растерялся. Почему Соня пришла на целых сорок пять минут раньше? Все надежды на успех вдруг улетучились. Прежде чем открыть дверь, Франсуа еще раз оглядел убранство комнаты — так генерал перед штурмом проводит последний смотр полков.
Это оказалась не Соня, а Мишель.
— Вы?
— Я! — И, обведя комнату изучающим взглядом, она добавила: — Ну конечно! Весь в ожидании своей Сони, не так ли?
— Зачем вы сюда пришли, Мишель?
— Во-первых, сказать, что я больше не думаю, будто это вы пытались прикончить папу.
— А, так, значит, все-таки не я?
— А во-вторых, хочу сообщить, что вы — последний мерзавец!
— Спасибо!
— И наконец, что я не позволю вам изменять мне с этой шлюхой.
— Мишель, я запрещаю вам…
— Только попробуйте мне что-нибудь запретить, и я мигом все переломаю в вашем гнездышке! Будь вы таким, как я себе представляла, вас вряд ли тянуло бы на всякие гнусности, уже давно бы схватили того, кто покушался на папу! Тогда бы он точно согласился отдать вам мою руку!
— Да не хочу я вашей руки!
— Ах подлец! — и возмущенная девушка влепила Франсуа пощечину. — Тем не менее вам придется ее взять!
— Господи боже мой! Откуда у вас эта привычка! Мне бы следовало устроить вам хорошую трепку!
— О-ля-ля! Уж это мне не грозит!
— Это почему?
— Вы же меня не любите? А бьют, я знаю, только любимых женщин!
— Ничего себе представления! Вас этому научили в монастыре?
Неожиданно гостья расплакалась и рухнула на диван. Франсуа, вне себя от досады и не отводя глаз от часов, обхватил девушку за плечи.
— Ну-ну, возьмите себя в руки и… уходите быстрей.
— Оставьте меня! Вы радуетесь моим страданиям, да? Приятно смотреть, как я плачу? Это щекочет самолюбие, верно?
— Да ничего они мне не щекочут, ваши рыдания! Эти слезы просто действуют мне на нервы, и особенно сейчас.
Мишель поднялась и с решительным видом двинулась на Лепито.
— Ну мне это надоело! Запомните хорошенько, Франсуа! Вам не удастся стать любовником Сони!
— Ах, вот вы как, ну так знайте, барышня, что если у меня возникнет такое желание, то уж у вас я разрешения спрашивать не стану!
— Барышня сумеет подпортить вам планы!
Лепито рассердился и слегка струсил, но изобразил полное презрение.
— Понятно… Решили шантажировать меня? Предупредить своего драгоценного папу, да?
— Мне никто не нужен, я сама в состоянии помешать вашим шашням! — И, резко сменив тон, Мишель торжественно проговорила: — Франсуа Лепито, если вы не откажетесь от Сони, если вы сейчас же не поклянетесь просить у отца моей руки, то через несколько минут, войдя в эту комнату, мачеха найдет здесь мой труп!
— Ваш… что? — ошалело переспросил молодой человек.
— Мой труп!
Девушка вытащила из сумки флакончик с прозрачной жидкостью и сунула его под нос строптивому возлюбленному.
— Видите этот пузырек? Там яд! Он действует не очень быстро, но достаточно надежно. Смерть наступает примерно через час. Так что я еще успею высказать вам обоим все, что у меня накипело!
— Мишель, не будьте дурочкой, отдайте мне флакон!
— Никогда! Даю вам десять секунд: либо вы на мне женитесь, либо я умру.
— Послушайте…
— Ничего не хочу слушать! Решайте, куда вы меня повезете — в мэрию или на кладбище?
Взглянув на часы, Франсуа едва не зарыдал от отчаяния.
— Раз вы настаиваете, — сдался он, — обещаю вести себя с Соней самым почтительным образом.
— Клянетесь?
— Клянусь.
Воспользовавшись тем, что торжествовавшая победу Мишель на секунду утратила бдительность, Лепито вырвал флакон у нее из рук. Девушка была так счастлива, что и не думала протестовать.
— Вы любите меня, Франсуа?
— Что за вопрос? Просто обожаю!
— Я так и знала!
— Ну а теперь, раз все уладилось, вам остается уйти.
— Вы скажете Соне, что любите меня?
— Ну разумеется! Именно для этого я ее и позвал.
— Я сейчас еду к бабушке в Лимож. Надеюсь, к моему возвращению вы успеете поговорить с папой?
— Несомненно.
— Представляю, как он обрадуется!
— Очень, он очень обрадуется…
Мишель была так довольна, что без сопротивления позволила Франсуа выпроводить ее за дверь. Девушка прислонилась к стене и немного постояла, приходя в себя.
Снедаемая ревнивым беспокойством, Софи Шерминьяк в закутке под лестницей ожидала ухода Мишель. Увидев девушку, она облегченно вздохнула. Тем не менее следовало все же потребовать у Франсуа объяснений. Считая себя невестой молодого человека, Софи видела свой долг в защите их любви от всех интриганок. Вдова на секунду заскочила в свою комнату, чтобы придать себе как можно более соблазнительный вид, и побежала выяснить, в чем дело, но у лестницы нос к носу столкнулась с Соней.
— Будьте любезны, как мне найти мсье Лепито? — самым светским тоном спросила мадам Парнак.
— Четвертый этаж, напротив, — механически отозвалась оглушенная новым ударом судьбы вдова.
— Благодарю вас.
Когда мадам Шерминьяк пришла в себя, Соня уже стучала в дверь Франсуа. Что понадобилось этой Иезавели? Ревность вдовы сменилась гневом. Уж не ошиблась ли она в маленьком Лепито? Может, он вовсе не романтичный и нежный влюбленный, каким она его себе воображала, а Дон-Жуан, задумавший пополнить ею список своих побед? Однако Софи настолько уверовала в свои мечты, что почла за благо проявить сдержанность. В конце концов эти женщины могут оказаться его родственницами. Девушка-то была в его комнате совсем недолго. И вдова решила подождать.
Пока мадам Шерминьяк переживала эту внутреннюю бурю, Франсуа млел от восторга рядом с Соней. Молодой человек пытался выразить всю свою радость от того, что любимая наконец-то с ним, в его доме, но мадам Парнак одной фразой оборвала эти нежные излияния.
— Вы знаете, я ведь только на минутку.
— На минутку?! — воскликнул Лепито таким тоном, будто его окатили ледяной водой.
— Я пришла поговорить с вами. Признаюсь, что ваш безумный поступок глубоко тронул меня как женщину. Но я никогда бы не одобрила его как супруга. Убийство мужа может только закрыть вам дорогу к моему сердцу!
— Но… но я и не собирался этого делать!
— Не лгите! Какой смысл обманывать! Я вас уже простила и обещаю хранить эту тайну.
— Но клянусь вам…
— Ладно, хватит! Я чувствую, что в конце концов разочаруюсь в вас и пожалею, что пришла.
Оба умолкли, почти враждебно глядя друг на друга. Но Франсуа так долго ждал этого момента, что был готов на все, лишь бы она не ушла.
— Ладно… если вам так хочется… не будем больше об этом… Но я ждал от нашей встречи совсем другого…
— На что же вы надеялись?
— А вы не догадываетесь?
— Да, молодчина, переходите к действиям без задержек, — рассмеялась Соня.
— Просто я вас люблю!
— Милый мальчик, вам это просто кажется… вы еще слишком молоды, Франсуа…
— Я бы хотел похитить вас, чтобы мы жили вдвоем, только вдвоем.
Горячность молодого человека позабавила, а может, и немного тронула Соню, и она опустилась на диван, на что так рассчитывал негодник Лепито.
— Ну, Франсуа, расскажите-ка же мне, куда вы собирались меня увезти?
Словно герой любовного романа, Лепито опустился на колени рядом со своей возлюбленной и взял ее за руку. Соня не возражала.
— Так куда же мы едем? — проворковала она.
— В Венесуэлу!
— Почему же именно туда?
— Потому что там орхидеи растут прямо на стенах, как у нас плющ.
— Да, это, конечно, серьезная причина.
— Вы смеетесь надо мной!
— Ничуть. Я тоже в детстве постоянно мечтала о путешествиях… Например, Мексика завораживала меня одним своим именем…
— Мы поедем и в Мексику, и в Перу, и в Чили, и в Бразилию, и…
— Хватит, хватит, малыш, я уже устала!
Лепито хотел воспользоваться этой минутной слабостью и поцеловать молодую женщину, но она проворно ускользнула.
— Ну-ну, успокойтесь, не то я рассержусь. Дайте-ка мне лучше попить!
Раздосадованный клерк поднялся.
— У меня есть портвейн…
— Да вы, как я погляжу, не промах, встречаете по всем правилам…
Желая увести разговор от опасной темы, жена нотариуса указала на принесенный ее падчерицей флакон.
— А это что за пузырек?
— Микстура.
— Вы заболели?
— Да нет же! Что за странная мысль!
— Чего здесь странного? Кто ж еще принимает микстуру?
— Да, конечно… У меня иногда немножко саднит горло… Это… это смягчающая микстура… А вы, наверное, подумали, что это что-то другое, да? Признайтесь!
— Я? Да ничего я не подумала! Почему вы вдруг так разозлились, Франсуа? У меня тоже побаливает горло, но я же не злюсь из-за этого на весь белый свет!
— Простите меня, Соня… но я так разочарован… Вы и представить себе не можете, как мне больно…
Тихий стук в дверь оборвал защитительную речь Франсуа.
— Вы ждете кого-нибудь еще? — с тревогой спросила Соня.
— Никого, кроме вас. Не волнуйтесь, кто бы это ни был, я живо отправлю его восвояси.
Лепито вышел и быстро закрыл за собой дверь. Перед ним стояла вдова Шерминьяк.
— В чем дело? Я занят!
— Вот именно, что занят! Кто эта Иезавель?
— Простите?
— Я хочу знать имя этой женщины! Зачем она сюда явилась?
— Но, мадам Шерминьяк, вы, кажется, теряете рассудок?
— О, прошу вас, не пытайтесь сбить меня с толку! Вы напоминаете мне покойного мужа — тот тоже как придет, бывало, в стельку пьян, так начнет уверять, будто это у меня в глазах двоится и что я же не стою на ногах!
— Я весьма сочувствую пережитым вами страданиям, но, умоляю, отложим этот разговор на потом.
— А если я скажу этой воровке все, что я о ней думаю?
— Довольно, мадам Шерминьяк!
— Нет, мсье Лепито, не довольно! Когда человек почти обручен, он не имеет права так себя вести!
Франсуа решил, что эта маленькая негодяйка Мишель по дороге обо всем рассказала вдове. Должно быть, когда Соня поднималась по лестнице, они обе сплетничали в квартире домовладелицы. Но в таком случае каким образом мадам Шерминьяк проведала о приходе Сони? Впрочем, решил молодой человек, с этой загадкой можно разобраться и попозже. Сейчас гораздо важнее поскорей отделаться от навязчивой вдовы, а для этого надо успокоить ее насчет своих отношений с Соней.
— Умоляю вас поверить мне, мадам Шерминьяк. Эта дама пришла ко мне по делу, и я не хотел бы, чтобы об этом узнал мой хозяин. Ему может не понравиться, что я работаю не только для его конторы. Что касается той, с кем я почти обручен, то успокойтесь, я нисколько не намерен изменить ей… Она одна занимает мое сердце!
— Вы мне клянетесь?
— Клянусь!
— Ох, Франсуа, — нежно проворковала вдова, — и когда же вы официально объявите ей о своей любви?
— Как только наберусь мужества…
— А стоит ли тянуть, Франсуа? Если ваша нежность взаимна (а я в этом нисколько не сомневаюсь), то вам мгновенно пойдут навстречу! Не понимаю, ну что вас останавливает!
Не будь у него сейчас Сони, Лепито непременно спросил бы у вдовы, не стыдно ли ей с таким упорством лезть в чужие дела. Но нужно было любой ценой избежать скандала.
— Она богата, а я беден…
— Какая разница, если она вас любит?
— Если бы я мог быть в этом уверен, — лицемерно вздохнул клерк.
— Но раз я вам это говорю, то не стоит сомневаться! — радостно произнесла вдова.
Неожиданно, так что Франсуа не успел отстраниться, она наградила его звучным поцелуем и, напевая романтическую песенку, удалилась. Лепито ошарашенно смотрел, как она прыгает через ступеньку и пляшет на каждой лестничной площадке. На мгновение ему даже показалось, что мадам Шерминьяк вот-вот оседлает перила и таким образом спустится вниз. «Да, — сказал себе молодой человек, — видимо, ближе к пятидесяти годам на некоторых овернских вдов находят этакие странные помрачения».
На вопрос Сони, кто приходил, Лепито ответил, что это якобы один его знакомый, за которого он обещал похлопотать, когда мадемуазель Мулезан или мсье Вермель уйдут на пенсию. Приятель-де хотел выяснить, не решился ли наконец кто-то из стариков уступить место.
Франсуа так разволновался, что почти без сил опустился на диван. Соня решила, что начинающего соблазнителя удручает ее холодность, и ласково погладила его по лбу.
— Ну-ну, прогоните эти мрачные мысли… Нельзя же получить все сразу… Знаете, то, что я пришла сюда, и так чудо! Ради вас я рискую своим добрым именем! Вы думаете, я бы пошла на это, если бы не испытывала симпатии к некоему Франсуа Лепито?
Клерк мгновенно пришел в себя и попытался обнять Соню, но та опять увернулась и при этом случайно уронила флакон Мишель. Франсуа подхватил его на лету и хотел снова поставить на камин, как вдруг заметил, что пузырек наполовину пуст. Молодой человек оцепенел от страха.
— Только этого не хватало! — с ужасом произнес он.
— В чем дело? — удивленно уставилась на него мадам Парнак.
— Это вы… выпили то, что… было в пузырьке?
— Пока вы отделывались от незваного гостя, у меня пересохло в горле — вот я и отхлебнула вашей микстуры. Вы ведь говорили, она смягчает горло. Мне не следовало этого делать?
— Нет, не следовало… и вы даже не догадываетесь, до какой степени не следовало! — побледневшими губами прошептал бедный влюбленный.
— Послушай, малыш, ну что за трагедия, если я отпила немного микстуры?
— К несчастью, это именно трагедия, — чуть не плача похоронным тоном проговорил он.
Соня схватила молодого человека за руку и, смеясь, потащила к дивану.
— Пойдемте, я хочу послушать, что мы стали бы делать в Венесуэле.
— О, вы знаете, Венесуэла очень далеко…
— Что это с ней случилось? Только что была рядом. Неужто она так отдалилась за эту пару минут?
— Вы даже не представляете себе, насколько… Мы вечно мечтаем о всяких путешествиях, а потом в конце концов начинаем жалеть о родном доме.
— Что это на вас нашло, Франсуа?
Не мог же он признаться мадам Парнак, что жаждет сейчас только одного: чтобы она поскорее ушла и отправилась на тот свет где угодно, но никак уж не здесь.
— Нам надо быть очень осторожными, Соня, — постарался как можно убедительнее произнести не на шутку встревоженный Франсуа. — А что, если ваш муж…
— Минуту назад вы хотели уехать со мной в Венесуэлу! Нам надо обсудить все… подробнее… Я думаю, часика нам вполне хватит, а?
— Боюсь, вам придется уйти раньше…
— Что это с вами, Франсуа? Вы что, хотите, чтобы наше первое свидание стало последним?
— О, умоляю вас, не говорите так! Не говорите так!
Соня никак не могла понять столь резкой перемены в своем воздыхателе. Он зачем-то стал показывать ей цветы, трогательно расставленные по всей комнате.
— Как вы думаете, сколько времени они еще проживут?
— Цветы? Не знаю и знать не хочу.
— Пять-шесть дней, не больше, а потом начнется угасание… С каждой минутой эта красота будет все больше вянуть… Порой спрашиваешь себя, стоит ли жить дальше…
Молодую женщину вдруг охватила смутная тревога, и она подозрительно уставилась на Лепито.
— Но цветы по крайней мере оставят в памяти воспоминание о свежести и красоте, не тронутых тлением, — продолжал молодой человек. — Умереть молодым! Не это ли лучший выбор, если мы хотим оставить живыми прекрасные воспоминания?
— Франсуа… мне что-то страшно… я чего-то боюсь…
— И вы правы, любовь моя… Послушайте, вот если бы вам сказали, что через полчаса вы умрете, разве это вас не обрадовало бы?
— Обрадовало? Да вы с ума сошли, честное слово! Я вовсе не хочу умирать!
Лепито грустно вздохнул.
— Увы, черная гостья уводит нас, не спрашивая согласия… У вас и в самом деле нет желания умереть, Соня? Я бы сохранил о вас самые нежные воспоминания, и осенью, когда желтеют и осыпаются листья, я бы ходил молиться над вашей надгробной плитой…
Беспокойство мадам Парнак мгновенно сменилось яростью. Она никак не могла понять причин омерзительной комедии, которую вдруг вздумалось разыгрывать Франсуа, и это доводило ее почти до исступления.
— Человек может, конечно, вести себя нелепо, но всему же есть предел! Прощайте! Мы больше никогда не увидимся!
— Увы! Я в этом не сомневаюсь! — простонал Лепито, провожая ее до двери.
Соня уже почти переступила порог, но неожиданно передумала.
— Ну нет! Еще никто не позволял себе так издеваться надо мной!
Она снова захлопнула дверь и, выйдя на середину комнаты, заявила:
— Я не уйду, пока вы не признаетесь, что побудило вас вести себя так глупо и мерзко? Ну говорите, я жду!
Лепито почувствовал, что это самая тяжелая минута в его жизни.
— Соня… я ничего не хотел говорить вам… но время идет… и вынуждает меня к откровенности… придется открыть ужасную истину…
Мадам Парнак задрожала от мрачного предчувствия…
— Та микстура, которую вы пили…
— Ну?
— Она… она была…
— Да что же, в самом деле?
— …отравлена…
Соня пошатнулась, это слово поразило ее.
— Отравлена… отравлена… отравлена, — лишь тупо повторяла молодая женщина, пытаясь сообразить, кому и зачем это было нужно.
— Будьте мужественны, дорогая… не пройдет и часа, как вы покинете этот мир…
— Через час?..
— Теперь даже меньше.
Жену нотариуса внезапно охватил животный страх.
— Это неправда! Неправда! — вскричала она и, опустившись на диван, горько зарыдала.
Потрясенный Франсуа обнял молодую женщину. Она прижалась к нему.
— Франсуа… маленький Франсуа… он так меня любит… но долго ли продлится эта любовь?
— До самой смерти!
Соня резко высвободилась из его объятий.
— Не так уж долго! — с горечью заметила она.
Мадам Парнак подошла к камину, взяла пузырек и долго разглядывала его. Потом дрожащим от волнения голосом спросила:
— Вы и в самом деле меня любите, Франсуа?
— Как вы можете сомневаться?
Соня протянула ему пузырек.
— Я не хочу уходить одна, Франсуа… мне страшно…
— Но… и я тоже… оч… чень боюсь… смерти…
— Значит, вы такой же, как все…
И, сделав столь грустный вывод, Соня шатаясь подошла к дивану. Клерк следил за ней глазами, полными стыда и тревоги.
— Может быть, вам… лучше вернуться домой? Подумайте, какой поднимется скандал, если вас найдут в моей комнате?
— Нечего было меня сюда заманивать!
— Если бы я только знал…
— Хам!
Франсуа сел рядом с молодой женщиной.
— Простите меня, Соня, я немного потерял голову… Поверьте, наконец, что во всей этой истории лишь одно остается истинным — моя любовь к вам… Я никогда вас не забуду — вы останетесь моей первой и последней любовью. Умоляю, поверьте мне… Я сумел бы сделать вас счастливой! Подумать только, все обратил в прах этот флакон! Он же здесь совершенно случайно!..
— Случайно… — задумчиво повторила Соня и тут же глаза ее загорелись гневом.
— И как я не подумала об этом раньше? Вы ведь знали, что я выпью этот пузырек, не правда ли?
— Я?
— Теперь мне все ясно: если бы я сама не отхлебнула вашей микстуры, то вы бы заставили меня силой!
— Вы с ума сошли!
— Согласитесь, что в подобных обстоятельствах это нетрудно!
— Но, послушайте, зачем бы я стал это делать? Зачем мне желать вашей смерти?
— Потому что это входит в вашу программу!
— В мою… что?
— В вашу программу или, если угодно, планы. Вы хотели убить меня, как недавно пытались прикончить моего мужа!
— Я?.. Прикончить… вас, вашего мужа?
— Вот именно! Ну не станете же вы отрицать, что я пришла сюда, чтобы умолять вас пощадить жизнь Альбера?
— Клянусь вам, Соня, я…
— Да перестаньте притворяться! Вы убийца, Франсуа Лепито!
— Умоляю вас, Соня, успокойтесь!
— Клянусь Богом, все это не пройдет вам даром!
Жена нотариуса встала с дивана и пошатываясь побрела к тумбочке, где стоял телефон. Франсуа с тревогой наблюдал.
— Что в-вы с-собираетесь… делать? — заикаясь пробормотал он.
— Позвонить своему мужу!
— Нет! Нет! Только не это!
— Вы за все заплатите! Говорю вам, за все! Я вспомнила: это вы тогда ударили меня в саду!
— И вы можете так чудовищно лгать?
— Вы тогда только сделали вид, будто ушли, на самом же деле тихонько подкрались сзади! Вы хотели убить меня и ударили по голове! К несчастью для вас, рана оказалась легкой. Тогда вы решили действовать по-другому и на сей раз пустили в ход яд!
— Нет, это просто безумие!
Франсуа ухватил молодую женщину за плечи.
— Соня, что вы такое говорите?
— Я вижу, вы способны расправиться даже с умирающей?
Дверь распахнулась, и в комнату влетела запыхавшаяся мадам Шерминьяк.
— На помощь! На помощь! — закричала Соня, как только увидела ее.
— Что происходит? — остановилась несколько сбитая с толку Софи.
— Он хотел меня убить!
— Браво!
— Он отравил меня ядом… Я сейчас умру, мадам! И все из-за него…
— В добрый час!
— Да неужели до вас не доходит, что я умираю, что я убита, загублена этим чудовищем?
— Просто превосходно! Отлично! Всякие Иезавели вроде вас только сеют смуту и нарушают идиллии чистых душ! Франсуа любит и любим! И нечего было сюда соваться! Это не ваше дело!
— Ах, вот как? Так вы его сообщница?
Вдова с лучезарной улыбкой посмотрела на Лепито.
— Все зависит только от него.
Но Франсуа был сейчас совершенно не в состоянии что-либо решать. Действительность с каждой секундой становилась все кошмарнее. Что тут можно выбрать? Эти женщины доконают его! Одна, казалось бы, вот-вот умрет, о вечном должна бы думать — так нет же, жаждет навлечь на его голову все возможные беды и навсегда лишить надежд на будущее. И другая не лучше: помощница, черт ее побери, лезет не в свои дела… Эта бабы просто осатанели! Ничего с ними не сделаешь!
Словно подтверждая его мысли, Соня с яростью кинулась на вдову:
— Как я вижу, чары мсье Лепито не оставляют равнодушными перезрелых красоток!
Правнучка лесоруба, Софи Шерминьяк, не могла безнаказанно спустить насмешку, а уж тем более оскорбление. У вдовы была неплохая реакция, она мгновенно отвесила сопернице оглушительную затрещину.
— Это чтоб показать вам, моя красавица, что у перезрелой дамы еще довольно крепкие руки!
— Старая хрычовка! Тоже, видно, считает, что я зажилась на этом свете?
Соня бросилась к телефону, схватила трубку и быстро набрала домашний номер. Франсуа в последний раз попытался смягчить ее:
— Умоляю вас…
Но сил уже, видимо, не оставалось, и молодой человек прилег на диван. Софи Шерминьяк присела рядом и с материнской нежностью положила его голову себе на колени.
— Никто не посмеет вредить вам, пока я тут! — шепнула она.
Услышав, что мадам Парнак разговаривает с мужем, Франсуа в бессильном отчаянии развел руками. Что поделаешь, такова воля судьбы!
— Алло! Это ты, Альбер?.. Да, да… Где я? У Франсуа… Как у какого? Да у твоего клерка… Что я здесь делаю? Умираю!.. Ты не понимаешь? Меня это ничуть не удивляет! Франсуа Лепито только что убил меня! Ведь это он, оказывается, напал на меня тогда, ночью, у нас в саду! Бомба в машине — это тоже его работа! Я сошла с ума? Шучу? Приезжай быстрей, и ты увидишь, шучу ли я! Что? Мне придется дать тебе объяснения? Мне бы очень хотелось, но, увы… скорее всего, другие тебе все расскажут, мой зайчик… Вот-вот… Поторопись все-таки, если хочешь услышать мой последний вздох!
Соня повесила трубку и, обернувшись к мадам Шерминьяк и Франсуа, торжествующе бросила:
— Он едет!
V
Войдя в комнату, Альбер сразу бросился к прилегшей на диван жене.
— Соня! Бедная моя! Что он с тобой сделал, этот негодяй?
— Мне уже никто не поможет, Альбер, — прохрипела молодая женщина.
— Я спасу тебя, дорогая! За мной едет Периньяк.
Нотариус выпрямился и налетел на Франсуа.
— Мерзавец! Почему…
— Я… я не виноват…
— Не отпирайтесь, Франсуа, вы убийца! Я все знаю!
Мадам Шерминьяк ринулась в бой.
— Прошу вас выбирать выражения! Если бы эта… Иезавель сидела дома, она бы и сейчас была в добром здравии! Так нет же, она приперлась совращать ребенка — вот и получила по заслугам!
Удивленный неожиданным нападением, нотариус повернулся к Франсуа.
— Это еще что?
Софи, возмутившись, что ее сочли неодушевленным предметом, накинулась на мэтра Альбера.
— Да вы, я вижу, забыли, где находитесь? Так я напомню вам! Я — вдова Шерминьяк, урожденная Софи Шальмазель, владелица этого дома! Извольте немедленно выйти вон!
— Не вам мне приказывать! Уйду, когда сочту нужным!
— Ах, вот как! Значит, если вашей похотливой супруге вздумалось преследовать беззащитного молодого человека… даже у него дома, то вы считаете себя вправе вламываться сюда? Что вы здесь ищете? Уж не деньги ли?
— О! За такие слова, мадам, вам придется отвечать по суду!
Софи разразилась недобрым смехом.
— И вы сможете объяснить судьям, что ваша законная половина забыла у моего постояльца?
Пораженный этим замечанием, мэтр Альбер вернулся к жене.
— По крайней мере в одном эта мегера права, Соня. Зачем вы здесь? Согласитесь, что добродетельной супруге не пристало глотать яд на квартире холостяка?
— Тебя ничто не изменит, Альбер, — с горечью простонала умирающая. — Ты всегда будешь видеть только внешнюю сторону… Думай теперь все, что тебе угодно, но дай мне спокойно умереть!
— Однако…
На сей раз вдова Шерминьяк поддержала соперницу.
— Верно, отвяжитесь от нее! А я тем временем позвоню в полицию. Пусть они мне скажут, по какому праву совершенно посторонние люди являются в мой дом умирать!
Софи сняла трубку, и в это время вбежал перепуганный доктор Периньяк. Волнение, однако, не помешало ему действовать хладнокровно. Выяснив, что произошло, он сунул пузырек в карман и сказал, что немедленно отвезет мадам Парнак к себе в клинику. Там больной сделают промывание желудка, а в лаборатории исследуют содержимое флакона. Таким образом, выяснится, что там за яд.
Выходя из комнаты, нотариус обернулся к Франсуа.
— Молите Небо, чтобы она выжила, иначе… Думаю, излишним будет говорить, что я больше не желаю видеть вас в конторе. Ремуйе принесет вам заработанные деньги, а вы напишете расписку.
Оставшись вдвоем с мадам Шерминьяк, Лепито в полном отчаянии стал жаловаться на горькую судьбу?
— Господи! За что мне такое? Ну почему она думает, будто это я ударил ее в саду, а теперь еще и отравил? Как она может это думать про меня… Нет, эта женщина безумна, совершенно безумна!
— Интриганка! Хочет привлечь к себе внимание, не больше! — толковала на свой лад вдова.
— Привлечь к себе внимание самоубийством?
— А почему бы нет?
— Но ведь она, наверное, умрет?
— Такова жизнь…
— …А я теперь вот потерял работу!
— Не волнуйтесь, Франсуа… Нечего тужить, пока есть я!
И вдова уже хотела приступить к самым нежным признаниям, как в дверь с величайшей деликатностью постучали. Войдя, инспектор Лакоссад сразу принялся за Лепито.
— Я, конечно, знаю утверждение наших соседей, немцев, что «здравый смысл у молодых людей — все равно что весенний лед», но, право же, Лепито, последнее время вы заставляете нас слишком много заниматься своей особой! Почему вы звонили в полицию, мадам?
Софи Шерминьяк, обрадовавшись неожиданному слушателю, со многими подробностями и отступлениями изложила свою сугубо личную версию происшедшего; как ни странно, но инспектор все же кое-что понял.
— Значит, так… Мадам Парнак пришла в гости к мсье Лепито, и этот последний отравил ее. У несчастной все же хватило сил позвонить мужу, а тот, в свою очередь, вызвал доктора Периньяка, который сейчас отхаживает мадам Парнак у себя в клинике. Я правильно изложил суть дела?
— Почти… — отозвался Франсуа. — Только это не я напоил ядом мадам Парнак, она выпила его по собственному почину.
— Зная, что это яд?
— Нет… я сказал, что это микстура от горла…
— А у мадам Парнак болело горло?
— Да…
— Плохо… очень плохо!
— Клянусь вам, я никак не предполагал, что она возьмет флакон!
— В таком случае, почему вы не помешали?
— Потому что она отхлебнула этого чертового снадобья, пока я разговаривал с мадам Шерминьяк на лестничной площадке.
— А что там был за яд?
— Понятия не имею.
— В самом деле?
— Мне его принесли всего за несколько минут до этого.
— Значит, вы его заказывали?
— Нет.
— Странный подарок, вы не находите?
— Я забрал пузырек у одного человека, который собирался покончить с собой.
— Здесь?
— Да.
Немного помолчав, Лакоссад заметил:
— Как нарочно, припомнилась одна мысль Дидро: «Недоверчивость бывает пороком глупца, а доверчивость — недостатком умного человека…» Тем хуже! Я согласен прослыть дураком, но уж слишком ваш рассказ неправдоподобен. Мсье Лепито, я попрошу вас следовать за мной в комиссариат.
Вдова вскочила.
— Вы не имеете права тащить его в участок как какого-то злоумышленника!
— Да нет, что вы, пока мсье Лепито просто подозреваемый.
— Но вы не имеете права!
— Вы так думаете? Идемте, Лепито.
— Я готов, инспектор.
Софи вцепилась в молодого человека.
— Нет-нет! Не ходите! Этот человек вас ненавидит! Он служит вашим врагам!
Когда Франсуа вышел, Лакоссад шепнул мадам Шерминьяк:
— Я не стану сердиться на вас за эти глупые и обидные слова, ибо еще Демокрит писал: «Подобно тому как облака скрывают солнце, страсть помрачает человеческий разум».
Набивая трубку, комиссар Шаллан признался своему подчиненному:
— Эта семейка Парнак начинает здорово действовать мне на нервы: сомнительное самоубийство, непонятное нападение, покушение без всякой видимой причины и в довершение всего — совершенно бредовая попытка отравления. Это уже слишком. Вы не находите?
— Да, вне всякого сомнения, вы правы.
— И больше всего в этой истории раздражает полная бессмысленность всех этих действий.
— Да, комиссар, полная… Разве что нам удастся все же найти логику, которая движет этой, на первый взгляд более чем странной, чередой событий.
— Возможно! Но черт меня побери, если я вижу хоть какую-то связь между настоящим или мнимым самоубийством мсье Дезире и попыткой пылкого воздыхателя отравить Соню Парнак!
— Или тем, кто лишь притворяется воздыхателем. Как говорят в Будапеште, «торговец ядом рисует на вывеске цветы».
— Теперь уже вы обернулись против Лепито, а?
— Сейчас я не вижу другого объяснения.
— Ну-ка выкладывайте, что у вас на уме!
— Предположим, Франсуа Лепито прикидывается порядочным человеком, но на самом деле это не имеющий ни крупицы совести честолюбец. Нужны доказательства? Пожалуйста, кто б иной сумел одновременно тронуть сердце дочери хозяина, очаровать домовладелицу и при этом осаждать еще Соню Парнак?
— А вдруг по каким-то непонятным для нас причинам этот молодой человек просто-напросто неотразим?
— Почему в таком случае он не разуверит вдову Шерминьяк? Почему не скажет правды Мишель Парнак? Зачем увивается за Соней?
— Не исключено, что просто ради забавы. Конечно, это довольно цинично, но такие вещи стары как мир.
— Цинизм, доходящий до покушения на жизнь?..
— Так-так, интересный поворот, продолжайте.
— Итак (естественно, это только предположение), наш Лепито, если можно так выразиться, хладнокровный соблазнитель. В таком случае он никогда не теряет голову и никакая страсть не нарушает его расчетов. Оставим в стороне нежные чувства, которые питает к Лепито домовладелица, хотя это наверняка приносит ему кое-какие материальные выгоды… Зато я уверен, что крошка Мишель очень и очень нравится молодому человеку. Она молода, свежа, недурна собой и, скорее всего, получит немалое приданое. Наш Лепито собаку съел в искусстве обольщения, а потому делает вид, будто девушка ему безразлична. И чем больше он изображает равнодушие, тем больше влюбляется Мишель. Она не может допустить, что ею, богатой наследницей, пренебрегает какой-то нищий клерк. Может быть, Лепито ухаживает за мачехой как раз для того, чтобы вызвать ревность у ее падчерицы? Но вообще-то я склонен считать, что наш честолюбец хочет получить все сразу, и немедленно. Ему известно, что мсье Дезире завещал все имущество брату. Он знает и то, что мсье Альбер все оставит жене и дочери. Нетрудно предположить, что после смерти одной из женщин другая станет единственной наследницей состояния Парнаков. Стало быть, задача Лепито проста: сделать так, чтобы в живых осталась одна Мишель, которая его любит и ни о чем не мечтает, кроме как выйти за него замуж. Ну, остальное, как говорится, дело техники. Помните, как все началось? Вначале произошла ссора между мсье Дезире и Лепито, потом, через несколько часов смерть старика. По-видимому, Парнак-старший вывел предприимчивого клерка на чистую воду, и Франсуа вынужден был в целях самозащиты убить «Мсье Старшего». Затем он пытался прикончить Соню, назначив ей свидание в ночном саду, подсунул взрывчатку в машину мсье Альбера. Но тут у него произошли две осечки подряд. В темноте он не заметил, что в тот вечер на Соне был пышный шиньон, значительно смягчивший удар. Не знал он и о том, что нотариус выедет несколько раньше против прежнего. И наконец, Франсуа совершает повторную попытку отправить Соню на тот свет: под видом микстуры он подсовывает несчастной женщине яд. Такова, на мой взгляд, логика событий, если я прав, конечно. Вот так вот, а вы еще сетовали на их бессвязность, господин комиссар. В сущности все это лишь подтверждает замечание Эсхила: «Из нарушения меры произрастает безумие, а жатву приходится пожинать слезами».
— Дорогой мой Лакоссад, вы всегда призываете на помощь столь великие авторитеты, что с вами почти невозможно спорить. Из ваших логических построений я могу вынести по крайней мере одну, но глубокую мысль: все эти несчастья отнюдь не случайны. За каждым из них стоит чья-то злая воля, наметившая вполне определенный план, осуществлению которого могли частично помешать лишь непредвиденные обстоятельства: шиньон на затылке Сони Парнак или решение нотариуса выехать из дому раньше, чем обычно. Я согласен с вами, главный побудительный мотив убийцы — деньги. Вместе с тем я отнюдь не испытываю вашей уверенности в том, что касается личности преступника. Во-первых, Лепито до сих пор не привлекал нашего внимания и ни разу ни в чем не проявил какого-то особого честолюбия. Так что все, что вы поставили ему в вину, можно толковать совершенно иначе. А что, если Франсуа любит Соню Парнак больше, чем Мишель со всем ее приданым? Ведь неопытные молодые люди довольно часто влюбляются в красивых и зрелых женщин! На домовладелицу вообще не стоит обращать внимания. Она напоминает мне мадам Потифар, готовую проглотить бедняжку Иосифа. А вдруг убийца, зная о страсти Лепито к Соне, решил воспользоваться этим, чтобы свалить на молодого человека собственные преступления? Услышав о ссоре между Франсуа и «Мсье Старшим», он решил, что это прекрасная возможность избавиться от старика. Скандала он не хотел, поскольку это могло бы насторожить будущие жертвы, предпочел сымитировать самоубийство, отлично понимая, что, если полиция заподозрит неладное, расплачиваться придется Лепито. И вы действительно сочли его виновным, Лакоссад. А кроме того, мой дорогой Ансельм, позвольте заметить, что Соня Парнак наверняка отправилась к клерку своего мужа вовсе не для того, чтобы потолковать о Кодексе. Ну как, убедительно? Вот так вот, дорогой! Между нами говоря, ваша версия страдает довольно крупным изъяном.
— В чем же?
— В основном, дружище Лакоссад! Вы приписываете Франсуа Лепито какое-то совершенно дьявольское коварство, и если ваши предположения верны, то он хитер как змей. Но тогда чем вы объясните, что он как последний дурак отравил Соню у себя дома? Действуя таким образом, он выдал себя с головой мужу, потерял работу и утратил всякую надежду жениться на Мишель!
— Да… вы правы, получается ужасная чепуха. Но если не он, то кто же?
— Давайте честно признаем, что не имеем об этом ни малейшего представления.
— И что в таком случае нам делать с Лепито?
— Допрошу его, как полагается, а потом подождем, не подаст ли Соня Парнак жалобу, хотя, по правде сказать, меня бы это очень удивило. Не думаю, чтобы он просидел тут больше чем до завтрашнего утра. А теперь приведите-ка мне этого молодого человека, за чье сердце, на его беду, сражается так много дам.
Франсуа больше походил на мальчишку, пойманного с поличным за кражей варенья, чем на матерого преступника. Глядя, как молодой человек смущенно переминается с ноги на ногу, не зная, куда деть руки, Шаллан вдруг подумал, что он отчаянно напоминает пингвина. Лакоссад усадил Франсуа напротив комиссара и тоже остался в комнате.
— Вы причиняете нам слишком много хлопот, мсье Лепито, а мы, полицейские, не особенно любим возмутителей покоя, — сказал Шаллан.
— Поверьте, господин комиссар, я…
— Не перебивайте. Так вот, пока вам не предъявлено никаких официальных обвинений и я не собираюсь держать вас под арестом. Сейчас вы просто свидетель, от которого я надеюсь получить кое-какие разъяснения насчет того, что творится у Парнаков. А поэтому вам придется ответить на все мои вопросы.
— С удовольствием, господин комиссар.
— Превосходно. С вашей внепрофессиональной деятельностью, мсье Лепито, тесно связаны три женских имени. Прошу вас, проясните наше недоумение и признайтесь, в которую из них вы влюблены на самом деле?
— Вы никому не скажете, господин комиссар?
— Все останется между нами, если судопроизводство не потребует обратного.
— В Соню Парнак…
— Вот как? А что же тогда с Мишель Парнак?
— Ее я тоже очень люблю, но совсем по-другому. Это всего-навсего дружеское чувство. Мишель сама во что бы то ни стало хочет, чтобы я на ней женился… Но, сами понимаете, отец ни за что на это не согласится. Впрочем, отказ меня не огорчил бы, поскольку я люблю другую.
— А Софи Шерминьяк?
Франсуа вытаращил глаза.
— Что?!
— Разве вы не ухаживаете за своей домовладелицей?
— Вы что, ни разу ее не видели?
— Однако вдова убеждена, будто вы умираете от любви к ней и только никак не решитесь признаться, — вступил в разговор Лакоссад.
— Ну и ну…
— Что вы об этом думаете, Ансельм? — осведомился Шаллан.
— Пожалуй, тут мсье Лепито вполне искренен. В надежде немного скрасить свое существование вдова приняла желаемое за действительное. Кстати, это напоминает мне высказывание Шамфора: «Воображение, порождающее иллюзии, подобно розовому кусту, цветущему круглый год».
— Допустим, вы сказали нам правду, мсье Лепито. Но вы же не станете отрицать, что всего за несколько часов до смерти мсье Дезире между вами произошла бурная ссора?
— Это верно.
— Из-за чего вы не поладили?
— Мсье Дезире узнал о моей любви к мадам Парнак.
— Каким образом?
— Старик нашел одно, а может и несколько писем, которые я писал его невестке.
— А эта дама отвечала вам взаимностью?
— Я так думал.
— Но теперь считаете иначе?
— Да.
— Однако у вас было ночное свидание в саду?
— Я сам просил о нем, чтобы рассказать о своей ссоре с ее деверем. «Мсье Старший» ненавидел Соню.
— Скажите, мсье Лепито, что вас толкнуло на преступление — оскорбленная любовь, ревность? Почему вы пытались отравить мадам Парнак?
— Это не я!
— Но кто же тогда?
— Она отравилась сама!
И Франсуа снова рассказал, как все это случилось, не упоминая, однако, имени Мишель.
— Но если у вас не было преступных замыслов против мадам Парнак, зачем вы сказали ей, будто это микстура?
— Я ляпнул первое, что пришло в голову.
— Самое досадное, что вы назвали яд микстурой от горла, в то время как у мадам Парнак и в самом деле болело горло.
— Тогда я об этом не знал!
— Не очень-то удобоваримая история, мсье Лепито… Назовите имя человека, который принес вас пузырек.
— Не могу.
— Почему?
— Это было бы постыдно.
— Еще постыднее — оказаться на скамье подсудимых по обвинению в убийстве. А именно это может с вами случиться, если будете так себя вести.
— Господин комиссар, бывают низости, на которые порядочный мужчина не пойдет даже ради собственного спасения!
— Прелестно! Понадеемся, что это благородное убеждение утешит вас, если дело обернется совсем скверно. Пока мы не получим известий из клиники, мсье Лепито, вы останетесь здесь. Уведите его, Лакоссад, и оставьте у себя в кабинете. Я уверен, что у мсье Лепито хватит ума не пытаться сбежать.
— А знаете, старина, —
проговорил комиссар, когда Лакоссад вернулся, — сдается мне, молодой человек говорит правду. Ну и путаница! Все, за исключением мсье Дезире, были уверены, что он ухаживает за богатой наследницей, а на самом деле клерк вздыхал по хозяйке дома!.. Кто знает, быть может, именно проницательность стоила Парнаку-старшему жизни… Но я бы очень хотел знать имя того или той, кто принес Лепито пузырек с ядом…
— Вы и в самом деле верите его рассказу?
— Да.
— Почему же?
— Интуитивно. Или вы отрицаете интуицию?
— Ничуть! Вот, например, в «Тысяче и одной ночи» я прочитал, что «слепец обходит ров, в то время как зрячий туда падает».
Вошел мэтр Парнак.
— Моя жена спасена! — сразу воскликнул он.
Комиссар и инспектор тепло поздравили нотариуса с доброй вестью.
— Я знаю, господа, что должен был бы плясать от радости, ибо, хоть нынче это и вышло из моды, очень люблю свою жену. Однако обстоятельства, которые едва не кончились трагически, не дают мне покоя. Я не могу поверить, что Соня изменяла мне с этим молодым человеком… ведь я пригрел его в своем доме… Нет, будь это так, я бы, наверное, покончил с собой.
— Вы рассуждаете как романтик, мэтр, уж простите, если я вас обидел.
— От великого до смешного… Утратив веру в Сонину порядочность, я бы не смог больше жизнь…
— Странно слышать такие вещи от человека ваших лет.
— Может быть… но уж такой я уродился. Все были против нашего союза, и я бы не хотел смотреть, как они торжествуют победу. А кроме того, мне невыносимо думать, что моя жена могла войти в соглашение с человеком, пытавшимся убить меня…
— Вы имеете в виду Франсуа Лепито?
— А кого же еще, черт возьми!
— В таком случае, зачем ему понадобилось убивать вашего брата, а потом дважды покушаться на мадам Парнак?
— Понятия не имею.
— Я лично почти уверен в невиновности молодого человека.
— Тогда зачем к нему понесло мою жену и откуда у Лепито взялся яд?
— Боюсь, вы смешиваете две совершенно разные вещи, мэтр: с одной стороны, убийство вашего брата и серию неудачных покушений на вашу супругу и на вас, а с другой — отношения мадам Парнак и Франсуа Лепито. Что об этом говорит ваша супруга?
— Признает, что Франсуа по уши влюблен в нее… Заподозрив, что Лепито покушался на мою жизнь из ревности, она пошла его урезонивать.
— А насчет яда?
— Говорит, что и вправду сама его выпила, но лишь после того, как ее уверили, будто это микстура от горла.
— Она проглотила яд в присутствии Лепито?
— Нет.
— Вот видите!
— Да, конечно. Но ведь он же соврал, будто это микстура! Если у Лепито были честные намерения, почему он не сказал, что в пузырьке яд?
— Должен признать, тут кое-что есть…
— Что ж, поймите меня правильно, комиссар, я человек мягкий, но если будет доказано, что этот молодой человек пытался убить и меня и мою жену, я его уничтожу! — И совсем тихо он добавил: — А коли выяснится, что между ними что-то было, я наложу на себя руки.
— Прежде чем употребить крайние меры, давайте подождем заключения доктора Периньяка. Да, забыл у вас спросить, собираетесь ли вы подавать жалобу на Франсуа Лепито?
— Не хочу ничего решать, пока не получу твердое доказательство его виновности.
— А мадам Парнак?
— Она поступит так, как я прикажу. Больше всего мне бы хотелось избежать огласки. А теперь, господа, я возвращаюсь дежурить у постели жены. Я во что бы то ни стало хочу узнать правду.
Лакоссад, по обыкновению, подвел итог беседы.
— Осторожнее, мэтр… Желание любой ценой докопаться до истины погубило многих… Всегда надо помнить совет Пиндара: «Показав лицо, правда отнюдь не всегда выигрывает».
— У меня есть заботы поважнее, чем размышлять над высказываниями Пиндара, инспектор!
— Позвольте заметить, мэтр, это очень грустно!
После чего нотариус удалился в клинику доктора Периньяка.
— Кто бы мог подумать, — заметил Шаллан, — что у представителя сутяжного сословия столь нежная душа!
— Страсти не вяжутся со здравым смыслом…
— Однако нам нужен кто-то, способный мыслить логически. У меня есть предчувствие, Ансельм, что, разгадав тайну пузырька с ядом, мы бы очень продвинулись к конечной цели. Почему в комнате Лепито оказался яд? Откуда он его взял? И если молодой человек сказал правду, то кто и с какой целью принес пузырек? Ведь в конце концов подобные подарки не делают без соответствующей просьбы!
Появление доктора Периньяка прервало едва начавшийся разговор. Впрочем, было заранее ясно, что пока обсуждать тему яда бессмысленно — все равно не на чем построить хотя бы мало-мальски устойчивую конструкцию. Но и рассказ врача разочаровал полицейских — они ожидали гораздо большего.
— Ну, доктор, судя по тому, что сообщил нам мсье Парнак, дело обошлось легким испугом?
— Позвольте не согласиться с вами, комиссар. Даже если попытка отравления сорвалась, она все же остается преступлением.
— Разумеется. Но в этом-то и весь вопрос! Была ли в самом деле попытка отравления!
— По-моему, факты…
— То-то и оно, что факты ровно ничего не доказывают, во всяком случае, твердой уверенности у нас нет. Ваша больная сама признает, что никто не заставлял ее пить из пузырька.
— Вы играете в слова! Представьте себе, что вы налили мне яду, сказав, что это портвейн, а потом вышли из комнаты. Сам ли я выпью отраву, или вы мне ее поднесете — в любом случае это будет убийство, и притом умышленное. Разве не так?
— Конечно, но, насколько я знаю, Лепито вовсе не предлагал мадам Парнак отведать микстуры! Разве он знал, что у жены нотариуса болит горло?
— Честное слово, понятия не имею… Наверное, нет.
— Тогда вам придется согласиться, что вряд ли Лепито приготовил яд специально для мадам Парнак. Скорее, можно было предположить, что ей вовсе не захочется пить микстуру. А кстати, что там был за яд?
— Дигиталин. Мадам Парнак спасло лишь своевременное промывание желудка — мучительное и очень эффективное средство.
— А где яд?
— Я оставил его в клинике.
— Вам следовало принести пузырек сюда.
— Пожалуйста, за ним можно послать. Насколько я понимаю, вы не уверены в виновности этого Лепито?
— Нет, не уверен.
— А как же нападение на мадам Парнак в саду? Или, по-вашему, она сама разбила себе голову?
— Естественно, нет.
— Так вот, я считаю, что Лепито виноват в обоих преступлениях!
— Что же его к этому побудило?
— Ревность! Он влюблен в мадам Парнак, но та не хотела нарушить супружеский долг. Вот Лепито и мстил ей за равнодушие!
— Значит, взорвать мэтра Парнака пытался тоже он?
— По-моему, это очевидно.
— Допустим, вы правы, доктор. Попытки убить мсье и мадам Парнак таким образом объясняются, но как быть с убийством мсье Дезире?
— С убийством м…
— Да-да, мсье Дезире.
— Но он же покончил с собой!
— Боюсь, что убийца обвел вас вокруг пальца, доктор.
— Невозможно! Послушайте, я бы непременно заметил обман!
Из угла донесся голос Лакоссада:
— Я как-то читал у Диогена Лаэртского, что «настоящее не надежнее вероятного».
— А если бы мы получили неопровержимое доказательство, что мсье Дезире убили, вы бы по-прежнему думали, что виновный — Лепито?
Доктор Периньяк совершенно растерялся. Впрочем, он и не пытался скрыть замешательство.
— Ну вот, а мне-то казалось, что все ясно, как божий день! И вдруг теперь, после того что вы сказали, я чувствую, что, кажется, вел себя как полный идиот!
— Не стоит преувеличивать, доктор!
— Да-да, надо же было так дать маху! Просто в себя не могу прийти… Ну что ж, господа, забудьте все, что я тут болтал, и мои неосторожные обвинения… А мне пора возвращаться в клинику — время вечернего обхода больных… До свидания, господа… Разумеется, я остаюсь в вашем полном распоряжении.
— Спасибо, доктор.
Периньяк вышел далеко не с тем горделивым видом, с каким недавно появился в кабинете. Оба полицейских пришли к выводу, что врач тяжело переживает то, что ему кажется поражением, серьезной профессиональной ошибкой. Ничто не могло бы уязвить его сильнее. Люди, подобные Периньяку, мучительнее всего воспринимают раны, нанесенные их самолюбию. Сейчас он, должно быть, с ужасом воображает, как весь Орийак будет потешаться над доктором, выдавшим свидетельство о смерти убитому. Подобная история способна нанести жесточайший удар его карьере. В провинции не так легко прощают ошибки, как в Париже.
— А что теперь, патрон?
— Пойдем по домам и постараемся уснуть пораньше, в надежде, что никакие новые события на нарушат наш покой.
— Нет, я имел в виду дело Парнак.
— Подождем. Терпение в нашей работе — главное, старина. Да-да, ждать и еще вовремя оказываться там, где хоть на миг проскользнет какая-нибудь мелочь, позволяющая опознать убийцу. Кроме того, мы должны держать в руках нервы и подавлять внезапные побуждения. Мне не меньше вашего хочется пойти в дом этого почтенного семейства и перевернуть там все вверх дном, но к чему это приведет? Разве что обоих погонят с работы… Меж тем мне очень нравится в Орийаке… А вам?
— Мне тоже…
— В таком случае…
Однако обоим полицейским так и не удалось сегодня пораньше вернуться к желанному уюту домашнего очага. Только они собрались уходить, как в кабинет, подобно ожившей статуе оскорбленной справедливости, вплыла вдова Шерминьяк. Ради такого случая она облачилась в черное платье (отчего лицо казалось еще более желтым, чем обычно) и огромную шляпу из рисовой соломки, украшенную перьями.
— Господа, — торжественно заявила она с порога, — я пришла к вам требовать справедливости!
Шаллан и Лакоссад посмотрели друг на друга и вздохнули, понимая, что им предстоит. Комиссар предложил Софи сесть, и та опустилась на стул с достоинством, приличествующим особе, привыкшей черпать в прекрасном воспитании и развитом нравственном чувстве силы, необходимые для борьбы с грубой прозой жизни.
— Чем могу вам служить, мадам Шерминьяк?
— Освободите Франсуа Лепито!
— Поскольку никто не подал жалобу, обвиняя мсье Лепито в покушении на убийство, он будет свободен не позднее завтрашнего утра.
— Это уже слишком! Мальчик невинен как агнец!
— Откуда вы знаете?
— Я знаю его лучше, чем вы! Бедный ребенок не способен совершить преступление.
— Мадам, — заметил Лакоссад, — еще Расин говорил: «К преступлению, как и к добродетели, идут постепенно». Вполне возможно, что Франсуа, если он виновен, всего лишь дебютант… Но это вовсе не тот случай, когда полиция должна закрывать глаза.
— Никто и не требует, чтобы вы закрывали глаза, — уверенно поставила его на место вдова Шерминьяк. — Напротив, откройте их пошире, и вы увидите, что Франсуа нисколько не похож на преступника! А кстати, господин комиссар, Иезавель умерла?
— Простите?
— Пала ли Иезавель, как того заслуживала ее, черная душа, под действием так называемого яда?
— А, вы имеете в виду мадам Парнак?.. Нет, она спасена.
— Тем хуже!
— Если Лепито вам действительно дорог, вам следовало бы поблагодарить Небо, что его жертва не скончалась!
— Благодарить Небо? Ничего себе! Да эта женщина — чудовище, господин комиссар! Она преследует молодых людей даже дома. Бесстыдница! Если хотите знать мое мнение, она сама все это подстроила!
— Что подстроила?
— Не знаю… ну, все это…
Ненадолго в кабинете воцарилась тишина.
— Мадам Шерминьяк, — холодно осведомился Шаллан, — будьте любезны сообщить мне, по каким причинам вы с таким рвением защищаете Лепито?
Софи слегка покраснела.
— Господин комиссар, — смущенно проговорила она, — мы с Франсуа любим друг друга…
— Вот как?
— О, я давным-давно обо всем догадалась… Знаки внимания, недвусмысленные намеки, взгляды… Тут женщину почти невозможно обмануть… Я долго колебалась, не решаясь ответить на его страсть, вы сами понимаете почему, господин комиссар… Но в конце концов у любви свои законы, и общественные представления над ними не властны. Я решила выйти замуж за Франсуа Лепито, как только бы его отпустите. Познав горечь темницы, он заслуживает истинного счастья!
— Лепито просил вашей руки?
— Он не осмеливается, бедняжка. Но поскольку я все-таки немного старше, то, пожалуй, могу себе позволить нарушить правила и сделать первый шаг. Вы согласны со мной?
— Без сомнения. Но выразил ли он свою нежность к вам достаточно ясно?
Вдова слегка смутилась.
— Нет. Франсуа так робок… и не позволяет себе ничего, кроме намеков…
— А может, вы заблуждаетесь?
— Что вы имеете в виду?
— Только то, что все мы бываем склонны принимать желаемое за действительное. На вашем месте, мадам Шерминьяк, я бы хорошенько подумал, прежде чем решиться на столь деликатное объяснение. А кстати, кроме мадам Парнак, к Лепито никто не приходил в гости?
— Да какая-то взбалмошная девица.
— Вы не могли бы мне ее описать?
Вдова выполнила просьбу, и полицейские понимающе переглянулись.
— Благодарю вас, мадам вы нам очень помогли. А теперь прошу прощения, но нам с инспектором еще предстоит большая работа.
Софи Шерминьяк сурово посмотрела на комиссара.
— Я вижу, вы уже стали на сторону Иезавели, потому что она могущественна и несправедливо вознесена, но будьте осторожны, господин комиссар, безвинно пролитая кровь падет на вашу голову, а Бог за все потребует ответа!
И вдова, даже не удостоив полицейских взглядом, гордо удалилась. Шаллан весело подмигнул Лакоссаду.
— Это, наверное, самая живописная часть истории. Старая лошадь совсем потеряла рассудок.
— Каждый из нас немного безумен, — нравоучительно заметил Лакоссад, — просто некоторым удается это скрывать.
— Слушайте, Ансельм, сдается мне, что юная гостья Лепито подозрительно смахивает на Мишель Парнак. Как вы думаете?
— Наверняка она.
— Значит, это Мишель принесла яд.
— С какой целью?
— Тут либо ревность, либо корысть. Она хотела избавиться или от соперницы, или от сонаследницы.
— Но тогда Франсуа — или сообщник, или жертва.
— Вот именно.
Телефонный звонок прозвучал заключительным аккордом этой интересный беседы. Шаллан снял трубку.
— Комиссар Шаллан слушает… А? Что-нибудь новенькое, доктор? Что?! Мы немедленно выезжаем!
Повесив трубку, комиссар повернулся к Лакоссаду.
— Только этого не хватало! — воскликнул он. — Мэтр Парнак отравился у постели своей жены. Он мертв.
Убитый горем, доктор Периньяк принял полицейских у себя в кабинете и рассказал им, что совершил страшную ошибку. Произошло это только потому, что он никогда не умел отказать женщине. Соня умолила врача оставить ей пузырек с ядом, чтобы она могла показать орудие преступления мужу и убедить его в вероломстве клерка. И вот, когда Периньяк вместе со старшей медсестрой находился у одной из больных, они услышали душераздирающий вопль. Помчавшись в палату мадам Парнак, они обнаружили на полу тело нотариуса, а его жена билась в истерике.
Оставив снедаемого угрызениями совести врача размышлять о последствиях, которые сулила ему допущенная слабость, полицейские отправились в комнату мадам Парнак. Та встретила их жалкой улыбкой.
— Похоже, господин комиссар, мы с вами уже никогда не расстанемся.
— Зато мэтр Парнак, судя по всему, покинул нас навсегда, — сухо заметил Шаллан. — Так что же произошло, мадам?
— Это я во всем виновата, — задыхаясь от слез, простонала Соня. — Что за дурацкая мысль пришла мне в голову? Зачем я выпросила у Периньяка флакон с ядом? И какого черта этот идиот согласился?
— Для чего вам был нужен яд?
— Я хотела доказать мужу, что не лгу и что этот Франсуа, которому он так доверял, на самом деле мерзавец! А потом… я хотела разжалобить мужа… думала, этот флакон будет для него своего рода символом моих страданий и смертельной опасности… Знаете, комиссар, мы, женщины, иногда любим, чтобы с нами обращались как с детьми… Вот только…
И она снова разрыдалась, не в силах справиться с горем.
— Я понимаю вас, мадам… Все мы глубоко скорбим о потере, которую понесли в лице вашего почтенного супруга… Но, как бы это ни было мучительно, вам придется продолжить рассказ… Мужайтесь, мадам!
— Благодарю вас, комиссар. Вы очень добры… Так вот, вопреки моим надеждам, Альбер поддался дурным подозрениям… Он потребовал, чтобы я сказала, зачем пошла в гости к этому молодому человеку… Я немного запуталась в рассказе, и муж понял, что той ночью в саду, когда меня ударили, я тоже виделась с Лепито. Альбер ужасно рассердился. Таким я его никогда не видела. Он был так страшно разгневан, что говорил почти шепотом… Как он ругал меня, господин комиссар! Вы и представить себе не можете, какие оскорбления он бросал мне в лицо! Я тщетно пыталась объяснить, что этот Франсуа со своей детской любовью, скорее, умилял меня, чем будил ответные чувства, и что на ночное свидание я согласилась исключительно ради того, чтобы избежать какой-нибудь безумной выходки с его стороны. Альбер так и не захотел понять главного. Только потому, что я не сомневалась в виновности Лепито, я и пришла уговорить его перестать покушаться на жизнь моего мужа… Впрочем, именно из-за этого изверг и хотел убить меня! Он понял, что мне все известно…
— Лепито сам сказал вам об этом?
— Нет, но как иначе объяснить преступление? Ведь я никогда не причиняла ему ни малейшего зла…
— И что же ваш муж?
— Это было чудовищно, господин комиссар! Он сказал, что самоубийство брата уже и так запятнало его имя и что неверность жены, которую теперь не удастся скрыть, завершила бесчестье. И потому он решил умереть. Альбер схватил флакон, и прежде чем я успела хоть как-то помешать, поднес его к губам и рухнул мертвым.
Соня, рыдая, зарылась в подушки.
— Пойдемте, Лакоссад, дадим мадам Парнак возможность успокоиться.
И тут Ансельм задал совершенно неуместный вопрос?
— Вы уже пили кофе, мадам Парнак?
— Да, чашка еще стоит на тумбочке.
Шаллан подумал, что его подчиненный, кажется, тоже начинает потихоньку терять разум.
Вернувшись в кабинет Периньяка, комиссар пересказал все, что услышал от мадам Парнак.
— Я уже в курсе, — устало подтвердил врач, — она говорила мне то же самое.
— Я не понимаю лишь одного, доктор. Каким образом один и тот же яд убил мэтра Парнака на месте, в то время как его супруга почти час не испытывала ни малейших признаков отравления и в конце концов отделалась легким испугом?
— Я думаю, что в первую очередь это связано с количеством. Мадам Парнак, скорее всего, проглотила гораздо меньше яда, чем ей кажется. Вероятно, флакон был не полон. А кроме того, нельзя не учитывать состояние здоровья нотариуса… у него было очень слабое сердце… То, что у одного вызвало лишь сильный спазм, у другого, видно, привело к обширному инфаркту. Но только вскрытие даст истинную картину.
— На сей раз, доктор, я попрошу вас не выписывать свидетельство о смерти, не повидавшись со мной.
Шаллан и Лакоссад отпустили машину и медленно двинулись по авеню Аристид-Бриан — обоим хотелось пройтись пешком.
— Помимо весьма странно действующего яда, в истории с мадам Парнак есть и другие несообразности. Почему нотариус сказал жене, будто самоубийство брата запятнало его имя? Ведь он знал от нас, что мсье Дезире, скорее всего, убили…
— Вопрос на вопрос, господин комиссар: зачем мадам Парнак понадобилось мыть чашку, после того как она выпила кофе? Разве в клинике Периньяка принято, чтобы больные мыли за собой посуду?
— Осторожно, Ансельм! На этой дорожке легко поскользнуться! Не забывайте, что яд принесла Лепито вовсе не мадам Парнак.
На площади Дворца правосудия друзья расстались.
— Спокойной ночи, Лакоссад… Попытайтесь уснуть, и будем надеяться, что завтрашний день хоть немного прояснит это дело. Во всяком случае, мы узнаем что-нибудь новенькое.
— Как и Лихтенберг, я считаю, господин комиссар, что «новое редко бывает истинным, а истина — новой».
На следующее утро не успел комиссар побриться, как в дверь позвонили.
— На сей раз кто-то слегка перебарщивает! — крикнул он из ванной. — Половина восьмого утра! Ты можешь открыть, Олимпа?
Олимпа ответила, что на ней пеньюар и бигуди, а потому, открыв дверь, она рискует сделать непрошенного гостя заикой.
— А мне, значит, можно показываться в таком виде? — возмутился Шаллан.
— Ну, дорогой, у тебя давно выработался иммунитет!
Однако в дверь продолжали названивать, и комиссар, ворча, вытер лицо, натянул подтяжки и поплелся открывать. На крыльце стоял Лакоссад.
— Ах, это вы… Олимпа, поставь на стол чашку для инспектора. Что вас привело в такую рань, Ансельм?
— Несчастье.
Шаллан удивленно посмотрел на инспектора.
— Что-нибудь серьезное?
— Нет… но дело едва не окончилось очень скверно… так что я подозреваю тут новое покушение на убийство.
— Опять?
— Логическое продолжение абсурда.
— Только не говорите, что жертва в очередной раз кто-то из Парнаков!
— Да, патрон. Мишель Парнак.
— Господи Боже! Пойдемте в ванную, Лакоссад, вы мне все расскажете, пока я добреюсь.
Инспектор поведал то немногое, что ему удалось узнать. Девушка вернулась из Лиможа в два часа ночи. У самого дома на нее налетела машина, ехавшая с погашенными фарами. К счастью, у Мишель хватило самообладания и ловкости увернуться в последний момент. Впрочем, автомобиль все же довольно сильно задел ее крылом и отбросил к решетке сада. Однако особых травм, если не считать ушибов, нет. Шофер, естественно, и не подумал остановиться.
— Где сейчас мадемуазель Парнак?
— Дома. Плантфоль и Жерье нашли ее во время обхода в полубессознательном состоянии. Ехать в больницу девушка отказалась, и ее поручили заботам Агаты. Плантфоль и Жерье вызвали врача — доктора Гро, тот сразу приехал к Парнакам, но не обнаружил у Мишель ничего серьезного. По-видимому, барышне крупно повезло.
— Вот уж чего не скажешь о нас! Теперь вообще ничего не поймешь. Если это и впрямь очередное покушение, то кто виноват? Лепито — за решеткой, Соня — в больнице, а мэтр Парнак — в морге. Все это превращается в загадку, а я терпеть не могу загадок!
— Я тоже, ибо, как заметил Бурк, «там, где начинаются загадки, правосудию конец».
Несмотря на бурные протесты Олимпы, мужчины, даже не выпив кофе, помчались на авеню Гамбетта, где их встретила очень хмурая Агата. Сославшись на то, что барышня спит, кухарка отказалась провести к ней полицейских. Комиссар и его помощник двинулись вслед за Агатой в кухню и с удовольствием согласились выпить кофе. Олимпа наверняка была бы глубоко уязвлена, узнай она, что ее муж и гость удостоили девушку чести, в которой отказали ей самой: спокойно сели за стол. Похвалив искусство кухарки, комиссар спросил:
— Скажите, Агата, после того как я позвонил вам и попросил сообщить мадемуазель Парнак о несчастье с господином нотариусом, вы сразу же связались с ней?
— Да, сразу же.
— А она не говорила, в какое время собирается вернуться в Орийак?
— Нет, сказала только, на какой поезд сядет в Лиможе.
— А вы никому не рассказывали об этом?
— Да вроде нет. За весь вечер я не видела ни души и в ожидании мадемуазель смотрела телевизор. Тем не менее сон меня все-таки сморил, так что проснулась я, лишь когда господа полицейские позвонили в дверь… Ах, да! Теперь вспомнила! Часов в десять из больницы звонила мадам и спрашивала, знаю ли я о нашем горе. Я ответила, что да, конечно, сказала также, что предупредила барышню и та вернется сегодня с последним поездом.
Позвонив в клинику, Шаллан узнал, что мадам Парнак все еще в постели и ночью, естественно, никуда не отлучалась.
Вскоре проснулась Мишель и согласилась принять полицейских. Девушка лежала на кровати с распухшим от слез лицом. Она любила отца и тяжело переживала его смерть. Кроме того, это самоубийство, необъяснимое с моральной точки зрения и очень непохожее на обычные поступки весельчака нотариуса, придавало происшедшему что-то зловещее и непостижимое.
— И все по вине этой стервы! — с ненавистью вскричала девушка. — Должно быть, папа узнал, что она ему изменяет, и, не в силах пережить такой удар, потерял голову!
— Во всяком случае, мадемуазель, должен с прискорбием сообщить вам, что на Франсуа Лепито ложится тяжкая ответственность. Если бы у него не оказалось этого пузырька с ядом… может, ничего бы и не произошло. Впрочем, он уверяет, будто этот пузырек ему принесли… Довольно жалкая отговорка!
— Франсуа говорит правду! — возмутилась Мишель. — Это я принесла пузырек!
Шаллан и Лакоссад переглянулись. Наконец-то хоть одно их предположение подтвердилось.
— Разрешите спросить, мадемуазель, зачем вы носите с собой яд, способный убить человека на месте?
— Яд? Да вы что, издеваетесь надо мной? Это была вода, но Франсуа так наивен, что готов верить любой чепухе!
— Вода?
— Ну конечно! Я налила ее из крана на кухне. Впрочем, можете спросить у Агаты — это она нашла мне флакончик, и воду я наливала у нее на глазах.
— Но… зачем?
Мишель пришлось рассказать все: о сцене, которую она устроила Франсуа, узнав о приходе мачехи, и о том, каким образом она вырвала у молодого человека обещание не разыгрывать Дон-Жуана.
Полицейские не могли прийти в себя от удивления. Наконец Шаллан спросил у своего помощника:
— Что вы об этом думаете, Лакоссад?
— По-моему, мадемуазель Парнак говорит правду. Эта девушка с характером. Кстати, она напомнила мне одну чешскую поговорку: «Причесывай дочь до двенадцати лет, до шестнадцати — не спускай с нее глаз, а потом скажи спасибо супругу, что избавил тебя от забот».
— Да, но если наша барышня права, то как объяснить отравление мадам Парнак у Лепито?
— Вранье! — воскликнула Мишель. — Эта женщина на все способна, лишь бы привлечь к себе внимание! Отравление такая же чепуха, как и то, что на нее якобы напали в саду!
— Но, мадемуазель, доктор Периньяк…
— О, этот… Нашли кого слушать! Ради моей мачехи Периньяк готов расшибиться в лепешку. Каждое ее желание для него — закон!
— Почему?
— Что почему?
— Почему доктор так покорен вашей мачехе?
Мишель с явным недоумением воззрилась на полицейских.
— Как, вы не в курсе? А я-то думала, только папа и Франсуа ни о чем не догадываются!
— О чем же все-таки, мадемуазель?
— Да просто доктор Периньяк уже больше года спит с Соней!
Агата полностью подтвердила историю с пузырьком и водой из крана.
Отпустив Франсуа, Ансельм посоветовал ему навестить Мишель, а сам пошел в кабинет комиссара, и полицейские принялись обсуждать положение.
— Похоже, все несколько прояснилось, а, Лакоссад?
— Право же…
— Наконец-то мы получили первое доказательство козней, которые подозревали с самого начала!
— Нам здорово помог яд, надо сказать.
— Доктор Периньяк солгал. Почему?
— Не хотел упускать редкую возможность избавиться от мэтра Парнака.
— По-моему, это очевидно. Но раз мы выяснили, что он солгал насчет смерти Парнака и отравления Сони, то почему бы не допустить, что заключение о смерти мсье Дезире тоже ложно?
— Как вы считаете, мадам Парнак — его сообщница?
— Будь у нас только отравление, я бы еще усомнился, но покушение в саду…
— И какова их цель?
— По-моему, тут не может быть двух мнений. Они задумали присвоить состояние Парнаков, а потому не исключено, что это Периньяк сегодня ночью пытался сбить Мишель. Таким образом, Соня осталась бы единственной наследницей своего мужа, а заодно и его брата. Ловко придумано, а? Если б мы пораньше узнали о тайных отношениях Периньяка и мадам Парнак! Выходит, в курсе были все, кроме нас… Нечего сказать, хороша полиция!
— Да, вы правы. Достаточно предположить, что виновен Периньяк, и вся история великолепно увязывается. Смотрите, доктор знал, что мсье Дезире терпеть не может невестку и вполне способен предупредить брата о ее поведении. Подстроить «самоубийство» мсье Дезире — для него детская игра. Периньяк — свой человек в доме нотариуса. Потом он предпринимает липовое покушение на Соню. Зачем? Во-первых, таким образом она будет выглядеть одной из жертв и, естественно, не вызовет подозрений, а во-вторых, предосторожности ради преступники накапливают улики против Лепито. Кроме того, во время визита к больной Соне врачу нетрудно проникнуть в гараж, куда он, вероятно, поставил и свою машину, и сунуть бомбу в мотор автомобиля нотариуса. Шутка с ядом, разыгранная Мишель, перепугала Соню, но врач сразу усмотрел здесь отличную возможность разом избавиться и от Лепито, и от нотариуса, которому жена могла без помех подсунуть отравленный кофе (поэтому, кстати, она и вымыла чашку). Если бы Периньяку удалось сегодня ночью убить Мишель, никто и никогда не докопался бы до истины. Можно предполагать, что через несколько месяцев Соня продала бы контору, а доктор — свой кабинет и оба навсегда исчезли бы из Орийака. И ничто не помешало бы им в чужих краях наслаждаться плодами нечестно приобретенного богатства. Но замысел провалился. Теперь уже им не помогут никакие деньги. Можно подумать, это с них писал некогда Сервантес: «Фортуна посылает миндаль тем, у кого больше нет зубов».
— Оставьте в покое Сервантеса, Лакоссад, и поспешите отправить побольше народу на поиски сведений о прошлом доктора Периньяка. Как только они с этим покончат, я пойду к прокурору.
Еще до полудня комиссар узнал, что доктор Периньяк по уши увяз в долгах, а в два часа уже звонил в дверь прокурора. Учитывая социальное положение предполагаемых преступников, тот долго не мог поверить в их виновность. Однако доказательства, приведенные комиссаром, в конце концов убедили представителя судебной власти. В три часа Шаллан, Лакоссад и еще два инспектора явились домой к доктору Периньяку. Последний сначала выразил изумление, а потом возмутился. Но комиссар быстро оборвал возражения.
— Не трудитесь напрасно, доктор. Мы едем прямиком из клиники. Мадам Парнак во всем созналась: и в убийстве братьев Парнак, и в покушении на жизнь его дочери, предпринятом этой ночью.
Неисправимый игрок, доктор принял поражение с тем же фатализмом, как если бы поставил не на ту масть или вытащил неудачную карту. Он сам передал полицейским тряпки, которыми обернул пистолет, оборвавший жизнь мсье Дезире. А начав признания, Периньяк довел их до конца и рассказал все. Таким образом, полицейские с удовлетворением узнали, что все их выводы нисколько не грешат против истины. Отправив врача в тюрьму, Шаллан и Лакоссад уже вдвоем пошли в клинику разговаривать с Соней. Та встретила их с достоинством, подобающим вдове, только что потерявшей супруга.
— Не знаю, какова причина вашего визита, господа, но буду вам очень признательна, если вы поторопитесь — мне надо одеваться и ехать домой. Вы же понимаете, я должна позаботиться о том, чтобы мой несчастный супруг достойно отправился в последний путь.
— Напрасно вы так спешите, мадам, — холодно заметил Шаллан. — Мы с инспектором подождем, а потом поедем вместе с вами.
— Очень любезно с вашей стороны, господин комиссар.
— Ошибаетесь, мадам, не такая уж это любезность — мы собираемся везти вас в тюрьму.
— Вы с ума сошли?
— Доктор Периньяк уже там. Кстати, он подписал полное признание.
— Вот сволочь!
От неожиданности Соня потеряла контроль над собой и мгновенно превратилась в то, чем была на самом деле — жестокую, безжалостную и циничную уличную девку. Комиссар улыбнулся.
— Вам следовало понимать, что Периньяк сломается, столкнувшись с первым же затруднением.
— Верно… Я знала, что он не сдюжит, но сама себя обманывала. Уж очень он мне нравился… Что ж, тем хуже для меня.
Эта история наделала так много шума, что в Орийаке о ней говорят до сих пор. После того как преступных любовников должным образом судили и отправили на каторгу, а мэтр Парнак обрел вечный покой в семейном склепе рядом со старшим братом, жизнь вошла в привычную колею. Антуан Ремуйе взял на себя руководство конторой, а Франсуа Лепито, глубоко разочарованный преображением Сони, вновь приступил к повседневной работе. Полицейские тоже окунулись в обычную рутину. Комиссар Шаллан, как и прежде, наслаждался восхитительной кухней Олимпы, а инспектор Лакоссад, размышляя о легкомыслии тех, на кого обрушилась тяжкая десница закона, неизменно повторял арабскую пословицу: «Кто хочет украсть минарет, должен заранее вырыть подходящий колодец».
Как-то утром Мишель зашла в контору и объявила Ремуйе, что собирается обговорить со своим опекуном (тот жил в Париже и нисколько не жаждал переселиться в Орийак) все необходимые меры к тому, чтобы впредь старший клерк мэтра Парнака заменил покойного хозяина. Антуан рассыпался в благодарностях, но девушка, махнув рукой, попросила Франсуа следовать за ней в бывший кабинет отца.
— Ну, Франсуа, — сказала она, закрыв за собой дверь, — решитесь вы наконец или нет?
— На что?
— Просить у меня руки, дурень этакий!
— Я не позволю вам разговаривать со мной таким тоном!
— Вы мой служащий, а потому я буду разговаривать с вами так, как мне заблагорассудится!
— Нет, честное слово, вы, кажется, воображаете, будто у нас до сих пор монархия! А была ведь и революция, мадемуазель, но вы, конечно, о ней позабыли?
— Плевать мне на нее!
— Ну раз так, я ухожу!
— А я вам запрещаю!
— Ха-ха!
— Ну что же, смейтесь, болван!
И она изо всех сил треснула Франсуа по физиономии. Из разбитого носа сразу хлынула кровь, а глаза наполнились слезами. От неожиданности и боли клерк сел на ковер, да так и застыл, не понимая толком, что с ним стряслось. Перепуганная Мишель опустилась рядом на колени.
— Ох, Франсуа, простите, — бормотала она, нежно гладя и утешая молодого человека, — я не хотела… Но это сильнее меня! Почему вы так упорно не желаете признаться, что любите меня?
— Не знаю… не знаю… — без всякого выражения прошептал еще не оправившийся от потрясения клерк.
— Так я вам скажу почему! Просто вы до идиотизма застенчивы!
— А?
— Но вам нечего бояться!
Глядя на окровавленный платок, Лепито вовсе не испытывал такой уверенности.
— Будьте умницей, Франсуа, скажите, что вы меня любите и хотите жениться!
Прежде чем ответить, Лепито встал.
— Не то что бы я не любил вас, Мишель, но, пожалуй, мои чувства не так глубоки, чтобы жениться.
— Ах, вы опять за старое!
— В конце-то концов свободный я человек или нет?
— Нет! Вы меня скомпрометировали и теперь обязаны жениться!
— Я? Я вас скомпрометировал?
— Разумеется! Неужели вы не помните, как я приходила к вам, собираясь покончить с собой в вашей комнате?
Подобное лицемерие так возмутило Франсуа, что он сперва остолбенел, а потом завопил что есть мочи:
— Лгунья! Подлая лгунья!
Не в силах снести обиду, Мишель закатила молодому человеку пощечину и тут же получила в ответ еще более увесистую оплеуху. Теперь уже она села на попку, но почти сразу вскочила, и между противниками завязалась отчаянная потасовка.
Агата первой услышала странные звуки, доносившиеся из кабинета покойного мэтра Парнака. Она на цыпочках подошла и, приоткрыв дверь, увидела такое зрелище, что, при всей своей невозмутимости, едва не закричала на весь дом. Поспешно закрыв дверь, кухарка опрометью кинулась в контору.
— Быстро! — завопила она, ворвавшись туда. — Бегите скорее! Мсье Лепито убивает нашу барышню!
На мгновение все оцепенели. Как и следовало ожидать, первым опомнился Ремуйе и побежал в кабинет нотариуса. За ним по пятам мчались Агата, задыхающийся от астмы Вермель и, наконец, мадемуазель Мулезан — последняя сидела без туфель и потому поотстала.
Влетев на поле боя, изумленные служащие увидели опрокинутую мебель, несколько разбитых ваз и безделушек. А среди всего этого невообразимого хаоса сидели рядышком держась за руки Франсуа и Мишель. Несмотря на сильно помятые физиономии, молодые люди нежно улыбались друг другу.
— Я всегда знала, что вы меня любите, — ворковала девушка.
— А я и не подозревал, до какой степени… — признался прижатый к стенке Франсуа.
Тут они заметили присутствие посторонних, и мадемуазель Парнак довольно сухо осведомилась:
— Что вы хотите?
Ремуйе, не в состоянии произнести ни слова, обвел красноречивым жестом разгромленный кабинет, и Мишель, поняв общее замешательство, любезно снизошла до объяснений:
— Франсуа попросил моей руки, и я дала согласие.
— Вот уж никогда не думала, что это происходит таким образом, — говорила по дороге в контору мадемуазель Мулезан Вермелю.
Вдова Шерминьяк услышала, что Франсуа возвращается насвистывая модный мотив. Это было настолько не в обычаях воспитанного молодого человека, что она вышла посмотреть, в чем дело. Клерк не стал ждать вопроса.
— У меня великолепная новость, мадам Шерминьяк! Я решил жениться.
— Да-а?
В это «да» Софи сложила всю нежность, все предположения и надежды, скрашивавшие ее тусклое существование.
— На мадемуазели Парнак.
— Да-а?
В этом «да» звучала вся горечь обманутых влюбленных с начала веков и до наших дней. Оставив Франсуа Лепито, Софи Шерминьяк удалилась к себе готовить липовый чай, должно быть надеясь утопить в нем собственные иллюзии.
ВЫ ПОМНИТЕ ПАКО?

Преклонив колени и закрыв лицо руками, она всей душой погрузилась в молитву.
В такое время в церкви Сеньора де лос Рейес людей почти не бывало. Возможно, благодаря сохранившимся с 1936 года следам пожара тут особенно явственно ощущалось присутствие милосердного к своим творениям Бога, и в полумраке, среди скользящих в неверном пламени свечей благочестивых теней, она чувствовала себя уверенно, как дома. Женщина всегда устраивалась в одном и том же месте — у надгробия святого Хосе Орьоля. Всю жизнь прожив в другом приходе, она стала одной из самых верных прихожанок этого храма. Ризничий дон Хасинто давно знал ее в лицо и считал весьма достойной особой.
Дон Хасинто привык уже издали, по походке узнавать тех, кто приходил на утреннюю службу, — это надежное и крепкое в вере стадо Господне. Знал он и тех, кто заглядывал в церковь на минутку, между делом — просто поклониться Святой Деве. Так влюбленный никогда не упустит случая напомнить о себе возлюбленной. Среди этих чистых сердцем дон Хасинто уже довольно давно заметил женщину, которая в один и тот же час опускалась на колени у гробницы святого Хосе Орьоля. Ризничему нравилось наблюдать за ней из-за колонны. По его мнению, незнакомка избрала самую праведную стезю и, скорее всего, страстно молит о знамении свыше, чтобы окончательно посвятить себя Господу. Однако дон Хасинто ошибался.
Она и в самом деле молила Всевышнего, но лишь о том, чтобы Он вернул ей Пако. Пако, которого она полюбила чуть ли не с первой встречи. Пако, обещавшего увезти ее далеко от Барселоны и начать жизнь заново. Пако, не дававшего о себе знать вот уже много дней. Пако, без которого и жизнь не мила.
Глава I
Нина не сомневалась, что только Хоакин Пуиг может рассказать ей о Пако, не выдав немедленно Виллару. Нина презирала Пуига не меньше, чем прочих прихвостней Игнасио Виллара, но тот хоть обращается с ней повежливее. Может, потому что тайно влюблен? Однако Нина знала, что Хоакин трус, а потому способен на любое предательство. Никто не должен знать, что ее интересует судьба Пако. Стоял чудесный теплый день, и казалось, вся Барселона оживает под лучами весеннего солнца. Не обращая внимания на восторженные восклицания красивых бездельников, болтавшихся на улице в поисках приключений, Нина шла к рамбла[68] дель Сентро. У поворота на калле[69] Конде дель Азальто группа туристов слушала гида, объяснявшего, что они находятся на границе «баррио чино»[70] — одного из самых скверных мест во всей Европе, но агентство, которое он имеет честь представлять, покажет им его сегодня же ночью, во время экскурсии под названием «Ночная Барселона». И под неодобрительными взглядами англичанок и голландок, замерших вместе с мужьями на пороге этого запретного мира, Нина свернула на Конде дель Азальто.
Хуанита тоже не спешила оказаться в старом городе, на улице Хайме Хираль, где ее ждала мать. От одной мысли, что та сразу начнет причитать над внезапным исчезновением Пако, у Хуаниты сдавали нервы. Нет, слезами парня не вернешь. Хуанита не питала насчет Пако никаких иллюзий, но она его любила, а потому верила, что сумеет превратить в приличного человека, за которого не стыдно выйти замуж. Впрочем, в последнее время он и так очень изменился к лучшему. Похоже, Пако вдруг понял, что самое прекрасное на свете — спокойная жизнь у семейного очага, когда нечего опасаться, что в любую минуту неожиданно нагрянет полиция. Парень клялся, будто пошел официантом в кабаре «Лос Анхелес и лос Демониос»[71] на Конде дель Азальто лишь для того, чтобы выполнить определенную миссию, но какую именно — так и не сказал. Хуанита не слишком поверила его словам. Как и все в Барселоне, она знала, что знаменитое кабаре на самом деле принадлежит не его директору, Хоакину Пуигу, а Игнасио Виллару, под прикрытием экспортно-импортной фирмы творившему всякие темные делишки, которые превратили его в одного из бесспорных властителей «баррио чино».
Конча прекрасно видела, что, с тех пор как исчез Пако, ее муж Мигель беспрестанно себя грызет. Мигель вообще страдал обостренным, даже болезненным чувством ответственности. И Конче не терпелось, чтобы парень скорее пришел к ним в гости — тогда ее муж перестанет нервничать и в доме снова воцарится атмосфера непоколебимого спокойствия. Кстати, именно из-за этой невозмутимости, неизменно исходившей от сеньоры Мохи, не слишком проницательные люди считали ее холодной и равнодушной. Конча с самого начала была против того, чтобы Пако шел работать в кабаре Виллара — со слов мужа она знала, как тот ловок, хитер и недоверчив. Куда уж мальчишке справиться с типом, за которым долгие годы безуспешно охотится полиция? Но разве переубедишь Мигеля с его вечной манией навязывать тем, кого он уважает, испытания не по силам?
В кабинете Альфонсо Мартина, возглавлявшего «ла бригада де Инвестигасион Криминаль»[72] в «Хефатура Супериор де Полисиа»[73] на виа Лайетана, инспектор Мигель Люхи в очередной раз делился с
шефом своими опасениями насчет Пако.
— Никак не могу выяснить, что с ним случилось… За шесть месяцев, что парень работает у Виллара, не проходило и двух дней, чтобы он не зашел ко мне с докладом. И вот уже десять — как о нем ни слуху, ни духу… Я боюсь, шеф.
Комиссар пожал плечами.
— Не стоит его оплакивать, пока у нас нет никаких доказательств… А вообще-то, все эти наводчики прекрасно знают, на что идут, верно?
— Пако не был обыкновенным наводчиком… Он хотел в какой-то мере искупить вину…
— Вы не заходили к его приемной матери?
— Мы с Пако договорились, что я не стану показываться в его квартале. Это могло бы возбудить подозрения. Я сдержал слово. Если за домом наблюдают, мое появление подпишет парню смертный приговор.
— Значит, остается только ждать.
— Это очень тяжко…
— Такая уж у нас работа, Мигель, но мы ведь сами ее выбрали.
Увидев у себя в кабинете Нину, Хоакин Пуиг не мог скрыть изумления. По мнению управляющего, в столь ранний час звезде его кабаре полагалось отдыхать, восстанавливая силы после утомительной ночи. Но молодая женщина заявила, что хочет еще раз отрепетировать одну из песен своего репертуара — «Amor demi alta»[74], поскольку якобы еще не вполне уверена в себе. Пуиг, который всегда аккомпанировал Нине, уверил певицу, что накануне она выступала блестяще, и посетовал на внезапный отъезд дона Игнасио в Мадрид — патрон был бы счастлив видеть ее триумф. Однако Нина ничего не желала слушать, и Хоакину пришлось сесть за рояль. Они поработали минут пятнадцать, и директор «Ангелов и Демонов» отметил про себя, что певица не сделала ни единой ошибки и без малейших колебаний исполнила песню, якобы внушавшую ей некоторые опасения. Что все это значит? Чего ради Нина явилась в такой неурочный час? Теряясь в догадках, Пуиг пошел провожать певицу. Официанты старательно приводили в порядок зал.
— А что-то я уже довольно давно не видела такого высокого, стройного, темноволосого парня? — вдруг спросила Нина. — Как, бишь, его звали… погодите… Педро?.. Нет, Панчо?..
— Пако.
— Вот-вот! Пако.
— Он от нас ушел.
— Вот как?
— Все они одинаковы! Деньги зарабатывать хотят, а вот насчет работы — это уж совсем другое дело… И потом, этим людям не сидится на месте. Воображают, будто где-то еще им будет лучше… Поверьте мне, дорогой друг, крайне неинтересная публика…
Пуиг долго смотрел, как «звезда» идет прочь по Конде дель Азальта. Чудесная фигурка… Но какого черта девушка спрашивала о Пако? У Хоакина невольно возникло впечатление, что Нина пришла только ради этого. Возвращаясь в кабинет, он раздумывал, не сообщить ли Игнасио Виллару. Но тут надо держать ухо востро — как бы не промахнуться. Похоже, Виллар здорово увлечен Ниной, так что ссориться с ней, пожалуй, опасно. И Хоакин Пуиг решил не вмешиваться — в конце концов, это вовсе не его дело. Так или иначе, девушка все равно никогда ничего не узнает о судьбе Пако…
Час, проведенный с матерью, которая так оплакивала Пако, будто уже получила официальное извещение о его смерти, совершенно измотал Хуаниту. По дороге на работу, на калле Пелайо, она думала, что непременно должна узнать правду, иначе сойдет с ума. В представлении Хуаниты, будущее связывалось только с Пако, и если ему не суждено вернуться — что ж, значит, она навсегда останется одинокой. Проще всего, конечно, пойти в «Агнелов и Демонов» и спросить, где Пако, но коли его втянули в какую-нибудь темную историю, уж ей-то об этом точно не расскажут, а просто выпроводят вон. Не говоря о том, что «баррио чино» — не совсем то место, где без ущерба для собственной репутации может показываться порядочная девушка… Контора Хуаниты находилась на углу улиц Пелайо и Вергара, неподалеку от фирмы Игнасио Виллара. Девушка знала, что только он один при желании мог бы сообщить ей о судьбе Пако. Но как до него добраться? И как убедить сказать правду? Если Хуанита не сумеет найти более серьезного основания для расспросов, нежели простое любопытство, ее даже не примут. Собственное бессилие приводило Хуаниту в ярость. Пользуясь тем, что до начала рабочего дня оставалось еще несколько минут, девушка заставила себя пройти мимо окон фирмы Игнасио Виллара. Думая о том, что лишь тонкое стекло мешает ей увидеть человека, от которого, быть может, зависит все ее счастье, Хуаните хотелось кричать. Девушка успокоилась, только дав себе клятву, что, если Виллар причинил зло Пако, ее Пако, отныне у нее появится цель в жизни: отомстить…
Уже по тому, как муж закрыл за собой дверь, Конча поняла, что о Паке по-прежнему ничего не известно. Обычно, входя в уютную квартиру на каллер Росельон (неподалеку от площади Гауди, где возвышается удивительная церковь Святого Семейства) в новой части Барселоны, старший инспектор Мигель Люхи громко хлопал дверью, словно желая показать, что вернулся хозяин дома и счастливый обладатель лучшей в мире жены.
Зато когда Мигеля что-то сильно беспокоило, он появлялся почти бесшумно, и становилось ясно, что мысли его витают очень далеко. Именно так он и вошел, когда старые часы, привезенные Кончей из родной арагонской деревушки Сопейра, негромко прозвонили два раза. Сеньора Люхи знала, что в подобных случаях лучше всего молча ждать, пока муж сам расскажет о своих заботах. Едва Мигель переступил порог кухни, Конча, поглядев на его хмурое лицо, предложила выпить рюмку мансанилы, пока она закончит последние приготовления к обеду. Мигель лишь молча кивнул и, тяжело опустившись на стул, принялся барабанить пальцами по столу, что делал лишь в минуты крайнего нервного напряжения. А Конча склонилась над плитой и с удвоенной энергией взялась за готовку, чтобы не поддаться искушению пристать к мужу с расспросами.
Все знакомые считали Мигеля и Кончу на редкость дружной парой. Поженились они десять лет назад. Однажды, когда ему уже стукнуло тридцать, Мигель получил на службе ранение и поехал лечиться в Сопейру. Там его и познакомила с Кончей дальняя родственница, старая каталанка Мария Поль, переехавшая в эту арагонскую деревушку, чтобы умереть поближе к монастырю О (старуха особенно почитала Святую Деву, которой посвящен этот монастырь). К тому времени, когда Конча Кортес познакомилась с Мигелем Люхи, ей исполнилось двадцать пять лет, и девичество грозило затянуться навеки. Высокая, крепко скроенная, она отличалась суровостью, вообще свойственной арагонцам, и, по слухам, куда больше склонялась к религии, чем к радостям земного бытия. Именно ее серьезность и поразила Мигеля. Но больше всего их, несомненно, сблизило то, что оба остались в этом мире совершенно одни. Конча потеряла родителей в раннем детстве, и воспитывал ее дядя, но и он погиб во время гражданской войны. Полученный в наследство домишко да кое-какие крохи позволяли худо-бедно сводить концы с концами, однако бедность отнимала надежду на замужество, которое избавило бы ее от одинокого прозябания в этой арагонской деревушке. О браке же с каким-нибудь местным крестьянином Конча и думать не хотела — при ее воспитании подобный мезальянс был бы просто оскорбительным. И сеньорина Кортес уже подумывала о постриге, когда в ее жизни неожиданно появился Мигель.
Единственный сын рядового полицейского, убитого в «баррио чино» во время облавы, Мигель пошел работать в полицию из ненависти к бандитам, по чьей вине он стал сиротой, а его мать — преждевременно состарившейся прислугой. Он, в свою очередь, надел форму и ночи напролет бродил по грязным кварталам, расположенным между Паралело и казармой Атарасанас, а потом с редким упорством принялся за учебу, чтобы эту форму снять и превратиться в офицера полиции.
Мать Мигеля умерла прежде, чем ее сын достиг цели. От этого ненависть Люхи к шпане из «баррио чино» только возросла, ибо теперь он обвинял своих врагов еще и в безвременной кончине матери. Оставшись один, Мигель с головой ушел в работу, и начальство, отдавая должное его достоинствам — редкой отваге и чувству долга, слегка забеспокоилось, ибо Мигель от избытка рвения превращал каждую порученную ему миссию в сведение личных счетов. Получив инспекторский чин, Люхи попросил, чтобы его перевели в Отдел уголовных расследований, — мелкая сошка его не интересовала. Там на него сразу обратили внимание, а Альфонсо Мартин, непосредственный шеф Мигеля, стал считать его своим лучшим помощником. В «баррио чино» тоже скоро узнали инспектора Люхи, и очень многие бандиты с удовольствием скинулись бы, лишь бы обеспечить ему уютное жилище в конце проспекта Икариа — на кладбище. Но душа, казалось, накрепко приколочена к телу Мигеля, или какой-нибудь особо заботливый каталанский святой ни на секунду не сводил с него глаз. Люди рядом умирали, а Люхи оставался невредим. За десять лет расследований в «баррио чино» он заработал всего два удара ножом и пулю в бедро. Женитьба на Конче нисколько не умерила его пыл и не укротила ненависть. Но у Мигеля все же хватило человеколюбия перебраться с молодой женой из двухкомнатной квартирки на улице Монкада в старой части Барселоны в новое здание на улице Росельон. Инспекторское жалованье позволяло им жить вполне прилично.
Во время рейдов в «баррио чино» Мигель Люхи нередко сталкивался с выросшими мальчиками и девочками, с которыми когда-то играл в родном квартале. Инспектор преследовал их так же безжалостно, как и остальных, но в глубине души очень страдал и только еще больше ненавидел каидов[75], превращавших некогда симпатичных мальчишек в преступников, а девочек, чьих кукол он не раз чинил, — в уличных девок, по ночам поджидавших прохожих на улице Сида и в окрестных переулках. Конча, быстро разобравшись в психологии мужа, поддерживала его всей душой. Возможно, порой она и хотела, чтобы Мигель хоть немного расслабился, но, по-видимому, он был на это просто не способен. Даже ночами Люхи не мог спать спокойно и часто в кошмарных видениях вновь переживал мучительные часы, проведенные у тела отца, видел его вспоротый живот… Тогда Конча тихонько вставала, поила супруга подслащенной водой и вытирала вспотевший лоб. Жизнь подле Мигеля стала для сеньоры Люхи чем-то вроде сурового религиозного служения, а их дом превратился в пусть не слишком веселое, но зато надежное пристанище. Полицейский искренне любил жену, однако ни за что на свете не согласился бы хоть на минуту отвлечься от раз и навсегда поставленной цели. Теперь он был уже старшим инспектором, и ходили слухи, что скоро его назначат заместителем комиссара, но, положа руку на сердце, Мигель не мог бы сказать, что перспектива такого повышения его радует, ибо это неизбежно лишило бы его самой любимой части работы — участия в операциях.
Из всех каидов, царивших над преступным миром Барселоны, Мигель больше всего ненавидел Игнасио Виллара и поклялся не принимать обещанного повышения, пока не положит конец карьере этого бандита, благодаря поддержке весьма влиятельных лиц до сих пор ловко ускользавшего из всех ловушек полиции. В глазах Люхи Виллар был воплощенной насмешкой над законом, одним из преданнейших слуг которого считал себя инспектор. Эта мысль мало-помалу превращалась в своего рода манию, и в конце концов Мигель стал воспринимать Виллара как живое олицетворение мирового зла и пришел к убеждению, что, как только бандит исчезнет, вся Барселона вздохнет с облегчением. Уже пять лет Люхи тщетно искал способа покончить с врагом. Дон Игнасио, узнав об упорном преследовании полицейского, сначала лишь посмеивался. В безрассудной отваге букашки, без колебаний налетающей на того, кто способен уничтожить ее в мгновение ока, ему виделось нечто глубоко комичное. Но со временем дону Игнасио пришлось признать, что этот полицейский становится не в меру докучлив: несколько людей Виллара оказались за решеткой, и, вызволяя их, бандит потратил немало денег, ибо помощь сомнительных адвокатов, чья совесть значительно уступает таланту, обходится очень дорого. Убедившись, что Люхи никогда не оставит его в покое, дон Игнасио попробовал подкупить полицейского. Он еще не знал, что для Мигеля все деньги в мире — ничего по сравнению с местью, ставшей смыслом существования, единственной целью в жизни. Обозленный неудачей, Виллар пустил в ход все свои связи, чтобы добиться отставки Люхи, но тут он натолкнулся на сопротивление комиссара Мартина, заявившего, что инспектор Люхи незаменим в его отделе и что сама возможность увольнения такого замечательного офицера с безупречной репутацией вызвала бы крайне неблагоприятную реакцию его сослуживцев, да и всех, кто в той или иной мере связан с отделом уголовных расследований. Впрочем, комиссар немедленно предупредил Люхи, что ему следует вести себя осторожнее. Инспектор поблагодарил, но даже не подумал ничего менять в своих привычках. Он по-прежнему бродил по «баррио чино», держась поближе к «Ангелам и Демонам», расспрашивая того, угрожая другому и пытаясь отыскать хоть какое-нибудь доказательство преступных махинаций Игнасио Виллара. Но стоило полицейскому повернуться спиной, допрашиваемые бежали предупредить людей из непосредственного окружения каида и передать, какие именно вопросы тот задавал. Виллар принял все необходимые меры предосторожности, а потому мог ничего не опасаться, и все же в душу его — почти бессознательно — закрадывалась смутная тревога. Бандит привык к полному повиновению и беспрекословному исполнению своей воли, а потому сопротивление какого-то жалкого чиновника, получающего всего несколько сотен песет в месяц, выводило его из себя. Впервые в жизни Виллар столкнулся с человеком, совершенно равнодушным к деньгам, и это сбивало его с толку.
Истинная причина глубокой ненависти Мигеля к бандиту коренилась в подспудной уверенности, что тот участвовал в убийстве его отца. В те времена нынешний каид был еще дебютантом, одним из тех мелких проходимцев, что днем спят, а по ночам шляются по «баррио чино» между Санта-Мадрона и Конде дель Азальто, Паралело и набережной Санта-Моника. Из хранившихся в архиве полицейских досье Люхи вычитал, что Виллар был среди свидетелей, ставших очевидцами преступления. Игнасио (тогда еще никому бы и в голову не пришло величать его «доном») задержали дольше, чем прочих, ибо на его руках и жилете обнаружили следы крови, но тот заявил, будто испачкался, пытаясь помочь умирающему. Разумеется, многие из тех, на кого полиция уже успела завести дело, подтвердили уверения Виллара, и его пришлось отпустить, хотя стражи закона прекрасно знали, что Игнасио работает на Хуана Грегорио, торговца наркотиками, давно точившего зуб на Энрико Люхи — отца Мигеля. Тот, наплевав на высокое положение Грегорио, как-то раз арестовал его за серьезное нарушение правил дорожного движения. Теперь Хуан Грегорио уже умер, окруженный богатством и почетом, и ходили слухи, что Виллар занял его место.
При всем своем упорстве инспектор Мигель Люхи уже начал отчаиваться в возможности когда-либо взять верх над Игнасио Вилларом, но тут в игру вступил Пако Вольс.
Когда инспектор Люхи в первый раз застукал Пако, пытавшегося стянуть кошелек у английского туриста на калле Арко де Театро, парню едва исполнилось девятнадцать лет. С несвойственным ему благодушием Мигель тогда отпустил воришку, дав ему вместо напутствия хорошего пинка. Инспектор Люхи обладал великолепной памятью на лица и сразу узнал Пако, когда того привели к нему в кабинет пять лет спустя, арестовав вместе с другими участниками драки в кабачке на калле дель Ольмо, закончившейся смертью одного из скандалистов. Во время допроса Мигеля поразили ответы Пако Вольса. Казалось, он не так уж испорчен, как можно было предполагать. Судя по всему, парнем руководило не столько желание жить вне закона, сколько полное неумение найти себе порядочное место в жизни. Вне всякого сомнения, его еще можно спасти из «баррио». Этот полицейский с таким суровым лицом однажды уже помог Пако, и, памятуя об этом, молодой человек выложил ему всю свою историю. Родился он в «баррио чино», отца не знал, а мать добывала пропитание себе и сыну благодаря мужчинам, ненадолго проявлявшим к ней внимание. В такой грязи Пако и вырос. Просто чудо, что он не развратился окончательно. Вопреки тому, чего можно было бы ожидать от подобного воспитания, парень мечтал о тихой, спокойной жизни. Вонью и шумом знаменитого квартала он был сыт по горло и теперь хотел лишь покоя. По-видимому, Вольс ничего так не желал, как получить место посыльного в какой-нибудь небольшой конторе, что свидетельствовало и об умеренности его амбиций, и о страстной жажде выбраться из окружающей среды. К несчастью, парень ровным счетом ничего не умел и до сих пор занимался ремеслом, не имеющим определенного наименования ни на одном языке, то есть передавал адресатам предложение встретиться, водил иностранных туристов по Барселоне, за скромное вознаграждение выступал посредником во всяких сомнительных сделках и разносил сплетни. Если присовокупить к этому природную лень, нашептывавшую ему, что сиеста — самое лучшее изобретение человечества, вполне понятно, почему к двадцати четырем годам Пако превратился в типичного бездельника, одного из тех, что сотнями толкутся во всех средиземноморских портах и отличаются друг от друга лишь цветом лохмотьев или слишком плотно облегающих тело костюмов. Кроме того, природа наделила Вольса на редкость привлекательной внешностью, и, хоть он ни словом не обмолвился об этом, Люхи без труда сообразил, что парень наверняка умеет извлекать выгоду из своей незаурядной красоты.
При всем том Пако Вольс не был одинок, ибо считал матерью старуху лет семидесяти, подобравшую его много лет назад, после смерти той, что произвела его на свет. Эта старуха в молодости тоже вела легкомысленный образ жизни, но любовь рабочего-водопроводчика вырвала ее из «баррио чино» и превратила в хорошую, трудолюбивую и преданную домохозяйку. Маленькая квартирка на калле Хайме Хираль стала для нее всем миром, миром, который она изо всех сил старалась содержать в безукоризненной чистоте. Старуха считала пыль злейшим врагом и большую часть дня подметала, мыла и скребла дом. В законном браке она довольно поздно родила дочь, Хуаниту, вырастила ее в самых строгих моральных устоях, и теперь девушка работала машинисткой-стенографисткой в небольшой конторе на калле Пелайо. Старуху звали Долорес Каллас. При всей своей любви к сыну подруги, она не сумела проявить в его воспитании достаточную суровость и помешать ему вернуться в «баррио чино». Виной тому — сохранившееся с прошлых времен безмерное почтение к мужчине и привычка беспрекословно подчиняться во всем хозяину дома. Долорес по-настоящему сердилась, только когда пачкали ее паркет и мебель. Однако даже живя в «баррио чино», Пако всегда проводил воскресенье с приемной матерью и той, кого называл своей младшей сестренкой. (Хуанита была младше его на три года.) К двадцати четырем годам Вольс сообразил, что благодаря постоянной работе и гарантированному заработку девушка гораздо счастливее его, и именно ее пример внушил парню желание изменить образ жизни. Вот только, не отличаясь ни большой силой воли, ни избытком мужества, Пако всерьез опасался, что его благие намерения навсегда останутся таковыми.
К огромному удивлению Вольса, ожидавшего, что после задушевной беседы инспектор Люхи даст ему еще один шанс, тот отправил парня за решетку. Зато месяц спустя полицейский ждал Пако у ворот тюрьмы.
Мигель привел парня домой и представил Конче, которая, насколько позволял ей суровый нрав, постаралась встретить молодого человека как можно любезнее. Строгая красота этой неулыбчивой женщины внушала почтение. Пако немного оробел и оттого проникся еще большим уважением к инспектору. Люхи так и не обзавелись детьми, и молодость Вольса несколько оживила атмосферу в квартире на калле Росельон. После вкусного обеда, когда они принялись за кофе, Мигель приступил к серьезному разговору.
— Слушай, Пако, я рассказал о тебе своему шефу, комиссару Мартину. Как и я, он готов тебе поверить и помочь снова занять место среди порядочных людей, но для этого ты сперва должен доказать, что на тебя можно полагаться в серьезных делах.
— И что я должен сделать?
— Помочь нам загнать в угол Игнасио Виллара.
Парень чуть не захлебнулся кофе.
— Но ведь никто и никогда не сумеет справиться с Вилларом! — воскликнул он, отдышавшись.
— Я это сделаю, если ты мне поможешь.
Пако долго вглядывался в решительное лицо инспектора, мысленно сравнивая его с доном Игнасио, и в конце концов пришел к выводу, что, возможно, полицейский и в самом деле способен взять верх.
— И чем я смогу быть вам полезен?
— Ты вернешься в баррио и попробуешь устроиться на службу к Виллару.
— Чтобы его предать?
Реакция парня понравилась Мигелю.
— Если бы ты сообщил мэру своей деревни, что знаешь, где логово кабана, который уничтожает всходы, разве ты счел бы это предательством по отношению к кабану?
— Но ведь дон Игнасио все-таки не животное!
— Гораздо хуже, поскольку он творит зло сознательно!
Тут, против обыкновения, в разговор вмешалась Конча. Несмотря на то, что Мигель ее ни о чем не спрашивал, сеньора Люхи заявила, что, с ее точки зрения, не следует поручать такому молодому человеку крайне сложное задание и Мигель, пожалуй, не очень-то вправе понуждать гостя взяться за непосильную для него задачу. В глубине души Люхи понимал, что жена рассуждает совершенно справедливо, но воспринял это как попытку разрушить тщательно разработанный план и рассердился. Честно говоря, судьба Пако сейчас не особенно заботила Мигеля. Самое главное — добраться до Виллара. Однако вопреки опасениям инспектора, вмешательство Кончи не только не дало парню желанный предлог отклонить слишком опасное предложение, но, по-видимому, задело его за живое. Вообразив, что эта красивая женщина сочла его молокососом, Пако решил во что бы то ни стало доказать, как жестоко она заблуждается. Расхорохорившись, парень согласился выполнить поручение и поклялся скрутить дона Игнасио намного быстрее, нежели кое-кто думает. Конча больше не вмешивалась, и мужчины договорились, что Вольс попросит у Хоакина Пуига место официанта в кабаре «Ангелы и Демоны» — Люхи не сомневался, что именно там находится штаб-квартира всех грязных махинаций дона Игнасио, а Пако, по идее, должен вызвать тем меньше подозрений, что только-только вышел из тюрьмы.
Еще до разговора с Пако Мигель изложил план операции своему другу и покровителю Альфонсо Мартину. Тот выслушал его очень внимательно.
— Насколько я понимаю, в этом приключении парень рискует собственной шкурой, а, Мигель? — заметил комиссар.
— Разумеется, шеф, но, не разбив яиц, омлет не приготовишь…
— Ты что ж, никогда не испытываешь жалости, Мигель?
— Никогда! Никто не пожалел моего отца, дон Альфонсо. Никто не щадил ни мою мать, ни меня. Так почему вы хотите от меня жалости к другим?
— Ты ненавидишь Виллара, не так ли?
— Как и все мы, шеф.
— Нет, Мигель, больше, чем все мы.
— Возможно…
— Нет, Мигель, не возможно, а наверняка!
— И что с того?
— Ничего… Только поостерегись, как бы ненависть однажды не возобладала над чувством долга… например, заставив забыть, что этот Пако Вольс имеет такое же право на жизнь, как и все прочие. А засим, разрешаю тебе действовать по собственному усмотрению, при условии, что вся ответственность целиком лежит на тебе. Если сумеешь свалить Виллара, хочешь — не хочешь, а я вставлю тебя в льготный список на повышение. Впрочем, даже если тебя ждет неудача, повышения все равно не миновать, Мигель. Уж слишком долго ты живешь на нервах! Тебе будет только полезно поруководить районным комиссариатом, прежде чем вернешься сюда моим заместителем, а потом — кто знает? — возможно, сменишь меня на этом посту. И кроме того, есть еще донья Конча, к которой я питаю величайшее почтение…
— Что вы имеете в виду, дон Альфонсо?
— Послушай, Мигель, я старше тебя на пятнадцать лет и с давних пор, еще с того дня, как ты пришел сюда, испытываю к тебе большую симпатию… Так вот, ты заставляешь жену вести слишком аскетичный образ жизни. А ведь она еще молода, черт возьми! Ты никогда не выводишь ее на люди!
— Конча счастлива дома, дон Альфонсо. Она арагонка. Не будь такое существование ей по душе, жена давно бы мне это выложила и, невзирая на всю нашу взаимную привязанность, стала жить по-своему.
— Тогда забудь о моих словах, поклонись от меня донье Конче и передай, что мы с женой будем счастливы пригласить вас на ужин в один из ближайших вечеров.
С тех пор минуло около шести месяцев. Пако, поступив на работу к Хоакину Пуигу, терпеливо завоевывал доверие начальства. Полицейские облегчили ему задачу, дав возможность отличиться перед Вилларом. Несколько раз, вовремя предупредив, Вольс избавил дона Игнасио от мелких неприятностей. Ради конечной победы Мартину и Люхи пришлось пойти на такие уступки. Пако старался ничего не менять в своем образе жизни, по-прежнему проводил воскресенья у названой матери и почти два месяца не решался приходить в новые кварталы Барселоны, туда, где жили Люхи. Лишь убедившись, что закрепился на месте и больше не вызывает ни малейших подозрений, парень стал чаще видеться с инспектором, впрочем, не забывая обо всех необходимых мерах предосторожности.
И вот, десять дней назад Пако явился к Люхи и торжествующе объявил, что, кажется, наконец близок к желанной цели. Он случайно подслушал разговор между Вилларом и Пуигом об отправке в Южную Америку партии «танцовщиц». Дон Игнасио и Хоакин ожидали «сопровождающего», чтобы обсудить детали путешествия. И Вольс надеялся услышать в тот вечер достаточно, чтобы полиция смогла изловить всю банду.
С тех пор Пако не появлялся. Сначала Мигель думал, что молодой человек решил удвоить меры предосторожности, но день проходил за днем, и по прошествии недели инспектор встревожился. Теперь у него почти не осталось надежды когда-либо увидеть Пако. А что до Виллара, то, увы, счастливого мгновения, когда Мигель защелкнет на его запястьях наручники, наверняка придется ждать еще очень долго.
Сидя напротив жены, Мигель мрачно жевал, даже не соображая толком, что у него в тарелке. Но Конча не желала смириться с поражением — одна мысль об этом была противна ее натуре.
— Напрасно ты отчаиваешься, Мигель, он еще вернется! — упрямо заявила она.
Инспектор пожал плечами.
— Нет, моя Конча… не вернется… — напряженным от волнения голосом проговорил он. — Должно быть, парня застукали… Не знаю, что с ним сделали, но когда выясню…
Полицейского охватила такая ярость, что вены у него на лбу вздулись, как веревки. Он конвульсивно сжал кулаки. Донья Конча ласково накрыла руку мужа своей.
— А я не теряю надежды…
Гнев и печаль туманили инспектору глаза, и все же он с невольным восхищением поглядел на жену. Нет, ничто и никогда не сможет сломить Кончу!
Глава II
Прошло уже три недели с тех пор как исчез Пако. Зайдя как-то на калле Хайме Хираль повидать приемную мать Вольса, Конча Люхи нашла старуху в слезах. Та, по-видимому, окончательно смирилась с мыслью о гибели Пако и не надеялась на новую встречу в этом мире. Хуаниту жена инспектора не застала — та еще не пришла с работы. Теперь уже и Конча начала проникаться уверенностью, что Пако мертв, и лишь ради мужа делала вид, будто еще на что-то надеется.
Ради здоровья Мигель Люхи взял за правило дважды в день ходить через весь город пешком — на работу и обратно.
Выйдя из дому, инспектор направлялся к площади Гауди, где с неизменным удивлением окидывал взором церковь Святого Семейства, начатую еще в 1884 году, но все еще не законченную, словно отцы города не осмеливались завершить это здание, напоминающее одно из бредовых видений другого великого каталанца, Сальватора Дали. От площади по калле Мальорка Мигель выходил на Тетуан, а дальше, через пасеро Сан Хуан, добирался до границ старого города. Дальше он шел по калле дель Коммерсио и калле делла Принсеса. Царившее в этих кварталах добродушное оживление приводило его в восторг. Здесь Мигель чувствовал себя гораздо лучше, чем в новом городе, чья безликая холодность его очень угнетала. У Люхи было множество знакомых, и ему редко удавалось сделать хотя бы несколько шагов без остановки. Одни просто здоровались, другие расспрашивали о житье-бытье, третьи рассказывали о собственных горестях, и все уверяли в нерушимой дружбе с той пронизанной солнцем горячностью, которой не следует особенно доверять. Но в тот день инспектору не хотелось никого видеть, ни с кем говорить. Он думал лишь о Пако и не желал отвлекаться от этих мыслей.
Каким образом от него избавились? И почему до сих пор не найдено тело? Но Мигель слишком хорошо знал «баррио чино» и помнил, что там великолепно умели избавляться от возмутителей спокойствия, не оставляя за собой ни малейших следов. Пережевывая так и не зажженную сигару, инспектор бесконечно ломал голову над единственным занимавшим его вопросом: кто убил Пако? Он должен узнать имя убийцы и не успокоится, пока не выяснит всей правды. Тогда Мигель доберется до негодяя и прикончит его своими собственными руками, даже если это будет стоить ему карьеры. И его семья, и сам инспектор слишком долго получали удары, не имея возможности отплатить той же монетой. А потому никакие материальные блага не могли угасить жажду мщения, вечно сжигавшую сердце инспектора Мигеля Люхи.
От калле Принсеса ответвляется калле Монкада, где Мигель родился и прожил большую часть жизни. Он всегда проходил ее с начала до конца, здороваясь со стариками, которые знали его мальчишкой. Иногда они просили полицейского о какой-нибудь мелкой услуге, ибо, не умея, по большей части, ни читать, ни писать, получив какую-нибудь официальную бумагу, не знали, что делать. Если на работе его не ждало неотложное дело, Мигель обычно заходил к старухе, которую весь квартал, с тех пор как помнил себя сам Люхи, называл просто Вьюда. Старуха присматривала за ним в те далекие времена, когда он еще не дорос до школы, а мать уходила на работу. Инспектор взбирался по шатким ступенькам и стучал в дверь крохотной клетушки, где жила старейшая из его друзей. А потом они пили кофе, вспоминая своих мертвых. Полицейский никогда не уходил от Вьюды, не сунув хотя бы несколько песет в старую сморщенную руку — недаром же она так часто его шлепала…
Но сегодня Люхи не стал подниматься к старой Вьюде. Чужие беды его сейчас не трогали, ибо в голове навязчиво звучал, словно отбивая каждый шаг, один и тот же вопрос: кто убил Пако? Вдохновитель этого нового преступления, несомненно, Виллар, но кто взял на себя исполнение приказа? Пуиг чересчур труслив, чтобы совершить убийство. Он слишком потрепан жизнью и окончательно выдохся, а потому мечтает лишь об одном: спокойно дотянуть до конца под защитой дона Игнасио. Нет, Пуиг не убийца. Зато трое бандитов, бессменно охраняющих Виллара в последние несколько лет, явно способны зарезать собственную мать за несколько сотенных банкнот. Но кто из этой троицы прикончил Пако? Антонио Рибера, мадридец, с его изяществом бывшего тореро, еще способным волновать потрепанные сердца обитателей квартала? Хуан Миралес, громадный детина, чьи мозги изрядно пострадали на боксерских рингах Астурии? Но Люхи при всем желании не мог представить, чтобы кто-то из этих двух ограниченных бандитов мог отважиться на столь рискованный шаг. Нет, самый опасный и безжалостный из них — андалусиец Эстебан Гомес, в последние два года, по-видимому, ставший правой рукой Игнасио Виллара. Полиция отлично знала, что Пуиг употребляет наркотики, Миралес — пьяница, а Рибера — гомосексуалист, но об Эстебане Гомесе ей не удалось выяснить ровно ничего. Было известно лишь, что приехал он из Севильи и до гражданской войны работал старшим пастухом у крупного скотопромышленника на заливных лугах Гвадалквивира, однако весь период между тем временем и появлением парня в «баррио чино» так и остался покрыт мраком тайны. Но Люхи не сомневался, что, если этому типу приказали убить Пако, он выполнил приказ без малейших колебаний.
Мигель медленно брел по калле де Платериас, откуда уже рукой подать до виа Лайетана, где находится Главное полицейское управление. Ему совсем не хотелось возвращаться на работу, ибо все мысли занимала судьба Пако, а с мелкими повседневными делами вполне могут справиться помощники. Но куда пойти? Кого допросить, чтобы выяснить хоть что-то? Пуиг захлопнется как устрица и в ответ на все вопросы будет только лицемерно улыбаться. Он ведь всего-навсего управляющий «Ангелами и Демонами» и, хоть сеньор Виллар действительно вложил крупные средства в это кабаре, он, Пуиг, решительно ничего не знает о действиях дона Игнасио, поскольку тот не считает нужным ставить его в известность, и господину инспектору следовало бы это понимать…
Стоило Люхи вспомнить этот медоточивый голос и лакейскую улыбку, как его тут же затошнило. А где искать Риберу, Миралеса и Гомеса? Впрочем, они тоже ничего не скажут — как ни прогнили эти подонки, а все же не чета Пуигу… Куда ни кинь — все клин, и полицейский внезапно решил нанести визит самому Игнасио Виллару. Само собой, он рискует поднести спичку к пороховому погребу, навлечь на собственную голову крупные неприятности и ужасно рассердить комиссара Мартина, но Мигель больше не мог оставаться в бездействии — нервы не выдерживали.
Роскошная приемная фирмы «И.Виллар и Компания. Экспорт-импорт», обеспечивавшей социальный статус ее главе, была битком набита хорошенькими девушками. Их привлекло сюда объявление в утренней газете, что «И.Виллар и Компания» ищет опытную секретаршу, знакомую с делопроизводством. Большинство этих барышень, правда, довольно слабо разбирались в тонкостях ремесла и рассчитывали вовсе не на опыт работы в коммерческих конторах, а на другие достоинства, которые помогут им получить место в фирме Виллара и сделать карьеру, весьма далекую от пишущей машинки и блокнота для стенографии. Почти все разоделись в пух и прах и позаботились выставить напоказ обтянутые нейлоном ножки. Девушки коротали время, поверяя друг другу прежние достижения и неудачи. Впрочем, дружеское перешептывание не мешало обмениваться критическими взорами и безжалостно оценивать шансы соперниц. Время от времени болтовня прерывалась, и все дружно хихикали над сидевшей на отшибе девушкой в строгой белой блузке с глухим воротом и черной плиссированной юбке, да еще и в очках с пластмассовой оправой «под черепаху», окончательно лишавших выразительности не накрашенное лицо. И на что эта девица рассчитывает, если всей Барселоне известно, что дон Игнасио далеко не равнодушен к хорошеньким мордочкам? Внезапно все разговоры замерли — дверь распахнулась, и в зал вошло создание, казалось, спорхнувшее прямо с обложки киножурнала. Высокую стройную фигуру этой черноглазой блондинки облегало платье, явно сшитое очень далеко от Барселоны и уж наверняка задуманное не здешним модельером, а на плечах красовался небрежно накинутый норковый палантин. Все претендентки на место, онемев от восторга и зависти, созерцали знаменитую Нину де лас Ньевес, которая для каждой из них была образцом и идеалом. Все знали, что Нина — официальная любовница дона Игнасио, и это он сделал ее «звездой» кабаре «Ангелы и Демоны». Молодая женщина на мгновение остановилась и с веселым любопытством окинула взглядом это собрание красоток. Несмотря на улыбки, во всех взглядах читалась откровенная зависть, от которой леденеют даже самые прелестные глаза. Нина слегка кивнула и без стука распахнула дверь с надписью «Секретарь» на матовом стекле. Пройдя через комнату, опустевшую с тех пор как сеньорита де лас Ньевес заставила дона Игнасио уволить секретаршу, на ее взгляд, слишком приятную для глаз шефа, Нина без стука вошла в кабинет Виллара.
Игнасио Виллар, высокий худой мужчина лет пятидесяти с коротко стриженными седыми волосами и грубоватым, но энергичным лицом, напоминал актера, из тех, что обычно играют безжалостных и бессовестных международных дельцов. С одного взгляда в эти холодные глаза становилось ясно, что пытаться его растрогать бесполезно, а вставать поперек дороги — еще и опасно. Когда вошла Нина, дон Игнасио разговаривал по телефону. Он тут же повесил трубку, встал и, подойдя к гостье, поцеловал ей руку.
— Нина, какой сюрприз! А я-то думал, ты еще отдыхаешь после вчерашнего триумфа… кстати, он меня необычайно порадовал…
— Публика была настроена очень дружелюбно.
— Дорогая моя, так всегда бывает, когда та, или тот, кто выходит на сцену, обладает талантом.
— Спасибо, Игнасио…
— По-моему, твои песни очень хороши, и надо будет устроить так, чтобы их поскорее напевала вся Испания.
— Чудесная мысль…
— Тем не менее я сомневаюсь, что ты пришла только ради удовольствия меня повидать… Так чему я обязан таким сюрпризом?
Молодая женщина протянула дону Игнасио газету с отчеркнутым красным карандашом объявлением, которое вызвало столь мощный наплыв красоток в приемную.
— Вот это!
Виллар рассмеялся.
— Ты что ж, хочешь стать моей секретаршей?
— Нет, только помочь тебе выбрать. Я вовсе не желаю, чтобы с новенькой повторилась та же история, что и с Антониной.
— Уверяю тебя, Нина, ты напрасно вообразила Бог знает что, у меня с этой девушкой ровно ничего не было.
— Я предпочитаю избавить тебя от искушений, Игнасио, потому что, если тебе я, пожалуй, могу доверять, то им — нисколько!
Польщенный Виллар счел это проявлением ревности, а потому не стал сердиться на Нину, хотя обычно не допускал ни малейшего вмешательства в свои дела и пресекал подобные попытки в зародыше. Он нежно обнял певицу.
— Только ты одна могла на это отважиться, Нина… за это я тебя и люблю… Готов признать, мне даже нравится, когда ты так своевольничаешь… И уже одно это доказывает, с какой нежностью я к тебе отношусь, моя Нина…
Он тихонько коснулся губами ее щеки и, слегла отстранившись, с восхищением посмотрел на девушку.
— А знаешь, ты и вправду очень красива, Нина… Только набитый дурак мог бы предпочесть другую… Да, теперь ты совсем не похожа на девчонку, которую я подобрал в Паралело… Честно говоря, я этим немного горжусь! Ты — моя самая большая удача, Нина.
Да, ей и в самом деле пришлось проделать долгий путь… Два года назад начинающая певичка приехала из родной Эстрамадуры с твердым намерением покорить Барселону. В те времена она еще звалась Магдаленой Лопес. В Бадахосе ее талант оценили, а потому девушка не сомневалась, что быстро сделает карьеру в Барселоне, где, по слухам, критика не так строга, как в Мадриде. Магдалена быстро убедилась, что сделала ошибку — прежде чем ей удалось выступить в Паралело, где так мирно уживаются талант и бездарность, прошло много месяцев, когда сеньорита Лопес мучительно ломала голову, не зная ни где переночевать, ни на что купить еды. Зато в Паралело ее однажды вечером заметил дон Игнасио. Он нанял хороших педагогов и скоро превратил Магдалену в блистательную Нину де лас Ньевес, чье имя огромными буквами сверкало на всех барселонских стенах. Несмотря на успех, молодая женщина не могла забыть того, что ей пришлось вынести, и, при всей щедрости Виллара, вовсе не чувствовала себя счастливой. О, она, разумеется, умела смеяться, когда нужно, но глаза оставались печальными… Странная женщина.
Получив от дона Игнасио разрешение самостоятельно выбрать ему секретаршу, Нина снова пересекла пустую комнату и, выйдя в приемную, подозвала девушку в очках, что вызвало некоторое оживление в рядах претенденток. В секретарской она предложила оробевшей девушке сесть и сама устроилась напротив. Чувствуя, как волнуется это юное создание, Нина вспомнила, какая безумная тревога охватывала ее при каждой встрече с новым импрессарио, от которого зависели все будущие завтраки и обеды… А потому певица старалась говорить как можно мягче.
— Как вас зовут?
— Хуанита Каллас.
— Вы уже работали в Барселоне?
— Нет, но я хорошо знаю свое дело.
— Сейчас мы это проверим… Где вы живете?
— В гостинице «Муньос» на калле Фернандо.
— Замужем?
— Нет.
— Обручены?
— Нет.
— Почему?
— Я ненавижу мужчин, — вдруг с необычайной резкостью бросила эта дурнушка. — Мой отец самым законным образом вколотил в гроб мою мать. Всю жизнь он лупил ее почем зря, а когда Господь прибрал эту мученицу к себе, принялся за меня. Несколько месяцев назад он умер.
— И вы не носите траур?
— А чего ради?
Нина с удовольствием подумала, что, если Хуанита окажется хорошей секретаршей, сама она сможет спокойно отдыхать после ночных тягот — дону Игнасио наверняка даже в голову не придет волочиться за новой сотрудницей. Не то чтобы Нина очень дорожила Вилларом, но, по ее мнению, достаточно дорого заплатила за роскошь, которой теперь окружена, чтобы допустить конкуренцию. Во всяком случае, она не желала, чтобы другая заняла ее место, прежде чем ей самой заблагорассудится его освободить. Певица встала и, перейдя в соседнюю комнату, попросила сеньору Польхис, старейшую и самую опытную из служащих фирмы, быстренько проэкзаменовать претендентку. Не прошло и нескольких минут, как сеньора Польхис заявила, что из Хуаниты получится отличная секретарша. Нина, радостно улыбаясь, приказала отправить восвояси всех ожидающих в приемной и пошла к Виллару.
— Игнасио, по-моему, я нашла настоящую жемчужину! — торжествующе заявила она.
— Правда?
— Сеньора Польхис провела испытание и осталась очень довольна.
— Ну, если Польхис — за, то и я не против. Ты мне покажешь это чудо?
Нина позвала Хуаниту.
— Madre de Dios,[76] — невольно пробормотал Виллар.
Потом дон Игнасио перевел взгляд на певицу, насмешливо наблюдавшую за его реакцией, и, как хороший игрок, от души рассмеялся. Виллар объяснил новой секретарше, что ей надлежит сидеть в соседней комнате, следить за его личной корреспонденцией, приходить, как только на столе загорится лампочка, отвечать на телефонные звонки и спрашивать по интерфону, хочет он разговаривать или нет. Наконец он передал девушке дневную почту для перепечатки и отпустил, велев поговорить о зарплате с сеньором Баутисто Речем.
— Честное слово, у тебя не было никакой надобности приставлять ко мне такое пугало! — заявил он, снова оставшись вдвоем с Ниной.
— Лишняя предосторожность никогда не повредит, дон Игнасио! До вечера?
— Разумеется… После концерта поужинаем в «Ригате».
На пороге Нина чуть не столкнулась с Мигелем Люхи, но, не зная инспектора в лицо, не
обратила на него никакого внимания. Зато полицейский, узнав певицу, долго провожал ее глазами. Его интересовал каждый, кто в той или иной мере входил в окружение Виллара, а Мигель, как и все в Барселоне, имел точное представление об отношениях Нины и дона Игнасио.
Мигель Люхи стал первым посетителем, о котором Хуаните пришлось докладывать новому шефу. Уже по тому, как долго Виллар не отвечал, девушка почувствовала, насколько он удивлен. Наконец, решившись, дон Игнасио приказал впустить полицейского.
Эти двое еще ни разу не сталкивались лицом к лицу. Они долго мерились взглядом, не говоря ни слова, и каждый ощущал всю силу ненависти другого. Оба пытались оценить возможности противника. Виллар сразу узнал в Мигеле опасного врага, быть может, самого опасного за всю его жизнь. А Люхи, глядя на этого холодного, невозмутимого мужчину, в свою очередь, понимал, что борьба может стоить ему жизни. Не ожидая, когда ему предложат сесть, инспектор опустился в кресло.
— Обычно у моих посетителей хватает воспитанности не садиться, пока я их об этом не попрошу, — сухо заметил Виллар.
— Вы, несомненно, забыли это сделать, а я привык стоять только перед старшими по званию.
Снова наступила тишина.
— Итак, вы здесь, инспектор… — наконец вкрадчиво проговорил дон Игнасио.
— Да, я здесь, синьор Виллар… Рано или поздно это должно было случиться, не так ли?
— Разумеется… А вам известно, что вы уже слишком давно мне мешаете?
— Придется потерпеть. Ибо я собираюсь продолжать в том же духе.
— До тех пор, пока у меня не лопнуло терпение, инспектор?
— Нет, пока мне так хочется, сеньор.
Дон Игнасио выпрямился.
— Вы, кажется, очень уверены в себе?
— Да, это правда, сеньор.
Виллар презрительно хмыкнул.
— Я всегда полагал, что самоуверенность — свойство юнцов и идиотов.
— Я не так уж молод, сеньор, и вовсе не дурак. Просто я хорошо знаю, чего хочу.
— А можно узнать, чего именно?
— Покончить с вами, сеньор Виллар.
Дон Игнасио чуть заметно вздрогнул — спокойствие противника невольно производило на него сильное впечатление. Однако каид не желал дать волю душившей его ярости — это значило бы показать, что он встревожен.
— Замечательный план… но очень трудно осуществимый.
— Я готов потратить на него столько времени, сколько потребуется.
— При условии, что вам дадут такую возможность.
— Уж об этом я позабочусь.
Стиснув зубы и сжав кулаки, мужчины сверлили друг друга взглядом, пытаясь обнаружить в обороне врага хоть малейшую брешь. Если Мигель держался более откровенно, то Виллар лучше владел собой. Постоянная борьба приучила его сохранять по крайней мере внешнюю невозмутимость. И не какому-то жалкому фараону заставить его изменить тактику! Тем не менее дону Игнасио почему-то вдруг стало не по себе. Чтобы избавиться от этого неприятного чувства, он решил повести разговор более жестко.
— Я не на государственной службе, инспектор, а потому очень дорожу временем.
— Я тоже, сеньор.
— Вот уж не сказал бы, но, тем более, лучше закончить этот разговор как можно скорее. Что вас сюда привело?
— Мы разыскиваем некоего Пако Вольса, работавшего в кабаре «Ангелы и Демоны». Несколько недель назад он исчез, и мы хотели бы узнать куда.
Дон Игнасио закурил.
— Сходите к Хоакину Пуигу, — небрежно заметил он.
— Пуиг скажет нам только то, что вы ему прикажете, а потому я предпочел обратиться за интересующими нас сведениями непосредственно к вам.
— Что ж, вы ошиблись адресом, инспектор. Я ни в коей мере не занимаюсь персоналом этого заведения, подобными вопросами ведает исключительно Пуиг.
Полицейский с самым невозмутимым видом в свою очередь закурил.
— Вы лжете, сеньор, — спокойно бросил он.
Дон Игнасио отреагировал не лучшим образом, но спохватился слишком поздно.
— Убирайтесь! — рявкнул он.
Полицейский улыбнулся.
— Не раньше, чем вы мне расскажете об этом Пако, сеньор, — мягко сказал он.
Виллар огромным усилием воли подавил клокотавшее в нем бешенство.
— Вы провоцируете меня на драку, не так ли, инспектор?
— Признаюсь, ничто не доставило бы мне большего удовольствия.
— В таком случае, вы, кажется, скоро его получите.
Дону Игнасио, похоже, изменило обычное самообладание. Он снова совершил ошибку, поддавшись очередному приступу ярости.
— Я с вами разделаюсь, Люхи! — завопил он. — И с вами, и с этим дурнем Мартином!
На губах Мигеля снова появилась улыбка, совершенно выводившая каида из себя.
— Это нелегко, Виллар, подонки из «баррио чино» еще не захватили власть в Барселоне. Так что, может, тем временем поговорим о Пако?
— Повторяю вам, я его не знаю!
— А я повторяю, что вы лжете.
Дон Игнасио встал.
— Вы уже закончили свой номер? В таком случае, прошу вас уйти, пока я не позвонил вашему начальству спросить, позволяет ли вам закон являться ко мне с оскорблениями.
— Ни закон, ни начальство не помешают мне выполнить то, что я считаю своим долгом.
Виллар пожал плечами.
— Ваш долг…
Люхи встал, и, поскольку дон Игнасио торопился его выпроводить, мужчины снова оказались лицом к лицу.
— Видите ли, Виллар, я сын полицейского, убитого в «баррио чино»…
— Ну и что?
— А то, что я поклялся заставить убийцу отца уплатить по счету.
— Значит, вы хороший сын, и это вполне в традициях нашей страны. Но какое отношение эта семейная история имеет ко мне?
— Это вы его убили.
— Я?
— Или, во всяком случае, помогли это сделать… еще в те времена, когда работали на Хуана Грегорио.
— Так ваше ожесточение против меня выросло из навязчивого желания малыша отомстить за папу? Очень трогательно, инспектор! Только вам будет чертовски трудно доказать, что это давнее преступление совершено мной. К тому же вы наверняка знаете, что не в моих привычках баловаться с ножом.
— Так вам в довершение всего прочего известно, что его зарезали?
Дон Игнасио прикусил губу.
— Именно это оружие чаще всего используют в «баррио чино».
— Так не его ли ваши люди пустили в ход, чтобы избавиться от Пако Вольса?
Виллар с жалостью взглянул на полицейского и покачал головой.
— Вы ужасно упрямы, инспектор.
— Невероятно.
— Стало быть, этот Пако принадлежал к числу ваших друзей?
— Это вас не касается.
— Странные мысли иногда приходят в голову… Например, послушав вас, я начинаю думать, уж не был ли парень, которого вы разыскиваете, подсадной уткой, подкинутой вами Пуигу, чтобы мне навредить…
— Выходит, работая у Пуига, можно навредить вам? Каким образом? Возможно, понаблюдав, что там творится за закрытыми дверьми?
— Вот это воображение! Ну, инспектор, возвращайтесь, как паинька, к себе на работу. Дельце не выгорело.
Мигель уже направился было к двери, но, услышав его слова, резко обернулся.
Виллар с напускным добродушием подмигнул.
— Ба! Мне известно, как трудно живется на жалкую зарплату служащего, — заговорщическим тоном заметил он. — Вот вы и смекнули, что Игнасио Виллар богат, а потому вполне можно попытаться вытянуть из него несколько тысчонок песет, малость пошантажировав… во имя сыновней любви…
Мигель Люхи отвесил дону Игнасио такую оплеуху, что тот покачнулся и умолк, не успев договорить. Оба на мгновение остолбенели. Полицейский прикидывал, чем для него может обернуться такая несдержанность. Что до Виллара, то его просто парализовало от изумления. Впервые за последние тридцать лет на него осмелились поднять руку. Лицо бандита пылало, голова шла кругом. В душе его боролись страх и дикая жажда убийства. Страх — ибо подобное бесчестье рушило целый мир, мир, где царил дон Игнасио, где его боялись и слушались. В то же время Виллара душила бессильная ярость, ибо этот убийца прекрасно понимал, что не может сейчас же, на месте прикончить Люхи. Но более всего дона Игнасио терзала мысль, что он перестал быть прежним, великим каидом. Мертвенно бледный, он стоял, прикрыв глаза и не чувствуя, как по лбу стекают струйки пота.
— Я убью вас, Люхи, — хрипло пробормотал Виллар, — убью за то, что вы сейчас сделали…
Но к Мигелю уже вернулось самообладание, и он решил воспользоваться смятением противника.
— А пока, может, все-таки поговорим о Пако Вольсе?
Игнасио Виллар не выдержал. Воля его ослабла и ослепление ярости заставило отбросить привычную осторожность.
— Пако Вольс — ваш друг? Так вы его еще увидите, не беспокойтесь!
Немного помолчав, каид тупо, сам не понимая, что говорит, добавил:
— И я даже уверен, что вы его увидите очень скоро!
— Почему?
Улыбка Виллара больше походила на гримасу.
— Да так, пришло в голову…
Мигель пересек комнату секретарши, снова не обратив на девушку никакого внимания, как вдруг, уже у двери, словно почувствовав в воздухе странное напряжение, обернулся. Инспектора поразил тяжелый, колючий взгляд этой невзрачной особы. Он уже собирался спросить, в чем дело, но девушка вдруг снова превратилась в ничем не примечательную мелкую служащую и склонила голову над письмами. Изумленный полицейский подумал, что из-за ссоры с Вилларом у него, должно быть, разыгралось воображение.
В полицейском управлении дежурный предупредил инспектора Люхи, что комиссар Мартин немедленно хочет его видеть у себя в кабинете. Это нисколько не удивило Мигеля. Как он и предполагал, неприятности не заставили себя ждать.
Несмотря на старую дружбу, дон Альфонсо принял Люхи довольно прохладно.
— Инспектор, кто вам поручил допрашивать Игнасио Виллара?
— Никто.
— Тогда по какому праву…
— По праву любого честного человека сказать подонку все, что он о нем думает.
— Только не в том случае, когда этот честный человек состоит на государственной службе и обязан подчиняться начальству!
Мигель пребывал в таком нервном возбуждении, что, только вспомнив все, чем обязан Альфонсо Мартину, подавил искушение послать его ко всем чертям.
— Ладно, комиссар… Приношу вам свои извинения…
Дон Альфонсо встал и, обогнув стол, подошел к подчиненному.
— Прошу тебя, Мигель, не валяй дурака… Я знаю, с какой симпатией ты относишься к этому Пако, и понимаю твои терзания. Ты наверняка считаешь себя виновным в его исчезновении… То, что ты хочешь отыскать парня живым или мертвым, вполне естественно, но будь, черт возьми, осторожнее! Один раз мне уже удалось помешать Виллару добиться твоего увольнения, но это вовсе не значит, что я смогу защитить тебя в случае новых неприятностей. У этого типа огромная власть… Он звонил мне, как только ты ушел, и, похоже, вне себя от бешенства… Что между вами произошло?
Инспектор рассказал о столкновении с доном Игнасио и о негодовании, охватившем его, когда каид стал высмеивать его сыновние чувства. Комиссар перебил Люхи.
— Я хорошо знал твоего отца, Мигель. Энрике был славным малым и очень любил свою работу… Как и ты, я всегда подозревал, что Виллар замешан в его убийстве, но одних подозрений мало — нужны доказательства. И ты сам знаешь это лучше, чем кто бы то ни было. А потому я вынужден с сожалением отметить, что ты вел себя, как новичок. Обещаю тебе, если когда-нибудь мы сумеем раздобыть доказательства против Виллара, его арестуешь именно ты, но пока я категорически запрещаю — слышишь, Мигель? — запрещаю тебе подходить к нему даже на пушечный выстрел! Впрочем, я немедленно передам расследование дела Пако Вольса инспекторам Паскуалю и Морильо — ты слишком взвинчен, чтобы справиться с этой задачей, если, конечно, она вообще разрешима… Клянусь Христом, это никуда не годится! Подумай, ведь если дон Игнасио записал ваш разговор на магнитофон, тебя уже ничто не спасет!
— И, меж тем, вы не все знаете, комиссар…
— А что еще ты натворил?
— Дал пощечину Игнасио Виллару.
Дон Альфонсо пошатнулся и почел за благо снова сесть в кресло.
— А ну-ка, повтори, что ты сказал!
— Я дал пощечину Игнасио Виллару.
Мигелю показалось, что его шеф слегка задыхается.
— Мигель Люхи, неужели меня не обманывает слух? Ты действительно признался, что ударил по лицу Игнасио Виллара?
— Да.
— Отлично… А у тебя, случаем, нет желания заодно съездить по физиономии губернатору или министру внутренних дел?
— Ничуть. Эти господа не сделали мне ничего дурного, в отличие от Виллара, который меня оскорбил!
— Честное слово, да он, кажется, еще и доволен собой! Ты что, рехнулся, Мигель? Нет, не отвечай, я не желаю становиться твоим сообщником!
— Но…
— Помолчи! Вот мой приказ, инспектор: завтра с утра вы явитесь сюда и наведете порядок в делах, а послезавтра утром вместе с женой сядете в первый же поезд на Сарагосу. Оттуда вы поедете к себе в Сопейру и будете там сидеть, пока я не позову обратно. Все ясно?
— Да, комиссар.
— Тогда возвращайтесь домой и сообщите донье Конче, что ей надо собирать чемоданы. Я вовсе не хочу, чтобы мне пришлось арестовывать вас по обвинению в убийстве или увидеть в морге. Надо думать, теперь Виллар наверняка спустит с ошейника своих убийц!
— Я выполню ваш приказ, сеньор комиссар.
— И отлично сделаете, инспектор!
Мигель уже взялся за ручку двери, но Мартин снова его позвал:
— Мигель…
— Да, дон Альфонсо?
— Хотел бы я видеть физиономию дона Игнасио, когда ты его стукнул… И, раз уж ты принялся за это дело, следовало влепить сразу две пощечины: одну — от себя, другую — от меня.
Глава III
Мигелю пришлось изобретать всякие вымышленные предлоги — Конча никак не могла взять в толк, с чего вдруг им дали отпуск в столь неурочное время. Когда прошло первое изумление, сеньора Люхи воздала должное проницательности комиссара Мартина, почувствовавшего, как устал ее муж. Пристыженный инспектор нехотя выложил истинные причины их немедленного отъезда. Но Конча снова одобрила решение комиссара.
— Я с удовольствием снова побываю в Сопейре… Вся дорога в О, наверное, уже усыпана цветами…
У Мигеля отлегло от сердца, и он с нежностью посмотрел на жену. За десять лет невозмутимое хладнокровие подруги нисколько не утратило власти над ним и по-прежнему чудесно успокаивало нервы. От Кончиты исходила тихая уверенность, более склонявшая к покою, нежели к оптимизму. От суровой юности сеньора Люхи унаследовала серьезную сосредоточенность, свойственную тем, кто успел познать тяготы жизни. Все ненужное, излишнее было ей чуждо. Кто-кто, а Конча ничуть не походила на кумушек, стрекочущих за чашкой шоколада. Не отличаясь блестящим умом, она компенсировала это последовательностью, думала медленно, неторопливо переходя от одной мысли к другой, но если уж делала определенный вывод и ставила перед собой цель, ничто не могло заставить ее отступиться. Мигель в шутку утверждал, что его супруга унаследовала свое упрямство от арагонских мулов.
Готовя кофе, Конча чувствовала, что веселость Мигеля — напускная и на самом деле ее муж глубоко страдает из-за вынужденного отъезда в тот самый момент, когда дон Альфонсо снова затеял поход против Игнасио Виллара. Сеньора Люхи и без объяснений понимала, что за нежной заботой и предусмотрительностью комиссара кроется своего рода наказание, и угадывала, как уязвлен ее супруг. Пытаясь развеять его плохо скрываемую горечь, Конча сделала вид, будто ее несказанно радует этот неожиданный отпуск. Наконец они снова увидят горы и старую добрую хижину, из которой ее увез Мигель! Жена нашла очень удачный тон, ибо воспоминания о прошлом лучше, чем что бы то ни было, помогают изгнать заботы настоящего, и скоро, забыв о дурном настроении, инспектор вместе с Кончей погрузился в минувшее. Сеньора Люхи напомнила, что Мигель так и не поставил в монастыре О обещанную свечу за дело танжерских контрабандистов — он тогда разрешил его в одиночку и благодаря этому подвигу окончательно остался в отделе уголовных расследований. Потом Конча пообещала каждый день готовить знаменитый омлет с креветками, секрет которого знают только в Арагоне. И вот, вспоминая о не столь уж далеком прошлом, оба развеселились — время окрасило минувшее в обманчиво привлекательные тона. Попив кофе, Конча принялась мыть посуду, а Мигель все еще наслаждался второй чашкой, покуривая сигару. В разговоре наступила небольшая пауза — оба уже успели исчерпать список воспоминаний. Часы пробили полночь, и на инспектора вдруг снова нахлынуло все, о чем он на какой-то миг забыл.
— И все-таки, Конча, уехать — значит бросить Пако, — с грустью вырвалось у него.
Сеньора Люхи уже вытирала руки. Она вовсе не желала, чтобы ее мужем снова овладел мрачный настрой.
— Но мы его вовсе не покидаем! Ведь дон Альфонсо обещал поручить розыски двум твоим коллегам!
Он вздохнул.
— Знаю, но это не то же самое… И потом, кому, как не мне, искать парня? Ведь это мне он доверился… Ох, если его вообще удастся разыскать…
— Что?
— Это правда, Конча… Я уверен, они убили Пако и хорошенько спрятали тело…
— Почему ты всегда видишь все в черных тонах?
— Будь Пако еще жив, он бы непременно дал о себе знать!
— А вдруг он вышел на какой-нибудь след?
Мигель хмыкнул.
— Может, и вышел… потому парня и прикончили… К тому же Виллар, в сущности, мне на это намекнул!
— Он, что же, признался в убийстве?
— Наоборот, предсказал скорую встречу…
— И что же?
— А то, что он врал, хуже того, издевался надо мной!
— Так вот, имей в виду: я продолжаю верить, что Пако вернется!
— Почему?
— Потому что иначе это было бы слишком несправедливо… потому что это доказывало бы, что в нашем мире больше нет ни жалости, ни сострадания… потому, наконец, уж не знаю, как тебе объяснить, но тогда уж ни во что нельзя было бы верить и не на что надеяться…
Конча смущенно засмеялась.
— Ну вот, теперь уже я иду по твоим стопам! Нет, Мигель, я все больше убеждаюсь, что дон Альфонсо прав и нам обоим совершенно необходимо отдохнуть. Вот увидишь, когда мы вернемся, Пако встретит нас у дверей!
— Да услышит тебя Бог, Конча!..
— А теперь пора спать!
Инспектор тяжело поднялся, но сеньора Люхи вдруг тихонько вскрикнула.
— Ох, Мигель, совсем забыла! Как раз перед тем как ты вернулся, принесли посылку…
— Посылку?
— Да, я положила ее в спальне… Довольно объемистый сверток.
— Кто тебе его передал?
— Посыльный.
— И ты расписалась в получении?
— Нет, это не понадобилось… Между прочим, Мигель, готова спорить, это дон Альфонсо решил сделать тебе подарок к отпуску!
— С него станется… Пошли, поглядим…
— О, Мигель, можно мне первой?
На сей раз инспектор от души рассмеялся. Эта страсть разворачивать подарки, любопытство и готовность верить в чудо была единственной чертой, сохранившейся у его жены с детства и делавшей ее по-настоящему молодой. Конча так и не сумела отделаться от этой страсти, оставшейся у нее с тех времен, когда, еще девчонкой, она, вытаращив глаза, смотрела, как бродячие торговцы раскладывают свои сокровища и открывают бесчисленные коробочки на большом столе в нижней комнате, а вокруг собирается вся семья. При виде тщательно перевязанного свертка Кончу охватывало лихорадочное возбуждение, которого она немного стыдилась, но никак не могла побороть. Муж, знавший об этой ее слабости, всегда старался подарить жене на Рождество или на день рождения как можно больше разных коробочек и, таким образом, продлить удовольствие.
Тронутый детским любопытством Кончи, Мигель нарочно задержался на кухне. Он уже тушил сигару в пепельнице, раскрашенной в традиционные цвета Барселоны, как вдруг из спальни послышался шум падающего тела. Полицейский мигом вскочил.
— Конча! — позвал он.
Долю секунды он колебался, не зная, уж не плод ли это воображения, но, не получив ответа, бросился в спальню.
Жена Мигеля, как мертвая, вытянулась на полу. Иссиня-бледное лицо, судорожно стиснутые зубы… Казалось, она и в самом деле умерла. У Люхи перехватило дыхание.
— Конча… — с трудом выдохнул он.
Инспектор опустился на колени. В голове вертелись самые дикие предположения. Сердце не выдержало… да, наверняка сердце… Мигель пощупал тело, и оно показалось ему холодным. А может, только показалось? Ведь врач, осматривавший Кончу после выкидыша, ни словом не упомянул о больном сердце… Инспектор тихонько приподнял голову жены и положил к себе на колени.
— Конча… Конча моя… Кончита…
Только потому, что сейчас речь шла о его жене, инспектор Люхи, уже больше десяти лет не моргнув глазом обследовавший самые жуткие, обезображенные трупы, вдруг растерялся почище какой-нибудь старой кумушки с калле Монкада. К счастью, Конча отнюдь не была одним из тех слабонервных созданий, которых не приведешь в чувство без нюхательной соли. По телу пробежала долгая судорога. Сеньора Люхи туманным взором поглядела на мужа, будто не узнавая, потом издала какой-то странный хрип и расплакалась. Мигель был так счастлив, что она жива, действительно жива, что не сразу поинтересовался, чем вызваны слезы. Наконец, немного успокоившись, он спросил:
— Что случилось, Конча?
Сеньора Люхи подняла заплаканные глаза.
— О, Мигель… Какой ужас!
— Что? Где?
— Вон там…
Конча кивнула в сторону открытого пакета на столе. Муж помог ей встать, усадил на постель и пошел выяснять, что привело в подобное состояние женщину, вовсе не склонную ни к обморокам, ни к слезам. На столе стоял крепкий ящик вроде тех, в какие виноградари упаковывают марочное вино. Скорее удивленный, чем взволнованный, Мигель резко поднял крышку и окаменел при виде головы Пако Вольса, аккуратно обернутой в вату. Отправитель позаботился тщательно прикрыть шею. Глаза были закрыты, и голова походила на восковую. Мигель не мог оторвать глаз от жуткого мертвенного лица, превращенного смертью в подобие мраморной скульптуры. Всхлипывания Кончи доносились откуда-то издалека… Парализованный ужасом инспектор не мог ни говорить, ни думать. Да ведь невозможно, чтобы они посмели сотворить такое… нет, невозможно! Подобные вещи делались в иные времена… но чтобы теперь… в Барселоне? Конча прогнала наваждение… Она подошла к мужу, желая помочь и показать, что он не один, и, преодолев отвращение, заставила себя прикрыть крышкой зловещую коробку. Только тут Люхи смог пробормотать «Пако», словно в голове после долгой остановки включился некий механизм. Казалось, зовя убитого по имени, он надеялся стряхнуть оторопь. Все еще во власти потрясения, инспектор повернулся к жене, и только ее искаженное страданием лицо вернуло его к действительности.
— Они убили Пако, — громко сказал Мигель.
Потом, высвободившись из рук Кончи, обнявшей его, как мать обнимает мучимого кошмарами ребенка, Люхи пошел к телефону. Он старался ни о чем не думать, пока не выполнит свой долг. Позвонив в отдел уголовных расследований, он вызвал тех, кому надлежало провести предварительное расследование и доставить страшный груз в морг. Повесив трубку, он снова на мгновение застыл у телефона и все тем же деревянным голосом повторил:
— Они убили Пако…
Мигель медленно повернулся к Конче.
— Я ошибся — дон Игнасио не лгал. Я и в самом деле увидел Пако! Должно быть, парня держали под замком, и мое появление у Виллара обрекло его на смерть!
— Мигель… — мягко начала жена.
Он вздрогнул и разразился сухим, невеселым смехом, пытаясь освободиться от пузырьков клокотавшего внутри и сотрясавшего все его тело гнева.
— Мигель… — снова проговорила Конча.
Люхи невидящим взглядом посмотрел на жену. Он сейчас ничего не видел, кроме обескровленного лица Пако. Пако… отец… мать… и все это сделал Виллар… мать… Пако… отец… Виллар… Хоровод в голове вертелся все быстрее. Люхи зашатался, как пьяный. А впрочем, инспектор и в самом деле опьянел, опьянел от ненависти. Отец… Пако… и опять Виллар! Он открыл тумбочку, достал из ящика хранившийся там револьвер и, сняв предохранитель, сунул в карман. Теперь перед глазами Мигеля стояло не восковое лицо Пако, а ненавистная улыбка дона Игнасио, улыбка, которую он навсегда сотрет с физиономии врага. Конча следом за мужем вышла в холл. Инспектор надел шляпу.
— Ты куда, Мигель?
— Убивать Игнасио Виллара.
Жена повисла у него на шее.
— Не ходи сейчас, Мигель! Ты не имеешь права…
— А они? Им, по-твоему, все дозволено?
Слова так теснились в голове Кончи, что она не сразу нашлась с ответом.
— Останься, Мигель! Тебя арестуют! А потом будут судить и отправят в тюрьму… Ты станешь убийцей! Нет, ты не должен так поступать!
— Но кто же тогда?
Он оттолкнул жену, и еще долго стук захлопнувшейся за ним двери болью отдавался в груди Кончи Люхи. Однако не успел Мигель свернуть с калле Росельон, как его жена уже лихорадочно набирала 70,333 — номер домашнего телефона комиссара Мартина.
Мигель брел по улице, как слепой. Прохожие, на которых он натыкался, сыпали проклятиями, но Люхи ничего не слышал. Пако зарезали. Его, Мигеля, отцу вспороли живот. Прикончили, как животных на бойне… В мирной тишине барселонской ночи Люхи двигался наугад, ничего не видя и не слыша, словно сгусток ненависти, чуждый мягкого очарования ночной жизни. Он шел мимо небольших компаний, громко смеявшихся и болтавших, мимо не желавших расставаться парочек. Иногда какой-нибудь загулявший молодой человек у запертой двери своего жилища провожал инспектора удивленным взглядом, недоумевая, куда запропастился серено[77] или он так крепко заснул на своем табурете, что не слышит, как один из жильцов отчаянно хлопает в ладоши. Люди под руки прогуливались по набережным. Мигель не обращал на них внимания, как не заметил и патрульных с автоматами за спиной, цепочкой двигавшихся вдоль тротуара.
Только свернув на калле Конде дель Азальто, Люхи начал потихоньку воспринимать окружающий мир. Полицейский замер и огляделся. Он стоял на подступах к «баррио чино», на границе старого города, которую столько раз пересекал… Черт возьми, каким образом он сюда попал? Этого Люхи не мог вспомнить… Он закурил сигарету и, прижавшись спиной к стене дома, стал думать. Внутренний голос настойчиво твердил, что, убив Виллара, Мигель потеряет Кончу, любимую работу и свободу, и, таким образом, дон Игнасио даже после смерти возьмет над ним верх. При воспоминании о жене его охватила такая нежность, что напряженные мышцы вдруг ослабли. Имеет ли он право в благодарность за годы любви и преданности покрыть жену позором? Не повелевает ли долг пожертвовать эгоистичной ненавистью ради счастья Кончи? Он бросил сигарету, раздавил носком ботинка и подошел к краю тротуара, собираясь подозвать первое же такси и вернуться на калле Росельон.
— Здравствуйте, сеньор инспектор!
Люхи обернулся. Перед ним стоял старый полицейский, которого Мигель знал с незапамятных времен и очень любил — старик немного напоминал сохранившийся в памяти образ отца. У Энрико Люхи было такое же честное лицо с покрасневшими от бесконечных ночных дежурств глазами.
— Доброй ночи, Агвилар!
Полицейский побрел прочь тяжкой поступью человека, уставшего отмерять километр за километром, а Мигель с волнением смотрел ему вслед. Должно быть, точно так же ходил и его отец… И вот уже отцовский призрак возник перед глазами инспектора, мешая поднять руку и подозвать такси. Силуэт старого полицейского уже почти растаял вдали. Что ж, коли им взбредет в голову такая фантазия, убийцы Виллара могут зарезать и его тоже… Ведь закон не позволяет требовать око за око и зуб за зуб и велит полицейским — под тем предлогом, что они, видите ли, работают в полиции! — спокойно смотреть, как бандиты режут их друзей и выпускают кишки отцам. Дома, на улице Росельон, Мигеля ждет Конча, но в кабинете Пуига его поджидают Энрико Люхи и Пако Вольс… Тем более что Виллар тоже наверняка там. Да и сможет ли Конча быть счастливой подле человека, который уже ничему не сможет радоваться из-за этих неотомщенных мертвых? И, не успев даже хорошенько обдумать решение, инспектор углубился в калле Конде дель Азальто.
При виде Мигеля швейцар «Ангелов и Демонов» невольно вздрогнул. Что тут понадобилось полицейскому? Встревоженный парень быстро перебрал в уме все, что он худо-бедно припрятал у себя в каморке, и не слишком уверенным голосом осведомился:
— Надеюсь, вы не собираетесь войти, сеньор инспектор?
— А кто мне помешает?
По тону полицейского швейцар сразу понял, что этой ночью ему лучше не становиться поперек дороги, и, сняв фуражку, широко распахнул дверь. В это время в программе наступила небольшая пауза, и на площадке кружились пары. Знатоки утверждали, что оркестр «Ангелов и Демонов» — лучший во всей Барселоне. Стараясь не привлекать внимания, Мигель скользнул вдоль стены к стойке бара. При виде его бармен соскочил с табурета и бросился к телефону. Но полицейский действовал так же быстро, и оба схватили трубку одновременно. Они смерили друг друга взглядом.
— Докладывать обо мне ни к чему, Федерико, — вкрадчиво заметил инспектор.
Тот сквозь зубы пробормотал какое-то ругательство и вернулся к своим бутылкам. Не обращая больше ни на кого внимания, Люхи приподнял драпировку, за которой начиналась лестница, ведущая наверх, в кабинет Пуига. Добравшись до последней ступеньки, он услышал голос Виллара, отвечавшего кому-то по телефону. Наверняка бармен все же позвонил! Мигель ногой распахнул дверь и застыл на пороге.
В кабинете собралась вся банда. Пуиг стоял, а Виллар сидел на его месте. Слева от него, на подлокотнике кресла пристроилась Нина де лас Ньевес. У стены на красных бархатных стульях — бывший боксер Миралес и конченный матадор Рибера переговаривались вполголоса, а андалусиец Эстебан Гомес, прижавшись ухом к приемнику, тихонько слушал музыку. При виде инспектора все замерли, и Мигелю эта сцена показалась похожей на какой-нибудь семейный портрет, запечатленный фотографом начала века. В гробовой тишине полицейский шагнул в комнату и, не отводя глаз от присутствующих, затворил за собой дверь. Одного за другим, он окинул их взглядом и отметил про себя, что Гомес смотрит с вызовом, Нина — удивленно, Виллар мертвенно бледен и конвульсивно стиснул зубы, Пуиг позеленел от страха, а физиономии Миралеса и Риберы не выражают ровно ничего — оба бандита, не отличаясь умом, в подобных неожиданных ситуациях привыкли целиком полагаться на патрона. Наконец тишина стала невыносимой. Первой не выдержала Нина.
— Что все это значит? — почти крикнула она. — Кто он такой?
Виллар, к которому уже вернулось хладнокровие, сделал вид, будто очень удивлен.
— Как, Нина, ты не знаешь всем известного инспектора Мигеля Люхи?
— А что его сюда привело?
— Понятия не имею, но полагаю, он сам скажет. А, инспектор?
Мигель знал, что в этой компании опаснее всех Гомес. Уловив чуть заметное движение бандита, который, очевидно, намеревался сунуть руку за пазуху, он спокойно заметил:
— Оставь нож, Гомес… Я стреляю очень быстро.
Бандит по достоинству оценил реакцию полицейского и, улыбнувшись, вернулся к своему радио, как будто утратил интерес ко всему остальному, но Люхи понимал, что от парня не ускользает ни одно его движение. Оба они прекрасно поняли друг друга и ожидали какой-нибудь каверзы. Миралес и Рибера медленно встали.
— Скажите своим убийцам, Виллар, чтоб сидели спокойно.
— Здесь приказываю я один, Люхи!
Миралес приблизился, размахивая длинными, как у гориллы, руками. Полицейский вытащил револьвер.
— Вернись на место, Хуан, так будет лучше!
Боксер поглядел на дона Игнасио и по чуть приметному знаку хозяина ворча удалился на прежние позиции. Рибера сделал вид, будто происходящее его нисколько не интересует. Пуиг шелковым платком вытирал лоб. Здесь, среди своих, Виллар чувствовал себя в безопасности, а потому решил отыграться.
— А теперь, когда вы покончили с дрессировкой хищников, может, поведаете, что вас сюда привело, Люхи?
— А вы разве не догадываетесь?
— По правде говоря, нет… Разве что комиссар Мартин приказал вам извиниться передо мной?
— Комиссар Мартин тут ни при чем, Виллар. Я больше не служу в полиции.
— Вас наконец-то решились выгнать?
— Не совсем… Я сам ухожу в отставку.
— И когда же?
— Как только я вас убью.
Мигель почувствовал, что Гомес весь подобрался для прыжка, а обалдевшие Миралес и Рибера глупо таращили глаза. По их мнению, полицейский совсем спятил, коли смеет так разговаривать с патроном. Пуиг вцепился в спинку кресла Виллара. Нина смотрела то на Мигеля, то на дона Игнасио, ожидая, чем же все кончится. Как и днем, спокойный голос инспектора совершенно вывел Виллара из равновесия. И снова страх вцепился ему в живот, ледяным обручем сжал сердце… Бандиту ни на мгновение не пришло в голову, что полицейский блефует. Напротив, он не сомневался, что сейчас заработает пулю. В полной тишине вдруг охрипший голос дона Игнасио показался каким-то странным карканьем:
— Вы что, пьяны, инспектор?
— Неужто вы и впрямь так думаете?..
Он вскинул револьвер. Парализованный страхом дон Игнасио даже не пытался встать.
— Я убью вас, Виллар, чтобы отомстить за своего отца и за Пако Вольса, чью аккуратно отрезанную голову вы мне сегодня прислали…
Нина тихонько вскрикнула и без чувств упала на пол. Пуиг поспешил ей на помощь, а Гомес изготовился броситься на полицейского.
— Ты хочешь тоже умереть, Гомес?
Андалусиец замер и снова улыбнулся. Крепкий орешек этот полицейский, противник как раз по нему… Гомес любил смелых людей. В конце концов, пусть дон Игнасио выкручивается самостоятельно! Пуиг усадил Нину на стул, пытаясь привести в чувство, но Виллар не обращал на девушку внимания. Он видел лишь дуло револьвера. Бандит не решался приказать своим подручным броситься на Люхи, понимая, что тот успеет выстрелить раньше. Впервые в жизни оказавшись лицом к лицу со смертью, дон Игнасио испытывал страх, самый омерзительный страх. Он хотел жить, жить любой ценой! Перед Мигелем сидел сейчас дрожащий старик.
— Я… я клянусь вам, что не убивал Вольса!
Гомес поглядел на патрона с удивлением и даже некоторой брезгливостью, и это помешало ему в нужный момент прыгнуть на Люхи. Это сделал за него Миралес, верный Миралес! Но инспектор, вовремя отскочив, ударил боксера по лицу револьвером. Тот механически поднес руку к щеке, и пальцы покраснели от крови. Миралес покачнулся — удар Люхи раскроил ему скулу до кости. А инспектор снова вскинул руку.
— За моего отца и за Пако, Виллар…
— Нет, нет, нет! Подождите! Подождите!
— Мигель!
Этот, новый голос помешал Люхи спустить курок. Понимая, что, если не выстрелит сейчас же, уже не сделает этого никогда, он все-таки не мог ослушаться своего шефа, комиссара Мартина, это было сильнее его. Инспектор опустил руку и в отчаянье обернулся. На пороге высилась мощная фигура дона Альфонсо.
— Иди сюда, Мигель.
Люхи приблизился.
— Дай мне свой револьвер!
Инспектор выполнил приказ, и дон Альфонсо положил оружие в карман.
— А теперь подожди меня на улице.
Люхи молча вышел. Виллар, все еще не веря своему счастью, учащенно дышал. Гомес с любопытством взирал на толстяка, так лихо овладевшего положением. Еще один прелюбопытный тип! Комиссар вошел в кабинет.
— Представление окончено. Убирайтесь отсюда вы все, кроме Виллара!
Пуиг попытался было возражать, ссылаясь на то, что он здесь у себя. Дон Альфонсо даже не удостоил его взглядом.
— Я велел всем убираться!
Хоакин ушел вместе с прочими. Нина, которой повелительный тон комиссара, очевидно, действовал на нервы, повернулась к дону Игнасио.
— Я останусь с тобой!
— Я очень терпелив, сеньорита, — не повышая тона и не двигаясь с места, проговорил Мартин, — но все же не стоит перегибать палку!
Нина ожидала возражений Виллара, но тот молчал, и ей, в свою очередь, пришлось удалиться, трепеща от унижения. Как только молодая женщина вышла, комиссар тщательно закрыл дверь, подвинул себе стул и уселся напротив Виллара.
— Почему?
— Почему — что?
— В чем причина всего этого переполоха?
Теперь, когда его жизни больше ничто не угрожало, Виллар, позабыв о минутной слабости, вновь обрел прежнюю самоуверенность.
— Ваш инспектор сбрендил! Не появись вы так вовремя, он бы меня прикончил.
— Почему?
— Да потому что он меня ненавидит!
— Почему?
— Ваши «почему» начинают действовать мне на нервы, комиссар! Кажется, я вам уже сообщал, что сегодня днем ваш инспектор явился ко мне в кабинет и устроил совершенно нелепую сцену. Вечером он решил продолжить… Будь вы человеком долга, уже давно положили бы конец его бесчинствам.
— Мне нравится, что о долге рассуждаете именно вы, дон Игнасио! Приятно слышать это слово из ваших уст…
— Я не потерплю…
— Еще как потерпите, дон Игнасио! Лучше расскажите-ка мне о посылке с головой Пако Вольса, которую вы сегодня отправили Мигелю Люхи!
— Понятия не имею, что это еще за новая история…
— Вот как? А по-моему, на сей раз вы зашли слишком далеко, дон Игнасио… Прямо-таки хватили через край… А между прочим, при вашем ремесле никак нельзя поддаваться вспышкам раздражения. В таких случаях голова работает плохо и невольно ляпаешь глупости… Именно это с вами и произошло. Вы сделали ошибку, которая вас и погубит. Так что в очень скором времени я надеюсь познакомить вас с гароттой[78]… Это доставит мне огромное удовольствие, дон Игнасио…
Пытаясь придать себе уверенности, Виллар закурил, и комиссар заметил, как дрожат у него руки.
— Ваша хитрость шита белыми нитками, комиссар… Все это вы говорите мне с одной-единственной целью — чтобы я не подал жалобу на инспектора Мигеля Люхи, совершившего вооруженный налет и в присутствии пятерых свидетелей угрожавшего мне смертью!
— Ох уж эти ваши свидетели, дон Игнасио… Сборище подонков!
— Это не имеет значения. И сколько бы вы ни оскорбляли моих друзей, комиссар, имейте в виду: это не помешает мне обратиться в суд!
Альфонсо Мартин с трудом встал.
— Жалуйтесь, дон Игнасио, мне это безразлично. Если понадобится принять административные меры против моего подчиненного, я их приму. Но помните: воюя с Мигелем Люхи, вы объявляете войну всей барселонской полиции. Вы будете иметь дело со мной, дон Игнасио, и очень быстро убедитесь, что, пусть я не такой романтик, как Люхи, но зато гораздо опаснее его. Желаю вам спокойной ночи, сеньор Виллар!
Швейцар делал вид, будто не замечает стоящего на тротуаре Мигеля Люхи. Как и весь остальной персонал, он знал, что полицейский пришел убить Игнасио Виллара, и сразу принял сторону хозяина. Когда комиссар вышел из кабаре, Люхи не двинулся с места. Мартин приблизился, и они молча пошли рядом. Только у набережной комиссар наконец нарушил молчание.
— Надеюсь, ты понимаешь, что, не предупреди меня твоя жена, сидеть бы тебе сейчас в наручниках!
— Да.
— Ты меня разочаровал, Мигель… Я думал, у тебя гораздо больше выдержки.
— Они убили Пако, шеф.
— Ну и что? Полицейских убивают каждый день, и твоя обязанность — ловить преступников, а не самому становиться убийцей.
— Видели б вы только эту голову в коробке…
— Для доньи Кончи это, я думаю, было особенно ужасно… И за одно это я разделаюсь с Вилларом. Положись на меня, Мигель… Если только в человеческих возможностях сломать дона Игнасио, повторяю тебе, я это сделаю. А ты, разумеется, ни на минуту не задерживаясь, отправишься в Сопейру. Следующий поезд уходит через несколько часов, вам с женой как раз хватит времени собрать чемоданы.
До самого дома Люхи они больше не сказали друг другу ни слова.
— Счастливого отпуска, Мигель! И не волнуйся — я буду держать тебя в курсе, — пообещал на прощание комиссар.
— Спасибо, шеф.
— Послушай, Мигель… Мне бы очень хотелось, чтобы ты как следует понял: я в первую очередь полицейский и никогда не позволю личным чувствам взять верх над моими обязанностями. Я должен справиться с убийцей не потому, что он мой личный враг, а потому, что он враг общества, тот, кто мешает порядочным людям спокойно жить. Тогда я бросаюсь в бой и, как тебе известно, лишь в редчайших случаях не добиваюсь того, чтобы парня познакомили с гароттой или, по крайней мере, надолго отправили за решетку. Если я питаю к нему особую ненависть — тем лучше, если люблю — тем хуже. Я выполняю свой долг, Мигель, во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило мне самому. Если бы ты прикончил Виллара, несмотря на всю мою привязанность, я поступил бы с тобой так же, как с любым другим убийцей. Все это я говорю тебе исключительно для того, чтобы ты хорошенько понял, чего только что избежал, Мигель.
— Благодаря вам, дон Альфонсо.
— Нет, лишь той, что ждет тебя там, наверху. Ей одной ты обязан тем, что не сидишь сейчас в тюрьме.
Глава IV
Поднимаясь по лестнице к себе в квартиру, Мигель с тревогой думал о той минуте, когда они с Кончей посмотрят друг другу в глаза. Хотя в глубине души Люхи признавал правоту дона Альфонсо, как настоящий испанец, он считал, что никакие, пусть самые разумные основания не оправдывают отказа от мести за Пако, а потому обвинял себя в трусости. Комиссар Мартин напрасно вмешался не в свое дело. Когда затрагивали его честь, Мигель переставал быть не только гражданином и полицейским, но и вообще цивилизованным человеком, с него мигом слетала вся мягкость и прирученность, свойственные людям нового времени, и оставался лишь жаждущий мщения дикарь. Инспектор понимал, почему Конча предупредила дона Альфонсо. Действуя таким образом, она тоже выполняла свой долг, как справедливо подчеркнул Мартин, долг преданной супруги, но будучи уроженкой Арагона, она, возможно, предпочла бы иметь мужа-арестанта, которому грозит смертная казнь, нежели человека, из уважения к субординации пренебрегшего честью.
Конча ждала у двери. Она не бросилась мужу на шею, поскольку бурные проявления чувств были вообще не в ее привычках, а лишь окинула его беглым взглядом и с облегчением перевела дух.
— Все хорошо…
Потом сеньора Люхи отвела супруга на кухню, давно уже ставшую их любимой комнатой, тем более что посторонние никогда не переступали ее порога.
Садись, Мигель, я приготовила тебе кофе…
Люхи, вне себя от счастья, не стал спорить. Рядом с Кончей он, как всегда, успокоился. От одной мысли о том, что он мог бы попасть в тюрьму и надолго, если не навсегда расстаться с женой, инспектора охватил такой панический ужас, что недавние
благородные сожаления мигом улетучились.
— Ты звонила дону Альфонсо, Конча?
— Да, я страшно испугалась… ты на меня сердишься?
— Нет, ты правильно поступила… и избавила меня от ошибки, которая могла бы очень дорого обойтись нам обоим…
Мигель описал жене сцену в кабаре. Услышав, как вовремя явился комиссар Мартин, сеньора Люхи быстро осенила себя крестным знамением.
— Дон Альфонсо требует, чтобы мы сели в первый же поезд на Сарагосу… значит, ты только-только успеешь собрать вещи, Конча.
Сеньора Люхи ужи встала, но муж удержал ее.
— …Но если ты не против, мы никуда не поедем.
— И ты ослушаешься приказа дона Альфонсо?
— Да.
— Из… из-за Пако?
— Ради моих мертвых.
Мигелю так хотелось заслужить одобрение Кончи, что он вдруг начал с величайшим пылом объяснять свою точку зрения.
— Мне не следовало нападать на них открыто. Видела бы ты эту банду убийц, Конча… Как бы мне хотелось запираться с каждым по очереди в хорошо изолированной комнате и лупить до тех пор, пока не сдохнут! Кроме, быть может, Нины де лас Ньевес… Она, похоже, ничего не знала и даже упала в обморок, услышав о смерти Пако…
Конча глухо застонала.
— Замолчи, Мигель, хоть из жалости…
Но Люхи уже вновь охватила навязчивая жажда мщения, и он даже не слышал слов жены.
— Убей я сейчас Виллара, это было бы для него слишком мягким наказанием… Надо разделаться с ним публично… надо, чтобы он с позором вошел под конвоем в зал суда… прочувствовал весь ужас ожидания в камере смертников, ожидая, пока его поведут на казнь. И это я, слышишь, Конча, я, а не дон Альфонсо должен подвести его к этой минуте. Дон Альфонсо не имеет права занять мое место, а поэтому мы не поедем в Сарагосу!
— Но все будут против тебя!
— Что за беда, если ты рядом?
— Ну, во мне можешь не сомневаться… А вдруг дон Альфонсо потребует, чтобы ты подал в отставку?
— Что ж, подам.
— Но ты ведь не сможешь жить без своей работы, Мигель.
— Научусь.
— Тогда поступай как хочешь, и да хранит тебя Бог!
— Теперь для меня самое главное — действовать быстро, быстрее дона Альфонсо. Я не стану показываться в управлении и буду выходить только по ночам…
— Зачем?
— Слушай, Конча… Я только что очень хорошо рассмотрел их всех — Виллара, Пуига, Миралеса, Риберу и Гомеса… и уверен, что по меньшей мере один из них здорово напуган… У него не такие крепкие нервы, как у прочих, и он меньше других верит во всемогущество Виллара… Именно с ним мне и надо поговорить наедине и убедить выложить всю правду.
— Кого ты имеешь в виду, Мигель?
Инспектор вытащил из кармана несколько фотографий и разложил на столе.
— Сегодня днем я прихватил в картотеке фото всех членов банды. Посмотри на них, Конча… Вот это Хоакин Пуиг, директор «Ангелов и Демонов», трус и наркоман, но я сомневаюсь, что кто-то сумеет нагнать на него больший страх, чем Виллар. Вряд ли Пуиг расколется. А это андалусиец Гомес, самый опасный и храбрый из всей компании. Он наверняка отступит последним. Это Миралес, бывший боксер из Бильбао.
— Какой жуткий тип!
Склонившись над плечом мужа, Конча разглядывала отталкивающие физиономии бандитов, которые представлялись ей лишь разными ликами смерти.
— Теперь, после того как я разбил ему скулу рукоятью револьвера, Миралес наверняка выглядит еще гаже… Это полубезумная зверюга, но преданная, как сторожевой пес. Только Миралес и пытался спасти хозяина. Не думаю, чтобы я смог заставить его изменить Виллару…
Инспектор взял последнюю фотографию и поднес к глазам.
— Остается Хуан Рибера. Я думаю, он-то мне и нужен… Хуан уязвимее других. Я сейчас пойду к нему, Конча. Вряд ли сегодня ночью парень ожидает меня увидеть, неожиданность сыграет мне на руку, а если мне удастся расколоть Риберу — оттащу его к дону Альфонсо.
Перепуганная Конча выпрямилась.
— Мигель! Ты же не собираешься возвращаться в баррио? Это было бы безумием!
— Успокойся, моя Кончита, кроме Хоакина Пуига, который обосновался над залом кабаре, никто из членов банды не живет в баррио. Они не желают якшаться со шпаной! Нет, ты только погляди на адреса! Я их записал на каждой фотографии. Миралес и Гомес устроились в старом городе: первый — на калле Руль, второй, как добрый андалусиец, поселился рядом с церковью, выбрав храм Санта-Мария дель Марна калле Эспадериа, Рибера снимает квартиру на калле де ла Аурора, а у главаря банды есть своя вилла в Тибидабо. Я еду на калле де ла Аурора. Если Рибера дома — тем лучше, а нет — подожду.
Она попыталась удержать мужа.
— Неужто не понимаешь, в каком ты сейчас состоянии, Мигель? Тебе необходимо отдохнуть!
— Вот сядет Виллар в тюрьму — тогда и отдохну. Отпусти меня, Кончита… Сама понимаешь, надо действовать немедленно, пока они не пришли в себя.
— Послушай, он не откроет тебе дверь, а то и вызовет полицию!
— Еще нет и трех часов, Конча, а я уверен, что Рибера, как и прочие, не уходит из кабаре раньше четырех-пяти. Так что мне придется караулить на улице.
— Он не пустит тебя в дом!
— Еще как пустит! Я напугаю парня больше, чем все быки, какие только нагоняли на него страху на аренах!
Смирившись с неизбежным, сеньора Люхи отпустила мужа.
— Будь осторожнее, Мигель… Ты хоть вооружен?
— Дон Альфонсо отобрал у меня револьвер, но я прихвачу нож.
Инспектор ушел в спальню и почти тотчас вернулся, держа в руке одну из тех страшных арагонских навах, рукоять которых украшает гордый девиз во славу мести.
— Помнишь, Конча?
Еще бы она не помнила! В день помолвки в Сопейре они обменялись ножами, пообещав хранить друг другу верность до гроба.
Сразу после ухода комиссара Мартина все вернулись в кабинет, к Игнасио Виллару. Все, кроме Нины, пребывавшей, по-видимому, в отвратительном настроении. Миралес с залепленной пластырем щекой выглядел довольно забавно. Гомес опять подошел к приемнику. Андалусийца занимали не столько намерения полицейских, сколько дальнейшие планы дона Игнасио. Впервые он увидел своего патрона испуганным и готовым покориться, и доверие Эстебана к Виллару пошатнулось. Однако, прежде чем принять окончательное решение, следовало выяснить, временная ли это слабость или, напротив, за все еще внушительным фасадом скрывается окончательно сгнившее и уже никуда не годное нутро. Как только все собрались, Виллар заговорил:
— Возможно, я напрасно так подшутил над инспектором… а может, и нет… ибо, если, с одной стороны, эта, несколько специфическая шутка настроила полицию против нас, то, с другой — она толкнула Мигеля Люхи на действия, которые будут стоить ему карьеры, и мы от него навсегда отделаемся… По правде говоря, в последнее время инспектор стал что-то уж слишком назойлив.
— А по-моему, патрон, вы сделали ошибку. Во-первых, избавиться от одного фараона, чтобы посадить себе на хвост целую свору — далеко не лучшая политика, а во-вторых, неуважение к мертвым еще никого не доводило до добра.
Наступило тягостное молчание. Все смотрели то на дона Игнасио, то на того, кто осмелился ему перечить. Виллар чувствовал, что для него настал решающий момент. От его реакции зависело, восстановится ли подорванный полицейским авторитет. При этом он вовсе не желал ссориться, понимая, что в случае серьезных неприятностей положиться можно лишь на Эстебана Гомеса. В конце концов дон Игнасио решил слегка одернуть парня, от души надеясь, что андалусиец не станет лезть на рожон и окончательного разрыва не произойдет.
— Я не спрашивал вашего мнения, Гомес! Не забывайте, что пока тут распоряжаюсь я, а ваше дело — подчиняться.
И, не давая Эстебану времени возразить, он быстро продолжал:
— Что до полицейского, я думаю, можно не уточнять, какая его ожидает судьба…
Возможно, Гомес, которому очень не понравилось замечание Виллара на его счет, и затеял бы свару, но вмешательство Миралеса разрядило обстановку.
— Позвольте мне им заняться, патрон! Мне бы ужасно хотелось хорошенько обработать фараона, прежде чем он сдохнет!
Дон Игнасио с облегчением перевел дух: этот старый добрый дурень Миралес спас положение. Вот на ком можно безнаказанно сорвать злость!
— Заткнись, Хуан! И прежде чем молоть чушь, старайся шевелить мозгами, если, конечно, ты вообще на это способен!
Рибере, Гомесу и Пуигу он объяснил:
— Комиссар Мартин знает, что его любимчику конец и что я разделаюсь с ним, когда захочу. А потому он будет следить за нами в надежде поймать на какой-нибудь глупости. Для Мартина это единственный способ доказать начальству, что поведение Люхи можно оправдать. Следовательно, сейчас главное — осторожность. Я запрещаю трогать хотя бы волос на голове этого полицейского.
Слова патрона не убедили Миралеса. Негодование возобладало над привычной покорностью хозяину.
— Значит, ему все сойдет с рук? А то, что он меня изуродовал, не в счет?
Дон Игнасио охотно расцеловал бы Миралеса. Глупость парня и его смехотворная злоба окончательно рассеяли неловкость, наступившую после стычки патрона с Гомесом.
— Хуан, ты преувеличиваешь! Куда уж фараону тебя изуродовать! По-моему, это сделали задолго до него!
Все рассмеялись, и Виллар понял, что опасность со стороны Гомеса миновала… по крайней мере на время. Однако за андалусийцем придется приглядывать.
— В любом случае, распоряжения будут таковы (и советую исполнять их неукоснительно, если не хотите рассердить меня по-настоящему): сидите смирно и занимайтесь своим делом, как и надлежит честным гражданам. Если заметите какого-нибудь ангела-хранителя, приставленного Мартином, не обращайте внимания. Это лишь придаст веса его рапорту. А сейчас расходитесь по домам. Пуиг сообщит, когда вы мне снова понадобитесь. До встречи, господа.
Когда Мигель Люхи вышел на Каталунью, там было еще довольно людно. Он свернул в сторону набережных и по калле дель Кармен двинулся в сторону квартала Риберы.
Гомес, Моралес и Рибера вместе вышли из кабаре. Пожелав тысячу раз всяческого благополучия швейцару и услышав в ответ, что Бог их не покинет, приятели пошли к набережной — ни дать ни взять мирные буржуа после трудового дня. Если бы не поздний час, иллюзия была бы полной. Они спокойно обсуждали события этого вечера, но ни погруженный в размышления Эстебан Гомес, ни Миралес и его приятель Рибера, слишком увлеченные разговором, не заметили, как за их спиной от стены дома на Конде дель Азальто отделилась тень и скользнула следом.
Вся троица благополучно добралась до калле де Фернандо. Тут им предстояло распрощаться. Гомес и Миралес свернули направо — к старому городу, а Рибера продолжал идти к калле дель Хоспиталь. Прежде чем расстаться, приятели пожали друг другу руки и договорились встретиться завтра в кафе на площади Каталунья. Теперь, когда Виллар предоставил им неограниченный отпуск, можно было изображать мирных рантье. Темная тень скользнула за дерево и, подождав, пока андалусиец с Миралесом углубятся в старый город, последовала за Риберой.
Антонио любил бродить по пустынным ночным улицам. В такие минуты он мог дать волю воображению и утешиться, забыв о безнадежно загубленной жизни. Грезя наяву, Рибера населял безлюдные проспекты призраками восторженных зрителей и улыбался приветственным крикам, которые слышал лишь он один. Антонио гордо распрямлялся и начинал слегка пританцовывать, как будто снова шел по залитой солнцем арене и, пьянея от тщеславия, переживал минуты величайшего триумфа, словно и не было того дня, когда этот бык в Саламанке не только нанес ему тяжелую рану, но и заронил в душу страх. А ведь страх — смертельный враг любого тореро… Но Рибера так и не смог от него избавиться, несмотря на все насмешки и оскорбления публики, два сезона наблюдавшей, как Антонио уклоняется от решительной схватки со зверем. В конце концов перед ним закрылись все арены Испании. Парень навсегда запомнил быка из Саламанки, и порой тот являлся ему по ночам, в кошмарных видениях. Чтобы прогнать наваждение, Рибера все больше пил, и Виллар держал его в банде только потому, что в свое время присутствовал на мадридской корриде, когда Антонио получил альтернативу[79] из рук Мартиаля Лаланды, и сочувствовал его несчастью.
Антонио Рибера сохранил от прежнего ремесла необычайную легкость шага и чуть заметное покачиванье бедер, свойственное тем, кто привык в расшитом плаще открывать блистательные пасео перед корридой. На площади Бокьериа Антонио свернул налево, на калле дель Хоспиталь и только теперь заметил, что за ним следят. Рибера мысленно поблагодарил дона Игнасио за предупреждение и от души восхитился его проницательностью. Антонио остановился и закурил. Бравады ради он нарочно как можно дольше держал у лица зажженную спичку — пусть, мол, фараон убедится, что не ошибся. Слежка так забавляла Риберу, что он решил облегчить бедняге работу. Правда, желая продлить удовольствие, Рибера не пошел домой кратчайшим путем, а стал блуждать по улочкам и переулкам квартала. Эта прогулка без всякого видимого толка и смысла наверняка поставит в тупик вынужденного таскаться следом ангела-хранителя. Сейчас, перед рассветом, весь город наконец уснул, и шаги бывшего тореро звонко отдавались на мостовой. Порой Антонио вдруг замирал, пытаясь уловить эхо шагов преследователя, но тот, надо думать, хорошо знал свое дело, ибо Рибера ни разу не услышал ни единого звука. Это злило его, как личное оскорбление. И без того слабую голову потихоньку затуманивала злоба. Забыв о наставлениях дона Игнасио, парень решил оторваться от полицейского. Быстро промчавшись вниз по калле Мендизабаль, он еще быстрее поднялся обратно по параллельной ей калле де Робадор, свернул на калле Сан-Рафаэль и вылетел на калле Сан-Херонимо, но, обернувшись, увидел, что преследователь держится на прежнем расстоянии. Риберу охватила слепая ярость. Юркнув за угол, на Беато Орьоль, он прижался к стене и стал ждать, когда ангел-хранитель на него наткнется. Так и вышло. Антонио не мог устоять перед искушением унизить того, кто так навязчиво шел за ним по пятам.
— Ну? — спросил бандит, поймав его за руку.
Но полицейский и не подумал вырываться, а, напротив, подошел вплотную. Бывший тореро самодовольно рассмеялся.
— Ты хочешь поближе познакомиться с Антонио Риберой, мой мальчик?
И в тот же миг его живот пронзила острая боль. Антонио выпустил руку противника, и тот бросился прочь. Рибера ошарашенно смотрел ему вслед, еще не понимая толком, что произошло. Тронув живот, он увидел, что рука в крови, и недоверчиво уставился на окровавленные пальцы. Фараоны не убивают! Полицейский не мог пырнуть его ножом! Но от живота поднималась волна боли, и Рибера был не в силах осмыслить происшедшее. Бандит хрипло вскрикнул, пытаясь позвать на помощь и чувствуя, как вместе с кровью из него уходит жизнь. Антонио зажал рану руками и с трудом переставляя ноги побрел к калле Сан-Пабло, где наверняка еще должны быть люди. Шаг… еще один… и вдруг ему показалось, что улицу окутал густой туман, мешая видеть и продвигаться вперед. Рибера споткнулся и чуть не упал. Пытаясь сохранить равновесие, он невольно застонал от боли. Очень странный туман… Антонио внезапно понял, что никогда не доберется до калле Сан-Пабло, и перепугался. Он хотел крикнуть, но это причиняло такую боль, что он тут же умолк. Стиснув зубы, Рибера сделал еще два шага. Теперь уже он почти ничего не видел. Никогда еще бывший тореро не сталкивался с таким туманом, даже в Севилье, даже зимой на болотах Гвадалквивира… Намокшие брюки прилипали к рубашке и к коже. Антонио не знал, туман ли так пропитал ткань или его собственная кровь. Впрочем, он и не хотел этого знать. Обессилев, парень упал на колени, попробовал глубоко вздохнуть, но все нутро обожгло, как огнем. Страх заставил Антонио рвануться изо всех сил, и ему почти удалось снова выпрямиться, но в последний момент Рибера пошатнулся и упал ничком.
Когда, на рассвете, Мигель вернулся домой, Конча все еще ждала его в кухне. Усталость привела инспектора в дурное расположение духа.
— Почему ты до сих пор не легла?
— По-твоему, я могла бы уснуть?
Не отвечая, Мигель подвинул себе стул.
— Я бы с удовольствием чего-нибудь выпил, — проговорил он, не глядя на жену.
Конча достала бутылку хереса, хранившуюся в доме для торжественных случаев. Полицейский осушил две рюмки подряд.
— Похоже, я не скоро забуду эту ночь! — вздохнул он.
— Ты его видел? — робко спросила жена.
— Риберу? Нет… Должно быть, он остался в баррио. Я ужасно устал. Пойду лягу.
Мигель встал и по дороге ласково положил руку на плечо жены.
— Прости, что заставил тебя волноваться… Боюсь, я уже ни на что не годен… Только и делаю, что ошибку за ошибкой, а из-за этого Пако…
Конча перебила мужа.
— Не думай больше о Пако, Мигель. Мы не должны о нем говорить…
— Но ты одобряешь мое решение отомстить за него, правда?
— Возможно, но, повторяю, лучше бы ты оставил эту заботу другим. У тебя и без того неприятности.
— Хорошо, Кончита, — немного поколебавшись, сказал он, — раз ты так хочешь… Мы немного поспим, а потом уедем в Сопейру.
Их разбудил телефонный звонок. Оба проспали всего несколько часов. Конча с трудом открыла глаза. Мигель же погрузился в такое оцепенение, что не мог двинуться с места.
— Пусть себе звонят, — проворчал он.
Инспектор снова уснул, а его жена натянула на голову одеяло, чтобы больше не слышать пронзительного звонка. Однако, надо думать, тот, кто хотел с ними поговорить, отличался большим упрямством, ибо телефон продолжал трезвонить. В конце концов Конча не выдержала и подошла к телефону.
— Алло!
— Донья Конча?
— Да.
— Это Мартин… Так вы не поехали в Сопейру?
— Мы слишком поздно легли, дон Альфонсо, и решили сесть на дневной поезд.
— Мигель дома?
— Да, спит.
— Разбудите его! Нечего валяться в постели в десять часов утра!
— Послушайте, дон Альфонсо, не могли бы вы дать Мигелю еще немного отдохнуть? Он совсем недавно вернулся…
— А ведь я не так уж поздно привел его домой, верно, донья Конча? Или Мигель опять куда-нибудь ходил?
По тону комиссара Конча поняла, что для него очень важно получить ответ на этот, вроде бы безобидный вопрос. Лгать дону Альфонсо она не решилась, но попробовала уклониться.
— Вообще-то…
Но голос комиссара на том конце провода вдруг зазвучал необычайно сухо.
— Я хочу знать, выходил ли Мигель из дому. Так да или нет?
Пришлось отвечать.
— Да.
Дон Альфонсо совсем посуровел.
— Немедленно разбудите мужа, донья Конча, и передайте ему, чтобы сейчас же ехал в управление. Слышите? Сейчас же!
И, забыв попрощаться с собеседницей, комиссар повесил трубку. Это так не походило на всегда любезного Мартина, что Конча встревожилась. Мигель спросонок очень плохо принял распоряжение начальства и, сердито ворча, побрел в ванную. Увидев в зеркале собственное отражение, он подумал, что не раз задерживал людей, куда меньше смахивающих на висельника, нежели он сам в данную минуту. Из дома инспектор вышел с мучительной мигренью, однако он надеялся, что пока доберется пешком до управления, боль несколько поутихнет.
Когда Мигель вошел в кабинет комиссара Мартина, тот поглядел на часы и сухо заметил:
— Четверть двенадцатого… Вы, я вижу, не слишком торопились.
Тон дона Альфонсо не понравился Люхи.
— Я шел пешком, — буркнул он.
— Кажется, я достаточно ясно дал понять вашей жене, что хочу видеть вас безотлагательно!
Мартин держался так агрессивно, что Мигель сразу ощетинился.
— У меня болела голова, и я подумал…
— Я люблю, когда мои приказы исполняют неукоснительно, инспектор!
— По-моему, я всегда так и делаю. Разве нет?
— Я тоже так думал, но не вам ли было приказано сегодня утром уехать в Сопейру?
— Я слишком устал и никак не думал, что отсрочка всего на несколько часов…
— Что вы думали или не думали, меня не интересует, инспектор. Между прочим, вы достаточно давно здесь служите и должны бы знать, что приказ есть приказ!
— Я уеду сразу после полудня, жена уже собирает чемоданы.
— Возможно, это больше не понадобится.
— Не понимаю, сеньор комиссар…
— В последнее время вы что-то многого не понимаете, Люхи, слишком многого… С недавних пор вы начали изрядно своевольничать, инспектор. И я вынужден снова напомнить вам, что здесь отнюдь не приветствуются действия по собственному почину. Мы не любим тех, кто воображает, будто он умнее всех на свете, а в результате делает одни глупости, если не кое-что похуже!
Мигель хорошо помнил, чем обязан дону Альфонсо, но допустить, чтобы с ним разговаривали подобным тоном, не мог.
— Я полагал, что сегодня ночью мы уже окончательно объяснились на сей счет?
— Я тоже так думал, но, очевидно, ошибся, раз вы продолжаете делать по-своему. Инспектор Люхи, я должен с прискорбием отметить, что вы не заслуживаете доверия, которое я оказывал вам до сих пор.
Мигель вскочил, побледнев от обиды.
— В таком случае, сеньор комиссар, прошу вас принять мою отставку!
— Боюсь, что не могу этого сделать.
— Простите?
— Инспектор, в отставку может подать лишь тот, кто состоит на действительной службе, а вы более не служите у нас, Мигель Люхи.
— И с каких же пор?
— С десяти часов этого дня.
— Иными словами, вы меня увольняете?
— Возможно, дело гораздо серьезнее… В котором часу вы вернулись домой?
— Но вы ведь были со мной и…
— Нет, во второй раз?
Вопрос застал Мигеля врасплох, и на мгновение он растерялся.
— Что ж… пожалуй, часов в пять…
— И куда же вы ходили?
— Просто погулять… никак не удавалось уснуть…
— А в каких краях вы гуляли?
— Да так, брел наугад…
— А вы, случаем, не побывали на калле дель Хоспиталь? Точнее, в окрестностях калле де Аурора?
Мигель опешил. Откуда, черт возьми, дон Альфонсо об этом узнал?
— Верно, сеньор комиссар.
— Так-так… Быть может, вы хотели повидаться с Антонио Риберой?
— Да, действительно.
— И… зачем же?
Люхи пожал плечами.
— Сами знаете… Пако…
— Так вы виделись с Риберой?
— Нет… Я битых два часа прождал у двери, но парень так и не появился.
— Странно. И однако он был совсем неподалеку — на калле Беато Орьоль.
— И что же он там делал?
— Умирал… и, я думаю, очень мучительной смертью. Риберу пырнули ножом в живот. Точно так же, как некогда вашего отца…
— Не может быть!
— Но это правда, Мигель Люхи. И мне было бы очень интересно узнать, каким образом вы докажете, что не вы его убили.
Мигель так ясно понимал всю безвыходность положения, что даже не отреагировал. Кто-то другой прикончил Антонио Риберу, который мог бы рассказать ему об убийстве Пако. По этой ли причине разделались с парнем или тут дурацкое совпадение? В конце концов, его мог ударить ножом и какой-нибудь бродяга… Мигель слишком хорошо знал полицейскую кухню, и тут же сообразил, что угодил в тупик и выпутаться почти нет надежды. Все оборачивалось против него: и желание отомстить за Пако, и ссора с Вилларом и его подручными, и то, что он побывал ночью в квартале, где произошло убийство… Даже самый щепетильный судья не колеблясь отправит его на эшафот. Люхи с трудом проглотил слюну. Но больше всего его заботила не столько собственная незавидная судьба, сколько будущее Кончи. Что станется с ней, если его приговорят к смерти? На что она будет жить? Он, Мигель, не желал подчиняться ничему, кроме жажды мщения, и прислушивался лишь к ненависти, с давних пор поселившейся в его душе, и вот результат. Он не только потерпел поражение, но и погубил ту, что ни разу не причинила ему никакого зла, наоборот! Не говоря уж о том, что на дона Альфонса тоже могут возложить ответственность за ошибки подчиненного — все ведь знают об их дружбе… Люхи посмотрел на комиссара.
— Так, значит, тюрьма?
Мартин промолчал.
— Дон Альфонсо, в память о прежних временах я хотел бы, чтобы вы сами сообщили об этом Конче…
Мигель подождал ответа, но комиссар опять не проронил ни слова.
— Вы сумеете объяснить ей все, что нужно… Я не сомневаюсь, Конча поверит в мою невиновность.
— Ты что ж, вообразил, будто я в нее не верю?
Мигель даже рот открыл от удивления. Комиссар обогнул стол и подошел к Люхи.
— Да в конце-то концов, что происходит, Мигель? Совсем ты сдурел, что ли?
— Но вы мне сказали…
— Убивал ты Риберу или не убивал?
— Нет.
— Ну, вот это мне уже больше нравится.
— А вы и в самом деле подумали, будто…
— Даже не знаю… В тебе есть что-то жесткое, какое-то постоянное внутреннее напряжение, и это мешает тебе жить нормально… Если пользоваться модным жаргоном, ты закомплексован… Уже тридцать лет у тебя навязчивая мысль — отомстить за отца. И все твое существование подчинялось этому наваждению. А теперь появился новый долг — смерть Пако. Не отдавая себе в том отчета, ты стал бесчеловечен… Даже судьба Кончи не в счет по сравнению с твоей ненавистью! Не спорь! Бросившись в одиночку на банду Виллара, ты отлично знал, чем рискуешь, но мысль о горе, которое это причинит донье Конче, тебя не остановила… Коллеги уважают тебя, но не любят, потому что ты внушаешь им страх. Узнай они, где ты был сегодня ночью, ни один не поверил бы в твою невиновность.
— Но вы-то поверили!
— С трудом, Мигель, с трудом! И то пришлось забыть, как вчера вечером ты стоял в кабинете Пуига с револьвером в руке, готовый совершить одно, а то и несколько убийств! Но я слишком хорошо тебя знаю и, думаю, ты не способен хладнокровно прикончить жалкую шестерку вроде Риберы. Если бы труп нашли дома — другое дело. Там могла произойти ссора, а под горячую руку ты вполне мог бы наделать любых глупостей. Однако лучший способ доказать, что ты не повинен в смерти Риберы, — это найти его убийцу. Стало быть, ни в какой отпуск ты больше не едешь. Принимайся за дело.
— Но каким же образом…
— Понятия не имею. Но заруби себе на носу: если Виллару взбредет в голову, что это твоя работа, я недорого дам за твою шкуру. Либо он прикажет своим убийцам отправить тебя на тот свет, либо подаст в суд, ссылаясь на то, что ты публично угрожал ему расправой. Меж тем, он неизбежно сопоставит одно с другим, и это для тебя очень опасно. И тут уж я ничем не смогу помочь.
— А что бы вы мне посоветовали, дон Альфонсо?
— Во-первых, и это самое главное, не рыпаться и оставаться в тени, чтобы дон Игнасио и его присные малость подзабыли о твоем существовании. А кроме того, я просил Виллара принять нас обоих сегодня в пять часов.
— Но вы, надеюсь, не заставите меня извиняться перед ним?
— Нет, но надо попытаться его хоть немного умаслить.
Глава V
Игнасио Виллар никогда не читал газет до двух часов пополудни, то есть пока не садился за столик в ресторане на площади Каталунья, где имел обыкновение обедать.
На калле де Вергара он приезжал лишь к одиннадцати часам, с трудом расставаясь с роскошной виллой на склоне Тибидабо, которую сейчас с ним делила Нина де лас Ньевес. Оттуда вся Барселона виднелась как на ладони. В таком географическом расположении своего жилища тщеславный каид видел своего рода символ и гарантию процветания. Спал Виллар очень мало, и наибольшее удовольствие ему доставляли два-три часа, проведенные в парке, точнее, в великолепно ухоженных теплицах, где произрастали самые редкие цветы, ибо именно они больше всего интересовали этого безжалостного человека. Нина, знавшая о страсти дона Игнасио к экзотическим растениям, в восторге замирала перед каким-нибудь чудищем растительного мира, но никогда к ним не прикасалась, поскольку Виллар разрешал лишь созерцать свои сокровища и сама мысль срезать хотя бы один цветок казалась ему кощунственной. А потому, дабы украсить ложу своей любовницы в «Ангелах и Демонах» или собственный кабинет, дон Игнасио ежеутренне посылал к цветочнице на Пассо де Грасиа.
В тот день Виллар явился в контору в прескверном настроении. На приветствия служащих он не отвечал, а Хуанита, принеся почту прежде, чем шеф ее вызвал, получила нагоняй. Дон Игнасио все никак не мог переварить ночную сцену: столкновение сначала с инспектором, а потом и с комиссаром, странное, чуть ли не дерзкое поведение Гомеса и, еще того хуже, Нины, уехавшей на виллу «Тибидабо», даже не удосужившись его подождать. Когда же Виллар, в свою очередь, вернулся домой, молодая женщина встретила его с каменным выражением лица. А меж тем, именно в тот момент ему очень хотелось заботы и понимания. Он надеялся, что Нина почувствует снедавшую его тревогу, хотя сам он не мог обмолвиться о своих неприятностях ни словом — это уронило бы его в глазах любовницы. По ожесточению полицейских дон Игнасио угадывал, что предстоит серьезная схватка, самая тяжелая из всех, что он вел до сих пор. И впервые за очень и очень долгие годы Виллар не был уверен, что все козыри у него на руках.
Дон Игнасио распекал Хуаниту, которой диктовал письмо, думая совсем о другом, как вдруг в кабинет ворвался Хоакин Пуиг. Подобная бесцеремонность настолько не вязалась с обычным поведением директора кабаре, что до Виллара даже не сразу дошло все неприличие такого вторжения. Однако стоило Хоакину заговорить, как он пришел в себя и дал волю раздражению. Да что же это такое? Кажется, все решили обращаться с ним самым недопустимым образом! Вчера полицейские и Нина, сегодня — еще и Пуиг!
— Дон Игнасио, вы видели…
— Кто вам позволил войти сюда без доклада, Пуиг? Вы даже не постучали!
— Но, дон Игнасио…
— Вон!
— Уверяю вас…
— Вот! И постучите, прежде чем войти!
Хоакин покорно вышел и тихонько поскребся в дверь. Виллар поглядел на Хуаниту. Побледневшая девушка с ужасом наблюдала эту сцену. Она, по-видимому, ничего не поняла, но явно перепугалась. По тому, как стучал Пуиг, угадывалось, что и он тоже далеко не спокоен. Дон Игнасио умиротворенно улыбнулся: он все еще внушает страх!
— Войдите! — неожиданно любезно позвал он.
Пуиг вернулся в кабинет, улыбаясь той застывшей улыбкой, которая словно приклеилась к его лицу.
— Ну, так что у вас за важная новость?
— Вы читали газеты, дон Игнасио?
— Вы отлично знаете, что до обеда у меня нет времени заниматься пустяками… А в чем дело? Новая война? Или революция?
— Нет, там пишут о Рибере.
— О каком Рибере?
— О нашем… об Антонио…
Виллара снова охватила тревога.
— И что он натворил? — сухо осведомился каид.
— Антонио мертв.
Решительно, в последнее время все как будто сговорились перевернуть весь жизненный уклад дона Игнасио. А ведь до сих пор он жил так спокойно, испытывая ровно столько волнений, сколько нужно, чтобы придать существованию легкую пикантность. Но не таких же, черт возьми, волнений! Голова отказывалась верить в правдивость сообщения, и Виллар слегка растерялся. Дон Игнасио так привык сам править бал, а теперь ему казалось, будто вожжи вдруг выскользнули из рук. Можно подумать, с тех пор как Мигель Люхи в этом самом кабинете поднял на него руку, кто-то упорно пытался сорвать с дона Игнасио маску и показать, что он вовсе не тот, за кого себя выдает. Однако, заметив, что Пуиг наблюдает за его реакцией, Виллар взял себя в руки.
— От чего он умер? — спросил каид.
— От ножевой раны.
Итак, кто-то посмел тронуть одного из его людей! И снова на дона Игнасио накатило бешенство, смешанное с тревогой и боязнью за свой авторитет, пошатнувшийся от пощечины полицейского.
— Где это все произошло? — крикнул он.
— На калле Беато Орьоль… когда Антонио, очевидно, возвращался домой.
— И кто это сделал?
Пуиг пожал плечами.
— Пока неизвестно, дон Игнасио… Но я бы не удивился, если это работа того фараона… Вы слышали, как он грозился отомстить за смерть Пако Вольса?
Виллар не успел ответить, поскольку его секретарша издала весьма неприятный звук — нечто среднее между рыданием и возмущенным воплем. Дон Игнасио в ярости повернулся к девушке, но, увидев искаженное мукой лицо, не решился ее обругать.
— Вы-то что тут делаете?
— Вы… вы не приказали мне уйти, сеньор…
— Разве вы не знаете, что должны исчезнуть, если ко мне пришел друг? А кстати, что это с вами?
— Я… не знаю… сегодня с утра чувствую себя очень плохо… Голова кружится… и в ушах звенит…
— Так оставались бы дома!
— Я не осмелилась…
— Собирайте монатки и бегите!.. И не возвращайтесь сегодня, если не станет лучше!
Хуанита, смущенно пробормотав «до свидания», выскользнула из комнаты. А Виллар немедленно дал волю раздражению:
— Находка Нины! Ох, стоит только не сделать что-то самому… А вы еще ляпнули при этой дуре про Пако Вольса!
— Я ее даже не заметил!
— Еще бы! И когда все вы научитесь действовать, как разумные люди? Всякий раз, когда я не держу вас за руку, получается катастрофа! А насчет того, чтобы взваливать убийство Антонио на легавого… вам не кажется, что это малость того… через край?
Как многие робкие люди, Пуиг отличался упрямством. Узнав о смерти бывшего тореро, он сразу вспомнил перекошенное от ненависти лицо Мигеля Люхи. Конечно, полицейские крайне редко совершают убийства, но вчера вечером тот фараон очень походил на человека, готового пустить кровь. И как раз после этого Рибера… Очень странное совпадение.
— Послушайте, Хоакин, вы самый умный из всей компании, и чертовски жаль, что у вас не хватает пороху, иначе вы бы непременно кое-чего добились… Но уж что есть — то есть, в вашем возрасте не меняются! Однако, раз у вас есть мозги — шевелите ими! Предположение насчет фараона-убийцы — полная чушь. Поймите, легавый — все равно что священник, только в другом роде. Существуют вещи, которых они не делают, просто не могут сделать, даже если очень хочется. Срабатывает что-то вроде предохранителя. Ясно?
— Пожалуй, да, дон Игнасио.
— Так вот, надо поискать, кто убил Антонио, Хоакин… Я хочу знать, случайность это или…
— Деньги у него не забрали.
— Может, тут замешана женщина?
— Антонио не очень-то ими интересовался.
— Ну, в тех кругах тоже есть и ненависть, и ревность, все как у нас.
— Верно, дон Игнасио. Но, по-моему, от этого убийства посреди улицы, без борьбы и без ограбления так и несет местью. Но я, конечно, распоряжусь, чтобы ребята собирали все слухи, какие будут бродить в баррио.
Виллар размышлял. Когда нападение не заставало его врасплох, каид оставался «великим» доном Игнасио, выученным и выдрессированным еще в школе Хуана Грегорию, чью память многие обитатели баррио глубоко почитали до сих пор. Просто у Виллара с годами малость сдали нервы. Впрочем, если ему давали время очухаться, дон Игнасио по-прежнему оставался очень опасным противником.
— Скажите, Хоакин… А вы не подозреваете Миралеса или Гомеса?
Пуиг с удивлением воззрился на патрона.
— Да что вы, дон Игнасио! Это невозможно! Миралес очень дружил с Риберой, а Гомес, тот вообще ни с кем не общается…
— Многообещающий малыш… Надо за ним приглядывать. Ну, а вы, Пуиг?
— Я?
— Вы не особенно любили Антонио, и, помнится, он не раз обращался с вами крайне невежливо… А вы ведь терпеть не можете, когда вас унижают, Пуиг…
— Это правда, дон Игнасио, я презирал Риберу с его ужимками матадора-неудачника… А этот болван к тому же продолжал корчить из себя знаменитого тореро… Но я бы никогда не решился напасть на него с ножом… Для такого рода работы в баррио есть другие специалисты.
— А кто мне поручится, что вы не наняли одного из них?
— Моя преданность вам, дон Игнасио… я ни за что не стал бы действовать наперекор вашим интересам…
— Самое удивительное, Хоакин, — что так оно, несомненно, и есть. Но пока мы не выяснили, кто прикончил Риберу, ваше предположение поможет мне окончательно «утопить» фараона. Мы еще поглядим, осмелится ли Мартин защищать подчиненного, на котором висит обвинение в убийстве!
Виллар снял трубку и набрал номер полицейского управления.
На улице она купила газету. Ей хотелось знать, что пишут о смерти Риберы. Заметку об убийстве напечатали на последней полосе. Тело обнаружили слишком поздно, и журналисты не успели выяснить подробности. Автор статьи, вероятно, афисьонадо[80], долго распространялся о карьере покойного. Говорил о надеждах, которые матадор подавал вначале, напоминал о великолепной схватке с громадным мьюхийским быком, о триумфе, одержанном Риберой в Севилье на арене Маестранца в 1933 году, и о тяжелом ранении в Саламанке, по-видимому, лишившем его качеств, необходимых первоклассному тореро. Во время гражданской войны следы Риберы окончательно затерялись, и многие считали его погибшим. По мнению журналиста, немало афисьонадос узнают о последних годах жизни тореро только теперь, после его смерти. Статья заканчивалась пожеланием скорейшей поимки убийцы.
Она улыбнулась. А Пако? Кого волнует Пако? Кто станет искать его убийцу или убийц? Полиция — само собой, да и то… Она любила Пако и будет любить его всегда, ведь с ним связывались все надежды на будущее. И теперь, когда Пако погиб, ее больше ничто не интересовало, ничто, кроме мести… Всю душу, все силы она положит на то, чтобы те, кто убил Пако и сломал ее собственную жизнь, заплатили за свое преступление. Она добралась до своего обычного пристанища, церкви Нуэстра Сеньора де лос Рейес, и возблагодарила небесную Матерь за то, что Рибера открыл счет, а потом стала горячо молиться, чтобы и остальные, все остальные уплатили цену пролитой крови.
Ризничий дон Хасинто, спрятавшись за колонной, наблюдал, как страстно молится эта женщина. Служитель храма не сомневался, что у нее чистое сердце, такое чистое, что она недолго останется среди мужчин и женщин нашего испорченного мира. Скоро — дон Хасинто искренне в это верил — прихожанка сделает ему знак и, освободившись наконец от земных скорбей, закроет за собой монастырскую дверь.
Конча с содроганием слушала рассказ Мигеля о его разговоре с доном Альфонсо. Сеньора Люхи понимала, что, не будь ее муж другом комиссара, быть может, он уже сидел бы сейчас в тюрьме. Урок, по-видимому, принес пользу, ибо инспектор признавал, что вел себя самым недопустимым образом. Теперь ему предстояла встреча с Вилларом, не внушавшая особого оптимизма. Надо думать, дон Игнасио не забыл о пощечине. Удастся ли его урезонить? Вряд ли теперь, когда представился столь редкостный случай избавиться от Мигеля, каид откажется от бесспорной победы над противником. Но, возможно, у дона Альфонсо есть какие-то свои соображения? Только на это Люхи и мог уповать. А потому, невзирая на уговоры Кончи, он навел в делах полный порядок на случай, если уже не вернется домой.
Люхи, как всегда, отправился в управление пешком. Сегодня, больше чем когда бы то ни было, ему хотелось пройти по родной улице Монкада. Зашел он и попить кофе с той, кого считал своей няней. Однако эта прогулка не только не принесла Мигелю облегчения, но и окончательно повергла в растерянность. Неужто всем Люхи на роду написано погибнуть по вине бандитов? Мысль о том, что его собственная судьба — в руках убийцы отца, выводила инспектора из себя. Мигель знал, что, несмотря на принятые решения и обещания, данные Конче, он не сможет сдержаться, если Виллар оскорбит его, как вчера. В конце концов мозг его охватило такое лихорадочное возбуждение, что полицейский начал жалеть, зачем не прихватил с собой оружие. Если уж придется сесть в тюрьму за преступление, которого не совершал, почему бы не прикончить заодно дона Игнасио, а уж потом отбывать вполне заслуженное наказание? Нет, из-за Кончи он не имеет права так поступить…
Нина наконец соблаговолила позвонить из кафе «Рамблас», где пила чай, и обещание хорошего подарка, равно как и нежные извинения, по-видимому, успокоили девушку. В свою очередь, Хуанита тоже вернулась в контору — очевидно, утреннее недомогание прошло. Таким образом, день заканчивался лучше, чем можно было предполагать, судя по его началу, и дон Игнасио, уже почти не думая о дурне Рибере (вольно ж было подставлять брюхо под нож кого-то из своих дружков!), снова чувствовал себя в блестящей форме и готовился достойно встретить комиссара Мартина с инспектором Люхи.
Секретарша доложила, что полицейские ждут в приемной. Ну, сейчас он покажет этим двум типам, где раки зимуют! Будут знать Игнасио Виллара! Каид приказал ввести посетителей, но тут же сделал вид, будто страшно занят, и со злобным удовольствием, по обыкновению, даже не предложил полицейским сесть. Мигеля трясло от ярости, но дон Альфонсо сжал ему руку, призывая к спокойствию. Наконец, подняв голову от досье, которое он якобы изучал, дон Игнасио притворился, будто только что заметил посетителей.
— Ну, садитесь… сейчас я освобожусь…
Еще немного помариновав кипящих от нетерпения полицейских, Виллар счел, что достаточно ясно показал, как мало значения придает их появлению в конторе.
— Вы просили меня о встрече, сеньор комиссар, — заметил он. — Не понимаю, зачем вам это понадобилось, но готов выслушать.
— Дон Игнасио, я пришел к вам со своим помощником немного поговорить о насильственной смерти Антонио Риберы, одного из ваших служащих. Вы не против?
Виллар улыбнулся — это вполне отвечало его планам.
— Напоминаю, сеньор комиссар, — отчеканил каид, — что Рибера работал на Хоакина Пуига и, лишь опосредованно, на меня. К тому же, я полагаю, тут нечего особенно обсуждать, тем более что вы, по-видимому, решили прихватить с собой убийцу Риберы!
Мигель едва не вцепился в горло дона Игнасио, но комиссар сухо призвал его к порядку:
— Инспектор!
Люхи покорно забился в кресло. Лоб его покрывали крупные капли пота.
— Я не ослышался? — невозмутимо спросил Мартин у хозяина конторы. — Вы и в самом деле обвинили инспектора Люхи в убийстве Антонио Риберы?
— Вот именно.
— Очевидно, у вас есть бесспорные доказательства? Иначе ваше обвинение было бы просто диффамацией…
— Диффамацией? Не смешите меня! Вчера вечером вы сами стали свидетелем отвратительной сцены, устроенной этим инспектором в кабинете Хоакина Пуига, не так ли? Вы слышали его угрозы? Так чего ж вы еще хотите, каких доказательств? Он наверняка подождал, пока Рибера выйдет, пошел следом и пырнул ножом… По-моему, все ясно. Разве не так?
— О, ясно-то ясно, сеньор, даже прозрачно… но только совершенно неверно. Видимость обманчива… поскольку я сам проводил инспектора домой.
— Ну и что это доказывает? Как только вы ушли,
он снова выскользнул из дому, вот и все!
— Видите ли, сеньор, дело в том, что я никуда не уходил.
— Надеюсь, вы не станете уверять меня, будто сидели у Люхи до утра?
— Но так оно и есть, сеньор, мы очень долго разговаривали.
— Долго?.. Вероятно, тема была более чем захватывающей, раз вы совершенно забыли о времени?
— О да, сеньор! Мы обсуждали разнообразные средства, какие только можно пустить в ход, чтобы предъявить вам обвинение в убийстве Пако Вольса.
Виллар вскочил как ужаленный.
— Вы позволили себе обвинить меня…
— Но вы ведь тоже обвиняете инспектора, сеньор?
Дон Игнасио снова плюхнулся в кресло. Партия получалась куда труднее, чем он воображал.
— Вы, разумеется, лжете, сеньор комиссар? — вкрадчиво спросил бандит.
— Кто знает, сеньор?
— И вы готовы под присягой заявить, что всю ночь провели с Мигелем Люхи?
— А вы сами? Готовы ли вы присягнуть, что совершенно не причастны к убийству Пако Вольса?
— Ну конечно!
— В таком случае — я тоже.
Мигель почувствовал, что ему стало легче дышать. Вот уж никогда бы он не подумал, что дон Альфонсо любит его до такой степени, чтобы совершить лжесвидетельство, нарушив данную при поступлении на службу присягу. Очевидно, комиссар искренне верит в его невиновность, и Люхи, сам не зная почему, вдруг чуть не рассмеялся. Дон Игнасио смотрел то на одного, то на другого. Спокойное, чуть ли не дружелюбное выражение лиц полицейских выводило его из себя.
— Вы стакнулись, да?
— Ну, это слово вам известно лучше, чем нам, сеньор Виллар.
В дверь постучали, и, в ответ на приглашение дона Игнасио, вошла Хуанита. Наконец-то Виллар нашел, на ком сорвать обуревавшее его бешенство.
— Ну? Вам-то чего еще надо? Я, кажется, ясно сказал, что не желаю, чтобы меня беспокоили!
Напуганная таким приемом, секретарша застыла между дверью и столом.
— Надо думать, вы опять больны? Если только не хотели узнать, о чем тут говорят? Ну? Намерены вы наконец отвечать или нет?
— Сеньор… это… письмо… Тут пометки «лично» и «срочно»… Я… я думала, надо поскорее принести его вам…
— Давайте письмо и убирайтесь отсюда!
Девушка поспешно убежала, а дон Игнасио с раздражением вскрыл конверт. Однако, едва взглянув на записку, он в ярости повернулся к Люхи и заорал:
— Надеюсь, теперь вы не станете отрицать, что это вы убили Риберу?
Каид швырнул инспектору письмо, и дон Альфонсо, перегнувшись через плечо Мигеля, прочитал:
«Se recuerda de Paco?»[81]
Эту коротенькую записку скрепкой скололи со статьей о смерти бывшего тореро. От мысли, что еще кто-то хочет отомстить за Пако Вольса, у Мигеля потеплело на душе. Дон Альфонсо с улыбкой наблюдал за Вилларом.
— Ну, так что же, сеньор?
— Эта записка доказывает, что убийца Риберы мстил за Пако Вольса. Вчера ночью инспектор Люхи обвинил нас всех в гибели последнего, и вот, Антонио уже мертв!
— Стало быть, убийца находился в том же кабинете?
— Еще бы его там не было! Говорю вам, это Люхи! И никакие липовые алиби не помешают мне подать жалобу на вашего инспектора!
Мартин встал.
— Поступайте как угодно, дон Игнасио, — вздохнул он, — но вы подвергаете себя большой опасности…
— Опасности? Вы намекаете на свое вчерашнее обещание загнать меня в угол?
— Нет. Но попытайтесь хоть на секунду допустить мысль, что это преступление совершил не инспектор Люхи, тогда вам волей-неволей придется признать, что у вас и у вашей банды появился враг, поклявшийся вас уничтожить, и этот враг, судя по тому, как он обошелся с Риберой, не остановится ни перед чем. В подобной ситуации вам бы очень не повредила защита, а инспектор Мигель Люхи — отличный полицейский.
— Я и сам могу за себя постоять! И потом, Люхи — вовсе не единственный фараон в Барселоне!
— Вряд ли вы сможете особенно рассчитывать на других, после того как они узнают, что вы без всяких оснований преследуете их коллегу.
— Ну и сволочь же вы, Мартин…
— Вы мне льстите, дон Игнасио, в этом плане я и в подметки вам не гожусь…
Виллар прекрасно отдавал себе отчет, что, если глубинная ненависть инспектора чревата серьезными неприятностями, то такой враг, как комиссар, стократ опаснее. Он знал, что в крайнем случае сумеет без особого труда защититься от порывов мстительной злобы Мигеля Люхи, но спокойная вежливость дона Альфонсо внушала серьезные опасения. Дон Игнасио прекрасно знал, что Мигель Люхи не убивал Риберу. Он слишком давно имел дело с полицией, чтобы хорошо разбираться в ее служащих. Те, у кого есть природная склонность к убийству, туда не идут. Но в таком случае, кто расправился с Риберой? Виллар чувствовал, что не успокоится, пока не получит официального ответа на этот вопрос. Как ни парадоксально, ему во что бы то ни стало хотелось услышать заключение следователей, что это было: банальное сведение счетов или, как на то намекала только что полученная записка, убийца Риберы метил в него, Игнасио Виллара. В последнем случае, не разумнее ли заручиться поддержкой полиции? Действуя сообща, подчиненные комиссара Мартина и его собственные люди наверняка быстрее добьются результата и прояснят тайну, которая так раздражает и тревожит его сейчас. За долгую жизнь вне закона дону Игнасио не раз приходилось не давать воли чувствам и ради интересов дела отказываться от немедленного возмездия.
— Будь по-вашему, дон Альфонсо… Я готов признать, что инспектор Люхи ни при чем. Он не убивал Риберу и не посылал мне этой дурацкой записки… Но, чтобы окончательно убедить меня в этом, вы должны разыскать виновного!
— Мы в любом случае обязаны поймать и обезвредить убийцу, сеньор Виллар.
— Кем бы он ни был?
— Разумеется. Даже если это вы сами, дон Игнасио.
— Я? Вы что, с ума сошли? Какого черта я бы стал убивать или приказывать убить одного из своих людей?
— Вы хотели сказать, одного из людей Хоакина Пуига, дон Игнасио? — любезно поправил его комиссар Мартин. — Однако при желании можно найти немало достаточно очевидных оснований… Например, что, если Рибера попытался вас шантажировать?
— Шантажировать меня? И каким же образом, скажите на милость?
— Быть может, угрожая рассказать о подпольном бизнесе в вашем кабаре?
— У вас богатое воображение, сеньор комиссар!
— Да, очень, и в моем ремесле это совершенно необходимо. Кстати, можно с равным основанием предположить, что Рибера знал, каким образом Пако Вольс покинул этот мир, и пообещал вам, что поделится с нами сведениями?
— Так вы по-прежнему упорно хотите взвалить на меня убийство этого парня?
— Кажется, ваш таинственный корреспондент разделяет эту точку зрения. А теперь, сеньор, нам более не хотелось бы отнимать у вас время.
Полицейские встали и направились к двери. Провожая их, Виллар вежливо встал.
— Комиссар, — сказал он на прощание, желая выиграть хоть несколько очков, — а вам не приходило в голову, что, если бы я мог хоть в чем-нибудь себя упрекнуть, то наверняка не стал бы добиваться расследования всех обстоятельств смерти Риберы? Что за причина могла бы толкнуть меня на подобный поступок?
— Да самая веская из всех, дон Игнасио, — страх.
— Что вы болтаете?
— Вы боитесь, дон Игнасио…
Уже на пороге дон Альфонсо вдруг обернулся.
— И, если хотите знать мое мнение, сеньор, — бросил он, — вы чертовски правильно делаете, что боитесь!
Глава VI
Все очарование толстухи доньи Мерседес, жены комиссара Мартина, составлял веселый нрав. От севильской юности у нее остались красивые черные глаза и звонкий смех, по поводу и без повода с утра до ночи оживлявший квартиру на калле Веллингтон, откуда сеньора Мартин выходила лишь к поставщикам, ибо годы никак не повлияли на отличный аппетит и любовь к вкусной пище. Давным-давно махнув рукой на все попытки сохранить стройную фигурку, когда-то позволявшую Мерседес без устали плясать всю ночь напролет, она целыми днями лакомилась всевозможными сластями. Редкий ужин обходился без приготовленного руками сеньоры Мартин типично андалусийского торта — приторного от меда и сахара. Сначала дон Альфонсо сердился, но неизменная веселость жены победила упрямство комиссара и, махнув рукой, он смирился с мыслью быть мужем необъятной супруги. Женщина далеко не глупая, Мерседес быстро сообразила, в чем дело, и, затворившись дома, предоставила мужу в одиночку являться на официальные приемы и ходить в гости к кому и с кем угодно.
Однако, если донья Мерседес отклоняла все приглашения, сама она очень любила принимать гостей. И среди всех, кто бывал в их доме на калле Веллингтон, особое предпочтение отдавала супругам Люхи. Она бесконечно уважала Мигеля, за чьим продвижением по службе внимательно следила с помощью мужа, и очень любила суровую спокойную Кончу, наверное, как раз потому, что видела в молодой женщине полную противоположность себе. Что до сеньоры Люхи, то она чувствовала себя с доньей Мерседес, как с ребенком, чья болтовня ее сначала немного раздражала, но потом стала действовать удивительно освежающе, как прохладная ванна. После обеда, когда мужчины удалялись в библиотеку дона Альфонсо курить сигары, их жены поверяли друг другу мелкие тайны. Женщины великолепно ладили и соглашались во всем, кроме сравнительных достоинств своих святых покровительниц. Конча превыше всего ставила Нуэстра Сеньора де ла О, а Мерседес клялась, что никто и никогда не сравнится с Макареной.
Вечером этого богатого волнениями дня дон Альфонсо настоял, чтобы Люхи пришли ужинать в его дом. С одной стороны, он догадывался, что Конче из-за ненависти мужа к Виллару и всех связанных с этим неосторожных поступков пришлось пережить немало тягостных минут, а с другой — комиссар хотел убедиться, что Мигель искренне расположен не только слушать его советы, но и следовать им. Едва они покончили с десертом и выпили по первой чашке кофе, дон Альфонсо потащил Мигеля в библиотеку, а Конча стала помогать хозяйке дома убирать со стола.
Стоило им опуститься в кресла и закурить сигары, Мартин взял быка за рога:
— Надеюсь, ты понимаешь, Мигель, что теперь между нами и Вилларом началась война не на жизнь, а на смерть и кончится она либо его арестом, либо нашей отставкой?
— Конечно, дон Альфонсо, и я вам очень благодарен…
— Оставь свои благодарности… Я ненавижу Виллара не меньше твоего. Возможно, по другим причинам, но с той же силой. Я хочу очистить от него Барселону и сделаю это или уйду. Нам повезло, что Виллар сейчас здорово напуган. Сам знаешь, от страха человек всегда может наделать глупостей. Этого-то я и жду. Кроме того, наши осведомители в баррио получили приказ бросить другие дела и заниматься исключительно «Ангелами и Демонами». Пока я больше ничего не могу предпринять. Но у нас есть еще убийство Риберы. До сих пор оно интересовало меня очень мало (кроме, разумеется, того факта, что Виллар хотел взвалить его на тебя, а ты имел глупость вести себя так, что обвинение выглядело бы достаточно правдоподобно), но эта странная записка совершенно меняет дело.
— Вы думаете, ее написал убийца?
— Понятия не имею. Возможно, и убийца… В таком случае, нам придется признать, что убийство Риберы — лишь эпизод в длинной цепочке и все члены банды — под угрозой. Однако не исключено, что кто-то просто решил воспользоваться ситуацией и нагнать на Виллара страху. И этот человек знает о смерти Пако Вольса, хотя никто, даже журналисты об этом еще не пронюхали. Это не ты, случаем, решил сыграть скверную шутку с доном Игнасио?
— Клянусь вам, нет.
— Я тебе верю, но это очень осложняет дело. Пако никогда не рассказывал тебе о своих друзьях?
— Нет.
— А о родных?
— У Пако никого не было, кроме старухи, которую он считал матерью, и ее дочери.
— Надо бы их повидать.
— Не думаю, чтобы та или другая могли броситься на Риберу с ножом…
— Я тоже не думаю, но нельзя упускать ни единой мелочи. Пойми меня хорошенько, Мигель: мы начинаем вести двойную игру. При свете дня и совершенно открыто мы будем разыскивать убийцу Риберы, и ты позаботишься вести дело так, чтобы Виллара больше всего занимали твои действия. А под покровом темноты мы примемся за совсем другое — попробуем застукать дона Игнасио с поличным. Ты согласен?
— Согласен, дон Альфонсо. Но если вам удастся свалить Виллара, обещайте, что это я его арестую!
— Да ведь я уже дал тебе слово, упрямая голова!
Две подруги тем временем болтали на кухне. Донья Мерседес дала донье Конче рецепт сегодняшнего торта, а потом обе сеньоры, как всегда, заговорили о своих мужьях. Жена дона Альфонсо в очередной раз поздравила себя с удачным выбором спутника жизни. А донья Конча поделилась своей тревогой за Мигеля. Вечно он живет на нервах, в постоянном напряжении, вечно его осаждают мрачные мысли… Не утаила она от хозяйки дома и то, что ее беспокоит здоровье мужа. Даже по ночам он не знает покоя — засыпает с огромным трудом да еще почти всякий раз мучается кошмарами. Смущенная и взволнованная (как обычно, когда кто-то из близких рассказывал ей о своих огорчениях), донья Мерседес достала из аптечки снотворное и живейшим образом посоветовала подруге давать его Мигелю, чтобы тот мог спокойно отдыхать по ночам. Сеньора Люхи отнеслась к совету скептически — ее муж терпеть не мог лекарств и всегда хвастался, что никогда не глотал таблеток, разве что в детстве и в больнице, где его пичкали всякими снадобьями насильно.
В тот же вечер, по дороге домой, Конче пришлось убедиться, что ее супруг далеко не успокоился, как на то рассчитывал дон Альфонсо. Мигель объяснил жене план комиссара, соглашаясь, что мысль и вправду замечательна, но сам он не питал никаких иллюзий: на самом деле друг просто отстранял его от основной операции, и, если Виллар падет, вся заслуга достанется другим, а он, Люхи, так и не отомстит ни за отца, ни за Пако. Мысль об этом казалась инспектору нестерпимой. Во всяком случае, Мигель твердо решил, не оповещая о том комиссара, поискать автора записки, полученной доном Игнасио, и, если поиски увенчаются успехом, не собирался выдавать его шефу.
— Но ты же нарушишь свой долг, Мигель! — возмутилась Конча.
— Мой долг — наказать убийцу отца и Пако!
Видя, что муж снова начинает горячиться, Конча не стала спорить. Она уговорила Мигеля лечь спать и, пустив в ход все возможные ухищрения, заставила принять порошки доньи Мерседес. Инспектор с величайшим отвращением выполнил ее просьбу. Уложив мужа, Конча легла рядом и взяла его за руку, как ребенка, чтобы он скорее уснул.
Вся банда собралась в кабинете Хоакина Пуига. Председательствовал Виллар. Сейчас он пытался как можно четче обрисовать положение, а Нина де лас Ньевес, Гомес, Миралес и Пуиг внимательно слушали. Несмотря на все попытки дона Игнасио сохранить полную невозмутимость, все чувствовали, что каид озабочен. В первую очередь следовало выяснить, дружил ли Пако Вольс с кем-нибудь в баррио и есть ли у него родня. Виллар рассуждал так же, как дон Альфонсо, и по тем же причинам: он хотел найти автора письма. Пуиг по-прежнему считал, что этот незнакомец зовется Люхи и что Рибера погиб от его руки. Оба факта слишком хорошо совпадали, чтобы не вызвать подозрений. По мнению Гомеса, гибель Риберы — несчастный случай, но, возможно, Люхи воспользовался этим, чтобы посеять замешательство в рядах тех, кого он считал своими противниками. У Миралеса не было никакого особого мнения, он просто-напросто считал, что самое лучшее — если патрон позволит ему как можно скорее покончить с фараоном. Парня обругали и строжайше запретили предпринимать что бы то ни было без спросу. Нина, как будто позабыв о недавней размолвке с доном Игнасио, тоже советовала вести себя поосторожнее. Тем не менее все ее попытки выяснить что бы то ни было об этом Пако, из-за которого начались все неприятности, ровно ни к чему не привели. Виллар сообщил лишь, что парень оказался агентом полиции, а Пуиг легкомысленно взял его на работу. Узнав о нездоровом интересе Вольса к подпольным делам в кабаре, его пришлось убрать. Дон Игнасио ни словом не упомянул, что вовсе не собирался убивать парня, полагая, что тот заботится исключительно о собственном кармане, пока инспектор Люхи не явился требовать отчета о судьбе своего осведомителя.
Миралес вдруг рассмеялся. Он вспомнил, как удивился Пако, три недели просидевший под замком, когда к нему неожиданно пришли и пригласили немного прогуляться. Вольс сначала решил, что его отпускают на свободу, но быстро разобрался, что к чему, и умер, как положено мужчине. Однако, по мнению Миралеса, с парнем обошлись чересчур мягко, потому как, если бы его чуть-чуть обработали (а во время гражданской войны отставной боксер изучил самые разные методы воздействия), Пако наверняка раскололся бы и поведал немало интересного. Со времен последнего боя, после которого Миралеса отстранили от ринга, у него появилась привычка вслух разговаривать с самим собой, так что в конце концов парень разучился думать про себя. Благодаря этому присутствующие и узнали его мнение насчет слишком легкой смерти Пако. Никто, кроме Нины, не обратил на слова Хуана ни малейшего внимания. Но молодая женщина, которая ненавидела и побаивалась бандита, все же не выдержала:
— Лучше бы вы помолчали, Миралес, чем говорить такие гадости. Похоже, душа у вас не менее уродливая, чем физиономия. Настоящее чудовище!
При виде вытянутой физиономии бывшего боксера все захохотали — тот страшно не любил, когда распространялись о его уродстве. Миралес вовсе не считал себя красавцем, но не желал, чтобы об этом говорили, и, не будь Нина любовницей патрона, он бы хорошенько ей врезал и поглядел, выдержит ее нос или сломается точно так же, как и его собственный. После боя в Сантандере, когда его вынесли с ринга на носилках, поглядев в зеркало в раздевалке, он сам себя не узнал. Тогдашняя подружка, увидев лицо Хуана, закричала от ужаса. Миралес тогда стукнул ее, чтобы заставить замолчать, но не рассчитал силы, и его забрали в полицию. К счастью для боксера, девчонка выжила, а психиатры, осмотрев парня, решили, что он «готов», и в результате Хуан отделался всего несколькими месяцами в больнице. В конце концов врачи сочли, что Миралес выздоровел, и отпустили его на свободу, и лишь он один знал, что головокружение и странная слепота, накатившие на него тогда, в Сантандере, мешая видеть и парировать удары, иногда появляются снова.
В такие минуты Миралес, чтобы восстановить равновесие, еще больше пил и от страха становился агрессивнее обычного. Как только мир для него опять заволакивало туманом, Миралес подсознательно ожидал града ударов — коротких прямых, крюков и апперкотов. Эх, вот бы загнать эту Нину в угол и показать ей… А тут еще эта проклятая дымка заволакивает все вокруг… Хуан протер глаза, но сам знал, насколько это бесполезно… Дьявольский хоровод уже снова завертелся! И подумать только — все из-за того, что он так глупо открылся в седьмом раунде и пропустил апперкот, от которого, казалось, в башке вдруг зазвонили все колокола Сантандерского кафедрального собора. Миралес сидел на стуле, широко расставив ноги и немного нагнувшись. Сначала медленно закачалась его голова, потом туловище… направо-налево… Так порой какой-нибудь бык на пастбище, ошалев от жары и от мух, изливает раздражение в мерном покачивании, прежде чем в слепой ярости бросится бежать. Гомес, хорошо знавший отставного боксера, быстро почувствовал неладное. Воспользовавшись тем, что Виллар и Нина завели разговор вполголоса, он подсел к приятелю и тихонько хлопнул его по колену.
— Эй, Хуан, тебе плохо? — окликнул он Миралеса.
Тот поднял на андалусийца остекленевшие глаза. Голова так кружилась, что парень почти не различал лица Эстебана.
— Что, скоро мой выход? — пробормотал боксер.
Он все еще воображал, будто сейчас выйдет на ринг сразиться с тем злосчастным арагонцем, который задал ему такую жуткую трепку, положив конец дальнейшей карьере. Удар кулака остановил жизнь Миралеса на определенной минуте, и теперь, двадцать лет спустя, как только начинался приступ, больной мозг возвращал его к той давней схватке с поразительной точностью, невзирая на годы. Гомес, знавший историю приятеля, шепнул:
— Погоди еще… Отдохни… Я за тобой приду.
— Я не дам этому арагонцу продержаться больше пяти раундов!
— Не сомневаюсь… Расслабься, Хуан…
На Эстебана Гомеса производила сильное впечатление эта бесконечная схватка. Казалось, Миралес сражается с самим временем, пытаясь изменить то, что уже давно произошло. Оставив боксера во власти видений, он вернулся к остальным и тихонько сообщил о своем беспокойстве насчет состояния Хуана. Те, в свою очередь, стали издали наблюдать за Миралесом, и Нина, глядя на это безумное полуживотное, с пеной на губах раскачивающееся на стуле, не могла сдержать дрожь.
— Он просто ужасен! — с отвращением выдохнула молодая женщина.
— Возможно, но лучше не говорить парню об этом в лицо, как вы это только что сделали, сеньорита… Ваши слова и спровоцировали приступ.
Нина, не любившая андалусийца, поглядела на него свысока и не упустила случая одернуть:
— Когда мне понадобится урок, Гомес, я вас позову!
Эстебан стиснул зубы. Попробовала бы только женщина так разговаривать с мужчиной в его краях! У нее мигом отшибли бы подобное желание! Но эти каталонцы готовы терпеть что угодно… Виллар, понимая, что творится в душе андалусийца, почел за благо вмешаться.
— Он прав, Нина. Тебе не следует вмешиваться в дела Миралеса. Занимайся своими песнями, а в остальном оставь нас в покое!
— Прекрасно, Игнасио! Раз ты всегда встаешь на сторону своих бандитов, я возвращаюсь домой! Спокойной ночи!
Виллар пришел в бешенство. Он не мог допустить, чтобы с ним так разговаривали в присутствии подчиненных, и в ярости вскочил.
— Нина, изволь немедленно…
Но за певицей уже захлопнулась дверь, и продолжать не имело смысла. Дабы «спасти лицо», дон Игнасио принужденно рассмеялся, но напускная веселость не обманула Гомеса, и тот начал всерьез раздумывать, долго ли еще стареющий Виллар сумеет держаться на должной высоте, обеспечивая безопасность им всем…
Гомес вытащил Хуана из бара, где тот накачивался коньяком в надежде прояснить мозги, и повел домой. Проницательный и тонкий андалусиец проникся странной привязанностью к грубому верзиле, почти лишенному мозговых извилин.
— Ты надрался, Хуан…
— Я не надрался… просто очень плохо вижу… голова кружится… все вокруг вертится… понимаешь?
— Я провожу тебя до дому.
— Если я не появлюсь на ринге, меня дисквалифицируют и не заплатят денег!
Опьянение вкупе с навязчивыми видениями прошлого создавало новый, нереальный мир. И Эстебана Гомеса, унаследовавшего от далеких арабских предков почтительный страх перед безумием, завораживало это смещение времен. Понимая, что его приятель сейчас целиком во власти призраков и урезонивать его бесполезно, а отчасти и потому, что сам он испытывал некоторое удовольствие, хоть ненадолго отрешаясь от действительности, Гомес поддержал игру.
— Ты лишь малость отдохнешь.
— По-твоему, я не опознаю?
— Да нет же! Иначе разве я стал бы тебя задерживать?
Успокоенный, Миралес двинулся вперед широким, нетвердым шагом лунатика.
Они спустились по рамбла лос Капучинос и свернули налево, на калле де Эскудельера. Бывший боксер говорил без умолку. Следя, чтобы у приятеля не заплетались ноги (ему бы ни за что не поднять Миралеса, если бы тот вдруг упал!), Гомес слушал бредни, не имевшие ничего общего с реальностью. В конце концов, возможно, эти приступы — единственные мгновения, когда Миралес по-настоящему счастлив. Ведь они перечеркивали все неудачи, и Хуан получал возможность начать сначала. Гомес почти завидовал приятелю. Начать сначала!.. Будь это только возможно! Эстебан остался бы в гвадалквивирском хозяйстве и теперь уже наверняка стал управляющим. Но в двадцать лет гражданская война оторвала его от мирных радостей родной Андалусии, и Эстебан вообразил, будто перед ним открыт весь мир. Понадобилось несколько лет, прежде чем Гомес понял всю обманчивость миража, в который имел глупость поверить. Не желая работать за гроши, Гомес познал нищету и, когда его подобрал дон Игнасио, почти умирал с голоду. Нет, сначала ничего не начнешь…
Потом они свернули направо и вышли на калле Нуева де Сан-Франсиско, откуда вытекает крохотная улочка Буль. Там-то и жил Миралес. Гомес устал — Хуан наваливался на него всей тяжестью. Наконец он втащил приятеля в комнату и толкнул на кровать.
— Так… Отоспись хорошенько, Хуан… А когда проснешься, снова будешь в полном порядке.
— Скажи, Эстебан, по-твоему, я поколочу этого арагонца?
— Спрашиваешь! Одной рукой!
— Вот и я так думаю… А уж потом заживем, увидишь, Гомес! Эх, заживем!
— Договорились, amigo[82], спи!..
Андалусиец на цыпочках вышел из комнаты. Выходя, он как будто заметил тень, метнувшуюся за угол дома, но не придал этому особого значения. Наверняка какой-нибудь нищий ищет пристанища на остаток ночи… Однако, будучи человеком осторожным и предусмотрительным, Гомес на всякий случай вытащил нож и, выпустив лезвие, снова сунул в карман.
Не прошло и десяти минут после ухода Гомеса, как Хуан свалился с постели. Боксеру казалось, будто, не сумев увернуться от страшного удара арагонца, он рухнул на ринг. Миралес вскочил, пока арбитр не закончил счет, и в полном обалдении огляделся. Почему здесь так тихо и сумрачно? Так, значит, он не на ринге? Но где же тогда? Ведь не умер же он, по крайней мере? Все нутро Миралеса сжалось от дикого страха.
— Гомес! — крикнул он.
И в тот же миг дверь тихонько отворилась.
— Это ты, Гомес? — спросил Хуан.
Андалусиец, не отвечая, приближался к Миралесу.
— Мне страшно, Эстебан…
Почему друг не желает с ним говорить? Да еще эта темнота, из-за которой не видно ни зги… Выскользнувшая из-за облака луна заглянула в комнату и высветила приближающийся силуэт. Хуану показалось, что ночной гость меньше и тоньше, чем Эстебан. Бывший боксер так обалдел от удивления, что даже не подумал двинуться с места. Все равно это Эстебан! Никто другой не мог сюда прийти! Эстебан, его друг… Но почему он не говорит ни слова? Гость подошел совсем близко, прежде чем Миралес успел понять, что происходит. Однако он все же еще раз позвал друга:
— Эстебан…
Дикая боль, пронзившая все тело, сначала напомнила ему запрещенный удар во время боя в Орвьедо, после которого его противника лишили права выступать. Но удивление мешало ему думать о боли и сравнивать ощущения. Почему Гомес его ударил? Такой друг! Гость уже выскользнул из комнаты, а Миралес все еще стоял, покачиваясь, и пытался понять, что случилось. Потом боль заслонила собой все остальное. Хуан опустился на колени. Мозг еще сопротивлялся, по-прежнему во власти старых наваждений. Это был запрещенный удар! Лишь бы только арбитр заметил! Падая, Миралес попытался привлечь внимание судей:
— Es un golpe…[83]
И, не договорив, парень рухнул как подкошенный, словно бык на бойне под ударом колотушки мясника, и долго, страшно кричал — полыхающая в животе боль причиняла невыносимые страдания.
Глава VII
— En nombre de la ley! Abra![84]
Эстебан спросонок подскочил на кровати. Сквозь сон он плохо понял, что кричат там, за дверью, но когда она задрожала под мощными ударами кулака, последние обрывки сновидений рассеялись.
— Gomes! Sabemos este agui! En nombre de la ley, abra![85]
Андалусиец помнил, что однажды утром его точно таким образом уже будила полиция, и это обернулось для него несколькими годами тюрьмы.
— Un momento![86] — крикнул Эстебан.
Натягивая штаны и башмаки, он обдумывал все свои действия за последние несколько недель. Нет, вроде бы ничего такого… если только дон Игнасио его не выдал. За дверью уже теряли терпение, и снова принялись барабанить. Гомес пожал плечами. Скорее всего, очередная облава. Его отведут в участок, а потом Виллар вызволит на свободу. В конце концов, не впервой. И тут Эстебан вспомнил, как вызывающе нагло Нина де лас Ньсвес разговаривала с доном Игнасио. Если патрон и в самом деле сдает, дело и впрямь может кончиться очень худо… не считая этой истории с Пако. Гомес поглядел в окно. Внизу ждала полицейская машина. Стало быть, не просто облава… Фараоны побеспокоились ради него лично. Эстебан нервно сглотнул. Он не хотел возвращаться в тюрьму. Но куда сбежишь и каким образом? Нет ни денег, ни друзей… А потом, Эстебан уже привык к спокойной, размеренной жизни. У него сейчас просто не хватило бы пороху бегать по дорогам, как затравленный заяц, спасаясь от полиции.
— Entonces, Gomes? Abre la puerta о si la derribamos?[87]
Слишком поздно, Эстебан… Ты загнан, как крыса, в мышеловку! Он глубоко вздохнул и, вознеся горячую молитву Макарене, чья улыбка согревала его из-за резной решетки, открыл дверь. На пороге стояли инспектор Люхи и двое полицейских в форме. Прежде чем войти, инспектор заметил:
— Долгонько же вы решались открыть!
— Я не привык спать одетым, инспектор.
— Ладно… покажите мне свой нож.
— Нож?
— Надеюсь, вы не заставите нас его искать?
— Нет… пожалуйста…
Эстебан Гомес окончательно растерялся. Зачем им понадобился его нож? Он протянул оружие инспектору, но тот сначала надел перчатки. Теперь до андалусийца наконец дошло: его подозревают в чем-то чертовски серьезном. К счастью, в истории с Пако он не пускал в ход свой нож. Инспектор тщательно осмотрел оружие и, завернув в носовой платок, сунул в карман.
— Это то, что на вас было ночью? — спросил он, указывая на стул, где лежала остальная одежда.
— Да, а что?
— Снимайте штаны!
Эстебан знал, что Люхи просто хочет нагнать страху, и решил показать, какие крепкие у него нервы. Бандит спокойно стянул брюки. Мигель разложил содержимое их карманов на столе, проделал ту же операцию с пиджаком, взял рубашку и галстук и приказал одному из подчиненных упаковать все это и отправить в лабораторию. Гомес попытался хорохориться.
— Хотите пополнить свой гардероб, инспектор?
— Одевайтесь!
— Легко сказать, вы ж забрали мои тряпки!
Но вещи не пожелали возвращать, и пришлось Эстебану достать из шкафа другой костюм. Одеваться под враждебными взглядами троих полицейских было крайне неприятно. Покончив с этой задачей, Гомес повернулся к Мигелю.
— А что теперь?
— Следуйте за нами!
— Куда вы меня ведете?
— А вы не догадываетесь?
Гомес пожал плечами.
— Да, разумеется, но почему?
— Там вам объяснят.
Они явно не собирались ничего говорить, и Эстебан, смирившись с неизбежным, вышел из дома. Теперь он мог уповать лишь на свою счастливую звезду и заступничество Макарены.
Несмотря на ранний час, комиссар Альфонсо Мартин уже сидел у себя в кабинете, когда Мигель Люхи привел туда Гомеса. Андалусиец решил скрыть тревогу под напускным нахальством.
— И часто вас посещают подобные фантазии, сеньор комиссар? Вытаскивать из постели порядочных людей и тащить в управление, даже не объяснив причин столь вопиющего злоупотребления властью!
Дон Альфонсо с хорошо разыгранным удивлением посмотрел на Люхи.
— Вы тревожили покой мирных граждан, инспектор?
— Насколько мне известно, нет, сеньор комиссар.
— Да, это и впрямь на вас не похоже, инспектор.
Эстебана трясло от ярости. Эти двое полицейских явно и намеренно издевались над ним.
— Вы забрали у него нож, Люхи?
— Да, и уже отправил в лабораторию вместе с одеждой.
— Тогда остается подождать результатов.
Гомес отлично знал, что наступившая в кабинете тишина — лишь часть мизансцены и полицейские просто хотят его деморализовать, но никак не мог справиться с охватившей его тревогой. Комиссар что-то записывал в досье, а инспектор проглядывал испещренный заметками блокнот. Ни тот, ни другой, по-видимому, не обращали внимания на Эстебана.
— Можно мне позвонить Игнасио Виллару?
Гомес, тщетно прождав ответа, встал, но дон Альфонсо, не отрываясь от бумаг, приказал:
— Сидите на месте Гомес, и помалкивайте.
Эстебан замер, но не смог сдержать гневной вспышки.
— Вы не имеете права! Слышите, сеньор комиссар? Вы не имеете права держать меня здесь!
Мартин повернулся к Люхи.
— Как, по-вашему, инспектор, у меня нет права задерживать сеньора Гомеса?
— По-моему, есть, сеньор комиссар.
— Вы меня успокоили, но, быть может, стоит узнать мнение какого-нибудь знаменитого юриста?
— В такое время знаменитые юристы спят, сеньор комиссар.
— Верно. Тем не менее, возможно, сеньор Гомес знаком с каким-нибудь видным законником, и тот с удовольствием встанет с постели, дабы обсудить этот щекотливый вопрос?
— Почему вы не даете мне позвонить Игнасио Виллару?
Дон Альфонсо снова разыграл удивление.
— Вы знали, Люхи, что сеньор Виллар, оказывается, еще и юрист?
— Впервые слышу, сеньор комиссар!
— У меня складывается впечатление, что, должно быть, сеньор Гомес путает его с кем-то другим.
— Я тоже так думаю, сеньор комиссар.
Андалусиец, не выдержал.
— Довольно! Хватит! — заорал он. — Прекратите надо мной измываться! Скажите лучше, в чем вы меня обвиняете!
— Вы предъявляли сеньору Гомесу какие-нибудь обвинения, инспектор?
— Нет, господин комиссар, и не думал.
— Вот видите, сеньор Гомес!
— Но тогда почему я здесь?
— Скажем, просто отдыхаете, пока я не сочту нужным задать вам несколько вопросов.
— О чем?
— О смерти Хуана Миралеса.
— А?
Гомес отлично понимал, что, несмотря на мнимое благодушие, полицейские пристально следят за его реакцией, но весть о смерти бывшего боксера так вышибла его из колеи, что андалусиец даже не пытался скрыть полное замешательство.
— Хуан умер?
— Уж куда мертвее…
— Но… каким образом?
— От удара ножом.
— Вы хотите сказать, его убили?
— Тут не может быть никаких сомнений.
— Где?
— В его же комнате.
— Не может быть!
— Почему?
— Но ведь…
Гомес вдруг прикусил язык, понимая, что чуть не ляпнул лишнее, но дон Альфонсо почти ласково продолжил за него:
— Потому что вы были вместе.
— Но когда я уходил, Хуан спал!
Чувствуя, что ловушка вот-вот захлопнется, андалусиец утратил всякую осторожность.
— Видите ли, сеньор Гомес, самое странное — то, что, прежде чем испустить последний вздох, Миралес весьма отчетливо пробормотал следующий вопрос: «За что. Эстебан?» А вас ведь, кажется, так и зовут?
— Да.
— Крайне неприятно…
— Но в конце-то концов, с какой стати мне убивать Миралеса?
— Ну, если вы убийца, вам лучше знать… Возможно, из-за Пако Вольса?
— Я не знал этого типа.
— Странно… Он работал в «Ангелах и Демонах». А вы, кажется, тоже там служите?
— Это еще ничего не значит!
— А по-моему, да.
— Я не убивал Хуана, сеньор комиссар, мы с ним дружили.
— Болтливый друг опаснее врага.
Остаток ночи превратился для дона Игнасио в сплошной кошмар. Нина так и не вернулась. Не найдя ее на вилле, каид позвонил Пуигу и приказал искать девушку по всем кабаре Барселоны, а потом до четырех часов ждал у телефона. Наконец Пуиг позвонил, но лишь для того, чтобы сообщить о неудаче. Нина де лас Ньевес исчезла. Виллар улегся спать в холодном бешенстве. Он больше не позволит этой девке издеваться над собой. Сегодняшний бунт — первый и последний. Он, Виллар, вышвырнет ее вон. Вспоминая, как Нина вышла из кабинета Хоакина, и насмешливый взгляд Гомеса, дон Игнасио корчился от стыда. Для начала он уберет Нину из программы кабаре. Пусть-ка поторгует в зале сигаретами, как дебютантка, а захочет уехать — ей устроят такое путешествие, что вовек не забудет! А кроме того, Виллар поручит Гомесу следить за Ниной и в случае чего принять меры.
В семь часов утра телефонный звонок прервал лихорадочный сон дона Игнасио. Звонил снова Пуиг, и его дрожащий голос предвещал самые скверные новости. Сперва каид решил, что Хоакин сообщит сейчас о смерти Нины, и сердце у него болезненно сжалось, ибо, несмотря на размолвку, он все же по-своему любил эту крошку. А потому, услышав, что речь идет всего-навсего о Миралесе, каид с облегчением перевел дух.
— Должно быть, вы совсем рехнулись, Пуиг, если посмели разбудить меня, чтобы потолковать об этой скотине!
— Дело в том, что и он тоже мертв, патрон!
— Мертв?
— Хуан убит у себя в комнате. Его, как и Риберу, пырнули ножом в живот.
— А-а-а… ну что ж, ладно… Я разберусь. Утром мы с вами наверняка увидимся… А пока попытайтесь собрать как можно больше сведений.
Дон Игнасио медленно опустил трубку. Сон как рукой сняло. Итак, кто-то преследует его людей, а потом, очевидно, примется за него самого. Но кто этот неизвестный враг? Виллар накинул халат и заглянул в комнату Нины. Постель так и осталась неразобранной… Выругавшись сквозь зубы, дон Игнасио пошел в кабинет. Там он опустился в кресло, закурил первую за этот день сигарету и принялся размышлять. Нависшая над всей бандой угроза вернула каиду самообладание. Он как будто снова помолодел. Во-первых, надо найти замену Рибере и Миралесу. Задача несложная — уж чего-чего, а такого добра в баррио навалом. Виллар с легким нетерпением раздумывал о другом: получит ли он опять, как и после гибели бывшего матадора, записку с напоминанием о Пако Вольсе? Это вполне устроило бы Виллара — тогда он бы точно знал, что убийцу следует искать в непосредственном окружении парня, которого ему пришлось убрать с дороги. И тогда уж, черт возьми, его людям не понадобится много времени, чтобы добраться до типа, посмевшего бросить такой наглый вызов самому дону Игнасио! Подумав об этом, Виллар прикрыл глаза — он уже предвкушал удовольствие от встречи. Нет, он не станет приканчивать этого романтичного убийцу на месте, а сначала в полной мере насладится его поражением!
Неожиданно, сам не зная по какой странной ассоциации, дон Игнасио снова подумал о Нине. А вдруг убийца из ненависти к нему решил разделаться с молодой женщиной? Но тут снова зазвонил телефон, и Виллар чуть дрожащей рукой снял трубку. Хоакин Пуиг сообщил, что Гомес сидит в отделе уголовных расследований Центрального полицейского управления как подозреваемый в убийстве Миралеса. Виллар пожал плечами и велел Пуигу предупредить мэтра Хосе Ларуби, чтобы тот сделал все возможное для скорейшего освобождения андалусийца.
Радуясь, что его тревога за судьбу Нины пока не получила подтверждения, Виллар снова откинулся в кресле и стал размышлять о необъяснимом исчезновении девушки. Гордость не позволяла ему даже допустить мысль о появлении более молодого соперника, любовь к которому оправдывала бы любые безумства. Однако факт остается фактом: в эту ночь, когда убили Миралеса, Нина не ночевала дома. Подумав о бывшем боксере, Виллар невольно вспомнил и об отставном тореро — в ночь его гибели Нина тоже отсутствовала. Дону Игнасио потребовалось довольно много времени, чтобы сопоставить эти два факта. Но как только мысль о странном совпадении мелькнула у него в голове, каид напряженно застыл. Необычайная жизненная энергия, независимость, которую она выказывала в работе, — все доказывало, что в определенных обстоятельствах Нина вполне способна осмелиться на шаг, сама мысль о котором отпугнула бы других женщин. Но зачем бы Нине мстить за Пако? Разве что… Теперь уж Виллар сам позвонил Пуигу.
— Скажите, Хоакин, как, по-вашему, Нина знала Пако?
— Нина де лас Ньевес? Право же, дон Игнасио, затрудняюсь сказать… Она наверняка видела парня, как и всех служащих заведения, но вряд ли это можно назвать знакомством, верно?
И однако в тот же миг голос директора кабаре слегка дрогнул — он вспомнил о странном поведении певицы, явившейся якобы еще раз отрепетировать песню, а на самом деле — узнать о судьбе Пако Вольса. Виллар тут же заметил неуверенность собеседника.
— В чем дело, Пуиг? Вы, кажется, не слишком уверены в том, что говорите? Уж не пытаетесь ли вы что-то скрыть от меня? Это было бы большой глупостью с вашей стороны…
Хоакина охватила паника.
— Нет-нет, дон Игнасио… Просто я вспомнил одно происшествие, которому в свое время не придал никакого значения…
И он подробно рассказал обо всем Виллару, а тот, выслушав до конца, молча повесил трубку. Некоторое время каид просидел неподвижно, пытаясь справиться с обуревавшим его бешенством. Теперь в памяти стали всплывать сцены, на которые он сначала не обратил внимания: обморок Нины, когда инспектор заговорил о зловещей посылке, ее упорное стремление выяснить подробности смерти Пако, внезапное отвращение к Миралесу… От напряжения на висках у Виллара вздулись жилы. Если Нина и в самом деле совершила эти два убийства, придется признать, что у нее были очень серьезные основания. А какие же, если не любовь? Виллар припомнил красивое лицо Пако. Была ли Нина его любовницей? Неужто она посмела обмануть, оскорбить того, перед кем дрожит весь «баррио чино»? Жестокая гримаса исказила лицо дона Игнасио. Бедняжка Нина… Она и не подозревает, что ее ждет, если хозяин когда-нибудь найдет доказательство измены…
Принимая от нее деньги за свечу, дон Хасинто испытывал необычное волнение. Ризничему давно хотелось сказать этой женщине, как он горд за свою церковь, видя такое страстное почитание Нуэстра Сеньора де лос Рейес. С робостью юного влюбленного, осмелившегося на первое признание, старик пробормотал:
— Сеньорита, я уверен, что Матерь исполнит ваше желание, и сам помолюсь за вас…
Она с удивлением посмотрела на бесхитростное лицо старого служителя. Сквозившая в глазах дона Хасинто нежность делала его удивительно симпатичным. Она шепотом поблагодарила старика и пошла на свое обычное место, не забыв предварительно поставить свечу у ног статуи Богоматери. Однако, прежде чем погрузиться в молитву, она с жалостью улыбнулась — бедный дон Хасинто… как бы он был потрясен, узнав, что прихожанка явилась благодарить Святую Деаву за позволение совершить убийство и молить о помощи в осуществлении еще нескольких…
Виллар уже собирался ехать в город, как вдруг возле виллы затормозило такси. В окно дон Игнасио видел, как Нина расплачивается с шофером и идет через парк к дому. Не желая, чтобы молодая девушка вообразила, будто он поджидает ее возвращения, каид отступил в глубь комнаты. Не стоит доставлять ей такое удовольствие! Однако он нарочно встал напротив двери, и, войдя, Нина на мгновение замерла от неожиданности.
— Здравствуй, Игнасио! Хорошо спал?
Он лишь молча сверлил ее взглядом. Только сжатые кулаки свидетельствовали о жестокой внутренней борьбе.
— Иди за мной! — наконец хрипло бросил Виллар.
Потом, не ожидая ответа, дон Игнасио повел Нину в кабинет и запер дверь на ключ.
— Откуда ты? — сухо спросил он, прежде чем молодая женщина успела сесть.
— Из «Колона». Я там ночевала.
Виллар немедленно позвонил в отель. Там ему подтвердили, что Нина приехала одна в два или три часа ночи и примерно полчаса назад покинула гостиницу. Дон Игнасио немного смягчился.
— Почему ты не приехала сюда?
— Не хотелось тебя видеть!
— Послушай, Нина, ты должна раз и навсегда запомнить: я не привык, чтобы со мной обращались, как с каким-нибудь жиголо с набережной!
— Тогда для начала сам прекрати вести себя со мной, как с девкой из баррио!
— Этой ночью ты разговаривала со мной совершенно недопустимым тоном, да еще при моих служащих!
— Тебе тоже не следовало унижать меня при своих бандитах!
Виллар с нескрываемым восхищением посмотрел на молодую женщину: что есть — то есть, храбрая крошка и умеет за себя постоять!
— Нина… ты знала Пако Вольса?
— Не особенно хорошо…
— Ты уверена?
Виллар впился взглядом в ее лицо, ища малейших признаков страха или неуверенности.
— Разумеется… А почему ты спрашиваешь?
— Мне кажется странноватым, что, узнав о смерти Пако, ты упала в обморок.
— Я актриса, Игнасио… Не знаю, понимаешь ли ты, что это такое… Во всяком случае, я никак не могу привыкнуть к вашим дикарским нравам. Дома меня воспитывали в уважении к жизни ближнего… И, когда я слышу, как эти мерзавцы кичатся совершенными преступлениями, меня тошнит!
— Так ты, значит, и меня считаешь, как ты говоришь, мерзавцем?
— Да.
Виллар едва не поддался искушению избить Нину, дабы внушить ей должное почтение, но он хотел сначала узнать всю правду.
— Очевидно, ты забыла, что я для тебя сделал? И что ты всем обязана мне?
— У меня настолько хорошая память, что лишь воспоминание обо всех моих долгах тебе помешало уехать.
— Ты никуда не уедешь, Нина!
Молодая женщина немедленно встала на дыбы.
— Я сделаю это, когда сочту нужным!
— Нет, когда этого захочу я!
И Нине вдруг снова стало страшно…
Результаты лабораторных исследований не выявили на одежде и на ноже Гомеса никаких следов крови, а потому комиссару Мартину волей-неволей пришлось по требованию мэтра Ларуби отпустить андалусийца на свободу.
Как только Гомес покинул кабинет, дон Альфонсо подвел итог:
— Теперь уже не осталось никаких сомнений, Мигель: кто-то решил уничтожить банду дона Игнасио. Однако, как бы я сам ни относился к такой перспективе, мы не можем этого допустить. Согласен, Мигель?
— Естественно… Но с чего начать поиски?
— Надо покопаться в прошлом Пако Вольса, Мигель. Эта серия убийств, последовавших за его собственным, на мой взгляд, ясно указывает, что именно оно и стало первопричиной.
— Парень ни разу не упоминал о своих друзьях…
— Подождем, не получит ли Виллар еще одного письма с напоминанием о Пако Вольсе. Если да, то из этого нам и следует исходить, ибо другой путеводной ниточки все равно нет.
Только с вечерней почтой дон Игнасио снова обнаружил записку, сколотую со статьей о преступлении на калле Буль. Как и в прошлый раз, отправитель ограничился одной-единственной фразой, напечатанной на машинке: «Se recuerda de Paco?»
Глава VIII
Дон Альфонсо Мартин подождал, пока Мигель Люхи уйдет подальше, и, выскользнув из подъезда, где до сих пор прятался, перешел улицу, а потом на глазах у возмущенной Розы Ламос, старой девы, целыми днями наблюдавшей, что происходит у соседей, на калле Росельон, — других развлечений у беспомощной калеки просто не было. Но донья Конча выказала гораздо меньшее удивление, когда, открыв дверь, узнала в столь раннем госте комиссара. Сеньора Люхи порадовалась, что привела себя в порядок раньше обычного, а накануне хорошенько убрала в доме.
— Дон Альфонсо!.. А Мигель только что ушел…
— Знаю, донья Конча, знаю, — я видел, как он уходил.
Это заявление так поразило сеньору Люхи, что, забыв о правилах вежливости, она не пригласила Мартина войти, но тот, улыбаясь, сам напомнил ей о правилах хорошего тона:
— Надеюсь, помятуя о моем возрасте и положении, вы все же позволите мне переступить порог?
— О, дон Альфонсо… тысяча извинений… Прошу вас…
Она посторонилась и, впустив гостя, проводила его в гостиную, куда входили лишь по особо торжественным случаям или принимали очень близких друзей.
— Вы знаете, как я уважаю Мигеля, донья Конча, и о моей привязанности к вам обоим… Именно эти уважение и дружба и заставили меня прийти сюда так рано и… неожиданно. Во избежание лишних осложнений, я попрошу вас, донья Конча, ничего не говорить мужу — я пришел поговорить только с вами.
— Со мной?
— Я очень волнуюсь за Мигеля, донья Конча, и как раз об этой тревоге хотел бы с вами побеседовать.
— Вы волнуетесь за Мигеля? Но почему?
— Мы достаточно давно знакомы, донья Конча, а потому притворяться бесполезно, верно? Пожалуй, я знаю Мигеля не хуже вашего. У парня очень трудный характер. Его терзают навязчивые мысли, особенно желание отомстить за отца. Теперь к этому прибавилось имя Пако Вольса — поскольку Мигель считает себя виновным в его смерти. Мне нужна ваша помощь, донья Конча.
— Моя?
— Уговорите его взять отпуск.
Сеньора Люхи грустно покачала головой.
— Он не станет меня слушать, дон Альфонсо.
— Притворитесь, будто плохо себя чувствуете.
— Мигель отправит меня отдыхать… одну.
— Но ведь он вас любит, не так ли?
— Думаю, да, но еще больше он дорожит возможностью отомстить. Дон Альфонсо… а чего именно вы опасаетесь?
— Всего и в то же время — ничего определенного. Вы знаете, над чем мы сейчас работаем. С тех пор как мы узнали о смерти Пако Вольса, погибли два члена банды Виллара. И оба они погибли от такой же раны, как и отец Мигеля… А кто мог знать, каким образом убили старика Люхи?
— Вы имеете в виду, что…
— Я ничего не сказал, донья Конча, не имею права… да и доказательств — тоже… Но меня не было рядом с Мигелем в то время, когда прикончили Риберу и Миралеса…
— Зато я была!
— Вы его жена, донья Конча, а потому ваши показания в расчет не примут… Я-то вам верю… во всяком случае, пытаюсь… И тем не менее, Люхи ведет себя очень странно. Мигель блестящий детектив, но, как только речь заходит о розыске убийцы Риберы и Миралеса, ведет себя, как новичок… И при этом ссылается на несуществующие предлоги… Честно говоря, донья Конча, он как будто не желает работать! А тут могут быть только два объяснения: либо он сам совершил оба преступления…
— Дон Альфонсо!
— …либо не хочет отправить за решетку того, кто, быть может, сам того не подозревая, помогает Мигелю отомстить.
— Дон Альфонсо… неужели вы… вы больше не доверяете Мигелю?
— В том, что касается этой истории, донья Конча, я вынужден с грустью ответить: нет.
Несмотря на все угрызения совести и отчаянные попытки взять себя в руки, Мигель чувствовал, как между ним и доном Альфонсо углубляется пропасть и происходит это исключительно по его, Люхи, вине. Никогда раньше инспектору не приходило в голову, что все внутренние стремления могут вступить в такой конфликт с чувством долга, которое олицетворяет комиссар Мартин. В сорок лет он никак не мог отказаться от того, что давно уже стало целью жизни. Мигель не видел причины ожесточенно преследовать незнакомца, избавлявшего Барселону от самых отъявленных подонков. Кто знает, быть может, у этого парня получится то, на что не способна барселонская полиция: покончить наконец с Игнасио Вилларом. Заставляя Мигеля искать след убийцы, его невольно вынуждали защищать Виллара. А по какому праву комиссар придает большее значение убийству двух бандитов, чем гибели Пако? Пусть дон Альфонсо арестует Виллара, и он, инспектор Люхи, поймает того, кто убил Миралеса и Риберу! Услуга за услугу!
Люхи не отказывался повиноваться. Просто он выполнял возложенную на него задачу без всякого воодушевления. Выполнял приказ, но не проявлял инициативы. При этом Мигель понимал, что, действуя таким образом, обманывает доверие начальства, и ему было стыдно перед доном Альфонсо. Но, чтобы избавиться от этого стыда, пришлось бы предать отца и Пако… А такого он позволить себе не мог. Инспектор хотел было подать в отставку, но не сделал этого не только ради Кончи, которую тогда ждало бы довольно трудное существование, но еще и потому, что, лишившись защиты закона и действуя на собственный страх и риск, окончательно утрачивал надежду победить Виллара.
В то утро он пошел навестить женщину, воспитавшую Пако Вольса.
Боясь повредить Пако и внушить подозрения противнику, Люхи еще ни разу не появлялся на калле Хайме Хираль. Он никогда не видел вдовы Каллас, но достаточно долго прожил среди барселонской бедноты, чтобы прекрасно представлять себе ее облик, а потому, когда старуха открыла дверь, она показалась ему старой знакомой. Долорес ничем не отличалась от других измученных жизнью и совершенно обессилевших к концу пути женщин. Даже больше, чем выцветшие глаза и слегка сгорбленная от постоянной домашней работы спина, о степени изношенности говорили руки. Стоило Мигелю упомянуть о Пако, вдова Каллас расплакалась. Люхи пожал плечами. Здорово же дон Альфонсо погряз в рутине, если послал его попусту тратить время к несчастной старухе, способной лишь стонать и жаловаться! Не желая больше смущать бедняжку Долорес, он встал и огляделся. Жалкое убранство комнаты живо напомнило инспектору детство. Буфет украшала фотография Пако. Инспектор подошел, чтобы разглядеть ее получше, и за рамкой обнаружил другую. В результате Мигелю пришлось с раздражением признать, что комиссар Мартин отлично знает свое дело. Убедившись, что хозяйка дома ничего не замечает, Мигель вытащил вторую фотографию из дешевой рамки и сунул во внутренний карман пиджака. Возвращаясь к Долорес, Люхи проходил мимо окна, выходившего во двор. Механически поглядев в ту сторону, он заметил приближающегося к дому Хоакина Пуига. Инспектор застыл на месте. Означает ли это, что Виллару пришла в голову та же мысль, что и дону Альфонсо? Мигель быстро подошел к старухе и, обхватив за плечи, постарался говорить как можно убедительнее:
— По лестнице поднимается мужчина, и идет он наверняка к вам. Я его знаю. Это не полицейский, а бандит. Я спрячусь, пока он будет тут, и ничего не бойтесь — он не сможет причинить вам зла. Но не отвечайте ни на какие расспросы, слышите? Ни на один вопрос! Речь идет о вашей жизни!
Долорес, не понимая, в чем дело, ошарашенно слушала распоряжения инспектора. Мигель даже усомнился, поняла ли его старуха. За дверью уже раздавались шаги.
— А что я должна ему сказать? — вдруг спросила вдова Каллас.
— Гоните его вон!
— А вдруг он не захочет?
— Тогда я сам вышвырну мерзавца!
В дверь постучали. Люхи притаился в отгороженной части комнаты, служившей старухе спальней, и стал наблюдать сквозь неплотную ткань занавески. Еще не видя Пуига, Мигель услышал его голос:
— Сеньора Каллас?
— Это я, сеньор, но мне надо уходить.
— Вы уделите мне пару минут?
С этими словами Хоакин закрыл за собой дверь и подтолкнул Долорес обратно в комнату. Управляющий кабаре «Ангелы и Демоны» аккуратно положил светлую фетровую шляпу на стол, не забыв предварительно убедиться, что там чисто. Он тоже сразу заметил фотографию Пако. Хоакин снял ее с комода и показал Долорес.
— Ваш сын?
— Нет… повторяю вам, сеньор, мне надо идти…
— Погодите чуть-чуть. У вас есть еще дети?
— Вас это не касается!
— Ого, не очень-то вы любезны, как я погляжу!
— Уходите!
Пуиг хмыкнул.
— Я уйду, когда вы ответите на несколько вопросов, и не вздумайте кричать, а то я живо заткну вам глотку!
И вот, услышав угрозу человека, на котором она сразу почувствовала печать того круга, откуда ей самой некогда удалось бежать, Долорес вдруг на мгновение вновь почувствовала себя девкой из «бардио чино». Безумная ярость стерла из памяти годы покорного служения домашнему очагу и вернула жизненную энергию. Ведь недаром же Долорес когда-то случалось драться с соперницами на ножах! Она гордо выпрямилась.
— А ну, валите отсюда!
Столкнувшись с неожиданным сопротивлением, Хоакин заколебался. А потом решил, что уж на такой-то жалкой противнице можно отыграться за все прежние унижения. Он приблизился к старухе.
— Придется тебе поучиться вежливости, моя красавица, а то я сам объясню тебе, как надо встречать гостей… Ну, отвечай, были у твоего Пако друзья или нет!
— Не знаю.
— Правда? — на губах Пуига мелькнула жестокая усмешка.
Он подошел еще ближе.
— Так ты ничего не знаешь?
Старуха не отступила.
— Значит, это вы убили Пако? — просто спросила она.
И, не успел бандит опомниться от удивления, как Долорес сбегала на кухню и вернулась с шинковальным ножом.
— Вы убили моего Пако?
Хоакин попятился. Не будь необходимости дать потом отчет Виллару, он бы немедленно задал стрекача, но признаться дону Игнасио, что сбежал от какой-то старухи, Пуиг ни за что не посмеет…
— Да ну же, мамаша, не стоит так нервничать!
— Убирайтесь!
— Ладно-ладно, но сначала я должен вам все объяснить насчет Пако…
Упоминание о молодом человеке на мгновение отвлекло Долорес, и Пуиг воспользовался случаем, чтобы схватить ее за руку. Нож упал на стол.
— А теперь побеседуем тет-а-тет!
— Нет, Пуиг, втроем!
Подручный Виллара вздрогнул, как будто его хлопнули по спине. Обернувшись, он увидел Мигеля Люхи. Лицо бандита залила мертвенная бледность, лоб сразу вспотел.
— Вы… вы были здесь?
— Да, я был здесь… Какой смельчак этот сеньор Пуиг!.. Он даже не побоялся бы ударить женщину, которая годится ему в матери…
— Она мне… у… угрожала… Нет!
Хоакин предвидел удар, но не смог увернуться, и кулак полицейского угодил ему в переносицу. Бандит взвыл и грохнулся бы на пол, не удержи его Мигель за лацканы пиджака. Люхи оттащил его в сторону и швырнул на стул.
— А теперь ты все расскажешь, Пуиг! Клянусь, ты у меня заговоришь!
Хоакин лишь беззвучно плакал и отчаянно шмыгал носом, пытаясь унять хлещущую из носа кровь. От нового удара голова его закачалась, как маятник.
— Я не перестану тебя колотить, пока не ответишь, ясно? Ну, это ты убил Пако?
— Нет!
— Тогда кто?
— Не знаю…
И снова кулак Мигеля врезался в физиономию Пуига…
— Кто?
— Ри… бера… Миралес…
— Почему?
— Я не знаю…
Мигель утратил всякую власть над собой. Странное наваждение внушило ему мысль, что сейчас перед ним не Хоакин Пуиг, а Виллар — убийца его отца и Пако Вольса. И полицейский принялся колотить его изо всех сил, с ненавистью, копившейся многие годы… Лицо Пуига уже потеряло человеческий облик, но Люхи не мог остановиться. Задыхаясь от ярости, он вдруг почувствовал, как кто-то тянет его за пиджак.
— Вы убьете его, сеньор… — донесся до полицейского слабый голос.
Мигель замер. Внезапно придя в себя, он вдруг осознал, что натворил. Пуиг медленно сполз на пол. Люхи едва не совершил преступление… Он глубоко вздохнул.
— Спасибо, мать…
Опустившись на колени возле Хоакина, Мигель с облегчением убедился, что слышит не хрип умирающего, а просто в носоглотке булькает кровь. Инспектор принес воды и вымыл лицо своей жертвы. Нос сломан, губы разбиты, глаза не открываются — страшно смотреть… Наверняка придется вызывать скорую помощь. Мигель влил Пуигу в рот изрядный глоток водки, которую вдова Каллас хранила в шкафу на всякий случай. Раненый пришел в себя. Люхи решил разыграть последнюю карту, хорошенько напугав Хоакина.
— Послушай, Пуиг, если я не отвезу тебя в больницу, ты сдохнешь… Понятно? Но я согласен доставить тебя к врачу только в том случае, если скажешь правду… Это Виллар приказал убить Пако Вольса?
— Да.
— Гомес в этом участвовал?
— Да.
— А ты?
— Нет.
— Где с ним расправились?
— На дороге в Манресу.
— Ты повторишь все, что сейчас рассказал, комиссару Мартину?
— Мне нужен врач…
— Ты поедешь к нему, если поклянешься повторить комиссару Мартину все, что сказал мне.
— Я… клянусь…
— Ладно, сейчас вызову машину.
В больнице, поглядев на удостоверение Люхи, не стали расспрашивать, что произошло с раненым. Полицейские знают, что делают, и не врачам вмешиваться в их дела. С доном Альфонсо дело обошлось не так гладко. Войдя в кабинет шефа, Люхи сразу сообщил:
— Пуиг в больнице.
— А что с ним такое?
— Я задал ему трепку.
Мартин ответил не сразу.
— По-моему, на сей раз ты переборщил, Мигель, — сурово заявил он, поднявшись. — Отдай мне свой жетон.
— Погодите. Пуиг признался мне, что это Виллар приказал убить Пако и что Рибера, Миралес и Гомес расправились с парнем на дороге в Манресу!
Дон Альфонсо, поглядев на Люхи, взял шляпу и устало заметил:
— Ради твоего блага надеюсь, что Пуиг это подтвердит.
Хоакин вернулся к жизни — раны перевязали, наложили швы. Здесь, в светлой палате, среди медсестер, он чувствовал себя в полной безопасности, а потому при виде Мартина и Люхи ничуть не испугался. Дон Альфонсо склонился над кроватью.
— Будьте любезны повторить мне все, в чем вы признались инспектору Люхи насчет убийства Пако Вольса, Пуиг.
— Разве я что-нибудь говорил инспектору?
— Поберегитесь, Пуиг! Вы влипли в очень неприятную историю. Единственный способ выпутаться — сказать правду.
— Но что я могу рассказать, сеньор комиссар? Я ничего не знаю о смерти этого Вольса, кроме того, что нам сообщил ваш инспектор в ту ночь, когда приходил ко мне в кабинет…
Мигель чуть не бросился на Хоакина, но Мартин, угадав его намерения, резко одернул инспектора:
— Довольно, Люхи!
Пуиг знал, что полицейские бессильны против него. Мигель попытался сбить с бандита излишнюю самоуверенность:
— Вдова Каллас подтвердит, что вы во всем сознались!
— Вы меня так избили, что я признался бы в чем угодно, лишь бы спасти свою шкуру…
Дон Альфонсо понимал, что Пуиг лжет, но никто не смог бы этого доказать, а кроме того, его помощник не имел ни малейшего права так зверски избивать свидетеля.
— Что вам понадобилось у вдовы Каллас?
— Я хотел спросить у нее, были ли друзья у Пако Вольса.
Вот и все, больше говорить не о чем. Комиссар подвел итог:
— Значит, вы отрицаете, что рассказали инспектору об убийстве Вольса?
— Еще бы!
При виде искаженного лица полицейского Пуиг возликовал. Дон Альфонсо повернулся к подчиненному.
— Пошли, нам тут больше нечего делать.
— А вы не запишете мою жалобу на инспектора, сеньор комиссар?
— Поскольку вы не на смертном одре, сами придете в управление и все изложите!
— Можете на меня положиться — не премину!
Полицейские направились было к двери, но Мигель неожиданно снова вернулся к постели Пуига.
— Может, вы и убедили комиссара, Пуиг, но вот доказать Виллару, что вы его не предали, будет гораздо труднее!
— Я вас не понимаю, инспектор.
— Виллар тоже сделал вид, будто ничего не понимает, когда я поделился с ним вашими признаниями об обстоятельствах гибели Пако Вольса…
Хоакин вдруг почувствовал, что над его головой нависла неотвратимая угроза.
— Вы… вы ходили к… дону Игнасио?
— Да, и Виллар, по-видимому, очень заинтересовался, узнав, что вы указали на него как на организатора убийства Пако Вольса… До свидания, Пуиг, я думаю, мы еще встретимся, так что выздоравливайте поскорее.
Дон Альфонсо ждал Мигеля в машине. До самого полицейского управления они не обменялись ни словом. Наконец, когда оба вошли в кабинет комиссара, последний сурово посмотрел на инспектора.
— А теперь тебе все же придется отдать мне жетон, Мигель. Я не могу поступить иначе… Ты избил человека, надеясь выжать из него показания… Я слышал, как ты сказал Пуигу, что передал его признания Виллару. Ты изменил долгу, Мигель.
Люхи положил значок на стол шефа.
— Мне очень жаль, Мигель, но ты сам не захотел меня слушать. Я приостанавливаю твои полномочия на неделю… Постарайся за это время взять себя в руки.
— Бесполезно, дон Альфонсо, я не вернусь.
— Ты с ума сошел? Не можешь же ты бросить любимую работу?
— Да, раньше я любил эту работу, а теперь больше не люблю, сеньор комиссар. С тех пор как я стал замечать, что полиция из страха перед сильными мира сего покрывает бандитов, а то и помогает им, всякая любовь прошла!
Дон Альфонсо окаменел.
— Думайте, что говорите, Люхи!
— Почему бы вам не посадить меня в тюрьму вместо Виллара, раз уж его вы не осмеливаетесь тронуть?
— Тебя ослепляет гнев, Мигель. Ты достаточно давно меня знаешь, чтобы…
— Да, я думал, что знаю вас, но вы — такой же, как другие! Какое кому дело до убийства парня вроде Пако? Осведомителей можно найти сколько угодно… И, тем более, кто станет тратить время на поиски убийцы какого-то старого фараона? Что за беда, если ему выпустили кишки! Но стоит отлупить подонка, состоящего под защитой Виллара, и вся барселонская полиция ополчается против мерзавца, который посмел тревожить покой дона Игнасио!
— Ты сам не понимаешь, что несешь, Мигель!
— Достаточно, сеньор комиссар, чтобы сказать вам, как я рад, что ухожу с опротивевшей мне работы! В отличие от других я не желаю идти в услужение к Виллару!
Дон Альфонсо изменился в лице. На него вдруг навалилась страшная усталость. Комиссар сидел в кресле совсем по-стариковски. Горло перехватило от обиды и боли, и лишь с огромным трудом он проговорил:
— Вот уж никогда бы не подумал, Мигель, что когда-нибудь ты меня оскорбишь…
— Весьма сожалею, но для меня справедливость — превыше дружбы, и поэтому я ухожу.
— А Конча?
— Уж она-то сумеет понять.
— А если нет?
— Тогда я буду продолжать один! Теперь, когда у меня есть подтверждение вины Виллара, пусть даже оно не имеет законной силы, я разделаюсь с этим бандитом! Слышите, сеньор комиссар, я с ним покончу!
Дон Альфонсо, вновь обретя прежнюю энергию, распрямился.
— Осторожнее, Люхи! Пока вы все еще состоите у меня в подчинении, я запрещаю вам вмешиваться во что бы то ни было! А нарушите приказ — никакая дружба не помешает мне арестовать вас!
— Разумеется! Мигеля Люхи гораздо проще посадить под замок, чем Игнасио Виллара!
— Уходите! И имейте в виду, что только моим дружеским чувствам к вашей жене вы обязаны тем, что можете свободно покинуть этот кабинет!
Мартин слушал, как в глубине коридора затихают шаги Мигеля… Господи, до чего глупая штука жизнь! Он снял трубку и позвонил жене предупредить, что задерживается на работе и не вернется к обеду. На самом деле дон Альфонсо пока просто не мог объяснить, что потерял лучшего друга.
Едва выйдя на улицу, Люхи почувствовал, что все недавнее возбуждение улетучилось, и ему стало стыдно. Люхи хотелось вернуться, попросить у дона Альфонсо прощения за все те гадости, которые он наговорил, и объяснить, что на самом деле ничего подобного не думает. Но самолюбие не позволило так просто все уладить. Нет, за свои поступки следует отвечать! Теперь Мигель остался один против дона Игнасио. Чтобы поразмыслить, он вошел в кафе на площади Каталунья. Теперь придется действовать особенно осторожно, поскольку помимо людей Виллара могут возникнуть осложнения с бывшими коллегами. Пуиг сказал, что непосредственных убийц Пако — трое, но единственный, истинный виновник все же Виллар. И Мигель поклялся себе не знать отдыха, пока не защелкнет наручники у него на запястьях и не отведет в тюрьму по обвинению в убийстве.
Необходимо внести смятение в ряды противника и заставить его наделать ошибок, и Люхи вспомнил, что он сказал на прощанье Пуигу. Почему бы и в самом деле не сходить к Виллару и не передать ему признания Хоакина? Если дон Игнасио поверит Мигелю, то наверняка попытается навеки заткнуть Пуигу рот. Возможно, на этом он и поскользнется.
Люхи вошел в комнату секретарши дона Игнасио. Та уже собиралась уходить. Мигель вдруг подумал о фотографии, которая все еще лежала у него в кармане, и Люхи попросил девушку оказать ему небольшую услугу — напечатать письмо. Хуанита колебалась, ссылаясь на то, что сеньору Виллару может не понравиться, если она станет работать на чужих. Мигель улыбнулся.
— Что ж, сеньорита, напечатайте хотя бы одну фразу: «Господин комиссар, я знаю, кто послал Игнасио Виллару письма с вопросом, помнит ли он о Пако Вольсе». Но, я вижу, вы не печатаете, сеньорита?
Хаутина испуганно смотрела на Мигеля.
— Повторяю фразу и советую поторопиться, поскольку лучше не привлекать внимание вашего патрона. Итак, начинайте: «Господин комиссар, я знаю, кто посылал Игнасио Виллару письма с вопросом, помнит ли он о Пако Вольсе».
Хуанита как автомат отбарабанила предложение под его диктовку. Поставив точку, девушка застыла, и Люхи пришлось самому вытащить из машинки лист бумаги. Он поглядел на безукоризненно грамотный текст и сунул бумагу в карман.
— Ждите меня в «Пуньялада», в расео де Грасиа, — приказал инспектор. — Нам необходимо поговорить… И заберите все свои вещи — сюда вы больше не вернетесь.
— Вы меня арестуете?
— Да нет же, не бойтесь! Наоборот, это мера предосторожности. До скорой встречи!
И Мигель без доклада вошел в кабинет Игнасио Виллара.
Когда инспектор толкнул дверь, дон Игнасио трудился над черновиком письма в аргентинское посольство — он хотел добиться видного места на тамошнем рынке, поскольку это сулило немалые прибыли. Прежде чем Виллар успел возмутиться, Люхи бросил:
— Дело в шляпе, Виллар!
— Что такое?
— У нас есть доказательство, что вы приказали Рибере, Миралесу и, несомненно, Гомесу убить Пако Вольса.
— Правда? А позвольте полюбопытствовать, где вы его отыскали?
— Мы не искали, дон Игнасио, нам его принесли.
— Вы в очередной раз блефуете, инспектор!
— Выслушав признания Хоакина Пуига, в управлении так больше не думают.
Удар попал в цель, и Виллар как-то сразу сник. В полной растерянности, он тщетно пытался скрыть свое замешательство от полицейского.
— Я уверен, вы лжете! Не может быть, чтобы Пуиг…
— Вас предал? Увы, дон Игнасио, своя шкура всегда дороже. Вам придется вместе с Гомесом прогуляться с нами на дорогу в Манресу.
Это уточнение совсем доконало Виллара. Приходилось смотреть правде в глаза: негодяй Пуиг все выложил!
— Я вам не верю! — без особой уверенности крикнул он. — Вы с доном Альфонсо нарочно придумали такую хитрость, чтобы уклониться от поисков убийц Риберы и Миралеса! А кроме того, где Пуиг?
— В больнице… Что ж вы хотите? Мне пришлось долго убеждать парня перейти на нашу сторону.
— Так вы пришли меня арестовать?
— Пока нет — Пуиг еще не в состоянии подписать показания.
— Тогда что привело вас сюда?
— Хотелось поглядеть на вашу физиономию, когда вы узнаете правду. До скорого свидания, дон Игнасио. Я сам отвезу вас в тюрьму.
Теперь, когда ловушка расставлена, надо лишь подождать, пока она сработает. Если Виллар и в самом деле таков, как думает Мигель, он непременно попытается заставить Пуига умолкнуть. Останется только застукать его с поличным, и тогда дону Альфонсо придется принести ему, Люхи, извинения.
Хуанита ждала у самой двери «Пуньялада». Девушка выглядела подавленной. Мигель сел напротив и заказал официанту поскорее принести обед на двоих. Хуанита, казалось, ничего не слышит.
— Да ну же, детка, встряхнитесь! Вы совершили не такой уж серьезный проступок. Зачем вы отправили эти письма?
— Чтобы отомстить за Пако.
— И давно вы работаете у Виллара?
— Несколько дней.
— Вы устроились туда после исчезновения Пако?
— Да.
— А зачем вы пошли секретаршей в контору дона Игнасио?
— Пако работал в кабаре, принадлежащем дону Игнасио, и я надеялась узнать, что с ним случилось… Именно так я и узнала о смерти Пако…
— Почему вы не обратились в полицию?
— А какой смысл?
Мигель вполне разделял скептицизм Хуаниты, а потому не стал спорить. Вытащив из кармана фотографию, которую он взял на калле Хайме Хираль, полицейский протянул ее девушке.
— Счастье еще, что я пришел к вашей матери раньше Пуига. Как и я, он бы сразу узнал вас, и тогда вы вряд ли дожили бы до старости. Осторожности ради вам следовало по крайней мере печатать письма Виллару не на своей машинке. Но, так или иначе, я запрещаю вам возвращаться к Виллару. Пошлете ему записку с объяснением, что врач настоятельно рекомендует вам отдохнуть пару недель. А за это время немало воды утечет. Вы меня поняли?
— Да.
— И сделаете так, как я сказал?
— Да.
Принесли заказ, и некоторое время они молча ели, потом Люхи спросил:
— Вы знали, что Пако работает на меня?
— Нет, только — что он взял на себя какую-то трудную задачу.
— Вы любили Пако, Хуанита?
Девушка подняла на инспектора полные слез глаза.
— Я и сейчас его люблю.
— А он? Он любил вас?
— Я никогда об этом не спрашивала, а Пако не говорил…
Глава IX
Хоакина Пуига терзал страх, но он ни с кем не мог поделиться своими опасениями.
В первые минуты после ухода полицейских Пуиг гордился собой. Как и Игнасио Виллар, он посмеялся над фараонами! Полностью доверяя дону Игнасио, управляющий кабаре не сомневался, что тот сумеет защитить его от мести Мигеля Люхи.
Раны уже почти не причиняли Хоакину страданий, и он мог наслаждаться покоем в больничной палате, в полной безопасности от каких бы то ни было ударов судьбы. Пытаясь поставить себя на место инспектора Люхи, Хоакин соображал, что бы он сам предпринял против сеньора Пуига, который так мастерски обвел его вокруг пальца. Разнежившись, Хоакин воображал, как его врага распекает комиссар, как, вне себя от злости и досады, тот возвращается домой, а потом снова идет в баррио и в бессильной ярости бродит вокруг кабаре… И тут Пуиг вспомнил нечто такое, от чего у него кровь застыла в жилах: Мигель Люхи ходил к Игнасио Виллару и рассказал о его, Хоакина, предательстве. Не вырви у него инспектор кое-какие подробности убийства Вольса, дон Игнасио еще мог бы счесть это очередной ловушкой полицейских, но теперь… У Пуига тут же пропало желание смеяться над поражением инспектора. Представив себе, как бесшумно умеет подкрадываться Гомес и как ловко тот управляется с ножом, Хоакин невольно содрогнулся. Прежде дон Игнасио, может, и решился бы на войну с полицией, но теперь — бесспорно нет. Дон Игнасио стареет, а потому готов пожертвовать кем и чем угодно, лишь бы его оставили в покое. А рассказав Мигелю Люхи об убийстве Пако Вольса, Пуиг стал смертельной угрозой спокойствию Виллара…
Придя к этому заключению, Хоакин пришел в такой ужас, что мгновенно взмок, словно у него начался приступ малярии.
Едва закрыв за собой дверь, Мигель объявил Конче:
— Вот и все, querida mia[88]… Я больше не служу в полиции… Дон Альфонсо выставил меня за дверь.
— Окончательно?
— Окончательно… Прости меня.
— А за что он тебя прогнал, Мигель?
Люхи рассказал о столкновении с Пуигом и как он верил, что наконец добился успеха, пока Хоакин не отрекся от прежних показаний.
— Я нанес ему тяжкие телесные повреждения, понимаешь, Конча? Дон Альфонсо не мог поступить по-другому.
— Но ведь комиссар Мартин — твой друг, Мигель, почему же он не закрыл на это глаза?
И тут Люхи пришлось признаться жене, что он жестоко оскорбил комиссара.
— Ты был не прав, Мигель… Следовало бы вспомнить, что у дона Альфонсо нет таких веских причин ненавидеть эту банду, как у тебя.
— Надеюсь, ты все же не хочешь, чтобы я попросил прощения?
— Мой муж не может унижаться.
Мигель обнял Кончу и приник к ее губам долгим поцелуем. Поведение жены внушало ему не только гордость, но и успокаивало — Мигель понял, что может рассчитывать на ее поддержку при любых обстоятельствах. Конча осторожно высвободилась.
— А что теперь, Мигель?
— Мы уедем из Барселоны, поскольку здесь я не могу взяться за первую попавшуюся работу… Но мы сделаем это не раньше, чем я исчерпаю все возможности покончить с Вилларом. Ты согласна?
— Я помогу тебе!
Представив, как суровая Конча сражается с бандитами, Мигель улыбнулся.
Люхи рассказал жене, каким образом он выяснил, что именно Хуанита, платоническая возлюбленная Пако, посылала Виллару так беспокоившие его письма с одной-единственной фразой: «Вы помните Пако?» А потом, до самого вечера они разрабатывали план операции. Супруги решили, что самое разумное — снова взять за грудки Пуига и заставить его еще раз исповедаться, но на сей раз — в присутствии дона Альфонсо. Добившись этого, Мигель не только покончит с Вилларом, но Мартину не останется ничего другого, как вновь принять Люхи на службу, да еще с поздравлениями. Мигель позвонил в больницу узнать, когда Хоакина отпустят домой, и выяснил, что, поскольку состояние больного более не внушает никаких опасений, его, несомненно, выпишут рано утром. За вечерним кофе Люхи вдруг пришло в голову, что Пуиг наверняка догадывается, что у дверей больницы его встретят не только полицейские (парень достаточно умен и, безусловно, сообразил, что комиссар Мартин не поверил ни единому его слову), но и, вне всяких сомнений, люди Виллара. При таком раскладе вполне возможно, что Хоакин попытается удрать ночью и спрятаться. Тогда ищи ветра в поле! И Мигель решил провести ночь, притаившись у входа в больницу Сан-Пабло.
С наступлением темноты Пуиг страстно возжелал лишь одного — чтобы эта ночь никогда не кончалась. В голове, как кинолента, прокручивалась вся бездарно прожитая жизнь. Ни среди порядочных людей, ни в банде Виллара Хоакину так и не удалось пробиться в первые ряды. В пятьдесят два года у него не осталось никаких надежд. Да и на что надеяться человеку с совершенно разрушенным здоровьем и таким больным желудком, что невозможно ни толком поесть, ни выпить? Правда, он отложил на черный день несколько тысяч песет, но с такой суммой далеко не уйдешь. Без Виллара Хоакина ждет гибель. Один он не сможет организовать подпольный бизнес, который бы принес ему достаточно денег, чтобы продолжать вести безбедное существование. А сунуться в другую банду — и думать нечего, все достаточно хорошо знают возможности Пуига, чтобы взять его на работу. Как ни верти, Хоакину приходилось признаться себе, что без дона Игнасио он пустое место. Представив, что однажды он может снова попасть в эту больницу, но уже среди других нищих, подобранных на тротуаре, Пуиг содрогнулся и беззвучно заплакал.
Устроившись в кресле напротив стола шефа, Эстебан Гомес медленно потягивал сигару и сквозь полуопущенные веки наблюдал, как Виллар крупными шагами меряет комнату. Теперь уже андалусиец не сомневался, что его патрон потерял почву под ногами. Он хорошо помнил, как растерялся дон Игнасио, когда в кабаре пришел инспектор Люхи. Правда, потом Виллар сумел взять себя в руки, но воспоминание о его перекошенном от страха лице вставало перед мысленным взором Гомеса, как неотвратимая реальность. Виллар трусил, а Эстебан терпеть не мог трусов. Выслушав рассказ об измене Пуига, он вздрогнул, но ничем не выдал своего волнения. Похоже, дело начинает портиться. Гомес продолжал рассеянно слушать Виллара, но сам уже прикидывал, как бы унести ноги, да побыстрее. Дон Игнасио вдруг перестал метаться, как медведь в клетке, и замер перед Эстебаном.
— Если Пуиг снова попадет к фараонам в лапы — нам конец. Они заставят его все выложить.
Гомес кивнул.
— Он не должен им попадаться!
Андалусиец снова кивнул.
— Вы меня поняли, Гомес?
— Разумеется, понял, дон Игнасио. Вы хотите, чтобы я его убил.
— А вы видите другое средство?
— Нет.
— Значит, договорились?
— Не совсем.
— Что вы хотите этим сказать?
— Сколько вы можете предложить, чтобы я избавил вас от Пуига?
— Но, послушайте, Гомес, тут речь идет не только о моей, но и о вашей собственной свободе!
— В таком случае, почему бы вам не прикончить его своими руками?
— Я несколько поотвык от такой работы.
— А кроме того, если хорошенько подумать, у меня складывается впечатление, что инспектора Люхи куда больше интересуете вы, нежели я…
— И что это значит?
— С вас пятьдесят тысяч песет.
— Вы что, рехнулись?
— И билет на самолет в Буэнос-Айрес.
— Хотите удрать?
— А по-вашему, сейчас не самое подходящее время? Разрешите дать вам добрый совет? Так вот, и для вас тоже разумнее всего — последовать моему примеру!
— Я еще ни разу ни от кого не удирал!
Эстебан пожал плечами.
— Все когда-нибудь приходится начинать, дон Игнасио.
— Но пятьдесят тысяч песет!
— У вас в сто раз больше.
— Вы хотите приставить мне нож к горлу, Гомес!
— Не вам, сеньор, а Хоакину Пуигу!
— А я-то считал вас своим другом!
— Так оно и есть, дон Игнасио, так и есть, а потому вы, конечно, не захотите потерять надежного, да еще такого полезного союзника из-за каких-то пятидесяти тысяч?
Виллар даже не пытался скрыть, что не в силах бороться. В нем что-то вдруг бесповоротно сломалось. Дон Игнасио неожиданно обнаружил, что вокруг — одни враги: предатель Пуиг, шантажист Гомес и Нина, чье поведение остается пока не вполне понятным… И тут он, подобно Эстебану, подумал о бегстве. Но поедет ли Нина вместе с ним? А кроме того, слишком поздно начинать жизнь заново в другой стране, где придется противостоять более молодым противникам… Дикие звери и то возвращаются умирать в родные края, и дон Игнасио знал, что не сможет жить вне Барселоны. Естественный ход вещей вернет его в «баррио чино», откуда он выбрался столько лет назад. И в Вилларе вдруг заговорило самолюбие. Все его бросают? Ну что ж, тем хуже, он и один готов противостоять бегущей по пятам своре, а если и погибнет, то, во всяком случае, будет защищаться до последнего! И главным его оружием станет не грубая сила, а хитрость. Важнее всего сбить преследователей со следа. Придется здорово попетлять, но сейчас основная задача — устранить непосредственную угрозу в лице Хоакина Пуига, а для этого ему нужен Гомес. Он, Виллар, уже не может лично браться за подобное дело. Стало быть, придется выполнить требования андалусийца, а уж потом свести с ним счеты.
— Договорились, Эстебан, — вздохнул он. — Пусть будет пятьдесят тысяч песет… Да и билет в Буэнос-Айрес достать несложно. Хотите получить аванс?
— Не надо, дон Игнасио.
— Так вы мне доверяете? Вот удивительно!
— Почему, сеньор? Вы меня достаточно хорошо знаете, чтобы понимать: если, паче чаяния, вы не пожелаете расплатиться за сделанную работу, я просто-напросто отправлю вас следом за Хоакином.
Всего несколько дней назад никто бы не осмелился разговаривать с Игнасио Вилларом таким тоном. Дерзость подручного со всей очевидностью показывала дону Игнасио степень его падения. Однако про себя он поклялся, что Эстебан заплатит за всех остальных. А пока приходится прятать ярость под улыбкой.
— И когда вы рассчитываете выполнить это… поручение?
— Придется подождать, пока Пуиг выйдет из больницы.
— Верно…
И Виллар, в свою очередь, позвонил в справочную Сан-Пабло, дабы выяснить, когда сеньор Пуиг вернется домой.
— Он переночует в больнице, так что у вас есть время, — заявил дон Игнасио, повесив трубку.
— Вы уверены?
— Но старшая медсестра сказала, что…
— Видите ли, сеньор, — небрежно перебил его Гомес, — на месте Пуига я бы пораскинул мозгами и наверняка сообразил, что утром у двери меня будут поджидать полицейские, жаждущие узнать дополнительные подробности.
— И что же?
— А то, что, поскольку больница — не каталажка, я бы нашел способ тихонько улизнуть ночью.
Эстебан встал и, лихо надвинув шляпу на правое ухо, пошел к двери. На пороге он обернулся.
— Учитывая такую возможность, дон Игнасио, я проведу эту ночь у ворот Сан-Пабло.
— Минутку, Гомес! Прежде чем предпринимать что бы то ни было, привезите Пуига в «Тибидабо». Надо поточнее узнать, что он понаболтал Люхи. Возьмите мою машину. Пусть Фелипе останется за рулем — он очень тактичный парень. Если Хоакин сумеет достаточно убедительно оправдаться, вы сразу же переправите его на «Симона Боливара», который на рассвете уходит в Ливерпуль. А там уж пусть выкручивается как знает.
— А если его объяснения нас не удовлетворят, сеньор?
— Фелипе доставит вас обоих куда скажете.
— Я уверен, что объяснения Хоакина меня не удовлетворят, дон Игнасио.
Ему во что бы то ни стало надо добраться до дона Игнасио и убедить патрона, что его, Пуига, совершенно нечего опасаться. И сделать это надо прежде, чем Виллар подошлет к нему убийц. Эта мысль не давала Хоакину покоя. Страх настолько парализовал его мозг, что он даже не мог хорошенько обдумать, каким образом поскорее увидеться с доном Игнасио. Захлебываясь от беззвучных рыданий, Пуиг лишь кусал одеяло.
Когда дон Альфонсо рассказал жене о сцене, происшедшей между ним и Мигелем Люхи, которого временно пришлось отстранить от должности, пока сверху не пришло распоряжение о, несомненно, еще более суровых мерах, которые, очевидно, навеки закроют парню дорогу в полицию, у Мерседес пропал ее прекрасный аппетит. Еще больше, чем об испорченной карьере инспектора, сеньора Мартин сокрушалась о судьбе Кончи, которая, право же, не заслуживала подобного наказания. Слушая объяснения супруга и вглядываясь в его расстроенное лицо, она раздумывала, каким бы образом примирить обоих мужчин и сохранить подругу.
— А не чересчур ли ты был суров, Альфонсо?
— Я выполнил свой долг, Мерседес.
— Конечно… но не резковато ли?
— На моем месте кто угодно действовал бы еще решительнее.
— Но другие ведь не знают Мигеля Люхи так хорошо, как ты!
— Если бы ты только слышала, чего он посмел мне наговорить!
— Гнев — плохой советчик.
— Но я же как-никак его начальник!
— Только по службе, Альфонсо…
— А это разве не служебное дело?
— Я не уверена… Будь тут замешан кто-то другой, а не убийца Пако и его отца, Люхи ни за что так бы не поступил, и ты это прекрасно знаешь!
Комиссар проворчал что-то
неопределенное, и Мерседес почувствовала, что выигрывает партию.
— Вы, католанцы — и я не устаю твердить тебе это много лет — слегка отстали в развитии.
Дон Альфонсо сделал вид, будто принял замечание жены всерьез.
— Отстали? Это от кого же, скажи на милость? Уж не от вас ли, андалусийцев?
— Совершенно верно! Вот мы никогда не оставляем оскорбление безнаказанным!
— А для чего тогда, по-твоему, полиция?
— Наказывать обидчиков вместо тех, у кого не хватает пороху делать это самостоятельно!
— Неудивительно, что ты так говоришь… Если родился и вырос среди дикарей…
— Ну да, а вы, северяне, только и мечтаете получить одну из этих дикарок в жены!
Супруги обожали подобные перепалки, и Мерседес нарочно избрала обходной путь. Прежде чем перейти в наступление, следовало вернуть Альфонсо доброе расположение духа и дать ему расслабиться.
— Скажи, мой Альфонсо, — вдруг совсем другим тоном спросила она. — А ты подумал о бедняжке Конче? Как она, должно быть, страдает… ведь теперь все их будущее испорчено…
— Сама виновата! Поискала бы супруга поуравновешеннее!
— Но ты-то женился на мне! Думаешь, коллеги тебя не жалеют за то, что связался с такой сумасшедшей?
Растроганный комиссар встал и расцеловал жену в пухлые щеки.
— Ну, я — другое дело. И потом, я же тебя люблю!
— Так ты, что ж, воображаешь, будто она его не любит, а?
— Знаю, Мерседес, знаю… Но, послушай, Мигель меня пугает…
— Пугает?
— Парень не в себе… Это сплошной комок ненависти… В любой момент он способен превратиться в убийцу, и я отстранил его от работы прежде всего из этих соображений… Вот только не уверен, что даже это остановит Мигеля.
— Не лучше ли тогда держать его при себе? Тогда он хоть будет под наблюдением.
Дон Альфонсо с улыбкой посмотрел на жену.
— Ловко ты это провернула, Мерседес… Так ты хочешь, чтобы я ему позвонил?
— Как будто ты сам этого не хочешь, Альфонсо!
— И что же, мне просить прощения?
— Не болтай глупостей! Просто вызови для окончательного объяснения.
— Видимо, мне на роду написано никогда ни в чем тебе не отказывать!
Глубоко вздохнув, он пошел к телефону, но в глубине души был очень доволен. Трубку сняла донья Конча. Мерседес пыталась по лицу мужа угадать, что ему отвечают, и по хмурому виду Мартина сразу поняла, что ее надежды на то, что все уладится, не оправдались. Сухо попрощавшись с доньей Кончей, Мартин бросил трубку и повернулся к жене.
— Ну, что я тебе говорил? Мигель совсем спятил! Знаешь, где он сейчас? У больницы Сан-Пабло! Караулит Хоакина Пуига. Мигель, видите ли, не теряет бдительности и подозревает, что тот попытается удрать сегодня ночью!
— Чего ради он там ждет?
— Чтобы снова отколотить Пуига, черт возьми, и снова вынудить к признаниям! Люхи вполне способен его доконать.
— А что говорит Конча?
— Она одевается. Хочет попробовать урезонить мужа или по крайней мере повиснуть у него на шее и помешать совершить непоправимую глупость.
Комиссар Мартин снова снял трубку и, позвонив в управление, приказал двум дежурным инспекторам незаметно подойти к больнице Сан-Пабло, найти инспектора Люхи и, не показываясь, не сводить с него глаз, пока тот не вернется домой, а потом явиться с докладом, да не в управление, а на квартиру. Наконец, к величайшей досаде дежурной медсестры, Мартин тоже решил выяснить, когда Хоакин Пуиг покинет пределы больницы. Медсестра решила, что судьбой этого господина интересуется чересчур много народу.
В конце концов Хоакин Пуиг погрузился в какое-то странное забытье. Страх улегся, но предварительно успел измотать его, как долгая пробежка. В палате, где Хоакину предстояло провести последние несколько часов, царил полумрак. В неверном свете ночника забывшиеся тревожным сном больные при каждом движении отбрасывали на стены самые фантастические тени. Безмолвие и духота нагоняли сон. Внезапно какой-то чуть слышный стон вернул Пуига к действительности. Сначала он даже не сообразил, где находится, потом сразу вспомнил об Игнасио Вилларе, и его вновь охватило отчаяние. В голове промелькнула мысль об американских гангстерах времен Аль Капоне, когда врагов убивали даже в клинике. Испуганно поглядев на дверь, Хоакин чуть не вскрикнул. Но вошла старшая медсестра, совершавшая ночной обход.
Больные и побаивались, и любили эту крепкую женщину. Сестра подошла к каждой постели, поговорила с теми, кому никак не удавалось уснуть, одним поправляла подушки, других успокаивала и наконец подошла к Хоакину. Заметив испуганный взгляд и вспотевшие виски, сестра спросила, не нужно ли ему что-нибудь. Но Пуигу никто не смог бы дать то, в чем он больше всего нуждался. И Хоакин лишь покачал головой. Добрая женщина решила порадовать больного:
— Да ну же, вам осталось всего несколько часов, а утром вернетесь домой… И как не стыдно драться в вашем-то возрасте, тем более, у вас, видно, очень много друзей! Во всяком случае, судя по телефонным звонкам… Просто удивительно, сколько людей хотят знать, в котором часу вас выпишут! У меня такое впечатление, что у входа вас встретит целая процессия!
Пуиг не видел, как она ушла, и не слышал ободряющего смеха. Так его поджидают, и завтра, переступив порог, Пуиг попадет в лапы наиболее расторопного из этой своры! В подобной ситуации Хоакин готов был предпочесть полицию. Он отлично знал, что не выдержит допросов, особенно если за дело примется Люхи, но все же лучше тюрьма, чем нож Гомеса! А кроме того, почему бы не попытаться шантажировать дона Игнасио? Достаточно передать на волю, что, если тот не придет на помощь, он, Пуиг, все выложит. Правда, выйдя на свободу, Хоакин снова угодит в объятия Виллара и тот заставит его дорого заплатить за эту торговлю. Пуиг так вспотел, что простыни прилипали к коже. Он ни разу не сидел в тюрьме, зато навещал там менее удачливых приятелей. От этих посещений в памяти осталось впечатление ужасающих грязи, тесноты и уродства. И какого черта он нанял этого Пако Вольса? С него-то и начались все неприятности! Но кто ж мог догадаться? Годы и годы тюрьмы… до самой смерти! От одной мысли об этом у Пуига застучали зубы. Да никогда он не вынесет такого существования! Все равно что превратиться в зверя в зоопарке… Нет, пока его не схватили, надо повидаться с доном Игнасио. Он удерет еще до рассвета, а те, кто явится подстерегать у дверей больницы, пускай охраняют пустую клетку! Виллар всегда относился к нему по-дружески. Он, Хоакин, все объяснит. Виллар обязательно поверит и даст денег, чтобы сбежать от полиции. Если удрать пораньше, можно еще поймать такси и добраться до «Тибидабо», а там подождать дона Игнасио. И потом, Нина, конечно, поможет уговорить патрона. Он, Пуиг, всегда хорошо обходился с Ниной и считал ее хорошей девушкой. Но тут на память пришло очень неприятное воспоминание, и Хоакин обложил себя последними словами. Какого черта он выболтал Виллару, что певицу, кажется, очень интересует этот Пако Вольс? Правда, дон Игнасио сам его спросил, и все-таки лучше бы придержать тогда язык.
Потихоньку, стараясь не шуметь, он стал собирать вещи. Где-то в дальнем помещении часы пробили одиннадцать. До часу ночи лучше даже не пытаться удрать. И Хоакин, стараясь дышать спокойно, стал выжидать, когда же наступит время пустить в ход последнюю карту.
Мигелем владела одна навязчивая мысль — изловить Пуига и заставить его повторить прежние показания при доне Альфонсо, а потому он не заметил, как две фигуры скользнули в дверной проем напротив больницы. Инспекторы Муньиль и Валербе не понимали, с чего вдруг им дали такое задание, но оба достаточно давно работали в полиции и привыкли сначала выполнять приказ, а уж потом задавать вопросы. Заметив своего коллегу Люхи, к которому оба инспектора не питали ни дружбы, ни вражды, они думали только о том, как бы не упустить его из виду. Валербе оставил товарища сторожить, а сам вернулся в управление, пообещав через четыре часа сменить Муньиля на посту, если, конечно, тот по-прежнему не двинется с места. В противном случае Муньиль заскочит в управление и предупредит коллегу, что никуда ехать не надо.
Люхи раздумывал, верен ли его расчет. Если он прав, никто не будет ставить палки в колеса и он успеет достаточно напугать Пуига, чтобы заставить следовать за собой. В противном случае он проведет лишь еще одну бессонную ночь. Ладно, не впервой. Мигель закурил и, в свою очередь, занял наблюдательный пост.
Около полуночи с бесконечными предосторожностями на место прибыл Эстебан Гомес. Однако, привыкнув к ночным вылазкам, прежде чем выйти на открытое пространство перед больницей, парень долго наблюдал за ближайшими домами. Благодаря этому он и заметил огоньки сигарет Люхи и Муньиля. Андалусиец улыбнулся. Ему, конечно, и в голову не пришло, что эти двое не заодно. Эстебан сразу решил, что предусмотрительный Мартин расставил своих людей так, чтобы они сгребли Хоакина в охапку, едва он высунет нос из больницы. И Гомес с симпатией подумал о доне Альфонсо, который, как и он сам, сообразил, что Пуиг попробует удрать, не дожидаясь утра. О том, чтобы мериться силами с представителями закона, не могло быть и речи. Эстебан попытался представить себе, что сделает Пуиг, если заметит, что его поджидают. Хоакин достаточно хитер, чтобы не совать голову в львиную пасть. Поскольку другого выхода у него все равно не было, андалусиец решил положиться на сообразительность добычи, и спрятался в тени.
Ровно в час ночи Пуиг бесшумно соскользнул с кровати. Стараясь не слишком размахивать руками, он быстро оделся. Время от времени Хоакин напряженно замирал, прислушиваясь, не проснулся ли кто-нибудь из больных и не идет ли по коридору медсестра. Наконец Пуиг подхватил ботинки и на цыпочках подкрался к двери. К счастью, благодаря хорошо смазанным петлям она не скрипнула. Вестибюль освещала лампа, но Хоакин не увидел ни души. Сдерживая дыхание, он в одних носках спустился по лестнице и чуть ли не ползком пробрался мимо ординаторской, где спал дежурный врач. У парадной двери Хоакин выругал мощную лампу — из-за нее его силуэт китайской тенью будет выделяться на пороге. В привратницкой слабо мерцал синий ночник. Пуиг снова встал на четвереньки, надеясь, что, даже если цербер еще не заснул, ему удастся проскочить незамеченным. Сердце отчаянно колотилось.
Хоакин добрался до калитки, прорезанной в деревянной панели ворот. Ну, теперь — или пан, или пропал! Если дверь заперта, волей-неволей придется будить привратника, а тот, естественно, не выпустит его без объяснений. Стараясь унять дрожь в руках, Пуиг тихонько потянул створку, и дверца приоткрылась. Хоакин глубоко вздохнул. Ему не терпелось поскорее оказаться на улице, но осторожность подсказывала, что лучше несколько унять нетерпение. И Пуиг стал вглядываться в ночь сквозь щель чуть приотворенной двери. Прошло несколько минут, и Хоакин уже собирался ступить на тротуар, как вдруг заметил огонек сигареты. Он замер. Значит, его уже поджидают! Враги угадали его намерения. Сначала Пуиг так перепугался, что чуть не побежал обратно, в палату. Ему хотелось кричать от злости. Все шло так хорошо! Ему почти удалось сбежать, не привлекая ничьего внимания, даже дверь оказалась открытой… И вдруг — на тебе! Такого его нервы выдержать не могли. Хоакину хотелось упасть прямо здесь, на цементированной дорожке и больше не двигаться с места, но он взял себя в руки и так же осторожно снова закрыл дверцу. С теми же предосторожностями Хоакин миновал все опасные места и снова подошел к лестнице, по которой недавно спускался, окрыленный надеждой. У Хоакина замерзли ноги и ужасно хотелось чихнуть. Он стукнул себя кулаком по носу — любой звук мог выдать его присутствие. Пуиг решил выйти во внутренний дворик и поискать спасения там. Дверь склада была заперта, несколько других — тоже, но в конце концов удача улыбнулась Пуигу. Рядом с часовней он обнаружил особый вход, предназначенный для поставщиков. Дверь тоже заперли на ночь, но замок оказался достаточно простым, и Хоакин быстро с ним справился. В свое время Пуиг не раз имел дело с замками, и теперь впервые за долгие годы, утекшие с тех пор как Хоакин был всего-навсего мелким воришкой, прежняя практика ему пригодилась.
И снова он долго вглядывался в темноту, прежде чем решиться покинуть убежище. Все казалось спокойным. Увидев кошку, без опасений бредущую по улице, Пуиг окончательно решил, что поблизости никого нет. Оставив за собой приотворенную дверь, Хоакин надел ботинки и быстро пошел прочь. Теперь он больше не испытывал страха и даже гордился собой. Фараоны могут торчать у ворот сколько влезет! Но, когда Хоакин почти миновал затененную часть улицы, на плечо ему легла рука, и чей-то голос шепнул у самого уха:
— Поздравляю, Пуиг…
Хоакин не стал кричать. Он застыл как громом пораженный и пришел в себя, лишь когда Гомес взял его под руку.
— Пойдемте, Пуиг, патрон хочет вас видеть.
Хоакин безропотно позволил отвести себя к машине, стоявшей с потушенными фарами в нескольких метрах оттуда, и без сопротивления забрался на сиденье. Как только они оказались внутри, машина рванула с места.
— Куда вы меня везете? — прерывающимся голосом спросил Пуиг.
— В «Тибидабо».
На виллу дона Игнасио! В сердце Хоакина снова забрезжила надежда. Виллар не станет заманивать его в ловушку, и, захоти он избавиться от Пуига, Гомес наверняка прикончил бы его на месте. Ведь Пуиг даже не заметил, как он подошел! В конце концов, возможно, приказав отвезти его к себе на виллу, дон Игнасио пошел навстречу желаниям самого Хоакина, и нечего портить себе кровь. Они объяснятся, и его, Пуига, отправят на травку, пока полицейские не перестанут интересоваться его особой. Решив, что он спасен, Хоакин расслабился.
Дон Игнасио принял их у себя в кабинете. Пуига он встретил с обычным дружелюбием, и, как только слуга, налив каждому виски, удалился, спросил:
— Судя по тому, что мне рассказали, да и по вашему лицу, Пуиг, вас постигли крупные неприятности?
— К счастью, я с ними справился, дон Игнасио.
— А что, если вы расскажете обо всем поподробнее?
Хоакин начал рассказ довольно сдержанно, но сочувственные лица слушателей воодушевили его, и, осмелев, Пуиг заговорил так пылко, словно речь шла о ком-то другом. Дольше всего он распространялся о чудовищной жестокости инспектора. Дон Игнасио кивнул и вкрадчиво заметил:
— Этот полицейский — просто зверь… Хорошо еще, что он не убил вас, Хоакин. Но вы, естественно, не могли долго сопротивляться?
— Естественно.
— И что же он хотел знать?
— Да все то же: что мы сделали с Пако Вольсом.
— И вам пришлось рассказать?
— Я держался, сколько мог.
— Охотно верю… Но что именно вы ему сказали? Вы же понимаете, Пуиг, мы должны это знать, чтобы избежать возможных ловушек…
— Что ж, дон Игнасио, пришлось рассказать, как мы покончили с Пако на дороге в Манресу.
— Ясно… и он заставил вас признаться, что это я дал приказ о… казни?
— Боюсь, что да, дон Игнасио.
— А вот это очень скверно…
— Но при комиссаре Мартине я все отрицал!
— Догадываюсь… Вот что, Пуиг, я думаю, вам лучше на какое-то время исчезнуть…
— Я тоже так считаю, дон Игнасио.
— Вот и прекрасно… Гомес отвезет вас в «баррио чино», а рано утром вы отправитесь в Англию на «Боливаре»… В «Ангелах и Демонах» вас ждет чек на двадцать тысяч песет — я положил его вам на стол. Капитан корабля предупрежден, он поменяет вам деньги — я не успел заехать в банк… Ну, а там, в Англии, ждите дальнейших распоряжений…
Виллар встал и протянул Пуигу руку. Гомес счел это излишним — не стоит пожимать руку тому, кого собираешься прикончить.
Хоакин Пуиг выходил с виллы «Тибидабо» вне себя от счастья. Он сердился на себя за то, что мог усомниться в Вилларе, и, считая это своего рода неблагодарностью, испытывал угрызения совести. Дон Игнасио отнесся к нему с сочувствием, истинно по-братски, и Пуиг теперь убедился, что патрон его никогда не оставит на произвол судьбы.
Пуигу хотелось, чтобы Гомес тоже разделил его радость, но андалусиец помалкивал и явно не желал поддерживать беседу. Хоакин вспомнил, что за все время его разговора с доном Игнасио Эстебан ни разу не открыл рта. Уж не завидует ли парень, что Виллар обращается с ним, Пуигом, так по-дружески? Погрузившись в размышления, Хоакин не обращал внимания на дорогу. Ночь выдалась довольно темная, но Хоакин знал наизусть каждый метр дороги на виллу «Тибидабо» и, очнувшись, не без удивления сообразил, что они не стали сворачивать на авенида[89] де ла Республика Архентина, а оттуда — в центр Барселоны через калле Майер и пасео де Грасиа, но свернули налево. Он поделился своим недоумением с Эстебаном.
— Вы решили не ехать кратчайшей дорогой?
— По-моему, короче не бывает.
— И однако, чтобы добраться до баррио…
— Мы не едем в баррио, Пуиг.
— Не едем?.. Но куда же тогда…
— На дорогу в Манресу.
Хоакин не сразу сообразил, что это значит. Радужные надежды сменила такая растерянность, что Пуиг никак не находил точки опоры, дабы ясно оценить положение. В конце концов, ведь не приснился же ему дружеский прием дона Игнасио? Ведь не померещилось, что тот обещал чек на двадцать тысяч и прогулку на «Боливаре»? И вдруг с неожиданной резкостью — как шум в ушах, на который сначала не обращаешь особого внимания, внезапно вытесняет все другие звуки, так что в конце концов слышишь только его, — последние слова Гомеса заполонили сознание Пуига: «На дорогу в Манресу!» На дорогу в Манресу! Туда, где закончилась последняя прогулка Вольса… На дорогу в Манресу! Хоакин был совершенно уничтожен.
— Но разве вы получили приказ… — пробормотал он.
— Да… Вы должны понять, что мы не можем оставить вас в живых после всего, что вы наболтали полицейским. Рано или поздно они снова заставят вас говорить.
— А если я буду в Англии?
— Не слишком ли жирно?
— Но дон Игнасио обещал!
— Дон Игнасио вообще очень много обещает, Пуиг!
Хоакин вдруг ощутил удивительную пустоту внутри. Что тут станешь делать? Ему солгали. Провели, как мальчишку. А теперь он погибнет из-за того, что доверял друзьям. В порыве бешенства Хоакин едва не бросился на Гомеса, но тот предвидел такую возможность, и Пуиг почувствовал, как сквозь рубашку к его груди прижалось острие ножа.
— Не делайте глупостей, Хоакин… и не вынуждайте меня убить вас в машине. Я вовсе не хочу причинять вам лишние страдания.
Возбуждение сменилось у Пуига полной апатией. Он достаточно хорошо знал андалусийца и даже не стал пытаться его разжалобить. Итак, он умрет так же, как Пако Вольс… Что за стервозная жизнь — одни неудачи! Хоакин забился в уголок, смирившись с неизбежным финалом.
Когда они подъезжали к Таррасе, машину остановил патруль, разыскивавший угнанный автомобиль. Увидев приближающегося сержанта, Гомес приказал:
— Не валяйте дурака, Пуиг, я…
Но Хоакин уже ничего не слышал. Неожиданно оттолкнув андалусийца, он выскочил из машины в тот момент, когда сержант открыл дверцу. Последний объяснил, в чем дело, и вместе с Пуигом пошел к багажнику взглянуть на номера. Гомес не решился выйти из машины. Он ломал голову, расскажет ли Пуиг патрульным правду. В таком случае оставалось одно: как можно скорее удрать.
Эстебан предупредил водителя и велел не выключать мотор. Если все закончится благополучно, они быстро догонят Пуига. Хоакин это тоже понимал. Выдать дона Игнасио и Эстебана означало сесть в тюрьму вместе с ними, а он не хотел за решетку. Хоакин раздумывал, каким образом задержать полицейских. Сержант уже распрямился, закончив осмотр, как вдруг Хоакин шепнул:
— Господин сержант, может, я, конечно, вообразил невесть что, но эти типы там, в машине, не внушают особого доверия… Видите ли, они подобрали меня на дороге, когда я искал попутку, и…
— Да? И чем они вам не понравились, сеньор?
— По правде говоря, точно не знаю… но у того, кто сидел рядом со мной, во внутреннем кармане очень подозрительный предмет, весьма похожий на внушительных размеров нож, короче говоря, оружие, какое порядочные люди таскают при себе крайне редко. Во всяком случае, я бы предпочел ехать дальше на такси…
— Вы совершенно правы, сеньор, и спасибо за предупреждение… Сейчас поглядим, что там такое…
Воспользовавшись тем, что сержант вернулся к Гомесу, Пуиг бросился искать такси, которое отвезло бы его обратно в Барселону. На первом же углу он обернулся поглядеть, как обстоят дела у Эстебана. Тот стоял навытяжку, подняв руки, а полицейские обыскивали его карманы. Один из патрульных подозвал офицера, и все вместе, включая шофера Фелипе, куда-то пошли. Хоакин понял, что у него достаточно времени.
Пуиг запихивал в чемодан все самое ценное, и в первую очередь деньги, которые, ничуть не доверяя банкам, долгие годы копил дома. Было еще только половина четвертого, и Хоакин собирался на вокзал. Он сядет на первый попавшийся поезд, неважно — куда. Сейчас Пуига занимала только одна мысль: ускользнуть от дона Игнасио и Гомеса. Остальное не имело никакого значения. Хоакин в последний раз огляделся. Очень не хотелось покидать уютное гнездышко, которое благодаря особому расположению Виллара он устроил себе на втором этаже — над кабаре. Но, уж коли речь идет о жизни и смерти… Пуиг подсчитал, что по крайней мере на час опередил Эстебана — отделавшись от полицейских, тот, конечно, тут же рванет сюда. Если портье увидит Хоакина с чемоданом, Гомес наверняка сообразит, что его строптивая жертва попробует добраться до вокзала. А потому Пуиг решил улизнуть черным ходом и невольно вздрогнул, вспомнив, что именно туда отвел Пако и передал поджидавшим его убийцам. Стараясь как можно меньше шуметь, Хоакин скользнул по служебной лестнице и толкнул дверь во дворик, откуда можно было выйти на калле д'Эсте. Небо над морем уже немного прояснилось, ветер посвежел. Пуиг споткнулся о ящик, чертыхнулся, но устоял на ногах. Инстинктивно он оперся на руку выскользнувшего из тени незнакомца. Пуиг не сразу сообразил, что означает это внезапное появление. Только пробормотав слова благодарности, он понял, что рядом кто-то есть. От снова накатившего страха Хоакин выронил чемодан. Неужто Эстебан уже здесь? Да нет, этот отделившийся от стены силуэт нисколько не похож на фигуру андалусийца. Наверно, какой-нибудь нищий, собирающий милостыню? Или бездомный бродяга, которому вздумалось переночевать тут, во дворике? Хоакин уже собирался оттолкнуть побирушку, но тот подошел еще ближе.
— Вы помните Пако? — прошептал он.
И только тут Пуиг сообразил, что перед ним убийца, уже прикончивший Риберу и Миралеса. Он хотел крикнуть, но лишь широко открыл рот, не в силах произнести ни звука. И прежде чем Хоакин успел шевельнуться, острая боль пронзила его живот.
ГЛАВА X
Бледный от бессонницы и нервотрепки Мигель, подождав, пока откроют двери больницы и там снова начнется повседневная жизнь, подошел к консьержке. Предъявив полицейское удостоверение, он спросил, когда выпишут сеньора Хоакина Пуига, и, едва веря своим ушам, услышал в ответ, что означенный сеньор исчез и есть основания полагать, что он потихоньку ушел ночью. Кипя от ярости, Люхи довольно резко отозвался о недостатке внимания к больным, но окончательно он вышел из себя, увидев за воротами больницы своего коллегу Валербе. Тот тщетно попытался уклониться от встречи. По правде говоря, инспектор покинул укрытие, лишь полагая, что Мигель надолго застрянет в Сан-Пабло. До предела взвинченный Люхи, радуясь, что есть на ком сорвать дурное настроение, набросился на коллегу.
— Что вы здесь делаете?
— Выполняю задание.
— За кем вы следите?
Валербе лишь пожал плечами. Но Мигель не отставал:
— За мной, да?
— А за кем же еще, по-вашему?
— Что, приказ комиссара Мартина?
— Да.
— Куда он велел явиться с докладом?
— К нему домой.
— Что ж, пойдемте вместе, так я смогу засвидетельствовать, что вы не обманываете.
— Вы поставите меня в затруднительное положение, но, полагаю, вам это безразлично?
— Абсолютно.
Дверь открыл сам дон Альфонсо. Если появление Мигеля его и удивило, то он ничем этого не выдал. Проводив обоих гостей в кабинет, комиссар выслушал рапорт Валербе.
— Поскольку инспектор Люхи не появлялся, я подумал, что он мог выйти через другую дверь, и подошел поближе. А тут он как раз вышел, и я не успел снова спрятаться, — подвел итог Валербе.
— Это не важно. Вы даете мне слово, что вы и ваш коллега Муньиль не теряли инспектора Люхи из виду, скажем, с полуночи до семи утра?
— Даю вам слово, сеньор комиссар.
— Отлично, Валербе, спасибо. А теперь идите отдыхать и не приходите в управление до вечера.
Как только инспектор ушел, дон Альфонсо и Мигель переглянулись. Первым заговорил комиссар:
— Ты помнишь, как разговаривал со мной вчера вечером?
Ни тот, ни другой не выказывали ни гнева, ни раздражения, скорее, были печальны — оба слишком дорожили своей дружбой. Мигель вспомнил слова Кончи и, глубоко вздохнув, хрипло пробормотал:
— Дон Альфонсо… На самом деле я вовсе так не думаю… Это все… ярость… разочарование… Короче, вы ведь понимаете?
Комиссар так радовался, что вновь обрел своего Мигеля, что на глазах у него выступили слезы.
— Отлично знаю, дурень ты этакий! — ворчливо проговорил он, стараясь скрыть волнение. — Тем не менее подобные вещи ужасно неприятно слушать…
Тут сияющая донья Мерседес принесла кофе — она подслушивала за дверью. Все возвращалось на круги своя, и можно снова веселиться и любить друг друга, не задавая ненужных вопросов. Добрая толстуха сказала, что приготовит огромный апельсиновый торт и непременно хочет завтра за ужином угостить Мигеля и Кончу. Люхи пришлось клятвенно обещать, что они придут, и только потом выслушать шефа.
— Повторяю, Мигель, я не меньше твоего хочу разделаться с Вилларом, но я обязан, вернее, мы оба обязаны соблюдать закон — этот тип достаточно влиятелен, а его адвокаты так ловки, что он снова может от нас ускользнуть, отступи мы хоть на йоту от кодекса. Тут нужно только терпение, и у меня его хватает. Жаль, что нельзя немного одолжить тебе.
— Как подумаю о Пако и о своем отце — глаза застилает от ярости!
— И ты полагаешь, что отомстишь за них, угодив за решетку по обвинению в убийстве?
— Так вы поэтому приказали Валербе и Муньилю следить за мной?
— Да.
— Прошу прощения, но никак не могу вас за это поблагодарить!
— И однако тебе бы следовало это сделать, если не хочешь проявить черную неблагодарность!
— Ну да? А почему?
— Потому что благодаря рапорту моих двух инспекторов тебя никак не смогут обвинить в убийстве Хоакина Пуига.
— Пуиг… Пуига… — только и смог пробормотать потрясенный Люхи.
— Сегодня утром его тело нашли во дворике за кабаре.
Теперь Мигель понял, какой опасности чудом избежал. После того, что вчера произошло между ним и Пуигом, и при полной невозможности представить какое бы то ни было алиби, ему наверняка пришлось бы предстать перед судом и оправдываться в преднамеренном убийстве. Люхи содрогнулся.
— Дон Альфонсо… Тяжко признавать такие вещи, но, пожалуй, я все-таки дурак.
— Да нет же, нет, Мигель, просто ты идешь на поводу у собственных эмоций. Тебе надо поучиться лучше владеть собой.
— Вряд ли из этого выйдет что-нибудь путное, раз я не научился за столько лет.
— А вот увидишь! Я уверен: когда мы посадим Виллара в камеру, ты сразу станешь другим человеком.
— Я тоже так считаю, дон Альфонсо, но когда же это случится?
— Кто знает? Возможно, раньше, чем тебе кажется.
— А нельзя его арестовать за убийство Пуига?
— Нет доказательств.
— И однако, это наверняка Виллар прикончил его, чтобы навсегда заткнуть рот.
— Бесспорно. И это по твоей вине погиб Пуиг, Мигель. Если бы ты не рассказал дону Игнасио…
— Тем хуже… но я ни о чем не жалею. Пуиг участвовал в убийстве Пако. Как с ним разделались?
— Снова пустили в ход нож.
— Тогда остается еще раз задержать Гомеса. Он один способен орудовать ножом, дон Игнасио слишком боится запачкать руки!
— Я согласен с тобой, но нам от этого не легче.
— Как так?
— В то время, когда убили Пуига, Гомес сидел в полицейском участке Таррасы.
Комиссар рассказал Мигелю о событиях этой ночи и о том, как Пуиг, вероятно, ускользнул от Гомеса, лишь чтобы угодить в лапы другого убийцы.
— Виллара?
— Вероятно, да, но как мы это докажем? И потом, вполне возможно, что мы ошибаемся и на самом деле убийца — враг всей банды. Скажем, какой-нибудь друг Пако?
— Не думаю. Пако рассказал бы мне об этом друге.
— Тогда кто писал Виллару письма, спрашивая, помнит ли он о Пако? Ты же не думаешь, что дон Игнасио сочинял их сам?
— Нет, я знаю автора, но убийца — не он.
Мигель, в свою очередь, поведал дону Альфонсо печальную историю Хуаниты. Но его рассказ, судя по всему, не произвел особого впечатления на шефа.
— Возможно, она сказала тебе правду, а может, и солгала. Любящая женщина способна на что угодно. На твоем месте я бы понаблюдал за девушкой и постарался выяснить, где она была этой ночью.
— Означает ли это, что… вы возвращаете мне жетон?
— Найдешь его в ящике моего стола.
После того как Люхи ушел, еще раз поклявшись донье Мерседес, что они с Кончей непременно отведают завтра ее апельсинового торта, жена комиссара Мартина расцеловала мужа.
— Ты доволен, а, Альфонсо?
— Конечно.
— Что-то ты говоришь это странным тоном…
— Уверяю тебя…
— Не ври, дон Альфонсо! Опять что-то не так? В чем дело?
— Ну… все эти убитые…
— Да?
— …ножом в живот…
— В живот или еще куда — какая разница? Важно, что их прикончили, разве не так?
— Ты не поняла, Мерседес… Все они умерли от точно такой же раны, как и отец Мигеля… Ты не находишь это очень подозрительным?
Дон Игнасио возвращался от своих драгоценных цветов, когда на виллу приехал Гомес. Как только оба мужчины заперлись в кабинете Виллара, тот нетерпеливо спросил:
— Ну как, все кончено?
Андалусиец покачал головой.
— Что? Он от вас ускользнул?
Эстебану пришлось признаться, как Пуиг обвел его вокруг пальца при невольном попустительстве полицейских, которые только что выпустили его из участка.
— Так вы думаете, Пуиг теперь бросится за помощью к полиции?
— А что бы сделали на его месте вы, дон Игнасио?
— В таком случае, почему фараоны еще не явились сюда? Уже одиннадцатый час… Встряхнитесь, Гомес!
Несмотря на снедавшую его тревогу, Виллару удалось сохранить полную невозмутимость. Он тоже отдавал себе отчет, что, если Пуиг раскололся, всему конец, и мысленно разрабатывал план бегства так, чтобы пустить ищеек по следу андалусийца. Чтобы дать себе время хорошенько подумать, он включил радио. Послышалось несколько музыкальных тактов, а потом оркестр уступил место журналисту, сообщавшему утренние новости. Виллар уже собирался снова выключить радио, как вдруг дикторша сообщила, что на рассвете во дворике, примыкающем к знаменитому кабаре, управляющим которого он был, нашли тело Хоакина Пуига, убитого ударом ножа.
Гомес вскочил и обалдело уставился на дона Игнасио. Тот улыбался.
— Ну что ж, Эстебан! Как видите, вы напрасно волновались. Хоакин ничего не расскажет полиции.
— Дон Игнасио, я снимаю шляпу! Вы куда круче меня. Но как вы догадались?
— О чем?
— Во-первых, что Пуиг удерет от меня, а во-вторых, что он вернется в кабаре?
— Да ни о чем я не догадывался! Вы что, решили меня разыграть, Гомес?
Андалусиец окончательно перестал понимать что бы то ни было.
— Зачем вы отказываетесь от поздравлений и от денег, которые я вам должен, Эстебан? Или вы надеялись поднять ставку, уверив меня, что Пуиг все еще жив?
— Я не выполнил условий нашего договора, дон Игнасио.
— То есть?
— Это не я убил Пуига!
— Рассказывайте!
— Вы забываете, что я вышел из полицейского участка в Террасе только в девять часов, а угодил туда — в два. Это легко проверить, и я не сомневаюсь, что комиссар Мартин так и поступил. И я совершенно не понимаю, чего ради вам вздумалось свалить на меня убийство, которое совершили вы, за что я, впрочем, могу вас только поздравить и поблагодарить. Таким образом мы избавились от крайне неприятной занозы.
— Послушайте меня внимательно, Гомес: даю вам слово, что с тех пор, как вы с Пуигом вышли отсюда, я ни на шаг не отходил от дома.
— Но, если не вы и не я, то кто же это сделал?
Оба знали ответ, но никто из них не решился произнести его вслух.
Она страстно молилась на глазах у растроганного дона Хасинто. Перед тем как войти в церковь, она уже прочитала в утренней газете, что тело Хоакина Пуига обнаружено, и подумала о Вилларе и Гомесе, на которых тоже лежит вина за смерть Пако. Трое уже заплатили. И она просила Нуэстра Сеньора де лос Рейес не дать ускользнуть остальным. Они должны умереть, и тогда Пако будет отомщен. Возможно, после того как все виновные переселятся в мир иной, мысль об испорченной жизни перестанет приносить такие страдания? Ведь Пако обещал увезти ее далеко от Барселоны. Пако любил ее, а она любила его. Пако доказал ей, что она живет не так, как следовало бы, и достойна гораздо лучшей участи.
Женщина поднялась с колен, и дон Хасинто поклонился как только мог низко, а потом проводил к кропильнице, считая для себя великой честью подать ей святой воды. Глядя ей вслед, ризничий не сомневался, что коснулся пальцев будущей святой.
Они так погрузились в размышления, что не сразу услышали телефонный звонок. Теперь они знали, что убийца идет по пятам, убийца непреклонный и, кроме того, прекрасно знающий их привычки. Тут никакие компромиссы невозможно. Либо он, либо они. Но как победить врага, если даже не знаешь его в лицо? И как хотя бы спрятаться от него? Виллар подошел к телефону.
— Виллар слушает, — буркнул он.
И тут на другом конце провода очень любезно осведомились:
— Вы помните Пако, сеньор?
И, не успев прийти в себя от удивления, дон Игнасио услышал легкий щелчок, а потом гудки. Каид страшно побледнел и, плотно сжав губы, в свою очередь, повесил трубку. Наблюдавший эту сцену Гомес заметил, как исказилось лицо его патрона.
— Кто звонил, дон Игнасио?
— Убийца.
Андалусиец встал.
— И чего он хотел?
— Спросить, помню ли я Пако.
— А… вы не узнали голос?
Виллар поглядел на Эстебана безумными глазами.
— Кажется, да…
— Слава Пречистой! Теперь ему недолго осталось над нами издеваться! Кто это?
— Нина.
Гомес так оторопел, что не сразу сообразил, о чем толкует Виллар, потом выразительно пожал плечами.
— Нина? Нина де лас Ньевес?.. Ваша Нина?
— Да.
— Так, по-вашему, дон Игнасио, она позвонила из своей комнаты, чтобы сыграть с нами эту скверную шутку?
— Нина здесь не ночевала.
— Не но…
— Я еще не знал точно, как нам придется поступить с Пуигом, и не хотел лишних свидетелей… А потому отправил Нину в «Колон» и отпустил всю прислугу…
— Возможно, вам стоило бы позвонить в гостиницу и узнать, там ли еще Нина и не звонила ли она вам?
Служащий гостиницы сообщил, что сеньорита уехала добрых четверть часа назад и никому не звонила.
Гомес с облегчением вздохнул — он страшно не любил ситуаций, превосходящих пределы его разумения.
— Должно быть, вы ошиблись, дон Игнасио.
— Может быть… и все же я, кажется, узнал характерную для нее интонацию… Правда, мой собеседник явно говорил через платок.
В отличие от андалусийца он не испытывал полной уверенности, что ошибся. Как все великие мира сего, в случае поражения он склонен был видеть причину в измене. От всех его прежних спутников в живых остался один Гомес, но он никак не мог совершить всех этих преступлений. Зачем бы он стал искать лишних осложнений со стражами закона? Тогда кто их так ожесточенно преследует, если не Нина? Гомес, решив, что понял, какая буря поднялась в сердце его патрона, почел за благо ободрить Виллара.
— В любом случае, такие женщины, как Нина де лас Ньевес, не убивают, а уж тем более Хоакина, к которому она всегда относилась с большой симпатией. А кроме того, с чего бы ей вдруг взбрело в голову мстить за Пако?
— Вот это-то я и хотел бы выяснить, Эстебан.
И, вдруг почувствовав себя очень старым и усталым, Виллар поделился своими заботами с андалусийцем. Он рассказал о странном появлении Нины в кабинете Пуига и ее попытках разузнать о судьбе Пако. Потом обратил его внимание на то, что в ту ночь, когда убили Риберу, его любовница возвращалась на виллу «Тибидабо» одна, а в другую — когда прикончили Миралеса — ночевала в «Колоне». Наконец, по какому-то странному совпадению выяснить, что делала молодая женщина в тот час, когда Пуиг отдал Богу душу, тоже невозможно. Все это не укладывалось у Гомеса в голове.
— Но в конце-то концов, дон Игнасио, даже если допустить, что вы правы, чего ради она совершила бы все эти преступления? Откуда такое ожесточение против нас? И против вас…
— Все это легко объяснить, если Пако был ее любовником и Нина решила наказать нас за то, что мы лишили ее возлюбленного.
Должно быть, Виллар и в самом деле здорово растерялся, коли решился при постороннем допустить возможность измены своей любовницы. Гомесу же казалось, будто рушится весь привычный для него мир, в котором женщины не играют никакой роли. От одной мысли, что его могли до такой степени ввести в заблуждение, бешеная ярость скручивала узлом все мускулы.
— Ну, что мы теперь будем делать? — дрогнувшим голосом спросил он.
— Подождем милую крошку и зададим ей несколько вопросов.
Нина де лас Ньевес скорчилась в кресле, куда ее толкнул Гомес, едва она вошла в комнату. Лицо ее заливали слезы, голова бессильно моталась под градом пощечин дона Игнасио, но Нина крепко стиснула зубы, чтобы не кричать. Один и тот же вопрос, непрестанно повторяемый Вилларом, сверлил мозг:
— Почему ты убила Пуига?
Сначала Нина слишком удивилась, чтобы отвечать, но потом ее охватило возмущение. Ей убивать беднягу Хоакина, который был с ней всегда так услужлив и предупредителен, что певица раздумывала, уж не влюблен ли в нее тайно директор кабаре! Что за бредовая мысль! На мгновение она испугалась, уж не повредился ли дон Игнасио в уме, и повернулась к Гомесу, словно ища защиты, но андалусиец смотрел на нее с нескрываемой ненавистью, и молодая женщина сразу поняла, что с этой стороны поддержки ожидать нечего.
— Ну, будешь ты отвечать? Да или нет?
Нина угадывала, что за бешеной злобой Виллара кроется панический страх. Узнать, что убийца — она, для него было бы облегчением. Признание молодой женщины избавило бы дона Игнасио от страха, все неотступнее преследовавшего его с тех пор, как убийца подбирался ближе и ближе. Однако не могла же Нина взвалить на себя преступления, которых не совершала? А кроме того, он наверняка не удовольствуется простым подтверждением, а потребует подробностей, а Нина не только не сумела бы ничего выдумать, но ее ответы наверняка не соответствовали бы тому, что произошло на самом деле. В голове звонил колокол, а щеки так горели, будто Нина неосторожно подошла слишком близко к костру.
— Будь осторожнее, Нина! Имей в виду, я не остановлюсь, пока ты не ответишь, даже если придется тебя прикончить!
Она не сомневалась, что дон Игнасио выполнит угрозу. Но что тут поделаешь?
— Убей меня, если хочешь, Игнасио, раз уж ты настолько взбесился, что считаешь меня способной потрошить мужчин!
Все еще изящный силуэт этой растрепанной куколки и вправду мало походил на фигуру мясника, зарезавшего Риберу, Миралеса и Пуига. Как будто пораженный такой очевидностью, Виллар перестал избивать Нину. Он налил себе рюмку коньяка и, залпом осушив ее, вернулся к своей жертве.
— Ты вынуждаешь меня делать то, чего я терпеть не могу, Нина… Но я хочу знать правду! Почему ты расспрашивала Пуига о Пако Вольсе?
Нина слишком устала, и ей хотелось лишь умереть, а кроме того, она догадывалась, что теперь, когда его преследуют и полиция, и неизвестный убийца, Виллар, не колеблясь, убьет всякого, кто станет у него на пути. Но если ей и суждено стать следующей жертвой, она хотя бы нанесет своему палачу последний удар.
— Потому что он был моим любовником, — вкрадчиво проговорила молодая женщина, открыто глядя в глаза дона Игнасио.
Ожидая удара, она прикрыла глаза. Но вместо ожидаемого взрыва в комнате наступила такая тишина, что удивленная женщина снова их открыла. Виллар, словно окаменев, ошарашенно таращился на Нину. Пораженный Гомес широко открыл рот. Он не понимал, каким образом, имея счастье быть подругой такого человека как Игнасио Виллар, эта идиотка решилась изменить ему с каким-то ничтожеством вроде Пако Вольса, которого он, Эстебан, убил, как комара. Что касается Виллара, то признание Нины уничтожило последний покров, до сих пор скрывавший от него грустную истину.
Дерзость молодой женщины лучше всяких других доказательств открыла Виллару, в каком положении он оказался. Все его предали. На какой-то миг ему захотелось все бросить. Пусть убийца делает что угодно… Пусть полиция продолжает плести сети… У каида пропало желание сопротивляться, раз даже Нина против него. А потом старый инстинкт самосохранения взял верх. Пока остается хоть один шанс выйти сухим из воды, его упускать нельзя. Дон Игнасио медленно приблизился к Нине.
— Ты догадываешься, что тебя ждет, не так ли?
— Конечно.
— Раз ты так любила этого Лако, я готов в последний раз доказать тебе свою привязанность, отправив следом.
Он повернулся к андалусийцу.
— Этим займетесь вы, Гомес.
Эстебан в знак полного равнодушия пожал плечами. Во время гражданской войны ему уже случалось убивать женщин. Нина решила еще раз уколоть дона Игнасио.
— Что, не хватает мужества убить меня своими руками?
Но Виллар уже взял себя в руки. Он с улыбкой отвесил поклон.
— Такая работа ниже моего достоинства, дорогая.
Гомес с облегчением перевел дух. Наконец-то он узнавал прежнего дона Игнасио! Ну нет, еще не все потеряно! А Виллар, не обращая больше внимания на Нину, стал объяснять андалусийцу план дальнейших действий.
— Я думаю, здесь для нас все кончено, Гомес.
— Кончено?
— Надо уметь вовремя признать поражение, иначе тупое упрямство приведет к катастрофе. Нам не ускользнуть от убийцы, тем более что полиция явно не торопится его
найти. Возможно, потому что он там служит? Прикончив этого стукача Пако, я никак не ожидал, что это вызовет подобную реакцию. Выходит, я вытащил слабую карту, что ж, тем хуже! А теперь придется выкручиваться. Мы удерем отсюда, Гомес. У меня достаточно денег в Лондоне, да и здесь, собрав всю наличность, я прихвачу с собой немалый куш. Я заберу вас с собой, и мы попытаемся начать все заново в другом месте. Однако понадобится день на подготовку. Очень хорошо, что мне пришло в голову отпустить прислугу. Оставайтесь здесь, Гомес, пока я не позвоню и не скажу, что делать дальше, прежде чем вы присоединитесь ко мне там, где я скажу. Сегодня же ночью мы уедем в Португалию на машине. А в Лиссабоне перед нами откроются все дороги. А как только полиция соблаговолит наконец арестовать убийцу, вернемся в Барселону.
Нина насмешливо рассмеялась.
— Короче, вы удираете, дон Игнасио?
— Бегство — тоже тактический ход, моя дорогая.
Комиссар Мартин положил трубку.
— Виллар только что пришел в контору. Я поставил там людей и велел не спускать с дона Игнасио глаз и повсюду следовать за ним. Надеюсь, на сей раз нам больше повезет, чем с Пуигом, и мы накроем убийцу прежде, чем он отправит Виллара к праотцам.
— А почему бы не дать ему это сделать?
— Потому что я полицейский, Мигель, и должен заботиться о безопасности своих сограждан, кем бы они ни были и как бы я к ним ни относился.
— А вы уверены, что следующей жертвой станет Виллар?
— Либо он, либо Гомес, но где искать второго, никто не знает. Парень не возвращался домой, а сейчас я поеду к себе, Люхи, и малость передохну, поскольку намерен эту ночь провести на работе. Таким образом, я тебя сменю. Оставайся тут, а потом, когда я вернусь, поедешь к Конче.
— Иначе говоря, дон Альфонсо, вы не очень-то хотите, чтобы я вмешивался во что бы то ни было?
— Да, это и в самом деле так, Мигель.
Глава XI
За все утро они не обменялись ни словом. Однако Гомес позволил Нине умыться и немного привести себя в порядок. Вернувшись, она снова села в кресло и курила сигарету за сигаретой, раздумывая, какую хитрость пустить в ход, чтобы избавиться от убийцы, не спускавшего с нее глаз. Нина всегда опасалась андалусийца больше, чем остальных подручных Виллара. Даже походка Эстебана нагоняла на нее страх. Для нее это был дикий зверь, для которого убить — проще, чем съесть кусок хлеба. За Гомесом не водилось никаких пороков, и Нина ни разу не слышала, чтобы он интересовался женщинами. Эстебан всегда держался особняком, и никому не дозволялось совать нос в его личную жизнь. Молодая женщина знала, что он религиозен, но вера андалусийца скорее основывалась на суеверии, чем на глубокой вере в истинность церковных догм. Почитание Святой Девы ни в коей мере не мешало Эстебану совершать преступления. Как настоящий севилец, он, несомненно, воображал, будто сможет искупить грехи, заключив сделку с Богом, причем его часть договора включала толстые свечи и молитвы. Скорее изворотливый, нежели умный, Эстебан всегда жил в варварском мире, созданном им по его собственному образу и подобию.
— Я голодна… — пожаловалась Нина около часу дня.
— Ну и что?
— Если хотите, можно приготовить еду — в холодильнике полным-полно продуктов.
Чем он рискует? Достаточно не отходить от Нины ни на шаг. А кроме того, он бы и сам с удовольствием перекусил. Пока Нина готовила, Эстебан с невольным восхищением наблюдал за ее спокойными и ловкими движениями. Нина, казалось, нисколько не думает об уготованной ей судьбе. Может, надеется его растрогать? Гомес презрительно хмыкнул — у всех женщин куриные мозги. Да и эта не лучше других, раз могла изменить Виллару с мелким жуликом, который питался бы ее же подачками.
Они пообедали вдвоем, и поглядев со стороны, никто бы не подумал, что еще до наступления вечера один из сотрапезников погибнет от руки другого. Сначала они не разговаривали, но постепенно очарование Нины начало действовать, и Гомес немного оттаял. Наконец они разговорились, словно давние друзья, и Эстебан полюбопытствовал, что заставило молодую женщину пожертвовать обеспеченным положением подле Виллара ради сомнительной интрижки с Пако. Нина рассмеялась, и андалусиец чуть было снова не пришел в ярость. Но тут она заговорила о молодости Пако и о старости дона Игнасио, который к тому же обращается с ней далеко не лучшим образом. Нина объяснила, что такой девушке, как она, нужно кое-что большее, нежели просто обеспеченное существование, не говоря уж о том, что она никогда не доверяла Виллару, зная, что ради выгоды он пожертвует кем и чем угодно. Гомес возразил, но без особой уверенности, поскольку так и не смог забыть, какая метаморфоза произошла с его патроном, когда инспектор Люхи пришел в кабаре. В сущности, Эстебан стал спорить лишь из принципа. Нина спокойно его выслушала.
— Что ж, сами увидите, — только и сказала она.
Молодая женщина снова устроилась в кресле и закурила. Подобное безразличие поразило Гомеса.
— Что увижу?
Нина не ответила, и это лишь еще больше взбудоражило андалусийца.
— Ну, так что? Скажите же, что я увижу!
— Вы действительно верите, будто дон Игнасио возьмет вас с собой в Португалию? — медовым голосом спросила Нина.
Парень на мгновение растерялся, но быстро пришел в себя.
— Разумеется, возьмет!
— А почему?
— Как так почему? Он же мне обещал!
Нина лишь улыбнулась, и эта улыбка окончательно взвинтила нервы Гомеса. В душу его стала закрадываться смутная тревога. Да, верно, в конце концов, у него нет ничего, кроме обещания дона Игнасио. Меж тем Нина негромко, словно разговаривая сама с собой, продолжала:
— Виллару вовсе незачем вас кормить. К тому же, когда придется начинать жизнь заново, вы станете для него не столько помощником, сколько помехой. Право, не понимаю, чего ради Виллару таскать вас с собой, если только он вдруг не превратился в филантропа…
Гомес никогда не был силен в дискуссиях, а потому чувствовал себя совершенно сбитым с толку.
— Я никогда не изменял дону Игнасио… Я оказал ему важные услуги…
— Вот именно… А теперь можете только скомпрометировать… И кроме того, в глубине души Виллар не так уж уверен, что это не вы прикончили Миралеса, Риберу и Пуига…
— Нет, уж это-то он знает!
— Или пытается себя убедить, но я готова спорить, что некоторые сомнения остались… Я хорошо знаю подозрительность дона Игнасио, и вряд ли он прихватит с собой человека, который, быть может, попытается его зарезать.
Эстебан при всем желании не мог найти никаких возражений. Ему не следовало ввязываться в разговор, но теперь слишком поздно. Слова Нины уже въелись в сознание, и Гомес чувствовал, что не сможет отделаться от опасений. Не ожидая ответа, молодая женщина продолжала рассуждать вслух, а он не посмел заткнуть ей рот. Андалусиец и боялся услышать, что она еще скажет, и хотел этого.
— Убийство Пако Вольса было ошибкой, но Виллар не мог предугадать, что смерть этого парня так расшевелит всю уголовную полицию Барселоны. И тогда он испугался. Друзья превратились во врагов, поскольку могли бы указать на него, как на организатора убийства. Сначала умер Рибера, потом Миралес, а за ними — и Пуиг. Теперь в курсе только мы с вами, Гомес, а потому опасны для дона Игнасио. Меня он уже приказал вам уничтожить. И тогда останетесь вы один. Так почему вы решили, что он вас помилует, если ваше исчезновение избавит его от преследований и позволит спокойно остаться в Барселоне? В возрасте Виллара не очень-то любят эмигрировать…
А ведь то, что болтает эта девица, запросто может оказаться правдой! Гомесу еще никто ничего не делал даром, и он понимал, что было бы чистым безумием воображать, будто Виллар станет тревожиться о его судьбе. И однако предположение, что дон Игнасио мог неожиданно превратиться в убийцу, не укладывалось в голове.
— Только что вы намекали, будто дон Игнасио не доверяет мне, подозревая, что это я ухлопал остальных, а теперь, похоже, толкуете, что он сам…
— Да нет же, я отлично знаю, что Виллар не способен убить кого бы то ни было, и доказательством тому — что покончить со мной он поручил вам. И тем не менее в последнее время вокруг него все мрут, как мухи. Можете вы доказать, что таинственный убийца действует не по приказу дона Игнасио? Я думаю, ради самозащиты Виллар на все способен.
В наступившей тишине Эстебан лихорадочно соображал. В конце концов, от этого зависит его жизнь… Насчет убийства Пако никто не сможет дать против него ни малейших показаний. А вот убить Нину де лас Ньевес — уже совсем другое дело. «Звезда» кабаре слишком знаменита, и ее смерть, как пить дать, не пройдет незамеченной. Полиция тут же начнет искать в непосредственном окружении Виллара, а в этом окружении остался только он, Гомес. И что, если дону Игнасио расхочется уезжать? У самого Эстебана слишком мало денег, чтобы смыться. А кроме того, бегство было бы равнозначно признанию вины. Но Гомес так привык подчиняться приказу, что никак не мог решиться на что-либо определенное.
— Гомес… А вы подумали, что в случае чего я одна могу обеспечить вам алиби на ту ночь, когда убили Пако?
— Как так?
— Ну, допустим, полиция загонит вас в угол… Так кто помешает мне сказать, будто вы провели эту ночь со мной?
— И вы бы на это пошли?
— Чтобы спасти свою жизнь и отомстить дону Игнасио, я еще и не на то способна…
Теперь ей оставалось лишь ждать решения андалусийца. Все прояснится в ближайшие несколько минут. Не желая показывать, что нервничает, Нина снова закурила. Сквозь дым она наблюдала за выражением лица Эстебана и угадывала его внутреннюю борьбу. Наконец парень встал и подошел к Нине.
— И что, по-вашему, нам надо делать?
Атмосфера офиса всегда успокаивала нервы дона Игнасио. Здесь он по-прежнему чувствовал себя хозяином, а потому вновь обретал хладнокровие и судил о положении вещей более трезво. На самом деле ему незачем срочно удирать из Барселоны. Не разумнее ли подготовить деловую поездку в Южную Америку и потом больше не возвращаться? Это займет всего несколько дней и ни у кого не возбудит подозрений. Избавившись от Нины (Виллар решил пустить слух, что у «звезды» нервная депрессия, и ей необходимо отдохнуть), они останутся вдвоем с Гомесом. Но андалусийцу он прикажет хорошенько спрятаться до отъезда. Досадная помеха этот Гомес, и чертовски не хочется таскать его с собой. Но, подумав, что неизвестный убийца, возможно, избавит его от Эстебана, Виллар улыбнулся. Правда, тот может сначала напасть на него самого… По спине дона Игнасио пробежала неприятная дрожь. Однако, вспомнив, что до сих пор преследователь строго соблюдал некое подобие иерархии, Виллар немного успокоился. Для пущей безопасности он больше не пойдет в «баррио чино», а из конторы сразу поедет на виллу. И потом, кто знает? Возможно, в конце концов полиция доберется-таки до виновника стольких преступлений? В таком случае он, Виллар, сможет остаться в любимом городе и не отказываться от множества дорогих сердцу привычек…
Как только достаточно стемнело, дон Игнасио позвонил Гомесу и приказал выполнить поручение, а потом возвращаться домой, поскольку их отъезд немного откладывается. Повесив трубку, Виллар несколько удивился, что Эстебан не стал ни возражать, ни требовать объяснений, но, должно быть, парень слишком привык доверять патрону… Что ж, в конечном счете не исключено, что Гомес будет не такой уж обузой, как он опасался. Подумав о Нине, дон Игнасио ощутил легкий укол в сердце — но, что ж, она сама виновата! А кроме того, Виллар всегда считал жалость очень опасным пороком. Прощай, Нина!
Дежурство Мигеля получилось на редкость скучным. Время от времени звонили агенты, наблюдавшие за конторой Виллара, но и они сообщали, что ничего интересного там не происходит. Подчиняясь приказу шефа, Люхи послал за Хуанитой, чтобы выяснить, чем она занималась в ту ночь, когда убили Пуига. Девушка заявила, что не выходила из дому. А мысль о том, что ее могли заподозрить в преступлении, так напугала Хуаниту, что инспектор окончательно убедился в ее невиновности. Впрочем, он и раньше не испытывал особых сомнений на этот счет… Мигель отпустил девушку домой, уверив, что полиция вот-вот арестует убийцу Пако.
Когда комиссар Мартин наконец пришел сменить своего помощника, Люхи с облегчением перевел дух и осведомился, каковы дальнейшие планы дона Альфонсо.
— А чего бы ты от меня хотел? У нас по-прежнему нет никаких веских улик против Игнасио, так что адвокаты вызволили бы его прежде, чем мы успели бы предъявить обвинение в чем бы то ни было. Придется подождать, пока Виллар сделает какую-нибудь ошибку. Поэтому-то за ним и установлено круглосуточное наблюдение.
— Но в конце концов он это наверняка заметит.
— И что с того? Возможно, такое навязчивое внимание выведет Виллара из себя, и он натворит глупостей. Во всяком случае, как только удастся разыскать Гомеса, я не отстану от него, пока не заставлю выложить все начистоту.
— За домом следят?
— Нет, я не хочу настораживать парня, но домовладелица кормится из нашего бюджета и сообщит нам, когда появится жилец. Кстати, она пока не звонила?
— Нет.
— Тогда мы можем лишь надеяться на лучшее. Возвращайся домой и попробуй отдохнуть, завтра тебе самому предстоит ночное дежурство в этом кабинете.
Около девяти часов Виллар еще сидел у себя в конторе. Служащие давно разошлись по домам, и дон Игнасио решил, что ему тоже пора возвращаться-на виллу «Тибидабо». По его расчетам, Гомес уже избавился от Нины. Виллар погасил свет, собираясь уходить, как вдруг его осенила неприятная мысль: разве сама логика не требует отправиться в «баррио чино» проверить, как справляется со своими обязанностями преемник Пуига и, главное, выразить недовольство отсутствием «звезды»? Нельзя же пренебрегать алиби! Поразмыслив, дон Игнасио вернулся в кабинет и вдруг увидел в окно двух полицейских — те, очевидно, не понимая, почему Виллар не выходит, хотя свет в окнах погас, приблизились к машине каида. Дон Игнасио хотел было возмутиться, но тут же расплылся в улыбке: сам о том не догадываясь, комиссар Мартин обеспечил ему лучшее из алиби, да еще подкрепленное свидетельством полицейских. Он нарочито шумно открыл дверь, чтобы наблюдатели успели спрятаться, а потом медленно сел в машину. Поглядев в зеркальце и убедившись, что за ним по-прежнему следят, Виллар облегченно вздохнул.
В четверть одиннадцатого донья Мерседес по телефону сообщила мужу, что звонила какая-то молодая женщина и спрашивала «сеньора комиссара». Она не пожелала назвать свои имя, но, узнав, что Мартин в управлении, сказала, что немедленно едет туда. Донья Мерседес со смехом пообещала подвергнуть мужа самым страшным карам, если когда-нибудь выяснит, что он назначает ночные свидания в управлении полиции всяким прекрасным незнакомкам. Решительно, донья Мерседес никогда ничего не принимает всерьез! Но известие слишком заинтриговало дона Альфонсо, что он мог по достоинству оценить шутку жены.
В скором времени дежурный полицейский доложил комиссару, что его хочет видеть сеньорита Нина де лас Ньевес. Мартин вздрогнул. Любовница Виллара! Возможно, дон Игнасио подослал ее, желая прощупать почву? Но почему в такой поздний час? Ведь сейчас Нина должна была бы петь в «Ангелах и Демонах». В конце концов дон Альфонсо счет, что, пожалуй, девушка явилась по собственному почину, решив предосторожности ради просто-напросто покинуть тонущий корабль. Комиссар сперва хотел позвонить Мигелю, но, подумав, счел, что всегда успеет это сделать, если Нина подтвердит его догадки. И дон Альфонсо жизнерадостно приказал ввести посетительницу.
В кабаре Виллар блестяще играл свою роль. И все служащие с ужасом наблюдали за приступом дикой ярости, охватившей его, когда выяснилось, что Нины де лас Ньевес нет в ложе. Он велел позвонить в «Тибидабо», но никто не снял трубку. Потом позвонили в «Колон», но и там певицы не оказалось. Нина как в воду канула. Узнав, что концерт не состоится, публика стала шумно возмущаться, и дон Игнасио предложил вернуть недовольным деньги. В конце концов, по обоюдному согласию, решили, что дирекция устроит бесплатное угощение, и все успокоились. В результате вечер прошел очень оживленно. Весьма довольный собой, Виллар решил вернуться на виллу «Тибидабо». Успех кружил каиду голову, и, садясь за руль, он вдруг подумал, а не разыграть ли преследователей? Когда труп Нины обнаружат, судебные эксперты установят время смерти и выяснится, что в это время Виллар находился под наблюдением полиции. И даже в том случае, если точное время выяснить не удастся, ни у кого не вызовет сомнений, что певица умерла задолго до того, как дон Игнасио покинул «Ангелов и Демонов». А поскольку агенты Мартина начали наблюдение уже довольно давно, ему ничто не угрожает.
Покинув пределы города, Виллар не стал подниматься к «Тибидабо», а через Педральбес и Эсплугас выехал на дорогу в Таррагону. Мало-помалу увеличивая скорость, он без особого труда оторвался от преследователей — их старенький, изношенный на службе автомобиль, разумеется, не мог тягаться с американским лимузином дона Игнасио. В Вильнуэва он неожиданно свернул налево, в сторону Вильяфранка дель Панадес, а уж оттуда медленно поехал в «Тибидабо», радуясь, как мальчишка, что натянул нос ищейкам комиссара Мартина.
Дон Альфонсо выслушал Нину де лас Ньевес, ни разу не перебив. Когда молодая женщина закончила рассказ о дневных приключениях, не забыв упомянуть, что должна встретиться с Эстебаном Гомесом на Французском вокзале и двухчасовым поездом отбыть в Сарагосу, комиссар с наслаждением закурил. Его переполняла такая радость, что полицейский решил немного упорядочить мысли, и лишь потом спокойно обдумать план дальнейших действий. Впрочем, оставалось лишь уточнить кое-какие детали.
— Итак, сеньорита, вы утверждаете, что Игнасио Виллар приказал убить Пако Вольса?
— Да, сеньор комиссар.
— Зато вам неизвестно, кто убил Риберу, Миралеса и Пуига?
— Да, сеньор комиссар, но вот Гомес наверняка в курсе.
— И вы думаете, он мне обо всем расскажет?
— Да, если вы заявите, будто его выдал Виллар. И я даже думаю, что для вящего правдоподобия лучше, если на вокзале вы арестуете заодно и меня.
— А вы не дурочка, сеньорита! Я и в самом деле намереваюсь так поступить. Спасибо вам, сеньорита, я думаю, с вашей помощью мы сумеем положить конец махинациям дона Игнасио. А теперь, могу я узнать, что толкнуло вас на подобный поступок?
— Не понимаю…
— Почему вы решили выдать мне Виллара и Гомеса?
— Во-первых, потому что мне страшно. Виллар приказал Гомесу меня убить, и я лишь с величайшим трудом уговорила андалусийца, что, послушавшись человека, который, судя по всему, решил его предать, он сделает огромную глупость.
— Согласен, это достаточно серьезная причина. Но вы сказали «во-первых»… Это указывает, что должно быть продолжение, верно? Так какова же вторая причина?
— Пако.
— Понимаю. Вы любили этого молодого человека?
— Да.
— А он?
— И он тоже.
В это время дежурный принес комиссару записку. Хозяйка дома, где снимал комнату Гомес, сообщала, что ее жилец вернулся. Это доказывало, что Нина не лжет. Как только дежурный ушел, дон Альфонсо продолжил разговор:
— Я не был знаком с Пако Вольсом, но на первый взгляд представляется, что между ним и вами, сеньорита, существовало некое различие… скажем, социальное, что ли…
— Послушайте меня, сеньор комиссар… Я не совсем такая, как думают те, кто читает мое имя на афишах. Тот образ жизни, который меня заставлял вести Виллар, внушал мне отвращение, но у меня не хватало мужества все бросить и вернуться домой. Там ведь пришлось бы признаться, что меня постигла неудача… Меж тем, без Виллара у меня не было ни малейших шансов сделать карьеру и добиться успеха — желающих слишком много, и одного таланта, даже если он у меня есть, далеко не достаточно. А потом я встретила Пако. Он тоже страдал из-за своего положения. Это был хороший человек, и он мечтал о лучшей доле. Наша взаимная симпатия родилась из одинакового отвращения к тому, что нас заставляли делать. Мы стали потихоньку встречаться, а потом полюбили друг друга и решили в один прекрасный день уехать из Барселоны в Эстремадуру. Вместо славы и лавров я привезла бы с собой мужа, вот и все.
— И что бы вы оба стали там делать?
— Уж как-нибудь сумели бы заработать на жизнь. А кроме того, у меня достаточно денег, чтобы открыть небольшую лавчонку.
— И Пако не… смущало, что ему придется жить за ваш счет, по крайней мере какое-то время?
— А почему это должно было его смущать, сеньор комиссар, если мы любили друг друга?
— Да… А вы знали, сеньорита, что Пако Вольс работает на нас?
— Я узнала об этом после его смерти.
Неожиданно зазвонил телефон. Дон Альфонсо снял трубку. Агенты, следившие за Вилларом, сообщали шефу, что дон Игнасио от них ускользнул. Комиссар тихонько чертыхнулся и приказал обоим ждать его на Французском вокзале.
— Дурные новости, сеньорита. Виллар ушел от моих людей. Интересно, зачем ему понадобилось освободить себе руки?
— Если он меня найдет, я погибла.
— Успокойтесь, не найдет или, во всяком случае, одновременно найдет и меня, поскольку мы с вами не расстанемся до тех пор, пока не покончим с этой историей. А кроме того, зачем Виллару искать, если он считает вас мертвой?
За несколько минут комиссар Мартин отладил механизм, который, как он надеялся, поможет наконец победить Виллара, что до появления Нины де лас Ньевес казалось ему почти безнадежным делом. Двух инспекторов он отправил на виллу «Тибидабо», приказав неотступно следить за домом дона Игнасио и сообщать о результатах каждые полчаса. Двое других получили задание следовать за Эстебаном Гомесом, как только тот выйдет из дому, и проводить до самого вокзала, но не показываться на глаза, пока не увидят, что к парню подошел комиссар Мартин. И наконец, дон Альфонсо распорядился подключить к телефону Виллара в «Тибидабо» прослушивающее устройство и немедленно передавать текст каждого разговора непосредственно в управление, к нему, Мартину, в кабинет.
— А теперь, сеньорита, уже скоро полночь и нам осталось ждать всего два часа. Через час мы выедем и займем наблюдательные позиции на вокзале. Вам дадут три чемодана, чтобы Гомес, увидев багаж, ничего не заподозрил. Вам придется послужить нам приманкой, сеньорита.
Несмотря на все мольбы жены, Мигель так и не пожелал лечь, заявив, что все равно не сможет уснуть. Как ловчий, преследующий оленя, чувствует, что зверь при последнем издыхании, Люхи угадывал, что охота на Игнасио Виллара вот-вот начнется, и опасался, как бы его не лишили участия в ней. Мигель не понимал ни поведения дона Альфонсо, ни его внезапного недоверия. И, сколько бы Конча ни уверяла, что комиссар просто пытается спасти друга от себя самого, Мигель не желал ничего слушать. Разочарование делало его несправедливым, непонимание рождало ненависть.
— Все это — пустые слова! — ярился Мигель. — Дон Альфонсо отлично знает, что я не сумасшедший и не стану делать глупостей, когда мы почти у цели. Почему он мне обещал, что в нужный момент я, и никто другой, арестую Виллара?
— А может, он выполнит обещание?
— Как же!.. Мартин нарочно хочет меня отстранить, чтобы присвоить всю славу и…
Телефонный звонок помешал ему договорить. Мигель снял трубку.
— Люхи у телефона, — мрачно бросил он.
Наблюдавшая за ним Конча видела, как от слов невидимого ей собеседника лицо мужа потихоньку преображается. Положив трубку, он уже ничуть не напоминал того Мигеля, который всего несколько секунд назад высказывал столь горькие опасения.
— Это был дон Альфонсо, верно?
Люхи посмотрел на Кончу невидящим взглядом лунатика, и она снова встревожилась.
— Что с тобой, Мигель? В чем дело?
Инспектор подошел к жене и, взяв ее за руки, воскликнул, как человек, неожиданно избавившийся от тяжкого бремени:
— Наконец-то, Кончита миа! Наконец-то!
— Да что случилось?
— Любовница Виллара заговорила. В два часа она встречается с Гомесом на Французском вокзале, чтобы сбежать за границу. Мы схватим андалусийца, и, клянусь тебе, уж я заставлю его выложить все, что он знает о Вилларе… Мартин велел мне ехать к нему на вокзал. Знаешь, Конча, я готов поверить, что ты была права и дон Альфонсо сдержит слово!
— Ох уж эта твоя вечная подозрительность! Только бы Святая Дева помогла вам скорее покончить с этой историей! И ты снова сможешь жить, как нормальные люди!
— Обещаю тебе, querida mia, как только Виллар окажется под замком, мы с тобой повторим свадебное путешествие!
— Осторожнее, Мигель Люхи, не бросай слов на ветер, я ведь тоже никогда не забываю обещаний!
Весело смеясь, они поцеловались — оба были счастливы. Когда Мигель уже собирался уходить, жена удержала его за руку.
— А вдруг Гомес не придет на вокзал?
— Тогда мы явимся к нему домой. Двое моих коллег ждут его у двери, чтобы незаметно проводить до вокзала.
— Обещай мне, что позвонишь, как только вы разделаетесь с этим типом!
— Клянусь!.. А теперь отпусти меня, я не хочу опаздывать на встречу с комиссаром…
— Но еще только четверть первого!
— Да, но дон Альфонсо хочет, чтобы мы были на месте уже в час и успели расставить ловушку понадежнее. Наконец-то счастье изменит дону Игнасио…
Где-то в ночи часы пробили один раз, оповещая спящий город о начале нового дня. Эстебан сложил в чемодан все, что мог захватить с собой. Для него начиналась новая жизнь. Гомес радовался, что снова увидит Андалусию. Ни Барселона, ни общество столь отличных от него каталонцев парню не нравились. Эстебан считал их слишком хитрыми и недостаточно надежными. Как только Виллар сообщил ему по телефону, что отъезд откладывается, Эстебан окончательно уверовал в правоту Нины. Дон Игнасио явно хочет его обмануть. Гомеса беспокоило лишь, что придется покинуть город, не расплатившись с предателем, но он рассчитывал, что когда-нибудь судьба еще сведет их лицом к лицу и уж в тот день… Красивая девушка эта Нина. Гомеса удивляло, как он не заметил этого раньше. Может, из нее получится надежная спутница, на которую он сможет опереться в новой жизни? От калле Эспадериа, где жил андалусиец, до Французского вокзала всего несколько минут ходу, и осторожность подсказывала, что самое разумное — оставаться в убежище как можно дольше, но Эстебан хотел зайти в соседнюю церковь Санта-Мария дель Map и попросить Матерь Спасающую взять его под свое святое покровительство. Гомесу даже в говору не приходило, что, быть может, Святую Марию не очень интересует судьба преступников вроде него.
Эстебан в последний раз огляделся. Скоро у него будет светлая комната, днем залитая лучами чудесного андалусийского солнца, а ночью — мерцанием звезд… Ночное небо в Севилье всегда пронизано светом… Гомес вскрикнул, заметив, что чуть не забыл на стене образ Макарены. Он любовно снял изображение Мадонны в резном окладе и положил в чемодан, между рубашек.
Увидев, как на пороге дома возник силуэт Эстебана Гомеса, полицейские замерли, вжавшись в стену чуть поодаль. Андалусиец, напряженно вытянув шею, долго оглядывал пустынную улицу и лишь потом наконец решился покинуть укрытие. Полицейские позволили ему уйти вперед, немного удивляясь, что парень избрал направление, противоположное тому, чего они ожидали, и направился вовсе не к вокзалу. Крадучись вдоль стен, они старались совершенно слиться с окружающими домами. Оба не спускали глаз с добычи и не заметили, что, едва они покинули укрытие, из темноты за спиной вынырнула еще одна тень и двинулась следом.
На углу площади Санта-Мария полицейские остановились, издали наблюдая, как Гомес с чемоданом в руке направляется к церкви. Они видели, как парень снял шляпу, словно приветствуя статуи святых Петра и Павла, которые, казалось, ожидали его у входа, и вошел в святое место. Инспекторы, слегка растерявшись, не знали толком, как быть. Что могло понадобиться Гомесу в церкви в столь поздний час? Решив, что, войдя следом в пустынную церковь, лишь привлекут внимание андалусийца, наблюдатели подошли поближе и, спрятавшись за выступом портика, стали ждать, пока Гомес покончит со своим благочестивым занятием и снова покажется на глаза. Ни тот, ни другой не обратили внимания на загулявшего прохожего, который, пройдя через площадь, направился мимо церкви Санта-Мария дель Map в сторону калле де Платериас.
Гомес любил эту церковь — под величественными сводами он чувствовал себя в полной безопасности. Три нефа церкви поддерживали восьмиугольные колонны, и Эстебану всегда казалось, что, переступив порог, он попадал в совершенно иной мир да и сам становился другим человеком. Бандит, готовый на все, что угодно, ради нескольких тысяч песет, вдруг бесследно исчезал, и Гомес опять превращался в мальчугана, вместе с другими верующими участвующего в процессии лихорадочными ночами Святой Недели в Севилье. Проскальзывая под высокие узкие своды бокового предела, Эстебан наслаждался восхитительным ощущением полного покоя. Здесь он был дома.
Гомес подошел к главному приделу, где над алтарем, освещенная дрожащим пламенем свечей, улыбалась сама Дева. Он преклонил колени у подножия алтаря. В гулком пространстве церкви стояла полная тишина. И любое, чуть заметное потрескивание рождало пугающе громкое эхо. Но андалусиец не испытывал никаких опасений. Здесь, под покровительством самой Богоматери, с ним не может случиться ничего дурного. Он уже довольно долго молился с непритворной страстью. В том мире, который он сам для себя создал, Эстебан Гомес раз и навсегда отделил вопросы веры от повседневной жизни. И сейчас не убийца молил Деву помочь ему беспрепятственно покинуть Барселону, а верующий, искренне убежденный, что в смертный час он оставит на земле бренную оболочку преступника и предстанет пред Всевышним Судией в первозданной чистоте. Он знал, что Святая Дева будет сидеть одесную Господа, и она поможет маленькому андалусийцу, который так скверно вел себя среди людей. Она скажет своему небесному Сыну, что Эстебану, ее малышу Эстебану просто не повезло.
Слова молитвы струились из приоткрытых губ, как освежающая влага, и жестокий зверь, всегда живший в глубине души Гомеса, успокоился. Однако бдительности он не потерял. Привычка всегда держаться настороже помогла андалусийцу расслышать осторожные, крадущиеся шаги. Губы еще шептали молитву, но сигнал тревоги сработал, и Эстебан стал внимательно прислушиваться. Ему показалось, что рядом кто-то учащенно дышит. Но даже больше, нежели чувства, об опасности предупреждал инстинкт. В первую очередь он поспешил выскользнуть из круга света. Эстебан покинул центральный предел и, нырнув в темноту, стал ловить малейшие шорохи. Все мышцы напряглись для прыжка. Андалусиец вытащил нож и, придержав пружину, чтобы не щелкнула, выпустил лезвие. Как только глаза привыкли к темноте, Гомес стал вглядываться в ту сторону, откуда, как ему показалось, исходил звук. Там как будто белело бледное пятно. Лицо? Медленно и осторожно, как зверь к добыче, Эстебан стал подкрадываться все ближе и ближе. Каждые два шага он останавливался и внимательно слушал. Вскоре он снова уловил чье-то дыхание. Теперь Гомес больше не сомневался, что не ошибся. Рука сжала рукоятку ножа. Добравшись до колонны, за которой, по его расчетам, прятался неизвестный враг, Эстебан замер. Пусть только выдаст свое присутствие! Минуты тянулись бесконечно долго, но Гомес обладал невероятным терпением. Едва темный силуэт отделился от скрывавшей его тени, андалусиец прыгнул. Однако, против ожидания, незнакомец и не подумал сопротивляться, и тот, кого он схватил за плечи, бессильно повис на руках. От растерянности Эстебан не решился нанести удар. Он склонился над лицом противника.
— Так это ты за мной охотился? Почему?
И тут до него донесся чуть слышный шепот:
— Вы помните Пако, сеньор?
Убийца! Открытие обрушилось на него, как разряд тока, и Гомес, отпустив руки, взмахнул ножом. Но прежде, чем он успел нанести удар, в живот вонзилось стальное лезвие. Эстебан на мгновение застыл, и убийца еще раз пырнул его ножом. Андалусиец понял, что никогда больше не увидит Андалусию. Он выронил нож, и под сводами прокатилось гулкое эхо. Оцепенев в неподвижности, Гомес даже не чувствовал боли. Голова лихорадочно пылала, отказываясь признать очевидный факт. В церкви!.. Он умрет в церкви! Забыв, что сам чуть не совершил здесь убийство, Эстебан оторопел от такой чудовищной несправедливости. Эхо шагов убийцы замирало где-то у хоров. Вероятно, он намеревался ускользнуть через дверь, ведущую на зеленый и рыбный рынок. Но Гомес уже не думал о том, кто нанес ему смертельную рану. Волны боли, поднимавшиеся от живота, наливали все тело тяжестью. Андалусиец инстинктивно зажал раны руками и чуть не потерял сознание, почувствовав под пальцами теплую кровь.
— Santa Madre de Dios…[90] — прошептал он.
И Гомес, сам не отдавая себе в том отчета, заплакал. Что-то в его вере вдруг сломалось, и это пугало даже больше, чем неминуемая смерть. Как такое могло произойти, когда он находился под покровительством Девы? Быть может, Эстебан заблуждался? Стиснув зубы, Гомес едва сдерживал рвущийся из глубины души крик. С трудом волоча ноги, он побрел к алтарю, который недавно покинул, отправляясь навстречу судьбе. Почти достигнув цели, андалусиец упал на колени, но снова выпрямился. Наконец он рухнул на ступени алтаря. Даже на красной ткани покрывавшего их ковра отчетливо выделялись крупные пятна крови. Подняв глаза, Эстебан посмотрел на нежно улыбающуюся ему Деву.
— Мама…
Ему еще раз удалось встать и добраться до алтаря. Вцепившись в его край, Гомес левой рукой схватил тяжелый подсвечник и постарался поднять его как можно выше, чтобы получше разглядеть чудесную, полную обещаний улыбку. Эстебан хотел перекреститься, но для этого ему пришлось отпустить опору. В этот миг его и настигла смерть. Гомес скатился со ступенек алтаря, и подсвечник с невообразимым грохотом запрыгал по плиткам пола. Поджидавшие андалусийца полицейские бросились в церковь.
Стоя среди чемоданов у окошка кассы, где продавали билеты на поезда дальнего следования, Нина и впрямь походила на путешественницу, поджидающую спутника. В нескольких шагах от нее оживленно беседовали двое полицейских, переодетых носильщиками, а комиссар Мартин из-за приоткрытой двери служебного помещения наблюдал за действующими лицами, ожидая, когда придет его черед появиться на сцене. Люхи в форме железнодорожника и с красным флажком в руке, казалось, внимательно изучает бумаги механика, стоявшего тут же, рядом, но на самом деле он ждал появления Гомеса и должен был, сразу повернувшись к андалусийцу спиной, взмахнуть флажком. А потом, едва Гомес подойдет к Нине, носильщики предложат свои услуги, молодая женщина согласится, и оба полицейских скрутят парня прежде, чем тот успеет сообразить, в чем дело. У андалусийца не было ни единого шанса избежать уготованной ему судьбы, но все следовало проделать как можно незаметнее для посторонних.
Без двадцати два в зал ожидания вошел один из инспекторов, которым надлежало следить за Гомесом, и разочарованный дон Альфонсо сердито выругался. Сначала комиссар подумал, что его подчиненный просто упустил добычу, но, по тому, как тот держался, не принимая никаких мер предосторожности и явно кого-то ища, быстро понял, что их постигла неудача и ловушка уже не сработает. Еще больше приоткрыв дверь, Мартин подозвал инспектора. Тот немного поколебался, соображая, откуда его окликнули, и поспешил к шефу.
— Сеньор комиссар, ждать дальше бесполезно. Гомес не придет — он умер!
Дон Альфонсо напряженно замер. Итак, полицию в очередной раз обвели вокруг пальца!
— Умер? И каким же образом?
— Его убили… две ножевых раны в живот…
— Дома?
Инспектор, казалось, страшно смутился.
— Увы, нет, сеньор комиссар… В церкви Санта-Мария дель Map.
— В церкви?.. Да вы представляете, какой разразится скандал? Убийство в церкви! Сколько понадобится одних очистительных церемоний! Уж не знаю, возможно, епископу придется даже заново святить храм, а до тех пор запретить богослужения! Право же, лучшей рекламы для нашего отдела просто не придумаешь. Я вас поздравляю!
— Сеньор комиссар, мы с Педро ничего не могли сделать…
— Об этом судить только мне одному. Я вас слушаю, инспектор!
Несчастный полицейский поведал обо всем происшедшем и почему его коллега не поехал на вокзал, а побежал к настоятелю храма. Сам же он, сообщив в управление, поскольку самое главное — поскорее убрать труп из церкви, поспешил с докладом.
— И никаких следов убийцы?
— Нет, сеньор комиссар.
— Что, ни единой улики?
— Мы нашли только нож, но, поскольку на лезвии никаких следов, должно быть, он принадлежал жертве.
— Гениальная мысль! Но по крайней мере это доказывает, что нашего андалусийца не застали врасплох или он хотя бы решил защищаться.
— На всякий случай я отправил нож в лабораторию.
— Вероятно, это не принесет результатов. И больше вам нечего сообщить?
— Мы обнаружили еще вот эту квитанцию.
Инспектор протянул дону Альфонсу бумагу, и тот внимательно ее изучил.
— Выдана на вокзале дель Норте? Странно… Зачем бы Гомесу оставлять там вещи, если он собирался ехать отсюда?
— А может, квитанция принадлежит убийце, сеньор комиссар? Если они подрались, тот вполне мог ее выронить…
— Проверьте. Отправляйтесь на вокзал дель Норте и отвезите ко мне в кабинет то, что вам отдадут в обмен на эту бумажку.
Собравшиеся в кабинете комиссара Мартина выглядели довольно кисло. Они так уверовали в близкую победу, что воспринимали провал с особой горечью. Люхи не думал о скандале, который вызовет это убийство в церкви. Вне себя от ярости, он думал лишь о том, что смерть Гомеса лишила их важного свидетеля обвинения против Виллара. Неужто им так никогда и не одолеть дона Игнасио?
Дежурный принес сообщение от полицейских, следивших за виллой «Тибидабо». Они докладывали, что дон Игнасио вернулся домой полчаса назад, прошел к себе в кабинет и теперь, с сигарой в зубах, читает газеты. Дон Альфонсо стукнул кулаком по столу.
— Полчаса? Значит, у него было время убить Гомеса и вернуться домой. Все отлично совпадает. Тем хуже! Я готов взять на себя всю ответственность за возможные последствия. Будь что будет, но Виллара мы заберем! И черт меня возьми, если я не заставлю его говорить!
Нина, которую смерть андалусийца повергла в легкое оцепенение, казалось, вновь обрела вкус к жизни.
— Значит, он и есть убийца, которого все так долго разыскивают, сеньор комиссар? Я всегда это подозревала, а Гомес не желал верить!
— Вы возьмете меня с собой, шеф? — с легкой тревогой спросил Люхи.
Мартин улыбнулся.
— Я не забываю о своих обещаниях, Мигель! Ты сам его арестуешь!
Даже если бы Люхи сообщили, что его назначают комиссаром, он бы так не обрадовался.
Пока дон Альфонсо раздавал приказы, Мигель вдруг вспомнил о данном жене обещании. Он позвонил Конче и предупредил, что до утра наверняка не вернется, поскольку сейчас едет в «Тибидабо», где наконец-то арестует своего давнего врага. Конча встревожилась и не желала успокоиться, пока не получила заверения, что дон Альфонсо отправится вместе с ее мужем, а этот последний ни на шаг не отступит от приказа. Прежде чем повесить трубку, она сказала, что подождет Мигеля, — надежда на скорое завершение всех их горестей в любом случае помешает уснуть. Люхи поклялся, что неприятностям и вправду конец, и посоветовал складывать чемоданы для нового свадебного путешествия.
Собрав всех нужных людей, комиссар повернулся к Нине.
— Я думаю, для вас вся эта история окончена, сеньорита. Гомес — в морге, Виллар, правда, еще дома, но мы за ним едем. В подобных обстоятельствах, я думаю, вам больше нечего опасаться кого бы то ни было, так что можете спокойно отдыхать. Где я завтра смогу вас найти в случае необходимости?
— В «Колоне».
— Превосходно. Хотите, я дам вам провожатого?
— Благодарю вас, сеньор комиссар, не нужно. Я наверняка сумею найти такси.
— А мы сейчас вам его вызовем. Спокойной ночи, сеньорита, и спасибо.
Глава XII
Переодевшись, она тихонько выскользнула из дому и в первый попавшийся почтовый ящик бросила письмо дону Хасинто, ризничему церкви Нуэстра Сеньора де лос Рейес. Она улыбнулась, представив, какое выражение лица будет у славного старика, когда он вытащит из конверта сто песет и записку с просьбой купить на эту сумму свечей, дабы горели они в честь Непорочной. Вместо подробных объяснений она написала просто: «За оказанную милость». Нельзя же было уточнять, что таковой она считает смерть Эстебана Гомеса, одного из убийц Пако… Женщина двигалась легким танцующим шагом — ей и в самом деле хотелось плясать. Если повезет и все пойдет по ее плану, еще до рассвета последние из тех, кто виновен в смерти Пако и ее собственном загубленном будущем, покинут этот мир.
Вернувшись к себе в комнату после недолгой ночной прогулки, она сняла трубку телефона и набрала номер, а потом, опустившись в кресло, стала мечтать о Пако, ибо теперь у нее ничего не осталось, кроме воспоминаний и грез.
Не желая раньше времени оповещать Виллера о своем появлении, они оставили машины довольно далеко от виллы Тибидабо. Мартин и Люхи, а за ними еще два инспектора, стараясь не шуметь, продвигались к дому. Однако едва они успели подойти к воротам, как из темноты выскочили полицейские, наблюдавшие за всеми передвижениями вокруг виллы. Дон Альфонсо шепотом отдал приказ перелезть через стену и войти в парк. Возможно, это не очень законно, но комиссар устал быть единственным, кто во всей этой истории играет по правилам. А кроме того, он рассчитывал нагрянуть к бандиту неожиданно. Однако самому Мартину оказалось не по силам перебраться через стену, и двум инспекторам пришлось подсаживать его снизу, в то время как третий, сидя верхом на стене, подтягивал шефа наверх. Несколько минут дон Альфонсо переводил дух, но едва его старое сердце перестало отчаянно трепыхаться, все снова двинулись в путь.
Спрятавшись за деревьями в парке, полицейские отлично видели Виллара. Тот сидел в кресле, спокойно покуривая сигару, а рядом, под рукой на столе поблескивала рюмка коньяка. Мартин подумал, что скоро все это спокойствие разлетится вдребезги,
и невольно порадовался про себя. Комиссар чувствовал, что Люхи рядом с ним дрожит от нетерпения. Двух инспекторов он послал наблюдать за черным ходом и приказал хватать всякого, кто попытается бежать, минуя парадную дверь. Двое других остались на наблюдательных местах перед фасадом. Дон Альфонсо строго запретил всем покидать позиции иначе, как по его свистку. Каждому надлежало оставаться на месте, даже если начнется пальба — Виллар может прибегнуть к такой хитрости, чтобы освободить путь к бегству. После этого полицейские растворились в ночной темноте, оставив Мартина и Люхи вдвоем. Комиссар положил руку на плечо друга.
— Твой ход, Мигель! Если будешь действовать с умом — мы уедем отсюда вместе с убийцей Пако, Риберы, Миралеса, Пуига и Гомеса… а быть может, и твоего отца… Для тебя наконец наступил долгожданный час. Как только ты схватишь его за шиворот, я свистну и мы все войдем. Я дам тебе время влепить несколько пощечин, которых этот подлец давно заслуживает, но, гляди, не больше! А, Мигель? Веди себя разумно! Впрочем, на всякий случай стоит принять дополнительные меры предосторожности… Дай-ка мне свой револьвер!
— Пожалуйста, шеф, мне и кулаков хватит!
Люхи протянул Мартину оружие, и тот сунул его в карман пиджака.
— Так ты хорошо меня понял? Ты незаметно входишь и, воспользовавшись замешательством, которое не может не вызвать твое внезапное появление, говоришь, будто Гомес у нас в руках и обвиняет его в известных тебе преступлениях. И ни в коем случае не пускай его к телефону!
— Положитесь на меня!
— Ну, так иди, Мигель, и желаю тебе удачи!
Мартин проводил глазами фигуру своего помощника, а когда тот скрылся в темноте, снова поглядел на Виллара. Тот по-прежнему сидел в кресле. Все это дьявольски незаконно, и комиссар знал, что очень крупно рискует, но что поделаешь! Некоторые счеты никогда не сведешь, строго придерживаясь буквы закона. Люхи, должно быть, почти добрался до виллы, как вдруг зазвонил телефон. Дон Альфонсо видел, как Виллар поднял трубку, немного послушал, потом быстро опустил трубку на рычаг, бросился к секретеру и, достав из ящика пистолет, снял предохранитель, а затем повернулся к двери. Комиссар понял, что дона Игнасио предупредили и он, Мартин, сам о том не догадываясь, быть может, послал подчиненного на смерть. Уже не заботясь о том, услышат его или нет, дон Альфонсо бросился к дому, но, едва он успел подняться на крыльцо, прогремели два выстрела. Комиссар тоже выхватил револьвер. Оказавшись в доме, он пинком распахнул дверь кабинета.
— Брось оружие, Виллар!
— Но…
— Брось оружие, или я выстрелю!
Дон Игнасио послушно выпустил из рук револьвер.
— Это был случай законной самозащиты, — слегка задыхаясь от страха, пробормотал он.
Между ними лежало тело Мигеля. Мартин опустился на колени.
— Мигель… Мигель, старина… — прошептал он.
Люхи открыл глаза.
— Мне конец, дон Альфонсо… Он не промазал…
Комиссара охватила такая печаль, но язык не поворачивался бесцельно лгать. По лицу его беззвучно струились слезы.
— Прости меня, Мигель, я не мог знать заранее… — снова шепнул он.
Люхи слабо улыбнулся.
— Ни… чего… это… не… важно. Моя смерть… его по… губит… Он… он… не выйдет… сухим… из воды… скажите, ко… миссар?
— Клянусь тебе!
— Тогда… все… хорошо…
Мигель опять закрыл глаза.
— Конча… ро… pobre… cita…[91]
Все было кончено. Мигель Люхи пал при исполнении служебных обязанностей. Мартин медленно встал.
— Игнасио Виллар, я арестую вас по обвинению в убийстве инспектора Люхи, — без всякого выражения сказал он.
— Вы не имеете права! Это была законная самозащита! Он пришел меня убить!
— Каким образом? Инспектор был безоружен!
— Откуда же я мог знать? Он сам ворвался в мой дом ночью, и любой адвокат докажет, что я не виноват!
Дон Альфонсо понимал, что это правда. Знал он, что теперь, когда Гомес мертв, несмотря даже на показания Нины, Виллар вполне может выкрутиться. Его показания — против показаний молодой женщины. Шансы равны. И Мигель останется неотомщенным, как и его отец, как и Пако… Нет, такое нельзя допустить…
— Виллар, ты помнишь Энрико Люхи, беднягу полицейского, которого ты когда-то зарезал по приказу Грегорио? Помнишь Пако Вольса? Это ты приказал Гомесу его убить. А помнишь, жил на свете инспектор Мигель Люхи, и он не хотел, чтобы эти преступления остались безнаказанными? Инспектор, которого ты только что застрелил…
Дону Игнасио снова стало страшно.
— Вы с ума сошли, комиссар, — с трудом выдавил он из себя. — Что это еще за россказни? Насчет вашего Люхи — не спорю, но…
— Подними револьвер!
— А?
— Я сказал: подними с полу свой револьвер!
Окончательно выбитый из колеи Виллар выполнил приказ, и как только револьвер снова оказался у него в руках, комиссар снова приказал:
— Стреляй!
— Что?
— Стреляй!
— Но, Господи Боже, куда вы хотите, чтобы я выстрелил?
— Вот сюда… в стену… примерно на таком уровне… и постарайся хорошенько прицелиться!
— Но зачем вам это понадобилось?
— Потом объясню!
— А если я откажусь?
— Тогда я сам выстрелю в тебя и, уж можешь поверить, не промахнусь!
Дон Игнасио понял, что полицейский выполнит угрозу, и, тщательно прицелившись, выстрелил.
— Браво, Виллар! Как раз рядом с моей головой!
— Но зачем…
— Чтобы обеспечить мне алиби!
И комиссар, в свою очередь, выстрелил. Получив пулю в лоб, дон Игнасио широко открыл глаза от удивления и без звука рухнул ничком. Мартин снова опустился на колени у тела Мигеля.
— Готово дело, малыш… Теперь можешь спать спокойно.
Комиссар Мартин только что хладнокровно убил человека, но ему так и не удалось вызвать в себе ни малейших угрызений совести. Не думал он также, что потом, когда придется давать отчет о земном бытии, Всевышний поставит ему это убийство в вину.
Рассвет потихоньку прояснял небо над морем. Полагая, что комиссар Мартин составляет рапорт, никто из инспекторов не решался войти к нему в кабинет. Однако, по правде говоря, дон Альфонсо не написал еще ни строчки. Не позвонил он и Мерседес, чтобы сообщить о смерти их друга. Потрясенный и опечаленный, он вновь переживал в памяти все радости и огорчения, пережитые вместе с Мигелем Люхи. Но больше всего его тревожила необходимость поехать на калле Росельон и объявить Конче, что она стала вдовой. Как она примет такой удар? На какое-то мгновение комиссару захотелось малодушно перепоручить эту страшную миссию жене, но ему тут же стало стыдно за подобную мысль. Нет, он должен до самого конца остаться с Мигелем и Кончей.
Невзирая на советы коллег, дежурный осмелился войти в кабинет комиссара. Тот встретил его не слишком любезно.
— Что вам надо?
— Сеньор комиссар, вот чемоданчик, который получили в камере хранения в обмен на квитанцию на вокзале де Норте, и текст разговоров, которые записывали по вашему приказу.
— Ладно. Положите все это на стол и убирайтесь!
Дежурный не заставил его повторять приказ дважды, а тем, кто ждал в приемной, объяснил, что в настоящий момент дона Альфонсо лучше не беспокоить. Однако не успел парень покончить с объяснениями, как дверь распахнулась и на пороге появился комиссар Мартин. Всем вдруг показалось, что перед ними глубокий старик.
— Валербе, — каким-то тусклым голосом окликнул он одного из инспекторов. — Позвоните моей жене и скажите, что я скоро вернусь, но не рассказывайте больше ни о чем. Я сам сообщу ей о смерти нашего коллеги… А теперь я еду к сеньоре Люхи…
По выражению лица дона Альфонсо Конча поняла, что произошло нечто весьма серьезное.
— Мигель? — выдохнула она, едва осмеливаясь произнести имя мужа.
— Сейчас я вам все объясню, донья Конча, — вкрадчиво проговорил комиссар Мартин.
Оба молча вошли в гостиную, и, казалось, сама смерть ступает рядом. Как только они уселись, дон Альфонсо заметил, какое усталое и измученное у доньи Кончи лицо.
— Скажите мне, дон Альфонсо… — простонала она. — Мигель… он… умер?
Мартин лишь кивнул в ответ. Что тут можно сказать?
— Это Виллар его…
— Да.
— Вы… вы его арестовали?
— Нет, застрелил.
Она с облегчением вздохнула.
— Значит, все?
— Да, донья Конча.
— Бедный мой Мигель…
Комиссар встал и положил руку ей на плечо.
— Я счастлив, что он мертв.
Конча вздрогнула.
— Что такое вы говорите?
— Я сказал, что рад его смерти.
Она удивленно воззрилась на комиссара.
— Но это… невероятно… Вы, дон Альфонсо?.. А ведь Мигель был вашим другом! Вашим лучшим другом!
— Да, моим единственным и последним другом.
— Так почему же вы радуетесь его смерти?
— Благодаря этому Мигель не узнал, что его убила собственная жена.
— Что?
— Успокойтесь, донья Конча. Я приказал подключить к линии Виллара подслушивающее устройство и сегодня получил текст предупреждения, полученного доном Игнасио в тот момент, когда к нему уже шел Мигель. Надо ли пересказывать вам эти слова, донья Конча? Я знаю их наизусть: «Осторожно, дон Игнасио, инспектор Люхи — на подступах к вашему дому, и он собирается вас убить!» И звонили отсюда, донья Конча. Кто же еще мог предупредить Виллара, тем более что мои инспекторы узнали женский голос?
Она тяжело опустилась на стул.
— То, что вы сказали, просто гнусно… Почему, о, почему я бы стала пытаться убить Мигеля, который так меня любил?
— Да потому что вы его не любили… А любили вы Пако Вольса и считали Мигеля таким же виновником его смерти, как и остальные… те, с кем вы тоже разделались, донья Конча.
Комиссар поставил на стол чемоданчик, открыл крышку и достал платье.
— Оно вам знакомо, не так ли? Во всяком случае, я сам помню, что видел его на вас… Так что давайте покончим с этим делом. Где нож и костюм?
— Я вас не понимаю, — без особого убеждения в голосе пробормотала она.
— Входя в дом, я обещал вам все объяснить… Итак, вы были любовницей Пако Вольса. Что это вам давало? Не знаю, возможно, обещание второй молодости. Вы рассердились на Мигеля, когда, вопреки всем моим возражениям, он послал Пако к Виллару. Получив страшную посылку и убедившись, что Вольса убили, вы одинаково возненавидели Виллара, Мигеля и непосредственных убийц. Но все же сделали вид, будто поддерживаете намерения мужа. На самом же деле вы всеми средствами пытались его скомпрометировать и внушить мне, будто эту серию преступлений совершил Мигель. Вы наносили рану в живот только потому, что знали, каким образом погиб отец Люхи, и совершенно справедливо полагали, что подобное совпадение не сможет меня не насторожить. Как только Мигель бросался преследовать противников, вы тоже выходили из дому, ехали на вокзал де Норте и там, в туалете, переодевались. Входила молодая женщина, а выходил паренек. Чемоданчик с одеждой вы оставляли в камере хранения, а потом снова переодевались. Не знаю, есть ли в камере сторожиха, но если так, должно быть, вы рассказали ей, что вынуждены менять платье, отправляясь на свидание с возлюбленным. Мы, испанцы, так помешаны на любви, что готовы поверить самым нелепым россказням, стоит придать им романтическую окраску… Однако в стычке с Гомесом вы потеряли квитанцию.
Пока ваш муж поджидал Риберу у него дома, вы успели прикончить парня, и, не знай я так хорошо Мигеля, непременно поверил бы в его виновность. Вы попросили у моей жены снотворное, пожаловавшись, что Мигель плохо спит по ночам, и, усыпив мужа, спокойно пошли убивать Миралеса. Что касается Пуига, то вам просто повезло. Но, впрочем, можно было не торопиться. Упусти вы его той ночью — вернулись бы на следующую. А если бы Мигель заметил ваше отсутствие, всегда можно было сослаться на терзавшую вас тревогу — вы, мол, бросились его искать. А о Гомесе вам рассказал сам Мигель после моего звонка. Он об этом упоминал.
В тот вечер, когда Люхи помчался в кабаре, вы позвонили мне вовсе не для того, чтобы его спасти. Нет, вы надеялись, что я возьму Мигеля с поличным, над трупом Виллара. Предупредив же дона Игнасио сегодня ночью, вы рассчитывали, что он убьет Люхи, а мое присутствие на месте преступления гарантировало, что и он не уйдет от наказания. Чудовищно ловко разыграно, донья Конча, и не будь потерянной квитанции да подслушанного разговора, вам бы удалось выйти сухой из воды. А теперь принесите мне нож и костюм.
Она тяжело поднялась и, ни слова не говоря, подошла к платяному шкафу. Дон Альфонсо шел следом. Все так же молча сеньора Люхи передала ему нож, который комиссар тут же аккуратно обернул платком, и костюм Пако, служивший ей в ночных приключениях. Мартин сложил это все в чемоданчик.
А потом они долго смотрели друг на друга. Без ненависти, лишь с огромной грустью. Конча тусклым, безжизненным голосом попыталась объяснить свое поведение:
— Невесело было жить с Мигелем… Молодость давно ушла из его сердца, и он убивал то, что осталось от моей. Я уже почти смирилась с этой тоскливой жизнью, как вдруг появился Пако. Он все время смеялся. Он ухаживал за мной, на что до того никто никогда не осмеливался. Он говорил мне слова, которых я раньше не слышала. Я полюбила Пако. И он меня полюбил. Мы поклялись друг другу вместе уехать в Южную Америку и начать жизнь заново, а потом они его убили… Для меня все было кончено. Я не могла надеяться, что встречу другого Пако, да и не хотела этого. Мстя убийцам, я доказывала ему свою любовь. Не я, а сам Пако моей рукой наносил удары этим людям. Да, я ненавидела Мигеля, потому что без него Пако ни за что не ввязался бы в такую авантюру, без него Пако остался бы жив и мы оба смогли бы обрести счастье…
Конча умолкла. Она даже не пыталась просить прощения и явно не чувствовала за собой никакой вины. На висках дона Альфонсо поблескивали капельки пота — он отлично понимал, что может сейчас совершить второе преступление. Комиссар вытащил из кармана револьвер и положил на стол.
— Вот револьвер Мигеля, донья Конча, — мягко, почти по-дружески проговорил он. — Люхи не вынес бы мысли, что его жене придется предстать перед судом… Около полудня я вернусь арестовать вас… Adios![92]
Конча, по-прежнему в прострации, не ответила. А дон Альфонсо, уже собираясь уходить, вдруг обернулся:
— Кстати, вы должны знать… что убили Мигеля совершенно зря…
Она удивленно вскинула голову.
— Да, ваш Пако был мелким проходимцем… Все, что он обещал вам, он обещал и другой женщине, еще одной своей любовнице… А от вас же он хотел денег и только денег.
— Это неправда! — вскрикнула Конча.
— Даю вам честное слово, сеньора.
И дон Альфонсо закрыл за собой дверь.
Комиссар Мартин в рассеянности не ответил на приветствие консьержки, поджидавшей его на пороге дома, и уже успел отойти на несколько шагов, когда вдруг прогремел выстрел. Дон Альфонсо на мгновение замер. Обернувшись, он увидел искаженное страхом лицо консьержки:
— Что это такое?
— Выстрел.
— Madre de Dios! И где же это?
— Идите за мной!
Они, как могли быстро, стали карабкаться по лестнице, не обращая внимания на расспросы встревоженных жильцов, уже успевших высыпать на лестничную площадку. Остановившись у квартиры Люхи, Мартин тщетно попытался открыть дверь.
— У вас есть дубликат?
Консьержка дрожащей рукой протянула комиссару ключи. Дон Альфонсо вошел, не замечая, что следом идут любопытные. Конча упала там, где он оставил ее несколько минут назад. В руке она сжимала револьвер Мигеля. Дуло его так и осталось прижатым к сердцу. При виде трупа женщины разразились воплями и стенаниями. Они призывали Всевышнего, Богоматерь и всех святых, недоумевая, что могло толкнуть такую порядочную женщину, как сеньора Люхи, на подобный поступок. Консьержка повернулась к дону Альфонсо:
— Вы ведь из этой квартиры вышли, сеньор?
— Да… я приходил сообщить, что ее супруг пал при исполнении служебных обязанностей.
Рыдания и стоны возобновились с удвоенной силой. И снова причины трагедии объяснила консьержка. Призвав всех к молчанию, она торжественно изрекла:
— Если хотите знать мое мнение, la pobrecita наложила на себя руки, потому что не мыслила жизни без своего мужа… И за это Господь ее простит!
Комиссар вздохнул: этого он и ожидал. Соседи, высказавшись в том же духе, тихонько вышли из квартиры. Дон Альфонсо и консьержка снова остались вдвоем.
— Лучше ничего пока не трогать, верно?
— Да, действительно, лучше не трогать… Я сделаю все, что нужно.
Они заперли дверь и бок о бок пошли вниз.
— Вы думаете, их похоронят вместе?
— Не знаю.
— А надо бы! Уж как эти двое друг друга любили — ни разу не видала ничего подобного!
Шарль Эксбрайя
ОПЯТЬ ВЫ, ИМОЖЕН?

Денизе Шмит-Крейс — в знак дружеского почтения.
Ш.Э.
Главные действующие лица
Иможен Мак-Картри.
Арчибальд Мак-Клостоу — сержант, начальник полиции Каллендера.
Сэмюель Тайлер — констебль.
Эндрю Копланд — суперинтендант полиции графства Перт.
Кейт Мак-Дугал — директор колледжа Пембертон.
Мойра — его жена.
Оуэн Риз — преподаватель английского языка.
Морин Мак-Фаддн — преподаватель французского языка.
Элспет Уайтлоу — преподаватель физики и химии.
Гордон Бакстер — преподаватель физкультуры.
Флора Притчел — преподаватель изобразительных искусств.
Дермот Стюарт — преподаватель истории и географии.
Патрик О'Флин — преподаватель математики.
Норман Фуллертон — преподаватель истории британской культуры.
Элисон Кайл — ученица колледжа Пембертон.
Джерри Лим — ученик колледжа Пембертон.
Хэмиш-Грегор-Александр Кайл — отец Элисон.
И все уже знакомые читателю обитатели Каллендера.
Пролог
С тех пор как он научился мыслить, Норман Фуллертон всегда жалел, что не родился в Шотландии. Сын профессора, Норман решил пойти по стопам родителя, но, получив диплом, тут же отправился преподавать в Горную страну. И, как человек упорный, достиг цели. Благодаря своим статьям и исследованиям Фуллертон мог бы с легкостью получить место в любом британском университете, но, словно поэт, влюбленный в мечту, предпочел выбрать наиболее удаленный от всех центров цивилизации уголок, зато такой, где в полной мере чувствовалась связь с древней землей Верхней Шотландии. Именно таким образом в 1962 году Фуллертон стал читать курс истории британской культуры ученикам колледжа Пембертон в графстве Перт.
Большой любитель пешей ходьбы, в свободный от занятий часы Норман совершал долгие прогулки по пустошам, где, казалось, каждый камешек, каждый клочок земли дышит легендой. Среди небольших городков и деревень, попадавшихся на его пути, Фуллертон особенно полюбил Каллендер и очень подружился с Тедом Булитом, хозяином «Гордого Горца». Последний с воодушевлением стал рассказывать новому приятелю о своей любимой героине, славе городка Иможен Мак-Картри. В это время неистовая рыжая шотландка доживала последние дни и часы в Лондоне. Годы вынуждали ее покинуть пост начальницы машбюро в Адмиралтействе и уйти в отставку. Все (по крайней мере друзья Иможен) надеялись, что она вернется на родину и внесет в тамошнюю слишком монотонную жизнь некоторое оживление. Короче, Тед так много и увлеченно рассказывал о подвигах дочери капитана, что Фуллертон искренне уверовал: пока он не познакомится с мисс Мак-Картри, истинной Шотландии ни за что не узнает.
В тот вечер Норман допоздна засиделся, правя статью о творчестве Джона Нокса. Он любил эти часы полного безмолвия, когда все обитатели колледжа от директора до горничной наслаждаются заслуженным отдыхом от дневных забот. В такое время Норману казалось, будто он еще глубже проникается духом шотландской поэзии. Собираясь спать, Фуллертон хотел выпить воды, но графин оказался пустым. Чем страдать от жажды, он решил прогуляться в другой конец коридора и наполнить графин в ванной. Дабы не нарушить мирный сон коллег, Фуллертон старался ступать по ковру как можно тише и вдруг с удивлением заметил, что из-под одной двери выбивается полоска света. А он-то воображал, будто один бодрствует в столь поздний час! Норман собирался постучать к товарищу по бессоннице и пожелать ему спокойной ночи, как вдруг до него донеслись отзвуки ссоры. Противники явно пытались приглушать голоса, но все же чувствовалось, что они терпеть не могут друг друга. В колледже Пембертон далеко не каждый день услышишь, чтобы люди разговаривали между собой в таком тоне, поэтому Фуллертон, несмотря на природную сдержанность и такт, от изумления стал прислушиваться, сдерживая дыхание. Услышанное его потрясло. По-видимому, собеседники питали друг к другу безграничную ненависть, и их взаимные угрозы отнюдь не выглядели безобидной шуткой. Норман чувствовал, что оба говорят совершенно искренне, всерьез. С этой минуты он не сомневался, что очень скоро кто-то из обитателей Пембертона погибнет насильственной смертью. Фуллертону захотелось скорее отойти подальше и вернуться к себе в комнату, но страх настолько парализовал его движения, что бедняга едва передвигал ноги, и, прежде чем он успел скрыться, где-то за спиной скрипнула дверь. Норман приказал себе не оборачиваться, но всем телом ощущал чей-то взгляд. Его, конечно, узнали. А может, если он спокойно пойдет дальше, ссорившиеся подумают, что он ничего не слышал?..
Фуллертон лег в постель, но, невзирая на темноту и поздний час, сон не шел. Да и можно ли уснуть, зная, что готовится убийство? И каким образом помешать намерениям преступника? Предупредить директора? Но он лишь возмутится, ибо раз и навсегда решил, что в его колледже работают исключительно леди и джентльмены, а потому даже слушать не станет. Полиция просто рассмеется, посоветует не так плотно ужинать и таким образом избавиться от ночных кошмаров. Чувствуя, что совершенно бессилен, Фуллертон в отчаянии вертелся с боку на бок, как вдруг вспомнил об этой Иможен Мак-Картри, которую с таким пылом воспевал Тед Булит. Если эта женщина способна совершить хотя бы половину того, что о ней рассказывают, то уж наверняка сообразит, как помешать преступлению.
Глава I
Суперинтендант Эндрю Копланд не без основания полагал, что жизнь прекрасна. Во-первых, ему еще не стукнуло пятидесяти и он чувствовал себя мужчиной в расцвете лет, тем более что на здоровье не жаловался, а Мэгги, прожив с мужем двадцать лет, продолжала считать его незаурядной личностью. Во-вторых, сын Копландов Дэвид очень неплохо учился в колледже Пембертон, и это позволяло надеяться, что в один прекрасный день он получит-таки вожделенный диплом врача. В-третьих, Копланд не сомневался, что либо в следующем, либо уже в этом году его назначат старшим суперинтендантом. Ну и в довершение прочих радостей как не добавить, что Эндрю посчастливилось жить «в славном городе» Перте? Из окна кабинета он мог любоваться, как Тэй протекает под Пертским мостом и мостом Королевы. А по другую сторону реки раскинулись загородные виллы — в одной из них Мэгги наверняка уже готовит супругу обед. Так что не обремененный всякими комплексами суперинтендант вполне мог считать себя одним из счастливейших людей во всей Шотландии и охотно благодарил за это Всевышнего.
Во вверенном ему графстве Перт царило полное спокойствие, и Копланд, которого обычно не одолевали никакие важные и безотлагательные заботы, мог мечтать о будущем в таких радужных тонах, что на его, уже чуть расплывшемся от домашней стряпни лице блуждала улыбка. Постучав в дверь кабинет, дежурный Томас Джонсон нарушил блаженную дремоту шефа.
— Ну? — слегка встряхнувшись, крикнул тот.
Джонсон сообщил, что какой-то сержант пришел на аудиенцию, назначенную ему самим же суперинтендантом. Копланд взглянул на календарь и убедился, что действительно именно в этот день и час согласился принять некоего Арчибальда Мак-Клостоу, ответственного за общественный порядок в Каллендере.
— Ладно, пусть войдет…
Несколько секунд спустя Копланд узрел в дверном проеме колосса, облаченного в форму полиции Ее Величества. Грудь сержанта, словно огромное пятно крови, покрывала удивительная огненно-красная борода. Новоприбывший щелкнул каблуками и представился начальству:
— Сержант Арчибальд Мак-Клостоу из Каллендера, сэр.
— Рад видеть вас, сержант. Садитесь…
— С вашего позволения, сэр…
Мак-Клостоу церемонно снял каску и, устроив ее на сгибе локтя, вежливо опустился на краешек предложенного ему кресла.
— Ну, сержант, в Каллендере что-нибудь случилось?
— Пока все идет отлично, сэр.
— Превосходно! Население ведет себя благопристойно?
— Как нельзя лучше, сэр!
— Сколько у вас помощников?
— Один, сэр. Констебль Сэмюель Тайлер.
— Вы им довольны?
— Истинный пример для молодежи, сэр.
— Просто замечательно, а? Так чего же вы от меня хотите?
— Я пришел просить вас немедленно перевести меня в другое место, а если это невозможно — до срока отправить в отставку.
Копланд недоверчиво поглядел на собеседника:
— Надеюсь, это не глупая шутка, сержант?
— Нет, сэр, о нет!
— Может, вас беспокоит здоровье?
— Спасибо, сэр, нисколько.
— Тогда я ничего не понимаю… Вы сами уверяете, будто Каллендер — великолепный пост для полицейского, что ваш помощник не оставляет желать лучшего… Или вам больше не нравится в Каллендере?
— Я успел полюбить здешние края, сэр, и мне очень грустно их покидать… Это разобьет мне сердце…
— Что ж, оставайтесь!
— Невозможно, сэр, я вовсе не хочу умереть в клинике для умалишенных, в смирительной рубашке!
— Что вы болтаете, сержант?!
Копланд терпеть не мог непонятных разговоров, и, если что-то выходило за рамки его разумения, начинал подозревать собеседника в неуместном желании поиздеваться.
— Если вы не хотите, чтобы я счел вас злым шутником, Мак-Клостоу, живейшим образом советую объяснить наконец, в чем дело! — сухо заметил суперинтендант.
Сержант огромным усилием воли подавил сотрясавшую его дрожь и попытался говорить достаточно спокойно:
— Сэр… Вы когда-нибудь слышали об Иможен Мак-Картри?
— Иможен Мак-Картри… Что-то знакомое… Во всяком случае, я уже где-то слыхал это имя… А! Не та ли это удивительная особа, что очистила Каллендер от целого шпионского гнезда? [93] А год или два назад с помощью уголовной полиции Глазго сумела прояснить преступление, до того остававшееся безнаказанным? [94]
— Совершенно верно, сэр… Эта рыжая баба — настоящее исчадие ада! Стоит ей появиться в нашем мирном Каллендере — и мы только и делаем, что подбираем покойника за покойником! А весь город приходит в страшное волнение! Всякий раз мой помощник Сэмюель Тайлер стареет сразу на несколько лет, а я чуть ли не схожу с ума… Я больше не в силах выносить это дьявольское создание, сэр! Одного ее вида достаточно, чтобы у меня начался припадок…
Суперинтендант Копланд с удивлением видел, что его собеседник совершенно искренен. Даже от упоминания об Иможен Мак-Картри этого колосса бросало в дрожь…
— Я не совсем понимаю вас, сержант… Насколько мне известно, особа, внушающая вам столь сильные опасения, вовсе не живет в Каллендере. Правильно?
— Да, сэр. Она живет и работает в Лондоне… кажется, в Адмиралтействе.
— Так в чем же дело?
В голосе Арчибальда Мак-Клостоу послышались истерические нотки:
— А в том, что Иможен Мак-Картри уходит в отставку, сэр! И окончательно возвращается в Каллендер! Слышите, сэр? О-кон-ча-тель-но! Ее ожидают со дня на день…
— Короче, вы просите у меня разрешения дезертировать?
— Не знаю… Я совсем запутался… Все, о чем я мечтаю, сэр, это больше никогда не видеть Иможен Мак-Картри!.. Умоляю вас, сэр! Я не желаю свихнуться или совершить убийство! Я вовсе не хочу угодить на виселицу!
— Какое еще убийство?
— Я убью ее, сэр! Я чувствую, что прикончу ее собственными руками!
Эндрю Копланд, которого обычно никто и ничто не могло вывести из себя, мгновенно взорвался:
— Молчать!
Приказ прозвучал так грозно, что трудившиеся над досье в соседней комнате инспекторы немало удивились. Копланд, слегка устыдясь, что настолько утратил хладнокровие, продолжал уже более спокойно:
— Замолчите, сержант! Я предпочитаю сделать вид, будто ничего не слышал. Сколько лет вы прослужили в полиции, Мак-Клостоу?
— Двадцать шесть, сэр.
— И, проработав у нас двадцать шесть лет, вы готовы спасаться бегством от женщины?
— Да, но от какой, сэр!..
— Если мне не изменяет память, по-моему, мисс Мак-Картри не преследовали по закону?
— Наоборот, сэр, еще и поздравили!
— И вы так боитесь честной гражданки Соединенного Королевства? Живо возвращайтесь в Каллендер, сержант Мак-Клостоу, и, если вы верующий, помолитесь Всевышнему, чтобы я забыл о вашей смехотворной выходке! Вы свободны!
Арчибальд с трудом встал. Стоя перед суперинтендантом, он колебался между терзавшим его страхом и чувством долга, привычным уважением к дисциплине.
— Сэр…
— Что еще?
— С тех пор как дошли слухи, что она возвращается навсегда, в Каллендере — настоящее светопреставление!
— Тем больше у вас оснований, сержант, внимательнее следить за порядком, а не покидать вверенный вам пост из-за всяких пустяков!
Мак-Клостоу снова надел каску, еще раз щелкнул каблуками, отдал честь и вышел из кабинета суперинтенданта, как обреченный на адские муки грешник — со Страшного суда, где Отец и Сын будут взвешивать наши дурные и добрые дела.
Выйдя на набережную, Мак-Клостоу склонился над Тэем. Не испытывай сержант столь сильного отвращения к воде, возможно, он бросился бы в реку — уж слишком не хотелось больше иметь дело с гнусной рыжей шотландкой. Однако у Арчибальда была острая аллергия на воду, а потому он отправился в бар «Опоссум и Священник» в робкой надежде с помощью «Джонни Уокера» хоть на время забыть о кипящем в ожидании мисс Мак-Картри Каллендере.
А в Каллендере меж тем действительно кипели страсти: одни вспоминали недавнее прошлое, другие рассуждали о будущем, полагая, что оно должно превзойти все возмож ные ожидания. Так или иначе, обыватели ждали чего-то из ряду вон выдающегося. Когда Розмери Элрой, после смерти матери ставшая нянькой Иможен, а потом и прислугой, сообщила своему мужу Леонарду, что мисс Мак-Картри возвращается на родину, намереваясь дожить здесь остаток дней, старик передал новость закадычному другу, сторожу рыбнадзора Фергусу Мак-Интайру, а уж от него о великом событии мигом проведали в «Гордом Горце», хозяин коего Тед Булит в честь праздника угостил всех, кто в тот момент оказался в кабачке, в то время как его жена Маргарет, запершись на кухне, грозила Господу перейти в католичество, если эта проклятая Иможен не прекратит сеять смятение и раздор в порядочных семьях Каллендера.
Услышав новость, Джефферсон Мак-Пантиш, хозяин гостиницы «Черный Лебедь» стал подумывать, не продать ли заведение, пусть даже с убытком для себя. Бакалейщица Элизабет Мак-Грю торжественно предупредила мужа, Уильяма, что, коли супруг допустит хоть малейшую фамильярность с рыжей стервой, она, Элизабет, немедленно покончит с собой прямо у него на глазах. Мак-Грю ответил жене, что лучше б ей не вводить его в искушение! Миссис Плери, миссис Шарп и миссис Фрэйзер тотчас побежали к преподобному Хекверсону, и святой человек совершил смертный грех, усомнившись в благосклонности Всевышнего к Шотландии вообще и Каллендеру в частности. Доктору Элскотту сообщили о скором приезде Иможен Мак-Картри, когда он сидел у постели миссис Элеанор Меррей, страдавшей особо упорным бронхитом. Известие настолько потрясло врача, что вместо больной он стал щупать пульс ее мужу Ясону. С тех пор Меррей начали подозревать, что врач относится к своим обязанностям недостаточно серьезно.
Встревоженный констебль Сэмюель Тайлер бегал по всему городу, наблюдая, как растет всеобщее лихорадочное возбуждение. Но если подобно своему непосредственному шефу Сэмюель и опасался буйного нрава Иможен, то все же не мог не испытывать к ней глубокой привязанности. Оба были примерно одногодками и вместе играли, в то время как Мак-Клостоу, в конце концов, — чужак и приехал в Каллендер из пограничной зоны. Кроме того, Тайлеру столько раз приходилось помогать покойному капитану Мак-Картри, отцу Иможен, добираться до дому, когда виски слишком туманило ему мозги и мешало самостоятельно отыскать дорогу… Подобные воспоминания связывают порой крепче любых других уз… Констебль прислушивался к разговорам, отмечал про себя реплики обывателей, как можно уклончивее отвечал на вопросы сограждан и в конечном счете пришел к выводу, что все идет по-прежнему. Друзья мисс Мак-Картри остались ей верны, но и противники не сложили оружия.
Пока в Каллендере кипели страсти, виновница такого волнения, Иможен Мак-Картри, готовилась покинуть маленькую квартирку на Паултонс-стрит в Челси и, в последний раз сходив в Адмиралтейство, навеки распрощаться с коллегами. Когда она закончила укладывать чемоданы и сумки, комната приняла зловещий, мрачноватый вид, свойственный необитаемым помещениям. На душе у Иможен было довольно тоскливо. Нелегко расставаться с привычками, обретенными за четверть века. Напоследок Иможен оставила главное — аккуратно положить в большую сумку, с которой никогда не расставалась, фотографии покойного отца — капитана индийской армии Генри-Джеймса-Герберта Мак-Картри, и Дугласа Скиннера, своего жениха, погибшего при исполнении служебного долга, а также гравюру с изображением любимого героя — Роберта Брюса накануне Баннокбернской битвы. Иможен тщательно переложила каждую фотографию бельем, чтобы не помять во время путешествия. Потом, выпрямившись, мисс Мак-Картри поглядела в зеркало и пришла к выводу, что практически не изменилась с того далекого дня, когда впервые провела ночь в этой квартире: все такая же плоская с обеих сторон фигура, ни единого лишнего миллиметра в талии, а огненно-рыжая шевелюра не поседела ни на волос. Ну — куда деваться? Дисциплина есть дисциплина, и ей положено подчиняться. Государство полагает, будто впредь может обойтись без услуг мисс Мак-Картри? Прекрасно! Воля его. А впрочем, разве можно удивляться нелепости законов, если их придумали англичане?
В последний раз Иможен заперла за собой дверь квартиры и отправилась привычным маршрутом. Такую прогулку она совершала уже двадцать пять лет день за днем даже во время войны. Внизу, у входа, шотландку поджидала домовладелица, миссис Хорнер. Обе женщины, повздорив в дни «блица» (они постоянно соревновались в мужестве, и ни одна не желала уступить другой), помирились после победы.
— Доброе утро, миссис Хорнер!
— Здравствуйте, мисс Мак-Картри!
И домовладелица вдруг разрыдалась. Растроганная шотландка дружески похлопала ее по спине.
— Ну-ну, миссис Хорнер, успокойтесь… что с вами такое?
Та захлюпала носом.
— Мне так печально, что я больше никогда вас не увижу, — икая от огорчения, пробормотала она. — Мы не всегда ладили, но я уважала вас, мисс…
— И я тоже, Марджори…
Впервые в жизни шотландка назвала миссис Хорнер просто по имени, и та, еще больше расстроившись, дала торжественную клятву вечно помнить Иможен. Бедняжка вообще с трудом понимала, как она сможет нормально жить теперь, не видя мисс Мак-Картри ни утром, ни вечером…
— Успокойтесь, Марджори… Вы будете навещать меня в Каллендере — и отдохнете там хорошенько, и всласть поболтаем о прежних временах.
Такая перспектива несколько успокоила миссис Хорнер и, вновь обретя вкус к жизни, она предложила мисс Мак-Картри зайти в гости и, ради вящего укрепления духа, выпить по капельке джина. Отказаться шотландка сочла бы крайне невежливым.
А в «Опоссуме и Священнике» изрядно накачавшийся виски Арчибальд Мак-Клостоу поверял хозяину бара свои тревоги и опасения, вызванные известием об о-кон-ча-тель-ном возвращении Иможен Мак-Картри в Каллендер. Для начала бармен убрал подальше бутылку.
— Если хотите знать мое мнение, сержант, — сказал он, — то я посоветовал бы вам на некоторое время отказаться от виски и не пить, пока организм малость не очистится от спиртного…
Столь вопиющее отсутствие понимания возмутило Арчибальда.
— Да неужто до вас еще не дошло, что эта рыжая баба — самая настоящая чертовка? Что она терзает меня дни и ночи? Что она хочет запереть меня в сумасшедшем доме?
Бармен грустно покачал головой, и Мак-Клостоу, преисполнившись отвращения ко всему миру, заплатил по счету, а потом отправился на вокзал — пришло время возвращаться обратно, в Каллендер. Дорогой Арчибальд твердил про себя, что человек человеку всегда останется волком и сержанту Ее Величества бесполезно ожидать хоть малейшей поддержки от ближних. Тем временем хозяин «Опоссума и Священника» Реджинальд Хорсберг доверительно сообщал одному из завсегдатаев:
— Надеюсь, вы мне поверите, Гарольд, что, тридцать лет проработав в баре, я повидал массу разнообразных пьяниц, и у каждого было свое наваждение. Многим мерещится, будто по телу все время ползают какие-то твари, другие видят розовых слонов или синих мышей, но, честное слово, впервые в жизни вижу типа, которого преследует рыжая дьяволица!..
После джина миссис Хорнер никак не хотела сразу отпустить свою дорогую шотландку и пригласила ее на ленч, довольно скудный, но зато приготовленный от чистого сердца. Женщины перекусили вдвоем, осушив множество бутылок пива, что привело их в отличное настроение. Даже на улице слышались отзвуки веселого смеха. Это несколько удивляло и даже шокировало соседей, не ожидавших ничего подобного от таких приличных и уважаемых в квартале дам. В два часа, поблагодарив радушную хозяйку за гостеприимство, мисс Мак-Картри снова направилась в Адмиралтейство.
Войдя в свой кабинет, Иможен увидела множество цветов, причем каждый букетик позаботились перевязать клетчатыми ленточками, тщательно соблюдая верность цветам клана Мак-Грегор, к которому принадлежала мисс Мак-Картри. До слез тронутая таким вниманием, шотландка вышла в большую комнату, где обычно трудились машинистки. Почти все начинали работать при ней — юные и полные надежд, а теперь превратились в зрелых дам, многие поседели и отрастили животы. Как только Иможен вошла, машинистки встали и начали громко петь: «Это только до свиданья…» Услышав шум, к ним заглянул начальник отдела, Анорин Арчтафт, валлиец, так часто в свое время ссорившийся с шотландкой, а теперь тоже через год собиравшийся в отставку. Арчтафт с легким смущением откашлялся (за двадцать пять лет совместной работы он все еще немного робел перед Иможен) и произнес от имени всех сотрудников отдела очень милую речь, уверяя мисс Мак-Картри, что, невзирая на сварливый нрав и упорное нежелание считать англичан, валлийцев и ирландцев цивилизованными людьми, ее все любят и уважают. Анорин не без юмора напомнил о некоторых из их прежних стычек, чем немало насмешил новеньких, знавших «сагу» Иможен Мак-Картри только понаслышке. В конце концов Арчтафт преподнес шотландке подарок на память — прекрасную статуэтку Марии Стюарт из слоновой кости. У Иможен перехватило дыхание, но при этих англичанках и валлийцах она ни за что не могла позволить себе никаких слабостей. Когда наступил ее черед благодарить, мисс Мак-Картри начала с того, что для валлийца Анорин Арчтафт совсем неплохо умеет выражать свои мысли. Все засмеялись. Но, заговорив о долгих годах, проведенных здесь, в машбюро Адмиралтейства, Иможен не смогла-таки сдержать слез. Ее принялись утешать, а Дженис Арчтафт чуть лукаво заметила:
— Ну кто бы мог подумать когда-то, что, уезжая из Англии в родную Шотландию, вы будете плакать?
Мисс Мак-Картри мигом пришла в себя.
— Любой имеет право малость взгрустнуть, навсегда покидая колонию, где провел двадцать пять лет жизни, разве не так? — гордо ответствовала она.
Уильям Мак-Грю, загнав констебля Сэмюеля Тайлера в угол между собственной бакалейной лавкой и домом галантерейщицы миссис Пинкертон, с жаром заметил:
— Досадно, что вы на дежурстве, Сэм, а то я непременно угостил бы вас стаканчиком виски или джина!
— С чего вдруг? У вас что, праздник? Может, день рождения?
Уильям, человек кроткого нрава, которого удавалось вывести из себя только жене, Элизабет, покачал головой.
— Нет, Сэм, ничего такого… Но я узнал сегодня лучшую на свете новость: Иможен Мак-Картри возвращается к нам навсегда!
— Ну и что?
— То есть как это? Я не без тревоги подумывал, что мне придется без всякого просвета, до конца дней своих мыкаться с миссис Мак-Грю (у нее, знаете ли, с годами характер отнюдь не мягчает), но возвращение Нашей Иможен совершенно меняет дело!
— Почему?
— Да потому, старина! Раз приезжает мисс Мак-Картри, можно не сомневаться: что-нибудь непременно произойдет, и жизнь в Каллендере станет гораздо веселее и разнообразнее!
Именно этого Сэмюель Тайлер и опасался больше всего.
С тяжелым сердцем, нагруженная подарками, мисс Мак-Картри уже собиралась навсегда уйти из Адмиралтейства, как вдруг узнала, что ее ожидает сэр Дэвид Вулиш. Иможен весьма польстило, что столь высокое начальство тоже хочет пожелать ей счастливого пути, и шотландка тут же направилась в кабинет сэра Дэвида. Секретарша немедленно распахнула перед ней дверь.
— Я слышал, вы покидаете нас, мисс Мак-Картри?
— Не то чтоб по доброй воле, сэр… но закон есть закон…
— Просто не верится, что вас отправляют в отставку по возрасту…
— Мне тоже трудно в это поверить, сэр, но, увы…
— И вы уезжаете в Каллендер?
— Да, сэр, на родину. Сяду в поезд сегодня же вечером.
— Нам жаль расставаться с вами, мисс Мак-Картри…
— Спасибо, сэр… мне тоже грустно, и…
Иможен так и не смогла договорить, более того, она настолько утратила чувство собственного достоинства, что расплакалась при англичанине. Растроганный сэр Дэвид Вулиш попытался, как мог, утешить шотландку.
— Я прекрасно понимаю вас, мисс Мак-Картри… но, к несчастью, все мы — рабы дисциплины… Хотя должен признать, что порой наши уставы, регламенты и прочее выглядят сущей нелепостью… Ну для чего, спрашивается, принуждать к бездействию полного энергии и сил человека?
Однако в гораздо большей степени, нежели теплые слова начальства, Иможен вернула
хладнокровие мысль о том, что подумал бы ее отец, а если заглянуть чуть дальше в глубь времен — и Роберт Брюс, увидев ее в столь жалком состоянии.
— Извините, сэр, мне самой очень стыдно за эту минутную слабость… Но она — первая за двадцать пять лет службы! Надеюсь, по доброте душевной вы забудете, что я позволила себе…
Вулиш улыбнулся.
— Несгибаемая вы женщина, мисс Мак-Картри! Ах, будь в Соединенном Королевстве только такие, как вы, мы бы до сих пор занимали первое место в мире!
— Простите великодушно, сэр, но, я думаю, если бы «добрый принц Чарли» не потерпел тогда поражения при Каллодене…
— Шотландцы сумели бы сохранить нам это почетное место?
— Несомненно, сэр!
Сэр Дэвид откровенно рассмеялся:
— Главное — никогда не меняйтесь, мисс Мак-Картри! И всегда оставайтесь такой же…
— А с чего бы мне вдруг меняться? Не вижу причин, сэр.
— Верно… Но я позвал вас сюда, мисс, не только для того, чтобы пожелать на прощание доброго здоровья. В первую очередь мне хотелось бы знать, можем ли мы в случае крайней необходимости по-прежнему рассчитывать на вас, на ваши услуги, если случится что-нибудь вроде той истории с похищением планов «Бэ-сто двадцать восемь», помните? [95] Тогда вы нас здорово выручили.
У Иможен отчаянно заколотилось сердце.
— Вы имеете в виду… борьбу со шпионами?
— Совершенно верно.
— О да!
— Я заранее знал, что вы согласитесь… Тогда запомните номер: ФРИ-девять-девять-девять-девять. Там живет некий мистер Суини… Джеймс Суини… Если по той или иной причине вам понадобится связаться со мной, позвоните Джеймсу Суини и скажите, что хотели бы побеседовать с его отцом. Я тут же подключусь к линии… Никаких имен не называйте, скажите просто: «Это Иможен», а я отвечу: «Чарльз слушает»… Понятно? Хорошо запомнили?
Обычно в тот день, когда человека провожают на пенсию, он вдруг ощущает груз прожитых лет и как будто сразу дряхлеет, но тем, кто видел Иможен Мак-Картри после разговора с сэром Дэвидом Вулишем, она казалась помолодевшей лет на десять. Миссис Хорнер не поверила своим глазам.
— Боже милосердный! — удивленно воскликнула она. — Да что с вами случилось, мисс Мак-Картри?
— А то, что это еще далеко не конец! — громогласно объявила шотландка. — Все, наоборот, только начинается! Вот что… Мой поезд уходит только в половине одиннадцатого, давайте-ка отправим мои вещи в камеру хранения, на Хьюстонский вокзал, а сами поужинаем в Блумсбери. Я отведу вас в один шотландский ресторанчик, где еще не разучились готовить так, как принято у нас, в Горной стране.
Марджори Хорнер с восторгом приняла предложение, но настоятельно попросила «дорогую Иможен» помочь ей сначала управиться с бутылочкой джина, а уж потом идти за вещами.
Подруги поужинали с большим аппетитом. Начали они с «фиш кестед» — филе трески с гоголь-моголем и лимонной цедрой, потом отведали «Кайкерс Хот Пот» — довольно рискованной смеси говяжьих жил, свиной колбасы, помидоров, картошки, яблок, лука, соли и перца, а закончили «Грэннис Лофа» — потрясающей мешаниной из муки, сахара, масла, изюма, яиц, гвоздики, тмина, корицы, молока и соды, которую просто физически не в состоянии переварить ни один человек, если только он не имел удовольствия родиться неподалеку от устья Твида. Поэтому миссис Хорнер, появившаяся на свет в Лидсе, едва не отдала Богу душу, так что пришлось влить в беднягу добрых полпинты виски — иначе ей бы никогда не прийти в чувство.
В тот день сержант Арчибальд Мак-Клостоу сошел в Каллендере с поезда, примчавшего его из Перта. Как всякий порядочный шотландец, Арчи пьянел и трезвел с невероятной скоростью. Немного подремав в вагоне, он вошел в полицейский участок свеженьким как огурчик и вполне готовым, если представится случай, осушить перед обедом еще бутылочку горячительного. Сэмюель Тайлер, вернувшись после очередного обхода, с несказанным облегчением встретил шефа.
— Ох, до чего ж я рад, что вы тут…
— Спасибо, Тайлер.
— Удачно съездили, шеф?
— Нет, Сэмюель, нет… я наткнулся на безжалостного и совершенно непрошибаемого суперинтенданта… Он не пожелал ничего понять.
— Но я всегда слышал, что Эндрю Копланд — человек на редкость обходительный…
— Циник! Подумать только, ведь я просил о таком пустяке, а, Тайлер? Просто-напросто либо перевести меня в другой город, либо до срока отправить на пенсию! Ну что ему стоило выполнить мою просьбу?
Тайлер недоверчиво уставился на сержанта.
— Вы хотели нас бросить, шеф? Не может быть! — воскликнул он.
— Увы, Сэмюель, это самая что ни на есть чистая правда!
— Но почему?
Арчибальд снял каску, расстегнул китель и тяжело плюхнулся в кресло.
— Потому что я не хочу видеть Иможен Мак-Картри! — простонал он, запустив обе пятерни в густую шевелюру. — Потому что я не хочу окончить дни свои в смирительной рубашке! Потому что я не хочу, чтобы меня повесили за убийство!
Констебль онемел от изумления.
— Вас — вешать? Да какого ж черта? Взбредет ведь в голову… И кого это вы вознамерились прикончить, шеф?
Мак-Клостоу вскочил и замогильным голосом, вобравшим в себя целую бездну обид и огорчений, во всю силу легких рявкнул:
— Иможен Мак-Картри!
Потом он снова опустился в кресло и залепетал нечто настолько невразумительное, что вконец перепугал добряка Сэмюеля.
— Шеф, может, вам капнуть немножко виски? — с тревогой осведомился он.
— Вы меня угощаете?
Тайлер уже не мог отступить, но с досадой отметил, что подобные предложения слишком быстро восстанавливают умственные способности начальства.
— Само собой, шеф, — недовольно скривившись, проворчал констебль.
Неожиданная щедрость подчиненного как будто разом вернула Мак-Клостоу утраченное самообладание. Сэм вернулся с двумя рюмками виски, и сержант, чокнувшись с ним, залпом выпил свою порцию. Потом он меланхолически повертел в руках пустую посудину.
— Не то чтоб я хотел вас упрекнуть, Тайлер, — заметил Арчибальд, — но по такому случаю вы вполне могли бы взять двойное… Великодушие, так и оставшееся на полпути между расточительностью и скаредностью, совершенно недостойно констебля полиции Ее Величества. И я с сожалением должен это отметить, Сэм…
— Я вас понимаю, шеф, и уверен, что вы подадите мне добрый пример, которому в крайнем случае я мог бы последовать…
Как ни странно, сержант тут же впал в прежнее оцепенение и, по-видимому, просто не слышал слов подчиненного. Перечислив все несчастья, которые не преминут обрушиться на его голову с приездом Иможен в Каллендер, Мак-Клостоу выпрямился во весь рост и торжественно объявил:
— Именно в столь тяжкие минуты и понимаешь, что такое настоящая дружба, Сэм. Но, боюсь, нам и вдвоем будет трудно совладать с тем, что грозит городу. Я никогда на забуду виски, которым вы угостили меня в час испытания, а то, что вы настойчиво предлагаете мне еще рюмочку, по-моему, просто грандиозно, дорогой Тайлер!
Констебль вздрогнул.
— Да я ни о чем таком даже не заикался, шеф!
— Правда? Но я, кажется, ясно слышал…
— Вы ослышались, шеф, просто ослышались…
— То-то я сразу подумал, что такая широта души очень не похожа на Сэмюеля Тайлера, самого жадного из обитателей шотландских гор!
— Ну, по-моему, в этом отношении кое-кто из уроженцев пограничной зоны может дать мне сто очков форы!
— Тайлер!
— Да, шеф?
— Уж не на меня ли вы позволили себе намекнуть?
— Предпочитаю оставить этот вопрос на ваше усмотрение, шеф.
Дело могло бы обернуться очень скверно, но в участок вошла миссис Элрой. Сэмюель на правах старого знакомца дружески приветствовал ее:
— Привет, Розмери! Надеюсь, ничего серьезного?
— Нет, наоборот!
Полицейские удивленно переглянулись. Миссис Элрой, гордясь тем, что ей выпала честь первой сообщить потрясающую новость, нарочно выдержала паузу.
— Мисс Мак-Картри приезжает завтра утром… — наконец изрекла она, пророчески вскинув указующий перст.
Долгий стон сержанта Мак-Клостоу, словно эхо, прокатился по всему участку.
— Как, уже? — пробормотал констебль.
Миссис Элрой с любопытством поглядела на обоих.
— Что это на вас нашло?
Арчибальд подскочил на стуле.
— Как это — что? И у вас еще хватает нахальства спрашивать, миссис Элрой? Вы что ж, совсем забыли, какие муки заставила нас вытерпеть эта проклятая Иможен?
— То-то и оно… Я затем и пришла, чтобы сказать вам заранее: мисс Мак-Картри — уже совсем не та…
— Не та, что прежде?
Розмери Элрой кивнула.
— Да, джентльмены… и, честно говоря, я боюсь, не захворала ли она…
Сержант испустил столь мощный вздох, что седые волосы миссис Элрой затрепетали, как на ветру, а констебль торопливо предложил старухе сесть.
— Да ну же, успокойтесь, Розмери… Так, значит, мисс Иможен несколько утратила прежний… запал?
— Какой уж там запал… О чем вы толкуете, мой бедный Сэм? Нет, все потухло, угасло…
Арчибальд попытался скорчить сочувственную мину.
— Неужто так худо, миссис Элрой? — лицемерно спросил он.
— Мисс Иможен написала мне письмо и сама призналась, что в душе ее произошли глубокие перемены, что возраст дает о себе знать, а потому она мечтает лишь спокойно дожить последние дни на родине… Мисс Иможен надеется, что старые друзья все поймут и не станут ждать от нее былых подвигов… В конце концов, всему свое время. Короче, мисс Иможен была бы весьма признательна, если бы на нее обращали не больше внимания, чем на любого другого жителя Каллендера. Впрочем, во избежание недоразумений, которые мисс Иможен заранее считает неуместными, она сойдет с поезда в Стирлинге, а оттуда спокойно доедет на машине до дому, где и просит меня ждать.
Заявление миссис Элрой настолько поразило обоих полицейских, что в участке надолго воцарилась полная тишина. Первым нарушил ее Тайлер.
— Я не сомневаюсь, что когда-нибудь мисс Иможен предстанет перед нами в лучшем свете, — чуть дрогнувшим голосом пробормотал он.
Мак-Клостоу с самым серьезным видом поддержал подчиненного.
— Спасибо, что пришли и предупредили нас, миссис Элрой. А когда увидите мисс Мак-Картри, скажите ей, что я забыл все наши столкновения и готов взять ее под особое покровительство. Передайте также, что я бесконечно благодарен ей — теперь у меня есть надежда дожить до отставки, не окочурившись от апоплексического удара!
Все трое снова помолчали, чувствуя, что переживают переломный момент в истории Каллендера, потом сержант с констеблем церемонно проводили миссис Элрой до двери участка, и та отправилась распространять последнюю новость по всему городку.
Оставшись наедине с Тайлером, Арчибальд в полном упоении схватил его за руки.
— Сэмюель!.. Вот, несомненно, один из лучших вечеров за всю мою жизнь! Это надо отпраздновать!
Как всякий осторожный и привыкший считать каждый грош шотландец Тайлер возразил:
— Но, шеф, я не взял с собой денег, и…
Сержант поглядел на него с тяжким укором.
— У нас, в Нижней Шотландии, которую вы, горцы, якобы презираете, не принято предлагать другу стаканчик, а потом ему же подсунуть счет! — заявил он.
Слегка пристыженный констебль опустил голову, а Мак-Клостоу, открыв шкаф, вытащил из-за кипы досье нетронутую бутылку «Блэк энд Уайт». Тайлер аж рот раскрыл от восторга и удивления. Сержант отвинтил пробку, налил до краев два стакана, и оба полицейских залпом осушили их, пожелав друг другу здоровья. Что-что, а пить и Мак-Клостоу, и Тайлер умели и благодаря упорным, почти полувековым тренировкам держались в блестящей форме. Сержант, внезапно преисполнившись необычной кротости, ласково обнял Тайлера за шею, чем немало удивил констебля.
— Сэм… ну до чего я вас люблю! Хоть вы и родились на севере, но все равно славный малый! И мне ужасно хочется сделать для вас что-нибудь хорошее и приятное!
Тайлер, тронутый дружеским участием начальства, подумал о крупной премии, повышении, которое несколько облегчило бы его жизнь в отставке, или хотя бы медали…
— И знаете, что я сделаю, мой дорогой старина Сэмюель?
— Нет, шеф, но заранее спасибо вам.
— Вот и прекрасно, Сэм, я знал, что вы — человек благодарный! Я хочу научить вас играть в шахматы! Садитесь!
У потрясенного неожиданным ударом судьбы констебля не хватило сил возразить. До сих пор ему удавалось ускользнуть от страсти Мак-Клостоу к шахматам, но на сей раз его определенно загнали в угол. Через полчаса приятели, прикончив бутылку, уже плохо различали белые и черные фигуры и почти не помнили, кто какими играет. В результате получались прелюбопытные комбинации, когда кто-то из партнеров пытался прорваться сквозь собственные ряды. Однако с пьяным упрямством они продолжали игру, разработав идеальную стратегию — каждый изо всех сил стремился помочь противнику одержать победу. Наконец Мак-Клостоу «съел» своего короля своим же ферзем, объявил себе шах и мат и с гордостью заметил, что счастлив, ибо его помощник оказался прирожденным шахматистом и скоро станет гордостью Каллендера! Изрекши это пророчество, Арчибальд Мак-Клостоу ткнулся носом в шахматную доску и захрапел, а его разложенная веером борода закрыла большую часть фигур. А Тайлер, вытаращив глаза, взирал на эту картину и думал, что, наверное, именно так выглядели фараоновы войска, когда их захлестнули волны Красного моря.
Как только Каллендер благодаря усилиям миссис Элрой узнал о перемене, случившейся с Иможен, любой беспристрастный наблюдатель подумал бы, что город вдруг окутала легкая завеса печали, и лишь кое-где эту чуть заметную пелену пробивали волны злобного торжества противников той, что некогда звалась «несгибаемой мисс Мак-Картри». Мужчины вроде бакалейщика Уильяма Мак-Грю, хозяина «Гордого Горца» Теда Булита или же коронера и гробовщика Питера Конвея отказывались верить в столь чудовищную нелепость, но, поскольку не могли привести ровным счетом никаких доводов в свою пользу, со скорбью и отчаянием наблюдали, как торжествуют Элизабет Мак-Грю, Маргарет Булит и три кумушки, когда-то жестоко посрамленные Иможен[96], — миссис Плери, миссис Фрэйзер и миссис Шарп.
В баре «Гордого Горца» посетители, чтобы не расстраивать Теда, старались не обсуждать новость, тем более им было о чем поговорить — в следующую субботу местная команда регби давала ответное сражение ребятам из Доуна. Но Тед, хоть и торговал всю жизнь пивом да крепкими напитками, оставался джентльменом, и то, что друзья из симпатии к нему идут на такое самопожертвование, глубоко тронуло кабатчика. Проглотив двадцать третью за этот день рюмку джина, Булит долго откашливался и наконец громко объявил:
— Джентльмены!
Все мгновенно умолкли.
— Господа, я благодарен вам, что до сих пор никто не позволил себе упомянуть о потрясшей наш город новости, которую наиболее осведомленные люди якобы слышали из уст самой миссис Элрой. Мы все давно знаем старую Розмери и ее материнскую привязанность к мисс Мак-Картри. Стало быть, никакие сомнения в правдивости тут неуместны. Нам остается лишь смириться с фактом. Вероятно, годы сокрушили-таки Нашу Иможен, а по-моему, сказалось и то, что она слишком долго жила среди англичан. Эти субъекты могут только порчу навести на доброго шотландца или шотландку. Так давайте наберемся мужества и, чего бы нам это ни стоило, поглядим правде в глаза. Нашей Иможен больше нет… Ладно, пусть, но разве из-за этого мы должны забыть, какой она была?
Из всех концов зала послышались горячие возгласы одобрения.
— Надеюсь, мисс Мак-Картри сделает мне честь и не раз заглянет сюда. Если вы не против, джентльмены, давайте относиться к ней как к старому доброму другу и не напоминать о прежних подвигах, чтобы не причинять лишнюю боль… Зачем напоминать хорошему человеку, что он одряхлел?..
У Булита пере хватило дыхание, и он с огромным трудом закончил эту небольшую речь, однако все сочли ее превосходной. Итог подвел Кейт Мак-Каллум:
— Пусть живет тут, как ветеран в инвалидном доме Челси.
Тед кивнул.
— Вот именно, Кейт. Ведь не приходит же никому в голову упрекать этих старых вояк, что они уже не могут разить врага?
Иможен довольно уютно устроилась на ночь в поезде, увозившем ее с Хьюстонского вокзала домой. Железный организм нисколько не страдал ни от слишком плотного ужина, ни от обильных возлияний виски. Кроме того, обещание сэра Дэвида Вулиша помогло Иможен скинуть добрых десять лет. Шотландка без особого труда убедила себя, что не ушла в отставку, а просто получила более важное и опасное назначение. Вспомнив, в какой подавленности она пребывала всего несколько дней назад, так что даже написала миссис Элрой совершенно идиотское письмо, Иможен улыбнулась. Нет, она потрясет Каллендер, явившись туда с высоко поднятой головой и в полной готовности при первом же удобном случае сцепиться с этим чудовищным болваном Арчибальдом Мак-Клостоу! Однако постепенно, под убаюкивающий стук колес мисс Мак-Картри слегка расслабилась, воинственное настроение исчезло, и она стала подумывать, не разумнее ли, дабы усыпить бдительность возможных шпионов, прикинуться сломленной и побежденной. Кто заподозрит, что несчастная, уставшая от жизни и разочарования старая дева еще очень даже дееспособна?
Из целомудренного почтения к славному прошлому, равно как из сочувствия к Теду Булиту посетители «Гордого Горца» тут же прекратили разговор об Иможен Мак-Картри и перешли к обсуждению назначенного на субботу матча по регби между командой соседнего городка Доуна и каллендерскими ребятами во главе с Гарольдом Мак-Каллумом.
Такие соревнования устраивались дважды в год, и для всех обитателей Каллендера и Доуна становились чуть ли не главными событиями. К обычному спортивному азарту примешивались довольно глупое тщеславие и самолюбие, так что каждое поражение воспринималось как трагедия, а победа позволяла чувствовать себя этаким племенем сверхчеловеков. Довольно скоро состязания переходили в настоящие бои, так что машины «скорой помощи» не успевали развозить по больницам и игроков, и зрителей. Судить эти матчи обычно посылали новичков, потому как опытные судьи предпочли бы навсегда вернуть Лиге свисток, чем демонстрировать свои таланты на полях Доуна и Каллендера, ибо всякий раз там возобновлялась своего рода война Горациев и Куриациев[97]. В ход пускались любые уловки (в том числе далеко не благородные), лишь бы взять верх над противником. Увы, к несчастью Каллендера, соседская команда играла гораздо лучше, а его собственная, хоть и состояла из крепких и отважных ребят, имела довольно смутные представления о правилах игры.
Гарольд Мак-Каллум, окруженный болельщиками во главе со своим отцом, Кейтом, клялся скорее погибнуть на поле, чем оставить без справедливого возмездия отвратительную низость одного из защитников Доуна — капитана команды Питера Лимберна, во время прошлого матча едва не оторвавшего ему ухо. Дружный хор поддержал Гарольда, совершенно запамятовав, что именно он во время схватки так зверски покусал одного из «передних» Доуна, что бедняге пришлось ввести противостолбнячную сыворотку. В общем, в Каллендере, как и в Доуне, готовились к жаркой битве.
Иможен Мак-Картри проснулась далеко за полдень. Вокруг стояла глубокая тишина, сначала несколько озадачившая привычную к лондонскому шуму горожанку. Еще не вполне пробудившееся сознание не сразу вспомнило этапы ночного и утреннего путешествия — сначала Хьюстонский вокзал, потом долгий путь от Эдинбурга до Стирлинга и наконец рано утром, но уже не на поезде, а на такси, она подъехала к самому крыльцу родного дома. Несмотря на столь ранний час, миссис Элрой ждала Иможен. Они обнялись, радуясь встрече и немного смущенно думая, что теперь уже не расстанутся, пока одна из них не проводит другую на кладбище. Розмери заставила мисс Мак-Картри плотно позавтракать, а потом уложила в постель и сама заботливо подоткнула одеяло. Порой миссис Элрой так погружалась в воспоминания, что напрочь забывала, как сильно подросла за последние пятьдесят с лишним лет ее крошка.
Увидев, что Иможен открыла глаза, Розмери торопливо приготовила чай. Мисс Мак-Картри накинула халат и с удовольствием еще раз подкрепилась, но не успела покончить со вторым завтраком, как у калитки зазвенел колокольчик. Старуха отодвинула занавеску и объявила, что видит Тайлера и Мак-Клостоу. Иможен чуть не подавилась последним кусочком кекса.
— Как, эти клоуны уже тут? Неужели не могли дать мне хотя бы дух перевести с дороги?
Миссис Элрой покачала головой.
— Не думаю, что они пришли сюда с дурными намерениями, мисс Иможен… Вчера вечером, когда я сказала, что вы решили впредь вести себя тихо и вообще как можно меньше показываться в городе, оба чуть не расплакались, особенно Мак-Клостоу…
— Ну да?
— Еще бы! Вспомните-ка, какую веселенькую жизнь вы им устроили! А мои слова хоть и обнадежили, но вряд ли окончательно усыпили прежние опасения, вот наши молодцы и хотят проверить… наврала я или нет.
Шотландская амазонка решила, что сейчас самое время выяснить, справится ли она с ролью, тщательно обдуманной накануне, в поезде. Если Иможен сумеет провести полицейских, никто уже не станет ее опасаться, и сэр Дэвид Вулиш, когда ему понадобится помощь, сможет тем спокойнее воззвать к мисс Мак-Картри, что ни единой живой душе ни за что не догадаться о ее тайных деяниях. Иможен потуже запахнула халат, подняла воротник и прилегла на диван в позе умирающей, не забыв прикрыть ноги пледом. Теперь можно было послать Розмери за полицейскими.
Сержант с первого взгляда понял, что перед ним совсем не та женщина, о которой он сохранил столь кошмарные воспоминания. А Тайлер просто вылупил глаза, недоумевая, как можно настолько измениться за такой короткий срок. И беднягу констебля охватила глубокая грусть. Мак-Клостоу объяснил, что они с помощником пришли приветствовать новую обитательницу Каллендера и предложить ей свои услуги. Трудно сказать, кто из них больше лицемерил — Мак-Клостоу, так и светившийся благожелательностью, или Иможен, глухо бормотавшая слова благодарности. Лишь Розмери и Тайлер нисколько не играли, и констебль совершенно искренне схватил протянутую руку шотландки, от души пожелав, чтобы воздух родных гор поскорее вернул ей утраченную бодрость.
— Спасибо, Сэмюель… спасибо, Мак-Клостоу… Во всем Каллендере не найдется человека, чье посещение порадовало бы меня больше вашего… Когда-то мы ссорились…
— Пустяки, мисс, — самым любезным тоном пробормотал Арчибальд, — забудем об этом…
— Да-да, часто я вам обоим доставляла лишние хлопоты… и теперь испытываю некоторые угрызения совести…
Тайлер чуть не плакал — ему казалось, он слушает предсмертную исповедь Иможен.
— Не надо так, мисс Иможен, не надо! — почти простонал он. — Мы тоже наделали немало глупостей!
Сержант счел, что Сэмюель малость перегибает палку, и сердито зашипел ему на ухо:
— Говорите, черт возьми, за себя, Тайлер, и только за себя!
Меж тем мисс Мак-Картри продолжала:
— Впрочем, та, что брала на себя смелость поступать таким образом и добивалась-таки блестящих результатов — уж об этом, надеюсь, вы не станете забывать, друзья мои? — увы, теперь бесконечно далека от меня… примерно как младшая сестра, с которой давно разошлись пути… Вы не против, джентльмены, если я буду иногда с грустью и нежностью вспоминать о ней?
Давненько Арчибальду Мак-Клостоу не доводилось испытывать столь благородных чувств.
— Мы никогда не позабудем той, что была славой Каллендера!.. — задыхаясь от волнения, воскликнул он.
— …и, отчасти, его кошмаром? — лукаво добавила Иможен.
Сержант отвесил галантный поклон.
— Совсем чуть-чуть… Ну, Тайлер, я думаю, теперь, когда мы выразили мисс Мак-Картри всю свою преданность, пора и честь знать…
Но констебля так душили слезы, что он не мог пробормотать ни слова. Сэмюель лишь поклонился и побрел следом за шефом и миссис Элрой. Оставшись одна, Иможен бросилась в спальню, открыла чемодан и отхлебнула приличный глоток виски из бутылки, купленной накануне в Лондоне, дабы уберечь себя от дорожной усталости.
Констебль и сержант возвращались в Каллендер под впечатлением недавней сцены. Встреча с Иможен оживила воспоминания. Наконец Тайлер нарушил молчание, спросив Мак-Клостоу, что тот думает о мисс Мак-Картри. Арчибальд ответил не сразу — он любил производить впечатление человека рассудительного, а когда все же решился открыть рот, голос его звучал скорбно и сурово:
— Вы хотите знать мое мнение, Сэмюель… Ну так вот… По-моему, бедняжка вряд ли долго протянет…
Глава II
Агнес Неджент не понимала, что за муха укусила ее супруга, почтенного Малькольма Неджента, владельца скобяной лавки на улице Джона Нокса в славном городе Перте. Несмотря на субботний день, ей пришлось встать спозаранку, ибо до полудня предстояло заниматься магазином в одиночку — муж, видите ли, уезжает в Каллендер, где, как мальчишка, облачившись в смешные короткие штанишки и курточку, должен трусцой бегать по полю то под аплодисменты, то под улюлюканье сотен мужчин и женщин. Нет, Агнес решительно не понимала своего Малькольма, хоть и прожила с ним двадцать два года, успев нарожать за это время пятерых детей. А Малькольм Неджент просто-напросто мечтал о славе. Политическая карьера показалась ему слишком трудной, и мысли сами собой обратились к спорту — другой не менее блестящей возможности добиться желанной известности. А поскольку ни малейшего спортивного дарования у Неджента не обнаружилось, он решил заняться арбитражем. К несчастью, Малькольм отнюдь не блистал умом, и ему было очень трудно с нужной быстротой штрафовать нарушителей правил и замечать ошибки в схватке или нападении. Инструкторы скоро утратили на его счет какие бы то ни было иллюзии: если с теоретической точки зрения Неджент отвечал безукоризненно, то практические результаты далеко не дотягивали даже до среднего уровня. Дело обстояло так скверно, что к пятидесяти годам Малькольму Недженту лишь впервые предстояло самостоятельно судить состязания по регби. Злые шутники, очевидно решив навеки отбить у бедняги охоту к спортивной карьере, ибо та сулила ему одни неприятности, предложили назначить Неджента арбитром на матче между командами Каллендера и Доуна, хотя все отлично знали, что таковые значительно больше напоминают корриду, нежели дружескую встречу соперников. Узнав о назначении, Мальком ног под собой не чуял от счастья. Совершенно забросив торговлю, он погрузился в изучение разнообразных комбинаций, могущих возникнуть в ходе матча. Несчастной Агнес то и дело приходилось задавать мужу каверзные вопросы насчет спорных случаев и других ловушек, в которые часто попадают арбитры. И всякий раз Малькольм выходил из положения с таким блеском, что кроткая супруга, ничуть не подозревавшая о широте познаний Неджента в области регби, взирала на него с возрастающим изумлением.
Утром, входя в гостиную, где Агнес уже поставила на стол яичницу с ветчиной и чайник, Неджент гордился собой не меньше, чем маршал Монтгомери, узнав о паническом отступлении маршала Роммеля. И, словно разделяя восторг, переполнявший сердце Малькольма, небо над Пертом в тот день поражало необычной голубизной и явно обещало на редкость хорошую погоду. Неджент уселся за стол и, энергично работая вилкой, начал быстро уничтожать яичницу.
— Поймите же, Агнес, для меня это великий день! — объяснял он жене, проглотив очередной кусок. — Надеюсь, в Каллендере я сумею так провести матч, что заслужу одобрение обеих команд и восхищение публики. Я буду тверд, но справедлив, и придираться не стану. Возможно, тогда джентльмены из Шотландской лиги уразумеют наконец, что я прирожденный арбитр, а тогда — вы только представьте, Агнес! — не исключено, что уже в следующем сезоне я выйду на поле в Эдинбурге или Глазго. Честно говоря, дорогая, нынче ночью я уже видел во сне, что меня назначили арбитром на турнир пяти наций в Твикенхеме… Но это, конечно, пока лишь сон…
Однако, судя по горящему взору и самодовольству, написанному на лице супруга, миссис Неджент заподозрила, что на самом деле ее благоверный считает подобную перспективу весьма близким будущим. Когда Малькольм садился в машину — до Каллендера ему предстояло проехать около сорока миль, — Агнес подумала, что он очень напоминает воина, с верой в победу спешащего в Каллендер громить англичан. Это мрачное сравнение так расстроило миссис Неджент, что она из-за сущих пустяков отшлепала подвернувшееся под руку последнее по счету чадо.
В Каллендере царило праздничное возбуждение. Каждый расхаживал с таким решительным видом, будто собирался лично участвовать в матче. Последний намечался во второй половине дня на поле Кейта Мак-Каллума, чей сын Гарольд, капитан «Непобедимых», сидя в «Гордом Горце», объяснял почитателям, каким именно образом задаст нынче хорошую трепку доунским «Бульдозерам» и отомстит за поражение со счетом 38:3, нанесенное их команде два месяца назад. Разумеется, виски текло рекой, и можно было предсказать заранее, что примерно пятая часть мужского населения Каллендера наверняка не сможет присутствовать на матче. Тед Булит и его официант Томас не успевали откупоривать бутылки и наполнять бокалы и кружки. Миссис Булит подумывала, что регби — весьма прибыльный вид спорта, а Элизабет Мак-Грю, бакалейщица, как всегда, пилила супруга:
— И главное, Уильям, не вздумайте под тем предлогом, будто вам нужно отпраздновать победу или утешиться после поражения, прийти домой пьяным как свинья! Я этого не потерплю! В пьяном виде вы ведете себя по-хамски даже со мной! Можно подумать, вы совершенно забываете, что я ваша законная жена!
— Будь это так, Элизабет, я бы не трезвел ни на минуту!
Доктор Элскотт, большой любитель регби, прикрепил к двери записку, что едет на матч, и, взывая к спортивному духу сограждан, умолял не отвлекать его от состязания без крайней нужды. Преподобный Хекверсон дал такие же указания своей экономке Элизе, от души надеясь, что Господь не станет призывать к себе никого из его прихожан в ближайшие два часа, то есть во время схватки «Непобедимых» и «Бульдозеров».
В сотрясавшей Каллендер лихорадке все и думать забыли об Иможен Мак-Картри. На какое-то время она как будто умерла для соотечественников. Мало-помалу люди привыкли говорить о ней в прошедшем времени. Все знали, что Иможен вернулась домой уже четыре дня назад, но, поскольку до сих пор она ни разу не показывалась в городе, даже самые ярые поклонники — Тед Булит, Уильям Мак-Грю, Питер Конвей — смирились с горькой мыслью, что Воительница, о которой они сохранили столь волнующие воспоминания, теперь принадлежит Истории. Матч по регби помешал им окончательно впасть в уныние.
Мэр Нэд Биллингс (его предшественник Гарри Лоуден потерпел поражение на последних выборах из-за неприкрытой враждебности к Иможен Мак-Картри) и Питер Конвей как боковой судья от Каллендера решили устроить в мэрии прием для приезжего судьи и хорошенько угостить его виски. Уже задолго до матча они придумали достойный самого Макиавелли план, каким образом сразу же вывести из игры беднягу Неджента и в соответствии с регламентом заменить его другим арбитром — Мердоком Мак-Кензи из Стирлинга, чья племянница недавно вышла замуж на сына Нэда Биллингса. Мердок, хоть и крепкий малый, смертельно боялся своей супруги Джойс, а та просто обожала племянницу, Джоан. Поэтому ни мэр, ни Конвей ни секунды не сомневались, что, если Мак-Кензи придется судить матч, ради Джойс он начнет подыгрывать «Непобедимым», ибо Джоан, конечно, захочет сделать приятное мужу, польстив его самолюбию коренного каллендерца, не говоря уж о том, что Джордж Биллингс был одним из нападающих «Непобедимых».
«Бульдозеры» во главе с капитаном Питером Лимберном и боковым судьей от Доуна Марлоном Скоттом явились в Каллендер около часу дня. Пятнадцать опасных противников… С первого взгляда на этих статных парней кто угодно понял бы, что они приехали сюда не просто погулять. По молчаливому уговору защитники Доуна отклоняли любые приглашения — они отлично знали, что болельщики противной стороны способны на все, и потому сразу поехали на поле. Тренер команды, Рольдрик Форестер (в обычное время довольствовавшийся скромной ролью мясника) стал уже на месте давать им последние наставления.
К несчастью для себя, «Бульдозеры» забыли предупредить Малькольма Неджента, чтобы и он соблюдал такую же осторожность. В результате ничего не подозревающий владелец скобяной лавки из Перта остановил машину возле мэрии, пожал руку встретившим его Нэду Биллингсу и Питеру Конвею и охотно познакомился с членами муниципалитета. Подчеркнутое уважение виднейших граждан Каллендера льстило самолюбию Малькольма, и он, сам того не заметив, успел еще до обеда выпить четыре бокала виски. Ну как тут было отказаться от настойчивого предложения Нэда Биллингса слегка перекусить перед матчем? Недженту впервые в жизни воздавали подобные почести, и ему это очень понравилось.
Обед состоялся в «Лисице и Розе» у старого Уолтера Крисхольма. За торжество «Непобедимых» тот охотно заплатил бы даже собственным местом в раю и без малейших угрызений совести согласился участвовать в заговоре Биллингса и Конвея. Бедная невинная жертва, Малькольм Неджент, ни о чем не догадываясь, после первого же блюда начал излагать доброжелательным хозяевам свои представления об арбитраже. Его внимательно слушали и соглашались. Это так тешило самолюбие Малькольма, что он не мог не выпить за процветание регби, за арбитраж, за Шотландию и за свободу. Все шло как по нотам, и чуть больше часа спустя, после целой серии тостов, в том числе за супружескую верность (находка Нэда Биллингса, думавшего при этом о Джоан и своем сыне Джордже), за шотландскую кухню, за виски — короче, за все, что вообще заслуживает внимания, Малькольм Неджент весьма смутно представлял и где он находится, и когда должен судить матч — сегодня или завтра. Мэру пришлось запихнуть его в машину и везти на уже окруженное беснующейся от нетерпения толпой поле. Малькольм хотел приветствовать игроков обеих команд, но язык не слушался, и бедняга арбитр лепетал нечто настолько невразумительное, что его сразу же отвели в раздевалку. Атлеты из Доуна удивленно таращили глаза, а Мердок Мак-Кензи с помощью жены и племянницы начал распаковывать заранее захваченные вещи — форму, свисток и прочие принадлежности судьи. Уж он-то нисколько не сомневался, что Малькольм Неджент недолго продержится на ногах.
Мисс Мак-Картри уже почти втолковала старой Розмери, как готовить необыкновенно вкусный кекс, рецепт которого она записала в Корнуолле. Сама Иможен хотела отправиться на поле Кейта Мак-Каллума и поглядеть на матч между Каллендером и Доуном, но у калитки неожиданно затренькал колокольчик.
Миссис Элрой, вернувшись, сообщила, что какой-то тип просит мисс Мак-Картри уделить ему несколько минут.
— Какой-то тип? — переспросила Иможен.
— Ну, я так сказала, потому что раньше ни разу его не видела, а вообще-то, там джентльмен, уж это точно…
Известие настолько заинтриговало Иможен, что она сама пошла в сад встречать незнакомца. У калитки дожидался еще совсем молодой, прилично одетый мужчина. Внешность его отнюдь не поражала воображение, но открытый и честный взгляд вполне искупал заурядность всего остального. Джентльмен поклонился.
— Мисс Мак-Картри?
— Да… А с кем имею честь?..
— Меня зовут Норман Фуллертон. Я преподаватель Пембертонского колледжа и хотел бы поговорить с вами…
Иможен знала о существовании в Пембертоне, расположенном всего в нескольких милях от Каллендера, колледжа, но понятия не имела, что от нее понадобилось тамошним ученым. Вероятно, этот Фуллертон — какой-нибудь приезжий и, услышав историю мисс Мак-Картри, решил написать книгу о ее приключениях…
— Понимаете, мистер Фуллертон, сейчас я ужасно тороплюсь — хочу взглянуть на матч по регби. Если я останусь дома, сограждане этого не поймут. Может, отложим разговор на потом?
— Давайте сделаем лучше, мисс. Раз вы одна, не позволите ли мне сопровождать вас? Я на машине и…
— С удовольствием.
Миссис Элрой никак не могла окончательно уверовать, что Иможен уже не девочка и вовсе не нуждается в постоянной опеке. Увидев, что ее «крошка» уезжает с каким-то незнакомцем, Розмери недовольно вскинула брови — ей и в голову не пришло, что при первом же неуместном движении означенного джентльмена мисс Мак-Картри вполне способна хорошенько его отшлепать, а потом посадить на ближайшее дерево.
Население Каллендера рекой текло к полю Кейта Мак-Каллума. Все так оживленно обсуждали разные тактические ходы и способы разделаться с Доуном и наконец стереть позор последнего поражения, что никто даже внимания не обратил, в чьей машине прибыла на состязание мисс Мак-Картри. Поездка заняла слишком мало времени, и спутник Иможен успел рассказать только, что преподает в Пембертонском колледже историю британской культуры и недавно сделал там поразительное открытие, которое не может не заинтересовать особу с репутацией мисс Мак-Картри, поэтому и позволил себе побеспокоить ее.
Иможен пока не удалось узнать ничего больше, поскольку они подъехали к полю и обоим пришлось поработать локтями, пробиваясь к одной из поспешно возведенных трибун.
Питер Конвей и Марлон Скотт, боковые судьи от обеих команд, отказались пожать друг другу руки, и любители потасовок сочли, что матч начинается очень хорошо. Питер Лимберн, капитан «Бульдозеров», прежде чем выйти на поле, в последний раз собрал игроков.
— Слушайте, ребята, эти олухи вообще не умеют играть. Мы уже задали им по первое число, но здешние парни так тупы, что до них еще не дошло, в чем дело… Ну так покажем им! Для начала в схватке заберем мячи — вперед, и «трехчетвертные»! Настоящий фейерверк игры вручную! Я хочу, чтобы через пятнадцать минут ни одна деревенщина уже не таскала ног, ясно? А если кто-нибудь из вас упустит мяч и хоть на секунду даст его этим якобы непобедимым — тьфу, пропасть! — будет иметь дело со мной! И, клянусь, он до конца жизни запомнит нынешнюю встречу в Каллендере!
Гарольд Мак-Каллум тем временем тоже пришпоривал соратников:
— Я еще готов смириться, если они уползут с поля живыми, но не более того! Усекли? Их «передние» не посмеют сунуться к нам в лоб — мы гораздо сильнее, стало быть, предстоит атака с флангов! Ваша забота — так отделать их «трехчетвертных», чтобы больше и близко не подходили! А если кто-то из вас даст с собой совладать, я сам так изукрашу ему физиономию, что родная мать не узнает и пинками вышвырнет за дверь, чтобы впредь всяким нахалам неповадно было выдавать себя за ее сына!
Малькольм Неджент, сидя в уголке, отчаянным усилием воли пытался припомнить, для чего на него напялили такой странный наряд и что надо делать дальше. Бедняге казалось, будто он дремлет, задыхаясь под тройной периной, а вокруг стоит странный глухой шум. Однако при виде двух команд, вышедших на поле, память частично вернулась к Недженту. Он должен судить состязание по регби! Малькольму сразу полегчало, но он все же никак не мог взять в толк, чего ради его сначала заставляют кататься на американских горках. Выбравшись на поле, несчастный почувствовал себя настолько скверно, будто вдруг оказался на манеже, вертящемся с головокружительной скоростью. К огромному удивлению публики и игроков, судья несколько раз повернулся вокруг собственной оси и во весь рост растянулся на поле, носом в траву. Решив, что арбитр скоропостижно скончался, все присутствующие встали и затянули псалом «К Тебе, Господи…» Доктору Элскотту и преподобному Хекверсону пришлось бегом мчаться к предполагаемому покойнику, дабы первыми оказаться у тела. Однако пастор, опередивший врача на добрых полкорпуса, тут же встал с колен.
— Господи Боже, Элскотт, да это не человек, а какой-то перегонный аппарат!
Врач, в свою очередь склонившись над судьей, кивнул:
— Точно, от одного его дыхания опьянеть можно!
Неджента перенесли в раздевалку, вернее, в помещение, временно отданное в распоряжение арбитража, и миссис Мак-Каллум нехотя (ибо принадлежала к числу самых ревностных сторонниц Общества трезвости) согласилась приготовить крепкий кофе. Конвей и Биллингс, радуясь, что их дьявольский план так блестяще удался, собрали игроков обеих команд и объявили, что, поскольку внезапный недуг помешал мистеру Недженту выполнять возложенные на него обязанности, его заменит Мердок Мак-Кензи из Стирлинга. Питер Лимберн, капитан «Бульдозеров», и Марлон Скотт, боковой судья от Доуна, почуяв какой-то подвох со стороны противника, сбегали поглядеть на Неджента и мигом сообразили, что за болезнь свалила судью. Оба решительно отказались играть, пока им не докажут, что назначенный Лигой арбитр и впрямь не в состоянии судить матч. Доунцы потребовали и, поскольку имели на это полное право, добились-таки отсрочки состязания на полчаса.
И пока доктор Элскотт прилагал титанические усилия, приводя Неджента в чувство (что он только не делал — и промывание желудка, и горячие ножные ванны), возбуждение публики дошло до предела. Болельщики обеих команд обменивались оскорблениями и угрозами. Игроки же так рвались в бой, что готовы были просто наброситься друг на друга. Сержанта Арчибальда Мак-Клостоу и констебля Сэмюеля Тайлера охватила легкая тревога.
Мисс Мак-Картри и ее спутник устроились подальше от любопытных глаз, и там, где они сидели, еще царила более спокойная атмосфера. Как только объявили, что матч откладывается на полчаса, ибо еще есть надежда, что недомогание арбитра — временное, Иможен повернулась к новому знакомцу.
— Ну вот, мистер Фуллертон, по-моему, эта отсрочка дает вам прекрасную возможность поговорить со мной. Я вас слушаю.
Преподаватель быстро огляделся и, к легкому удивлению Иможен, прошептал:
— Здесь так много посторонних ушей… Не разумнее ли принять кое-какие меры предосторожности?
Подобное начало не могло не воодушевить неукротимую шотландку. Сердце нашей воительницы забилось сильнее.
— Может, прогуляемся немного? — тоже понизив голос, предложила она.
— К вашим услугам…
Попросив доброхотов постеречь места, мисс Мак-Картри увела Фуллертона на несколько сотен метров от толпы. По сравнению с кипящим, как котел, импровизированным стадионом, здесь было особенно спокойно.
— Итак, мистер Фуллертон, насколько я поняла, вы
преподаете в Пембертонском колледже историю британской культуры?
— Совершенно верно, мисс.
— Однако, надеюсь, вы пришли не для того, чтобы предложить мне частные уроки?
— Конечно нет, мисс, но прежде всего хочу выразить вам глубокое восхищение…
Щеки мисс Мак-Картри порозовели от гордости, и если, приличия ради, она стала возражать, то, честно говоря, довольно вяло.
— По-моему, вы немного преувеличиваете, а, мистер Фуллертон?
— Ничуть, мисс… Я знаю, какую удивительную отвагу вы проявили, рискуя жизнью ради Короны!
Мисс Мак-Картри сухо перебила спутника:
— Ошибаетесь, мистер Фуллертон, — во благо Соединенного Королевства!
— Простите, я не совсем уловил разницу.
— Вы англичанин, не так ли?
— Ну да…
— В таком случае я с сожалением вынуждена признаться, что не понимаю, зачем вы явились ко мне. Ваши соотечественники для меня — угнетатели родины, мистер Фуллертон, и я не испытываю к ним особой симпатии.
— И все же, мисс, я полагал, что королева…
— Ваша королева, мистер Фуллертон, а не наша!
Слегка сбитый с толку неожиданным раздражением мисс Мак Картри, преподаватель машинально повторил:
— Не ваша?
— Нет! Наша — это Мария-Мученица! Мария Стюарт, сначала ограбленная, а потом и убитая англичанами! Мы, шотландцы, никогда ничего не забываем! У нас нет права на короткую память… Но настанет день, и…
Она вдруг умолкла, словно сообразив, что сболтнула лишнее, и уже мягче осведомилась:
— И все-таки, что привело вас ко мне, мистер Фуллертон? Я по-прежнему теряюсь в догадках…
— Дело вот в чем, мисс… Вообще-то я человек спокойный и страшно не люблю вмешиваться в чужие дела… Но сейчас, по-моему, самоустраниться было бы преступлением…
— Вы, кажется, сказали «чужие дела», мистер Фуллертон? А кого вы имели в виду?
— Своих коллег, преподавателей Пембертонского колледжа.
— А почему на сей раз вы решили изменить правилу?
— Потому что я совершенно уверен: там готовится убийство!
— Убийство?
— Да… и, к несчастью, преступник знает, что я слышал его угрозы.
Со стороны стадиона донесся оглушительный шум, предвещавший начало матча.
— Я не могу упустить такое зрелище… — заявила Иможен. — Но ваши слова меня весьма заинтересовали и даже взволновали, мистер Фуллертон… Так что оставайтесь поблизости, а потом, за чашкой чаю, доскажете остальное.
— Прошу вас, мисс Мак-Картри, еще одно только слово: вы не откажете мне в помощи?
— Хотела б я знать, с чего бы вдруг мне отказывать?
Фуллертон, вне себя от радости, схватил Иможен за руки и крепко пожал, но шотландка с живостью отстранилась.
— Мистер Фуллертон!.. А вдруг нас кто-нибудь увидит?
— И что с того?
— Могут вообразить, что вы за мной ухаживаете… и очень настойчиво!
Преподаватель на мгновение лишился дара речи. Одна мысль о том, что кому-то взбрело бы на ум, будто он способен ухлестывать за этой рыжей дылдой, да еще по меньшей мере на двадцать лет старше, напрочь парализовала разум. Иможен, приняв внезапную немоту за раскаяние, благодушно похлопала его по локтю.
— Не сердитесь, мистер Фуллертон… Мне, конечно, очень лестно и все такое, но я не замужем, а значит, должна беречь свою репутацию… Надеюсь, вы меня понимаете?
— О да, мисс, прекрасно понимаю!
— Тем не менее, если угодно, можете поцеловать мне руку…
Фуллертон, мучительно раздумывая, уж не ошибся ли он в этой чокнутой шотландке, все-таки не посмел отказаться. Тут-то их и заметил Арчибальд Мак-Клостоу. Острая потребность поскорее справить естественную нужду заставила его целомудренно отойти подальше от трибун. Решив, что у Иможен объявился неведомый поклонник, он с умилением улыбнулся. Из памяти сержанта еще не изгладилось впечатление о последней встрече, и он лишь обрадовался, что мисс Мак-Картри, похоже, вновь обретает вкус к жизни. Правда, молодость воздыхателя его несколько удивила, но Арчи достаточно долго прожил на свете, чтобы понимать: любовь смеется над доводами рассудка. Боясь нарушить уединение влюбленных, Мак-Клостоу деликатно удалился. Однако, вернувшись на стадион, он весело хлопнул Тайлера по плечу.
— Мы можем больше не беспокоиться за мисс Мак-Картри. Сэм!
— Да?
— Я только что накрыл ее наедине с джентльменом — и, по-моему, совсем недурным на вид… Так вот, он явно добивался благосклонности мисс Мак-Картри, и очень решительно…
— Решительно?
— Вы даже не представляете, как, Сэм!
— Вы не шутите, шеф?
— Вы что, считаете меня лгуном?
— Ни в жизнь, шеф!
— Или, может, у меня галлюцинации?
— Само собой, нет, шеф!
— Или я впал в маразм?
— Ничуть, шеф!
— В таком случае повторяю вам, Сэмюель Тайлер: я только что видел, как какой-то джентльмен страстно целовал руки Иможен Мак-Картри!
— Страстно?
Мак-Клостоу, немного поколебавшись, решил, что не может отказаться от своих слов, не поставив под сомнение рассказ в целом.
— Вот именно, Сэм! — подтвердил он.
Когда Малькольм Неджент вышел из полукоматозного состояния, в которое погрузили его неумеренные возлияния, и на подгибающихся ногах снова вышел на поле (впрочем, глаза все еще застилал легкий туман и каждое движение давалось с трудом), раздались бурные аплодисменты. Правда, часть публики свистела в отместку за то, что, по милости арбитра, ей пришлось петь «К Тебе, Господи…» Кое-кто даже поговаривал о мошенничестве, но Малькольм не слышал ни криков восторга, ни улюлюканья. Казалось, он передвигается в ватном облаке, и сквозь эту плотную завесу шум почти не достигал ушей. Судья вызвал обе команды и приказал капитанам, оросив монетку, разыграть, кто на какой стороне играет. Удача улыбнулась «Бульдозерам», и те решили занять такую позицию, чтобы солнце било в глаза противнику. Неджент с ужасом думал, как он будет бегать за игроками по полю и к тому же наблюдать за развитием игры. Едва он подал сигнал, изнывавшие от нетерпения игроки «Бульдозеров» бросились вперед, и двадцать восемь мужчин сцепились в непримиримой схватке. Лишь защитники, терзаясь бездействием, остались на месте. Малькольм явственно видел, как «передний» Каллендера дал здоровенного пинка склонившемуся над мячом «трехчетвертному» Доуна. Он тут же свистнул, назначая штрафной удар, и счет открылся в пользу «Бульдозеров». Болельщики Каллендера немедленно завопили о продажности судьи, а игроки Доуна продолжали наступать. «Передние», тренированные спецы по подсечкам, устроив схватку, завладели мячом. Это развязало руки «трехчетвертным», и те трижды за первые пятнадцать минут пробивали оборону противника. В результате всего за двадцать две минуты на табло красовался счет 15:0 в пользу Доуна.
Иможен у себя на трибуне сходила с ума от ярости. Шотландке казалось, что, выйди на поле она сама, уж сумела бы смести «передних» Доуна, как ураганом. Но эта молодежь — просто никуда не годится! Фуллертон с легким изумлением наблюдал, как мисс Мак-Картри доходит до белого каления. Нет, это, конечно же, не женщина, а некая первобытная, стихийная сила в чистом виде!
Арчибальд Мак-Клостоу почем зря ругал пробегавших мимо игроков Каллендера, а мэр Нэд Биллингс и коронер-плотник Кэнвей в бешенстве от того, что их покушение на судью не достигло желаемой цели стали обдумывать новый план.
Меж тем на поле команда Каллендера терпела сокрушительное поражение. «Бульдозеры» играли так слаженно, что под надежной защитой «передних» «трехчетвертные» Доуна то и дело наносили удар за ударом. Довольный Питер Лимберн, когда один из его игроков заработал двадцать пятое очко, в то время как противнику даже не удалось «размочить» счет, громко крикнул:
— Потише, ребята, а то в Каллендере больше не захотят иметь с нами дело!
Гарольд Мак-Каллум охотно вцепился бы обидчику в горло, но разгром словно парализовал его волю. Парень чувствовал себя мучеником на Голгофе. Такое унижение — да еще дома, на глазах у своих!.. Бедняга уже всерьез подумывал о самоубийстве, как вдруг откуда-то с трибуны послышался пронзительный голос:
— Да неужто во всем Каллендере больше не осталось ни одного мужчины?
Биллингс и Конвей так и подпрыгнули на месте. А Тед Булит, указывая на высокую женщину, угрожающе воздевшую над толпой сжатый кулак, завопил на весь стадион:
— Иможен Мак-Картри!!!
Уильям Мак-Грю, доктор Элскотт и преподобный Хекверсон, даже не успев сообразить, что говорят, поддержали кабатчика:
— Ур-ра Иможен Мак-Картри!
Булит, задыхаясь от волнения, обнял бакалейщика Мак-Грю.
— Она здесь!
— Да, Тед, она здесь!
И оба заголосили что есть мочи:
— Иможен с нами!
А там, на поле. Гарольд Мак-Каллум вдруг понял, что к нему пришла неожиданная помощь.
— Ну, сборище бездельников! — рявкнул он. — Позор Шотландии, вот вы кто! Ишь, чего захотели! Чтоб нас разбили в пух и прах при Иможен Мак-Картри? Да не бывать этому!
Игроки ринулись в атаку, прорвали оборону противника, и Мак-Каллум, подлетев к линии ворот доунцев, заработал для Каллендера первое очко. В том же порыве всеобщего воодушевления Генри Покет почти сразу увеличил счет до пяти, но тут окончательно оклемавшийся Малькольм Неджент свистнул, объявляя перерыв.
Пока обе команды отдыхали, Биллингс и Конвей нашептывали Гарольду Мак-Каллуму полезные советы, а друзья и почитатели бросились к Иможен. Каждому не терпелось сказать, как он счастлив снова видеть ее в прежней, боевой форме. Но мисс Мак-Картри была не в настроении тратить время на пустую болтовню. Ее так и трясло от ярости.
— Пора вашей команде проснуться и начать играть, джентльмены, а то на будущий год мы подготовим свою, женскую, и без труда добьемся лучших результатов!
Дабы взбодрить игроков, Иможен (по-прежнему вместе с Фуллертоном) пробралась к самому полю. Зрители потеснились, пропуская ее вперед, и чьи-то услужливые руки мгновенно принесли два стула.
— Если наши ребята и теперь оплошают, Сэмюель, на Шотландии можно ставить крест! — шепнул Тайлеру Мак-Клостоу.
Милейший Арчи совершенно забывал, что Доун тоже шотландский городок и расположен всего в нескольких милях от Каллендера. Однако Тайлер, куда менее доверчивый и наивный, чем его шеф, не разделял восторга сержанта. Тот сразу заметил его сдержанность.
— В чем дело, Сэм?
— Да просто я малость беспокоюсь, шеф…
— С чего это?
— По-моему, Иможен Мак-Картри не так сильно изменилась, как мы вообразили в день ее приезда… Уж не разыграла ли она нас нарочно?
Мак-Клостоу не ответил. В глубине души он не мог не признать обоснованность подозрений Тайлера, но злился на констебля за то, что испортил ему такие радостные минуты.
Игра возобновилась. Теперь команды поменялись сторонами, и боковой судья от Доуна стоял совсем рядом со зрителями Каллендера. В тот момент, когда парень, без всякого дурного умысла, пробегал мимо Иможен, последняя громко заметила:
— Кое-кому очень даже стоило бы внимательнее следить за мячом… особенно если этот кто-то хочет вернуться домой в приличном состоянии…
И в первый раз с начала матча Марлону Скотту, боковому судье от Доуна, а в обычной жизни — клерку поверенного и отцу троих детей, стало по-настоящему страшно. Ему вдруг безумно захотелось, чтобы свисток судьи поскорее положил конец этому проклятому матчу. Но, увы, сейчас он означал как раз начало второго тайма. Игроки Доуна мгновенно переместились на половину противника. «Крайний» Финн, в очередной раз обойдя защитников Каллендера, вышел на линию броска и уже собирался забить гол, как вдруг перед самым его носом выросла здоровенная рыжая тетка и сухо спросила:
— Ну и чего вы добиваетесь?
От неожиданности Финн выронил мяч, и тот выкатился за боковую линию. Очень довольная собой, Иможен вернулась на место, а Финн схватил за руку капитана своей команды:
— Пи… Питер… я болен, старина… Мне сейчас такое померещилось, что прямо жуть берет!
Марлон Скотт помахал было флажком, указывая, с какого места заново начинать игру, но у него за спиной раздался такой возмущенно-яростный вопль, что несчастный едва не рухнул на траву без чувств. И, невзирая на угрозы и оскорбления своих, Марлон трусливо отодвинулся по меньшей мере на десяток метров в пользу Каллендера. Неджент свистнул, и все игроки бросились за мячом. В тот же миг Малькольму показалось, что его голова, оторвавшись от шеи, навеки исчезла в небытии. Злосчастный судья совершенно утратил интерес к происходящему, и уже во второй раз с начала матча его нос познакомился с газоном Мак-Каллума. Занятые игрой болельщики даже не заметили, как, воспользовавшись случаем, Гарольд Мак-Каллум, по наущению Биллингса и Конвея, незаметно угостил судью сокрушительным апперкотом. Меж тем бессовестный мэр Каллендера, приказав своему сообщнику Конвею любым способом хоть ненадолго задержать врача, мчался к распростертому на поле арбитру. Подбежав, он опустился на колени, похлопал бесчувственного Малькольма по щекам и начал протирать мокрой губкой его щеки, виски, затылок и лоб. Неджент с трудом разлепил веки, но прежде чем он успел окончательно прийти в себя, подлый Биллингс, пользуясь беспомощностью все еще витавшего между небом и землей арбитра, сунул ему в рот горлышко и заставил проглотить по меньшей мере полбутылки виски. В результате, едва поднявшись, Малькольм Неджент снова упал. И когда доктор Элскотт, наконец избавившись от назойливого Питера Конвея, подошел к месту происшествия, то с крайним недоумением констатировал, что судья снова в дымину пьян.
— Невероятно!.. Но, черт побери все на свете, когда ж он ухитряется так надраться? Просто позор, что к нам посылают вместо судей всякую пьянь! Хорошенький пример для молодежи!
Нэд Биллингс лицемерно кивал, а Малькольм Неджент, тщетно пытаясь хоть что-нибудь понять, падал всякий раз, как его ставили на ноги. В конце концов капитану доунцев пришлось признать, что судья никак не сможет довести дело до конца, и разрешить замену кипевшим от нетерпения Мак-Кензи. Появление Мердока на поле встретили такой овацией, что «Бульдозеры» почти сразу сообразили, какими неприятностями для них чревата эта перемена. Впрочем, подтверждение не заставило себя ждать. Для начала доунцам не засчитали три гола из-за ошибок, которых никто, кроме нового арбитра, не заметил. Лишь когда Финн на глазах у всех сделал самый что ни на есть классический бросок и загнал мяч между стоек противника, Мердоку пришлось неохотно начислить очки и предоставить ему штрафной. Однако едва доунский «крайний» хорошенько прицелился и снова нанес точный удар, судья подошел к нему вплотную.
— По-вашему, это гол?
Чем-чем, а большим умом Финн не отличался.
— Э-э-э… мне и в самом деле казалось, что… а разве нет?
— Нет!
— Почему же?
— Потому что вы допустили ошибку!
— Это я-то? Любопытно бы узнать, какую…
— Не ваше дело!
Финн позвал на помощь своего капитана Питера Лимберна, и Мак-Кензи приказал повторить удар. Парень повиновался, и снова его удар был точен.
— Вы нарочно делаете ту же ошибку, а? — сердито заворчал судья.
— Но, Господи Боже, какую?
— Я здесь не для того, чтобы учить вас игре в регби!
— Это вам надо бы подучить правила!
— Вот как?.. Вон с поля!
— Что?
— Выйдите с поля! Я вас удаляю!
Питер Лимберн попытался было спорить и тоже был удален с поля, таким образом, к величайшей радости каллендерцев, игроков из Доуна оказалось тринадцать против пятнадцати их собственных. Мисс Мак-Картри громогласно сообщила спутнику, что, по ее мнению, новый арбитр много лучше прежнего. В следующей схватке кто-то из игроков Доуна отскочил, закрывая лицо руками и вопя, что его ударили. Судья приказал всем встать, и раненый с приятелем тут же набросились на обидчика — Гарольда Мак-Каллума. Арбитр не упустил прекрасной возможности убрать с поля еще двух противников своих подопечных. Одиннадцать доунцев уже ничего не могли поделать против пятнадцати ребят из Каллендера. За десять минут до конца игры счет стал равным — 31:31. Все уже думали, что матч закончится вничью, но за пять минут до конца вдруг вспыхнуло ужасающее сражение между всеми игроками и частью болельщиков. Повинуясь лишь собственной отваге, Мак-Клостоу ринулся в гущу боя, увлекая за собой и Тайлера Мак-Кензи невозмутимо наблюдал за потасовкой, твердо решив за первую же провинность снова наказать доунцев.
Сержант хотел оттащить кого-то из каллендерцев, мертвой хваткой вцепившегося в трусы доунского игрока, так что эта важнейшая часть спортивной формы вполне могла остаться у него в руках, явив глазам публики несовместимое с нравами Соединенного Королевства зрелище. Однако, прежде чем Арчибальд успел укротить не в меру рьяного болельщика, чья-то рука схватила его за бороду, и злосчастный Мак-Клостоу исчез в общей свалке. Вскоре лишь его помятая каска, словно обломок потерпевшего кораблекрушение судна, возвышалась над немыслимой грудой сцепившихся рук и ног, рея над спинами и головами дерущихся. Прекрасно понимая, чем это может закончиться для его начальника, констебль Тайлер стал раздавать могучие пинки направо и налево, колотя всех, кто подворачивался под руку, пока не вытащил изрядно потрепанного Арчи. Сержант изрыгнул такую порцию отборных проклятий, что преподобный Хекверсон, упав на колени, принялся молить Всевышнего заткнуть уши. Те из игроков обеих команд, кто еще хоть как-то держался на ногах после битвы, потихоньку распрямлялись, плохо понимая, что делать дальше. Внезапно Иможен, обеспечив себе тем самым бессмертную славу, как по наитию, вмешалась в ход борьбы. Схватив каску Мак-Клостоу, она сунула ее в руки ближайшего игрока доунской команды. Парень еще не совсем очухался после града ударов, а потому решил, что наконец-то получил мяч, и, естественно, бросился к линии ворот противника. В ту же секунду Иможен спокойно протянула мяч, на котором до сих пор сидела, Гарольду Мак-Каллуму, и тот вместе с «трехчетвертными» разыграл великолепную серию передач. И наконец случилось невероятное: обе команды, повернувшись друг к другу спинами, мчались к воротам соперника.
По злой иронии судьбы, Малькольм Неджент именно в эту минуту более-менее пришел в себя и, пошатываясь, вышел на поле. Бедолага свято веровал, что туда призывает его долг арбитра, хотя ни за что на свете не смог бы объяснить почему. Не соображая, что игра идет полным ходом, он брел навстречу новым неприятностям. Первым на судью наскочил один из нападающих Каллендера, Чарли Гаррисон. Парень как раз передавал мяч Гарольду Мак-Каллуму. Неджент, отлетев, потерял равновесие, машинально попятился, и весивший более центнера громадный Мак-Каллум с лету врезался в арбитра. Прежде чем в очередной раз зарыться в уже привычную траву, несчастный успел подумать, что заблудился на железнодорожных путях и, вероятно, угодил под «Летучего Шотландца». Благодаря этому обстоятельству Неджент лишился возможности лицезреть выдающийся подвиг Гарольда Мак-Каллума: влепив мяч в ворота доунской команды, тот наконец обеспечил своим ребятам окончательную победу над традиционными соперниками, а те, на другой стороне площадки, скорбно взирали на каску Арчибальда Мак-Клостоу, которую упорно дотащили до самых стоек «Непобедимых». В конце концов они со злости принялись топтать ни в чем не повинный головной убор шефа местной полиции, да так старательно, что Мак-Клостоу, получив свое добро обратно, едва не скончался на месте от возмущения. И Сэмюелю Тайлеру немалых трудов стоило вразумить сержанта, во что бы то ни стало жаждавшего засадить в тюрьму всю доунскую команду. Тогда гнев Мак-Клостоу обрушился на Иможен Мак-Картри. Воительница принимала поздравления тех из соотечественников, кто заметил ее хитрый ход. Твердой рукой отстранив почитателей, сержант приблизился и молча протянул Иможен каску, вернее, то, что осталось от этого важнейшего атрибута всех британских стражей порядка.
— Это еще что такое? — ошарашенно спросила мисс Мак-Картри.
— Это каска сержанта полиции Ее Всемилостивейшего Величества, — холодно ответствовал Мак-Клостоу.
— Не может быть!
— Да, мисс… Каска, за которую я несу личную ответственность! Каска, выданная мне правительством! Каска, оплаченная деньгами налогоплательщиков! Каска, которую у вас хватило наглости стащить и превратить в… вот в это самое!
— О, Арчи… Неужели вам не стыдно так разговаривать со мной? Или я ослышалась?
Тон мисс Мак-Картри произвел сильное впечатление, и вокруг сержанта поднялся недовольный ропот. Жители Каллендера дружно осудили некоторых скупердяев и жмотов, чья бессовестная жадность не делает чести городу. Мак-Клостоу хотел было возразить, но мэр не дал ему сказать ни слова.
— По-моему, с нас достаточно, Мак-Клостоу! Благодаря вашей каске и, главное, благодаря мисс Мак-Картри мы победили! Муниципалитет купит вам новую каску, а откажется — это сделаю я сам и заплачу своими кровными!
Все закричали «ура» мэру, а пристыженный сержант, покраснев от стыда, умолк. После такого унижения Мак-Клостоу оставалось лишь вернуться к констеблю и, как всегда, сорвать раздражение и обиду на нем.
— Ну, Сэмюель, довольны, что выставили меня на посмешище?
— Посмешище, сэр?
— А на что, по-вашему, похож полисмен без каски, Тайлер? Или начальник вокзала без фуражки? Или епископ без митры? Ну отвечайте же, Тайлер!
— Ни на что, шеф.
— Вот именно! Из-за вашей подружки Иможен я стал ни на что не похож, и это — на глазах у всего Каллендера! Ну, спрашивается, разве не смешно?
Но в это время горестные стенания Мак-Клостоу прервал отчаянный вопль, и сержант вместе с констеблем бросился в ту часть стадиона, куда уже спешили другие зрители, не успевшие разойтись после игры. Арчибальд и Сэмюель, энергично проложив себе дорогу среди любопытных, увидели Иможен и распростертого у ее ног мужчину. Мак-Клостоу тут же признал в нем воздыхателя мисс Мак-Картри. Доктор Элскотт, прибежавший почти одновременно с полицейскими, бегло осмотрев Фуллертона, сразу понял, что тот мертв. Кто-то всадил англичанину под мышку кинжал, да так глубоко, что лезвие пробило сердце. Потрясенные жуткой картиной, болельщики молчали, а Иможен безуспешно облизывала пересохшие губы.
Мак-Клостоу обескураженно поглядел на труп, потом на шотландку и снова — на покойника. Наконец, устав смотреть то на одну, то на другого, он жалобно простонал:
— Подумать только, ведь вы обещали мне, мисс…
Констебль попытался спасти Иможен от собиравшейся над ее головой грозовой тучи.
— Может, нам стоило бы… а, шеф?.. — пробормотал он.
Но Арчибальд заткнул ему рот:
— А вы, Тайлер, вы просто жулик!
— Я?
— Да, вы! У вас хватило цинизма выманить у меня бутылку виски под тем предлогом, что мисс Мак-Картри, дескать, наконец угомонилась! Бессовестный, я вам это еще припомню!
— Но, шеф…
— Молчите! Я никому не позволю издеваться над сержантом Арчибальдом Мак-Клостоу! И предупреждаю любителей дурацких шуток: у них этот номер не пройдет!
Слова полицейского произвели некоторое впечатление на аудиторию. Почувствовав это, сержант немного успокоился и взял себя в руки.
— Это вы кричали, мисс Мак-Картри? — сурово осведомился Мак-Клостоу самым «официальным» тоном.
— Да.
— Почему?
Иможен ошарашенно поглядела на полицейского.
— Как так — почему? Перестаньте задавать идиотские вопросы, Арчи!
Сержант гордо выпрямился:
— Я попросил бы вас, мисс Мак-Картри, во-первых, не мешать мне вести допрос так, как я считаю нужным, а во-вторых, называть меня только сержантом. Ясно?
— Ясно, Арчи.
Мак-Клостоу так неприлично выругался, что доктору Элскотту пришлось призвать его к порядку и напомнить, что сержанту полиции Ее Величества негоже показывать согражданам дурной пример. В ответ Арчибальд буркнул, что, мол, лучше б врач заткнулся и быстренько шел домой писать заключение. Такая грубость глубоко уязвила Элскотта, и он пошел прочь, громко объявив напоследок, что не желает больше иметь ничего общего с дурно воспитанными типами вроде этого чертова сержанта. К огромному удовольствию всех, кто еще оставался на стадионе, Мак-Клостоу окончательно вышел из себя.
— А если я вас арестую?
— Меня? Попробуйте только — и мы поглядим, что из этого выйдет! А для начала имейте в виду: ваш покойник меня больше нисколько не интересует, понятно? Так что, если угодно, можете вскрывать его сами!
— Доктор Элскотт! Приказываю вам…
Но врач, совсем взбеленившись, ответил замечательным по краткости и выразительности словом, которое ни разу не слетало с его уст со времен далекой студенческой юности. Все настолько остолбенели от удивления, что никто, даже Тайлер, не помешал Элскотту уйти с места происшествия. Арчибальд, не зная на ком сорвать злость, накинулся на Иможен:
— Так или иначе, мисс, а вы все еще не ответили на мой вопрос! Почему вы кричали?
Иможен ткнула пальцем в сторону покойника.
— По-вашему, это недостаточно серьезная причина?
— Мое личное мнение тут ни при чем, мисс!.. Вы что, впервые в жизни увидели человека, погибшего насильственной смертью?
— Ну и ну, Арчи! Уж кому бы спрашивать меня об этом, только не вам, а?
Вне себя от ярости, сержант прикусил карандаш и едва не швырнул на землю блокнот. Констебль подошел к изнемогающему от злобы начальству и попытался его успокоить:
— Возьмите себя в руки, шеф!
— Вздумали мне приказывать, Тайлер? Хорошенькое дело! А вас, мисс Мак-Картри, предупреждаю: недолго вам осталось изгаляться над правосудием! Да, знаю, вы уже не раз видели тех, кто умер насильственной смертью, причем — от ваших же рук! Я ничего не забыл, мисс Мак-Картри, потому-то и спрашиваю, чем этот труп отличается от прочих и почему столь привычное зрелище заставило вас взвыть почище любой сирены? Вы что, хотели напугать мирных обывателей? Что ж, я уверен: в округе ближайших двух миль нашлось немало таких, кто, услышав ваш крик, забился от страха в погреб.
— Значит, по-вашему, я выла?
— Вот именно!
— Не хотелось бы лезть в ваши дела, Мак-Клостоу, — вмешался мэр, — но, по-моему (хотя я уверен, что присутствующие здесь джентльмены вполне согласны со мной), вы позволяете себе разговаривать с мисс Мак-Картри самым недопустимым образом! Имейте в виду, она вправе подать на вас жалобу!
Неожиданная поддержка слегка удивила Иможен, но она быстро сориентировалась в ситуации.
— Спасибо, Нэд Биллингс! Но если бы я стала жаловаться, всякий раз, как этот тип с пьяных глаз обращается со мной по-хамски, его бы давным-давно выгнали из полиции. Однако надо быть человечнее, Нэд Биллингс… Во что превратился бы этот несчастный, как не в жалкую развалину? Он и так уже…
Тайлер едва успел вовремя удержать сержанта, чуть не набросившегося на Иможен с кулаками.
— Отпустите меня, Сэмюель! Сейчас же отпустите! Она смеет говорить, будто я пьян!
— А если это не так, — медовым голосом заметила мисс Мак-Картри, — то как же вы могли предстать перед согражданами, и особенно перед дамой, в подобном виде?
Мак-Клостоу, совершенно не понимая, куда она клонит, растерянно пробормотал:
— Я?.. Я?.. По-вашему, у меня непристойный вид?..
— Насколько мне известно, у нас не принято, чтобы полицейский в служебное время появлялся на людях без каски… Или я ошибаюсь?
Этот бессовестный удар ниже пояса окончательно сразил Мак-Клостоу. Арчибальд, смертельно побледнев, прикрыл глаза, и те, кто стоял поближе, видели, как угрожающе напряглись и вспухли вены у него на висках. А Нэд Биллингс и коронер Питер Конвей, бакалейщик Мак-Грю и хозяин «Гордого Горца» Тед Булит во что бы то ни стало хотели с триумфом нести в город свою вновь обретенную Иможен. Наконец-то она опять с ними!
Конвей сжал руку бакалейщику.
— Совсем прежняя, а? — с жаром заметил он.
— Да, не хуже, чем в старые добрые времена!.. Сдается мне, у нас на глазах свершилось величайшее чудо, Конвей!
Булит обнял Биллингса.
— Нэд, в эту счастливейшую минуту мне нужно кого-нибудь обнять! Каллендер еще ждут чудесные денечки!
Тайлер укоризненно посмотрел на мисс Мак-Картри.
— Я вижу, вы опять за свое, мисс Иможен? — спросил он с горечью, словно позабыв, как сам же недавно сокрушался, увидев дочь капитана чуть ли не на смертном одре.
— По-моему, он сам первый начал, разве нет?
Спор, изначально обреченный на полную безысходность… Но тут кто-то громко заметил, что о покойнике, видать, все забыли, и чувство долга заставило Мак-Клостоу стряхнуть оцепенение. Он вышел вперед.
— Только не я!.. Мисс Мак-Картри, вы знали этого человека?
— Очень мало…
— Правда? — насмешливо хмыкнул сержант, причем ни от кого не ускользнула оскорбительность его тона. — Но все же, я полагаю, достаточно, чтобы сообщить нам хотя бы имя, мисс?
— Норман Фуллертон, преподаватель Пембертонского колледжа.
— А можно узнать, мисс, почему вы сочли необходимым отправить его к праотцам?
Вопрос настолько потряс присутствующих, что все разом умолкли. До сих пор никому и в голову не приходило, что Иможен может иметь какое бы то ни было отношение к этому убийству. Реакция шотландки не заставила себя ждать.
— В конце концов вы все-таки выведете меня из терпения, Мак-Клостоу! И что за манера всякий раз, как в окрестностях появляется труп, пытаться всучить его мне?
— Да просто без вас тут не бывает никаких трупов, мисс! А насчет этого… по-моему, у вас могли быть достаточно веские причины от него избавиться!
— Хотела бы я знать — какие?
— Я прекрасно видел, как он ухлестывал за вами и целовал руки!
— Ну и что? По-вашему, я должна убивать каждого, кто целует мне руки? Честное слово, это вовсе не в моих привычках?
— Разве что вы пытались заставить его жениться, а бедняга не пожелал!
От вопля, который испустил Мак-Клостоу, когда Иможен вцепилась ему в бороду, даже у жителей отдаленного Троссакса побежали по коже мурашки, и многие из них свернули палатки, решив, что, возможно, рассказы о чудовищах, коими якобы кишит Шотландия, не так уж преувеличены…
В этот вечер Каллендер снова охватило лихорадочное возбуждение. У Булита стоял такой шум и гам, что констеблю Сэмюелю Тайлеру уже трижды пришлось появиться на пороге бара и попросить джентльменов несколько умерить восторги, если они не хотят, чтобы сегодня заведение закрыли раньше обычного. Виски текло рекой. Пили в честь Гарольда Мак-Каллума, наконец сумевшего привести свой отряд к победе и отомстить за последнее поражение, но, быть может, еще больше тостов произносилось во славу Иможен Мак-Картри, столь удивительно помолодевшую прямо на глазах у пламенных почитателей. Маргарет Булит тихо плакала на кухне, предчувствуя возвращение тяжелых времен. Теперь муж опять будет то и дело презрительно сравнивать Маргарет с проклятой Мак-Картри… Элизабет Мак-Грю у себя в бакалее с трепетом слушала рассказ миссис Фрэйзер, миссис Плери и миссис Шарп об убийстве на поле Мак-Каллума, хотя ни одна из означенных дам ничего не видела собственными глазами. Наконец, когда они умолкли, миссис Мак-Грю тяжело вздохнула.
— Вероятно, сами о том не подозревая, мы чем-то ужасно прогневили Небеса! — заметила она. — Иначе Всевышний не послал бы нам такое тяжкое наказание! Эта Мак-Картри — хуже, чем ящур или гонконгский грипп!
Этот субботний вечер навсегда войдет в хроники Каллендера, и тем не менее кое-кто из обывателей городка был настолько занят, что держался в стороне от бушующих сограждан. Так, доктор Элскотт, вняв мольбам вечного миротворца Тайлера, вскрывал останки несчастного Нормана Фуллертона. При этом выяснилось, что сердце бедняги англичанина пронзил очень тонкий и острый кинжал и смерть наступила мгновенно. Покончив с неприятной обязанностью, врач хорошенько вымыл руки до локтя и сел писать заключение для сержанта Мак-Клостоу. Последний в это время тоже трудился над рапортом для суперинтенданта Эндрю Копланда. Арчибальд докладывал, что в Каллендере произошло убийство, личность жертвы установлена и он, Мак-Клостоу, почти уверен, что означенное преступление — дело рук мисс Иможен Мак-Картри. В доказательство сержант приводил сцену, подсмотренную им перед началом матча, и напоминал о прошлом Иможен. Преподобный Хекверсон, в свою очередь, не сидел без дела. Священник сочинял письмо, которое твердо решил сегодня же отправить в Перт представителю Ассоциации регби. Как истинный поборник морали и спорта пастор возмущался тем безобразным обстоятельством, что судьей на состязании между командами Каллендера и Доуна назначили беспробудного пьяницу, настолько закореневшего в пороке, что два или три раза во время матча он вел себя неподобающим образом, пока не свалился окончательно, заставив организаторов мероприятия срочно искать замену.
Иможен очень плохо приняла упреки Розмери Элрой, уже узнавшей от мужа о последних событиях, с которыми, к ее огорчению, опять связывали имя мисс Мак-Картри.
— Неужто вы никогда не изменитесь, мисс Иможен? — стонала старая служанка. — А ведь твердо обнадежили меня…
— Послушайте, миссис Элрой! Во-первых, перестаньте, пожалуйста, хныкать! А во-вторых… Вы не хуже меня видели того джентльмена, что приходил ко мне пополудни. Надо думать, вы обратили внимание, что я видела его в первый раз в жизни?
— Само собой!
— Так вот, он проводил меня на матч, а потом, пока я… улаживала одно недоразумение, беднягу убили. Ну и как же, по-вашему, я могла этому помешать?
Сраженная простой логикой Иможен, Розмери опустила голову:
— Да, конечно… Но почему такие истории случаются только с вами?
Наконец, проводив домой ту, что когда-то была ее нянькой, а теперь стала скорее подругой, Иможен тщательно закрыла все окна и дверь. Потом села на диван в гостиной, поставила рядом бутылку виски, закурила и стала думать. Еще одно приключение!.. И опять этот кретин Мак-Клостоу, не способный видеть дальше собственного носа, пытается отравить ей жизнь… а впрочем, к черту Мак-Клостоу! Все его дурацкие выходки не имеют никакого значения…
Для Иможен важным оставалось только одно: Фуллертон не соврал. Сама смерть преподавателя колледжа доказывала, что его подозрения были весьма обоснованны. Похоже, в Пембертоне кто-то здорово испугался разоблачений. Но почему убийца нанес удар в Каллендере? Может, все время следил за Фуллертоном? Тогда он знал, что тот ездил к Иможен домой… или, во всяком случае, видел, как они разговаривали… А значит, жизнь мисс Мак-Картри тоже под угрозой и очень скоро она это почувствует… Скорее всего, убийца предполагает, что несчастный преподаватель истории британской культуры успел сделать ей немало опасных для него признаний. Подумав об этом, Иможен невольно содрогнулась, и по всему телу забегали мурашки. Крайне неприятное ощущение! Хотя… чему быть, того не миновать. Мисс Мак-Картри отхлебнула виски и уже спокойно, с полным сознанием дела и несокрушимой уверенностью в себе решила, что долг велит ей продолжить то, что начал и не успел завершить покойный Фуллертон. Значит, надо ехать в Пембертон и занять место, оставшееся после его гибели свободным. Да, но для этого нужно университетское образование и документы, а у Иможен ни того, ни другого нет. Ба! При желании сэр Дэвид Вулиш без труда раздобудет для нее все необходимое. И мисс Иможен Мак-Картри, преисполнившись решимости сражаться за Правосудие и Справедливость, сняла трубку. Она назвала лондонский номер ФРИ 99–99 и стала ждать. Не прошло и десяти минут, как на другом конце провода раздался голос собеседника, и, право же, удивительно приятный голос!
— Алло!
— Алло! Мистер Джеймс Суини?
— Он самый.
— Будьте любезны, сэр, передайте, пожалуйста, вашему почтенному отцу, что с ним хотела бы поговорить Иможен.
— Не вешайте трубку. Я сейчас посмотрю, вернулся он или нет.
Услышав, как хорошо знакомый голос сказал: «Алло, Иможен?», — мисс Мак-Картри почувствовала, что сердце ее забилось быстрее, и окончательно уверовала: да, все начинается сначала!
Глава III
Весть об убийстве Фуллертона привела суперинтенданта Эндрю Копланда в ужасное негодование. Не то чтобы он питал особо дружеские чувства к покойному — по правде говоря, ненадолго заезжая в Пембертон, Копланд видел его всего несколько раз, и то мельком. Но уже сам факт, что кто-то смел покуситься на жизнь одного из преподавателей сына, казался суперинтенданту чуть ли не кощунственным. Копланд позвонил Мак-Дугласу и без обиняков выложил все, что думает по этому поводу, и насколько подобные приключения несовместимы со статусом такого учебного заведения, как Пембертонский колледж. Директор поклялся, что никто не огорчен этим больше него самого и что покойный Фуллертон никоим образом не производил впечатление человека, способного умереть насильственной смертью. Поэтому, если суперинтендант соблаговолит выслушать его, Мак-Дугласа, мнение, то, очевидно, вышла какая-то ошибка и преподавателя убили случайно. Удар нанесли сзади и, очень возможно, Фуллертона перепутали с кем-то другим. Но Эндрю Копланд все-таки приказал директору приехать в управление ближе к вечеру и подробно объяснить, что за причины заставили его принять на работу человека, чья смерть так мало соответствует репутации Пембертонского колледжа.
Незадолго до полудня суперинтенданту передали рапорт Арчибальда Мак-Клостоу об убийстве Нормана Фуллертона. Больше всего его внимание привлекли серьезные подозрения сержанта насчет этой столь ненавистной ему Иможен Мак-Картри. Сначала Эндрю Копланд пожал плечами, решив, что Мак-Клостоу просто ищет повода отомстить за прежние огорчения, но, дочитав до конца, согласился, что, пожалуй, утверждения сержанта не совсем безосновательны. Арчибальд видел, как жертва ухаживала за мисс Мак-Картри, так, может, тут и впрямь самая обычная старая история с разрывом и местью за обман? Копланд позвонил Мак-Клостоу и велел явиться в Перт сразу же после того, как коронер проведет предварительные слушания. Суперинтендант хотел как можно скорее прояснить дело и примерно наказать убийцу (какого бы пола он ни оказался). С его точки зрения, молниеносность возмездия в какой-то мере искупила бы сам факт убийства в Пембертоне. Наконец, сочтя, что все возможные меры приняты, Копланд поехал домой обедать. Как у всех людей с чистой совестью, не мучимых никакими угрызениями, у суперинтенданта был превосходный аппетит. Однако для всех, кто так или иначе имел отношение к убийству Фуллертона, этот день готовил еще немало сюрпризов.
Первой жертвой стал несчастный Малькольм Неджент, которого злая судьба привела в Каллендер судить матч между местной и доунской командами. После тяжкого опьянения он вернулся в Перт очень поздно, еще плохо соображая, тут же лег спать и, к ужасу Агнес, вообразившей, что ее супруг впал в летаргический сон, пробудился лишь около полудня. Но и это пробуждение Малькольм до конца жизни считал одним из самых тягостных испытаний, какие только выпадали на его долю. Неджент не понимал, что с ним произошло. Голова казалась сплошной цементной глыбой, глаза не открывались, а попробовав оглядеться, несчастный владелец скобяной лавки чуть не взвыл от боли. Что до языка, то Малькольм ни за что не смог бы объяснить, куда он подевался, поскольку весь рот производил впечатление крепкого, без единой трещины куска дерева. Прибежавшей на его стоны испуганной Агнес Неджент признался, что боится, не заболел ли он какой-нибудь страшной, неизлечимой болезнью. Однако, не желая пугать жену до бесчувствия, Малькольм разрешил вызвать врача лишь в том случае, если ему не полегчает после полудня. Обоих немного обнадеживало то, что температура оказалась совершенно нормальной. В половине второго зазвенел телефон, и Недженту показалось, что каждую клеточку его измученного мозга пронзила острая игла. Миссис Неджент сняла трубку и тут же оповестила супруга, что с ним хочет говорить Джеральд Пилчет, представитель Ассоциации регби в Перте. Даже в агонии Малькольм ни за что не отказался бы разговаривать с мистером Пилчетом, ибо тот в его глазах олицетворял самое лучшее, самое благородное занятие на свете — игру в регби.
— Алло! Мистер Пилчет?
— Неджент? Как ни печально, но я вынужден сообщить, что после вашего скандального поведения в Каллендере, справедливо возмутившего всех местных жителей, остается только вычеркнуть вас из списков Лиги регби. И я буду вам весьма признателен, если вы забудете даже мое имя. Хотя бы из уважения к собственной семье я вовсе не хочу, чтобы меня видели в обществе самого чудовищного пьяницы во всем графстве! Я больше никогда не подам вам руки и вообще сожалею, что мы были знакомы!
Щелчок в трубке показался Малькольму Недженту похоронным звоном. С того дня несчастный хозяин скобяной лавки начал стареть с поразительной быстротой. Соседи относили такое преждевременное и внезапное дряхление на счет чисто коммерческих огорчений, но люди знающие шептались, что здоровье Неджента разрушило пьянство и ничто другое. В графстве Перт, как и повсюду, справедливость торжествует отнюдь не всегда.
Второе потрясение того памятного дня предназначалось Эндрю Копланду. Сидя у себя в кабинете, суперинтендант блаженно переваривал восхитительный обед, приготовленный женой с обычными для нее заботой и тщанием, когда вдруг раздался звонок из Лондона. Узнав, что на проводе — одна из важнейших фигур всей британской полиции, Копланд нервно сглотнул, с опасением ожидая выволочки и в то же время надеясь на повышение. Сердце его учащенно забилось. Однако собеседник развеял и тревоги, и ожидания Команда. Речь пошла совсем о другом. Большой босс звонил только для того, чтобы дать суперинтенданту подробнейшие указания. Копланд слушал, широко открыв рот от удивления, но, коль скоро начальство не сочло нужным ничего объяснять, сам спросить не посмел. Наконец, положив трубку, суперинтендант снова раскурил сигару и начал приводить в порядок легкую путаницу, царившую у него в голове. Впрочем, как всякий хороший чиновник, неизменно готовый одобрить любое исходящее сверху решение, очень скоро Копланд пришел к выводу, что таинственность начальства объясняется только одним: необычной важностью дела. Будучи оптимистом по натуре, суперинтендант быстро внушил себе, что участие в расследовании такого дела может принести немалую пользу его карьере. И полицейский поклялся от души послужить и интересам Короны, и своим собственным.
Объявив, что Норман Фуллертон погиб от руки одного или нескольких неизвестных, Питер Конвей,
плотник и коронер Каллендера, закончил предварительные слушания, едва не обернувшиеся очередным скандалом. Показания Арчибальда Мак-Клостоу снова выдвинули на первый план Иможен Мак-Картри. Та не замедлила нанести контрудар и обозвала сержанта «чертовым тупицей-переростком» и «плодом противоестественной любви». Арчибальд потребовал, чтобы коронер внес в протокол гнусные оскорбления, нанесенные ревнителю государственных интересов, но Конвей лишь ответил, что Мак-Клостоу первым позволил себе более чем недоброжелательные намеки в адрес мисс Мак-Картри. На помощь Иможен, как всегда, бросились мэр Нэд Биллингс, кабатчик Тед Булит и бакалейщик Уильям Мак-Грю, а женщины дружно стали на сторону Арчибальда Мак-Клостоу. Коронер поспешил вызвать врача, обсудить показания с помощниками и вынести обычное в таких случаях заключение, развязывающее руки полиции. Кипя от злости, Мак-Клостоу предоставил Тайлеру следить за порядком в Каллендере, а сам поехал в Перт. К чаю он уже добрался до столицы графства. Там сержанта ожидал третий удар из коллекции потрясений, заготовленных на тот день лукавой судьбой для некоторых обитателей Горной страны, словно она вдруг вознамерилась доказать последним, как далеко от воображаемого до действительного.
Мак-Клостоу вошел в кабинет Эндрю Копланда, горя жаждой раз и навсегда покончить с ненавистной Иможен Мак-Картри. Всю дорогу из Каллендера в Перт он только и делал, что собирал всевозможные доказательства ее виновности. Суперинтендант принял его гораздо холоднее, чем ожидал, судя по любезному тону утреннего разговора, Мак-Клостоу. Тогда Копланд даже сказал, что с большим интересом прочел рапорт об убийстве Нормана Фуллертона, начале расследования и предварительных выводах насчет предполагаемой виновницы, но теперь настроение у него, похоже, резко изменилось.
— Я прочитал ваше донесение, сержант. Насколько я понял, вы подозреваете, что этого Фуллертона убила мисс Мак-Картри?
— Не только подозреваю, а почти уверен.
— Почему?
— Во-первых, из-за ее прошлого… На совести мисс Мак-Картри слишком много покойников!
— Ради государственной пользы, сержант, ради государственной пользы!
— Так меня уверяли, сэр, но все-таки человек, которому так нравится убивать ближних, особенно женщина, — личность, не внушающая особого доверия… Короче, волей-неволей начинаешь думать…
— Меня интересуют факты, а не домыслы, сержант!
— Факты, сэр? Да весь Каллендер подтвердит вам, что за мисс Мак-Картри по пятам следует смерть! Да, знаю, до сих пор ей всегда удавалось выкрутиться, но все же… Поэтому, увидев, как мисс Мак-Картри флиртует с каким-то мужчиной, я сразу почувствовал: не миновать беды!
— И что особенного делала мисс Мак-Картри?
— Клянусь, сэр, это так же верно, как то, что я сейчас здесь, у вас в кабинете! Иможен Мак-Картри позволила Фуллертону целовать ей руки!
— Ну и что?
— Но, сэр, если женщина может так неприлично вести себя при людях — значит, она способна на все! Несомненно, убитый полюбил — уж не знаю, какое ослепление на него нашло, но факт есть факт… так вот, он любил Иможен Мак-Картри и от этого умер. Как и тот инспектор из Ярда, что просил ее руки! До сих пор от нее удалось спастись только одному — дальнему родичу миссис Элрой. Он тоже вздумал ухаживать за этой кошмарной рыжей ведьмой, но после короткого разговора с ней умчался быстрее лани, и с того дня в наших краях никто о парне не слышал[98]! А Фуллертон, судя по данным предварительного расследования, ни с кем, кроме мисс Мак-Картри, не общался. Нет, у меня нет ни тени сомнений — это она его прикончила!
— Почему?
— В тюрьме сама признается! Но, по-моему, он отказывался жениться.
— Понимаю…
— Как вы считаете, можно мне ее арестовать, сэр? — сгорая от нетерпения, спросил сержант.
— Арестовать? Вы хоть соображаете, что говорите, Мак-Клостоу? Лучше внимательно выслушайте, что я вам скажу, и, коли не хотите нажить очень крупные неприятности, советую тщательнейшим образом выполнить все указания. Я категорически запрещаю вам трогать мисс Мак-Картри, слышите? Ка-те-го-ри-че-ски! Более того, запрещаю даже намекать или позволять кому бы то ни было в вашем присутствии вести разговоры о том, будто мисс Мак-Картри имеет хотя бы отдаленное отношение к смерти Нормана Фуллертона! Вы не обращаете внимания на Иможен Мак-Картри! Вы не видите Иможен Мак-Картри! Ее больше не существует для вас!
— Ох, если б это и в самом деле было возможно, сэр!
— Нашли время острить, Мак-Клостоу! Имейте в виду, ваше неоправданное ожесточение и преследование в высшей степени достойной особы может обернуться самым суровым наказанием! Лично я готов забыть о ваших подозрениях, хотя они, в сущности, граничат с клеветой. Но оставим это. Я понимаю, что, действуя таким образом, вы хотели как можно лучше послужить Короне. И все-таки впредь поостерегитесь, я вас предупредил. Неповиновение будет стоить вам головы.
Арчибальд медленно встал.
— Я вас отлично понял, сэр, — с горечью отозвался он. — Иможен Мак-Картри может очистить от жителей хоть всю Шотландию — я ничего не знаю, ничего не вижу и не двигаюсь с места. М-м-м, да… Некоторые вяжут, кто — крючком, кто — спицами… Ну а она коллекционирует трупы… Говорят, это хорошо… Что ж я могу поделать?.. Я подчиняюсь, сэр… Я всегда и со всем согласен вот уже двадцать шесть лет, сэр…
— Поверьте, для человека, решившего дожить до отставки без приключений, это самое полезное, сержант.
— Да, самое полезное, сэр, несомненно… Я согласен, сэр… Всегда и со всем согласен… Сержант Арчибальд Мак-Клостоу всегда на все согласен!..
Суперинтендант пристально посмотрел на подчиненного. Во взгляде его сквозили тревога и любопытство.
— Вам нехорошо, друг мой?
Мак-Клостоу вскинул на него полуобезумевшие глаза.
— Мама мне это предсказывала, сэр, но я не поверил своей маме…
— Маме? А что такое она могла вам предсказать, сержант?
— Что нельзя играть при луне, сэр, а я… я продолжал делать по-своему!
Он пророчески воздел указующий перст.
— «Арчи, — уговаривала меня она, — не выходи из дому в полнолуние! Иначе всю жизнь тебя будут преследовать призраки, пока не умрешь в смирительной рубашке…» — Мак-Клостоу ударил себя кулаком в грудь. — Эта святая женщина, моя мать, была права, сэр! — горестно взвыл он. — Я вижу призраков! Призраков с рыжими волосами! И впереди маячит психбольница, но… я согласен, сэр… всегда согласен… вот уже двадцать шесть лет…
И сержант вышел из кабинета, забыв отдать честь Копланду. А тот настолько опешил, что даже не подумал призвать его к порядку.
Увидев сержанта, хозяин «Опоссума и Священника» Реджинальд Хорсберг добродушно улыбнулся:
— Ну как, она больше не возвращалась?
— Вы про кого?
— Да та рыжая, что, видать, крепко засела у вас в голове, когда мы виделись в последний раз?
Арчибальд тихонько застонал и, ринувшись к бутылке «Джонни Уокера», которую Реджинальд Хорсберг имел неосторожность оставить на стойке, выпил четыре рюмки подряд. Кабатчик наблюдал эту сцену с видом знатока и любителя спортивных достижений такого рода.
— Вы уже выпили на семь шиллингов, — спокойно заметил он, как только сержант остановился немного перевести дух.
От волнения сержант несколько ослабил хватку, и Реджинальд не упустил случая убрать бутылку подальше.
— Для полицейского вы, по-моему, малость перебарщиваете…
— А кто бы на моем месте мог удержаться?
— Человек благоразумный.
— О каком благоразумии, скажите на милость, может идти речь, если суперинтендант приказывает вам покрывать преступников?
Реджинальд Хорсберг терпеть не мог осложнений. И ему вовсе не светило, чтобы до ушей Эндрю Копланда дошло, какие разговоры вел тут один из посетителей. Супер, чего доброго, вообразил бы, будто Реджинальд вполне их одобряет.
— Вам бы лучше поскорее вернуться домой, сержант, — добродушно заметил он.
— У меня больше нет дома среди свободных людей… Я искупительная жертва… Да, они предпочтут запереть в сумасшедшем доме меня, Арчибальда Мак-Клостоу, двадцать шесть лет беспорочно прослужившего Короне, чем тронуть хоть волос на голове у этой рыжей чертовки и помешать ей творить преступления!
Кабатчик вздохнул.
— Что, опять накатило, а? — с жалостью спросил он.
— Мне свободно дышится, только когда ее нет!
Реджинальд Хорсберг вышел из-за стойки бара, по-дружески обхватил Мак-Клостоу за плечи и повел к двери.
— Ну, старина, возвращайтесь-ка спокойно домой… и попробуйте больше не думать о своем призраке, ладно?
Всхлипывания Мак-Клостоу растрогали бы и самую черствую душу.
— Вы говорите, совсем как мама… моя покойная мама… чудесная была женщина, клянусь вам!
— Не сомневаюсь, старина… Но, думаете, она обрадовалась бы, увидев вас в таком состоянии?
Слегка отупевший Арчибальд ушел, раздумывая, что, черт возьми, хозяин «Опоссума и Священника» хотел этим сказать.
И, наконец, последним, кому довелось испытать на себе в тот день причуды судьбы и оказаться в полной растерянности перед непредсказуемым поворотом событий, был Кейт Мак-Дугал, директор Пембертонского колледжа. Вопреки ожиданиям Мак-Дугала, его сразу же принял любезный, улыбающийся и весьма благожелательно настроенный суперинтендант. Директору тут же полегчало — зря он готовился к тяжелым объяснениям.
— Разумеется, мой дорогой, то, что произошло в Пембертоне, неприятно, в высшей степени неприятно…
Директор колледжа поспешил согласиться с полицейским.
— Миссис Мак-Дугал всю ночь не смыкала глаз!.. — хнычущим голосом проговорил он. — Никак не может себе простить, что ничего не почувствовала заранее… Однако в ее оправдание должен признать, что этот Фуллертон казался вполне приличным джентльменом… Впрочем, в ином случае я бы ни за что не взял его на работу…
— Знаете, мистер Мак-Дугал, иногда убивают и джентльменов.
— Правда?
Директору колледжа было трудно поверить, что воспитанный молодой человек может кончить жизнь столь вульгарным образом. Поэтому он промолчал и лишь поклонился в знак того, что ни секунды не сомневается в проницательности и талантах Эндрю Копланда.
— Ну а кто же займет место Фуллертона?
Несколько удивленный тем, что суперинтендант вмешивается во внутренние проблемы его колледжа, Мак-Дугал все же смиренно признал, что пока он в некоторой растерянности, но немедленно займется поисками нового преподавателя.
— Не стоит так себя утруждать, дорогой Мак-Дугал… Случайно получилось, что я как раз знаю особу, способную не только по праву занять место жертвы, но и придать Пембертону еще больший блеск…
Директор совсем опешил. Тем не менее в словах собеседника он усмотрел лишь живейший интерес к колледжу и мысленно поздравил себя с таким успехом. Эндрю Копланд пользовался в Перте немалым влиянием. Поэтому Мак-Дугал рассыпался в благодарностях.
— А можно узнать, кого вы имеете в виду?
— Мисс Иможен Мак-Картри.
— Молодая барышня?
— Не совсем… Честно говоря, дорогой друг, мисс Мак-Картри только что ушла на пенсию после долгой и блестящей службы в Адмиралтействе…
— На пенсию? Так это пожилая дама?
— Ничего подобного! Насколько я знаю, мисс Мак-Картри живет вне времени, и годы ее нисколько не тяготят. Очень властная и энергичная особа.
— Разумеется, у нее есть все необходимые знания, чтобы…
— Ну, тут уж вы — лучший судья… От себя добавлю только одно: взяв на работу мисс Мак-Картри, дорогой Мак-Дуглас, вы окажете очень большую услугу и мне, и куда более могущественным людям…
Проникновенный тон и таинственность Копланда заставили директора колледжа задуматься. А вдруг эта мисс Мак-Картри — какой-нибудь незаконный отпрыск королевского дома? В таком случае вполне понятно, что ее стараются держать подальше от Букингемского дворца, но под покровительством и неусыпным надзором. Как все шотландцы, Мак-Дугал обладал богатым воображением, и потому, возвращаясь домой, уже чувствовал себя неким особо доверенным лицом Двора, достаточно уважаемым, чтобы ему поручили хранить важную государственную тайну.
Иможен получила из Лондона целую кипу замечательных и стопроцентно фальшивых бумаг, оповещающих весь культурный мир, что мисс Мак-Картри — одна из самых блестящих выпускниц Джиртонского колледжа, основанного королевой Викторией в Кембридже в 1869 году. С легким удивлением Иможен продолжала читать эти, по виду настоящие, государственные документы. Покончив с этим делом, она почти поверила, что с блеском выдержала все экзамены и достигла высоких степеней в ожесточенной борьбе. Как ни странно, шотландка даже немного возгордилась. И миссис Элрой заметила про себя, что ее «протеже» держится еще высокомернее обычного. Тем не менее, узнав, что, едва успев приехать в Каллендер, Иможен снова уезжает, Розмери разразилась возмущенными воплями. Никак не могла она привыкнуть к невероятной жизненной энергии своего великовозрастного дитяти! И Розмери взмолилась ко всем известным ей небесным покровителям Шотландии, прося заронить хоть несколько гранов здравого смысла в постоянно охваченный лихорадочной деятельностью мозг мисс Мак-Картри.
— Господи Боже, неужто и впрямь собрались опять куда-то бежать? Это в вашем-то возрасте?
— Не валяйте дурака, Розмери! Я еду всего-навсего в Пембертонский колледж, не так уж далеко!
— Учиться, что ли, надумали?
— Нет, преподавать.
Старая служанка онемела от изумления и с восторгом поглядела на Иможен. То, что на склоне лет мисс Мак-Картри вдруг превратилась в светило науки, нисколько ее не волновало, нет, она думала только о том, как воспрянут духом и обрадуются все друзья Иможен. Что бы там о ней ни болтали, мисс Мак-Картри, несомненно, личность! Вечером она не преминула поделиться потрясающей новостью с мужем.
— Представляете, Леонард?.. Преподаватель Пембертонского колледжа… это ого-го, а?
— А я и не знал, что у нее есть диплом и все такое прочее…
— Не можете же вы все знать, Леонард!
— Да, и в том числе — почему вы до сих пор не наливаете мне чаю, хотя позвали сюда добрых пять минут назад!
С годами Леонард Элрой становился все прозаичнее, что не всегда делало его приятным спутником жизни для, само собой, вполне респектабельной, но зато весьма склонной к мечтаниям особы. Естественно, Леонард, по обыкновению, передал новость сторожу рыбнадзора Фергусу Мак-Интайру, а уж тот постарался поставить в известность остальных жителей Каллендера. Преданные сторонники Иможен восприняли известие с горделивым восхищением, а противники не могли скрыть досады.
Бакалейщица миссис Мак-Грю попробовала было хорохориться и громко объявила покупателям, что с ее-то одаренностью при желании запросто могла бы поступить в университет, но никто явно не принял этих слов всерьез, а Уильям лишь презрительно свистнул сквозь зубы, и собравшиеся немедленно сочли этот свист куда более оскорбительным, чем любые возражения. А Маргарет Булит, жене хозяина «Гордого Горца», довелось сформулировать вслух, то, что думали злопыхатели, страстно желавшие Иможен провалиться в преисподнюю. Какой же надо обладать наглостью, во всеуслышание спросила миссис Булит, чтобы занять еще теплое место человека, которого она же сама, возможно, и убила? Вопрос произвел сильное впечатление, даже слишком, как с беспокойством подумала Маргарет, представив, насколько страшной будет реакция Теда, если до него дойдут слухи о болтовне жены. Однако слухи дошли не до хозяина «Гордого Горца», а до самой Иможен. Она тут же отправилась в кабачок.
— Говорят, вы нас покидаете, мисс Мак-Картри? — с обычным дружелюбием спросил Булит.
— О, я еду совсем недалеко… в Пембертон…
— Надеюсь, вам там понравится… Но вы ведь не забудете ни Каллендер, ни друзей?
— Ни врагов, Тед… А кстати, я хотела бы перекинуться парой слов с вашей женой. Вы не против?
Слегка удивленный кабатчик кликнул супругу, а посетители застыли в напряженном ожидании. При виде Иможен Мак-Картри у Маргарет Булит сжалось сердце.
— Вы меня звали, Тед? — с трудом выдавила она из себя.
— Мисс Мак-Картри хочет поговорить с вами, Маргарет.
Миссис Булит облизала пересохшие губы и с гримасой, весьма мало напоминавшей улыбку, повернулась к Иможен.
— Чем могу служить, мисс? — охрипшим от страха голосом спросила она.
— Попридержать язык, миссис Булит!
Тед, вытиравший в это время бокал, тут же поставил его на стойку и подошел поближе.
— Вас трудно понять, мисс Мак-Картри! — отозвалась кабатчица, решив, что пропадать — так с музыкой.
— Не волнуйтесь, я как раз пришла объясниться начистоту! — отчеканила Иможен. — Вам известно, что такое клевета, миссис Булит?
— Ну, это…
— Например, когда отсутствующего и, стало быть, не способного защищаться человека обвиняют в поступках, которые могут нанести урон его репутации, как это сделали вы сегодня пополудни, громко объявив, что беднягу Фуллертона, убитого во время матча между «Непобедимыми» и «Бульдозерами», возможно, отправила на тот свет я.
— Вот как, Маргарет, вы позволили себе чернить мисс Мак-Картри? — ласково спросил Тед, но и жена, и посетители сразу усмотрели в столь не свойственной ему кротости особенно зловещие предзнаменования.
— Уверяю вас, Тед…
Но Иможен безжалостно продолжала:
— А знаете, миссис Булит, я бы запросто могла подать на вас жалобу и вчистую разорить… Счастье ваше, что ухитрились выйти замуж за одного из лучших людей на свете и друга моего отца, покойного капитана!
Растроганный Булит схватил руки мисс Мак-Картри и горячо пожал. Потом официант Томас не раз признавался, что никогда в жизни его ничто так не задевало за живое, как эта простая и трогательная демонстрация нерушимой дружбы. Наконец мисс Мак-Картри осторожно высвободила руки и неожиданно для всех влепила миссис Булит увесистую оплеуху.
— На сегодня с вас хватит, миссис Булит!
Бледная от ярости жена Теда стала искать глазами что-нибудь тяжелое, намереваясь швырнуть в голову обидчицы, но муж предусмотрительно заметил:
— На вашем месте, Маргарет, я бы поспешил спрятаться на кухне, если, конечно, вы не хотите, чтобы я задал вам прямо сейчас, на людях, порку и научил держать свой проклятый язык за зубами!
По общему мнению, Иможен снова показала всем пример хладнокровия и отваги, столь свойственных душам незаурядным, и не стоит удивляться, если миссис Булит сопьется, пытаясь забыть это горькое унижение.
Узнав от Тайлера все подробности описанной сцены, сержант Мак-Клостоу не позволил констеблю вызвать Иможен для строгого внушения, как тот намеревался.
— Нет, Тайлер, я запрещаю вам беспокоить эту проклятущую старую деву!
— Но закон, шеф…
— Мисс Мак-Картри выше закона, Сэм! И если до сих пор вы об этом не догадывались, то теперь я вас оповестил!
— Но ведь все-таки… а, шеф?..
— Не спорьте, Тайлер! Знайте: мисс Мак-Картри может позволить себе все, что угодно. Даже если ей взбредет в голову сделать из любого взрослого шотландца охотничий трофей, мы и пикнуть не посмеем! Честное слово, Сэм, можно подумать, Корона держится, лишь пока эта чертова рыжая ведьма живет и дышит! И все, больше ни гу-гу, а то у меня опять начнется лихорадка… А еще имейте в виду: попробуйте только хоть раз произнести имя этого дьявольского создания в моем присутствии, и при всей дружеской симпатии я выпущу весь магазин вам в потроха, а потом застрелюсь сам! Так что зарубите это на носу!
Получив восторженный отклик от Мак-Дугала, на которого, по его собственным словам, произвели сильное впечатление отправленные мисс Мак-Картри документы, шотландка решила ехать в тот же вечер.
Пембертонский колледж стоит на берегу Артни, на равном расстоянии между Каллендером и Комри, в глухом и живописном уголке. Такая уединенность и отгороженность от внешнего мира радуют и успокаивают родителей, чьи дети еще не доросли до университета. Вверив чадо попечению Кейта Мак-Дугала, они не сомневались, что в колледже оно получит хорошее образование и простую, но здоровую пищу, приготовленную заботливыми руками Мойры Мак-Дугал, и, кроме того, несравненную жизнь на свежем воздухе. К огромному удовольствию Мак-Дугалов, все состоятельные семейства графства Перт оспаривали друг у друга честь получить место в Пембертонском колледже, так что супруги не сомневались: очень скоро настанет счастливый день, когда, сколотив приличное состояние, они наконец смогут уехать на родину Мойры, в Драммадрохет, неподалеку от Лох-Несса, и мирно доживать остаток дней на покое. Гибель Нормана Фуллертона почти не нарушила их блаженного ожидания.
С тех пор как она решила занять место покойного преподавателя, Иможен пыталась вообразить атмосферу колледжа и действовать в полном соответствии со своими представлениями. Именно поэтому мисс Мак-Картри воображала, будто ее неожиданное появление в сумерках должно особенно смутить преступника, ибо она вдруг возникнет перед ним, словно призрак. Ни один британец, из какой бы части острова он ни происходил, до конца дней своих не может полностью изжить в себе шекспировские страсти. И мисс Мак-Картри льстила себя надеждой, что, явись она вдруг перед виновным — твердая и несгибаемая, как само правосудие, — тот смутится, испугается и тем самым выдаст себя проницательному взору Иможен. Тогда начнется неутомимое преследование, пока измученный убийца не падет к ее ногам и не запросит пощады. Подобные видения так опьяняли воительницу, что она «била копытом» от нетерпения.
Питер Конвей с радостью согласился отвезти Иможен в Пембертон на своей машине. Отъезд назначили на шесть часов вечера. Дорога предстояла трудная, но все же чуть больше десятка километров, отделявших Пембертон от Каллендера, можно было проехать за полчаса, а то и быстрее, зато мисс Мак-Картри появилась бы в колледже в сумерки, этот неверный час между днем и ночью, когда даже самые упорные немного расслабляются.
Констебль Сэмюель Тайлер так быстро, как позволяли его вечно больные и усталые ноги, влетел в полицейский участок, где Арчибальд Мак-Клостоу мирно дремал, мечтая об отставке. От неожиданности сержант едва не грохнулся со стула. Сначала он подумал о каком-нибудь катаклизме вроде пожара, землетрясения, наводнения, подземного взрыва, однако очень быстро все картины бушевания сил природы в его сознании вытеснила ненавистная фигура и, смирившись с неизбежным, он безжизненным голосом спросил запыхавшегося Тайлера:
— Опять она, да?
Констебль кивнул. Мак-Клостоу застегнул пояс, водрузил на голову каску и встал.
— Кого она прикончила на сей раз?
Констебль уже успел немного перевести дух.
— Никого! — жизнерадостно крикнул он.
Арчибальд недоверчиво поглядел на подчиненного.
— Вы уверены, Сэм?
— Уверен, шеф. Она уезжает!
— Уез…
— Да, шеф! Уже с сегодняшнего вечера начнет преподавательствовать в Пембертонском колледже. А повезет ее туда на своей машине Питер Конвей! Узнав новость, я помчался вас предупредить!..
Мак-Клостоу снял каску, расстегнул пояс и, повесив его на спинку кресла, с самым торжественным видом обнял Тайлера за плечи.
— Будь я королевой, Сэм, за такую потрясающую новость сделал бы вас лордом… но, поскольку я всего-навсего мелкий государственный служащий, то дайте-ка я вас расцелую!
— Я не против, шеф!
И в эту трогательную минуту два верных полисмена Ее Всемилостивейшего Величества упали друг другу в объятия. Столь бурные излияния братской привязанности вполне объяснимы, поскольку оба они испытывали ту особую легкость, что всегда свойственна людям, чудом избежавшим казалось бы неминуемой катастрофы, и преисполняет их сердца внезапной, хотя и крайне недолговечной любви к ближнему. Мак-Клостоу и Тайлер так блаженствовали, что даже не заметили, как дверь участка открылась и вошла Иможен. При виде двух нежно обнявшихся полицейских, громко чмокающих друг друга в обе щеки, мисс Мак-Картри остолбенела. Мак-Клостоу стоял спиной к двери. Слегка откинув голову, но продолжая держать подчиненного за плечи, он нараспев проговорил:
— Неужто это правда, Сэм, и мы опять сможем наслаждаться спокойной жизнь? Ох, Сэм, никогда не забуду этой минуты, проживи я хоть тысячу лет! В последние дни я ни разу не притрагивался в шахматной задаче из «Таймс», но сейчас наверняка справлюсь с ней в два счета! И это — благодаря вам, мой дорогой, мой добрый, мой незаменимый друг!
Однако, вопреки ожиданиям сержанта, лицо Тайлера отнюдь не сияло таким же счастьем. Приоткрыв рот, констебль слегка остекленевшими глазами уставился в какую-то точку довольно высоко над плечом шефа и явно витал мыслью где-то далеко-далеко. Арчибальд удивленно замолчал и обернулся поглядеть, что вызвало такой пристальный интерес его подчиненного. Увидев Иможен, бедняга чуть не скончался на месте. Колени у него подогнулись и, чтобы не упасть, Мак-Клостоу вцепился в китель Тайлера. Тот потерял равновесие и едва не загремел вместе с шефом. А мисс Мак-Картри, уже отойдя от первого изумления, спросила:
— Что, тренируетесь? В каскадеры решили податься?
Звук ненавистного голоса вернул сержанту утраченное хладнокровие. Он выпрямился, одернул китель и слегка поклонился Иможен.
— Надо полагать, вы пришли сообщить нам, что решили повысить процент смертности в графстве Перт, мисс? В таком случае, согласно распоряжениям сверху, я могу лишь одобрить ваши намерения и вместе с Тайлером предложить помощь. Однако, с вашего позволения, мисс, я бы посоветовал вам воспользоваться автоматом. Тогда вы могли бы поражать два, три, четыре и больше объектов сразу и, я уверен, очень скоро оставили бы нас с Тайлером поддерживать общественный порядок в пустыне!
— Вам нехорошо, Арчи?
— С чего бы вдруг, мисс, как, по-вашему?
— Понятия не имею. Но, войдя сюда, я видела, что вы с Сэмюелем воркуете, как два голубка. Это что, какие-нибудь новые правила у вас, в полиции?
Смущенный Тайлер переминался с ноги на ногу, как медведь с кольцом в носу, а к лицу сержанта медленно прихлынула краска — впрочем, никто этого не заметил, поскольку виски давным-давно придало ее физиономии кирпично-красный оттенок.
— Это было выражением чисто дружеской привязанности, мисс.
— А кроме того, Арчи, вы ведете какие-то странные разговоры! Послушав вас, какой-нибудь посторонний мог бы не понять шутки и, чего доброго, вообразить, будто я на редкость кровожадна… Это я-то! Самая нежная и заботливая женщина во всей Горной стране!
Мак-Клостоу пошатнулся и лишь огромным усилием воли подавил желание вцепиться Иможен в горло.
— Самая нежная и заботливая, да? — бросил он, не повышая голоса. — Ну а я вам скажу, что вы самая потрясающая стерва, какую когда-либо носила шотландская земля! В сравнении с вами даже вампиры невинны, как агнцы Божьи, а жениться на вас могло бы разве что чудовище с озера Лох-Несс… Да и то если бы вы поймали его врасплох!
Прекрасно понимая, что у сержанта есть более чем серьезные основания яриться на Иможен, сам Тайлер продолжал видеть в ней подругу детских игр, дочь самого удивительного пьяницы во всем графстве Перт, и не мог позволить кому бы то ни было разговаривать с ней таким тоном.
— Зря вы это, шеф…
Но констебль не успел договорить — Мак-Клостоу повернулся к нему.
— Уже измена и предательство, Сэм? — перебил он.
В голосе сержанта звучала целая гамма оскорбленных чувств — боль, горечь, отвращение, смешавшись воедино, превратили простой вопрос в некий настолько огромный мир страданий непонятой души, что Тайлер, не выдержав, вышел из кабинета. Иможен воспользовалась этим, чтобы снова перехватить инициативу.
— Вот что, Арчи… Не знай я, что вы — самый глупый полицейский во всем Соединенном Королевстве, уж заработали бы хорошую трепку, но я люблю вас таким, какой вы есть. В вашем возрасте уже нечего и надеяться поумнеть, и я от души надеюсь, что после смерти из вас набьют чучело и оставят здесь, в участке, на веки вечные. Тогда в Каллендер начнут стекаться туристы и ходить сюда, как, скажем, в дом «Пертской красавицы». С той, однако, разницей, что тут они смогут лицезреть самого фантастического кретина, какого когда-либо видели под небесным небосводом. А теперь, мой милый Арчи, если вы еще способны сделать над собой небольшое усилие и попытаться понять хотя бы самые простые вещи, то знайте: я пришла попрощаться и сообщить вам, что уезжаю.
— Слава Всевышнему! Мы устроим Ему молебн!
— Только не пойте слишком громко, Арчи! Вы ужасающе фальшивите, и там, на Небе, могут рассердиться…
— Слушайте, мисс Мак-Картри, я готов вынести любые оскорбления, если только вы и вправду уезжаете!
— Меня пригласили в Пембертонский колледж.
— Мыть посуду?
— Ну, Арчи, тут уж вы перегнули палку… При всем моем терпении и симпатии к вам… еще несколько слов в таком тоне — и я привезу в Пембертон, как охотничий трофей, вашу бороду!
— Так вы решили возглавить колледж?
— Тоже нет… Собираюсь прочитать курс лекций по истории британской культуры и цивилизации…
— Вы будете читать лекции о культуре?!
— Да, я.
— Но… они что ж, совсем вас не знают?
— Зато видели мои дипломы и прочие бумаги… Этого достаточно.
— Вот никогда бы не подумал, что в графстве Перт так много умственно отсталых… Но скажите, мисс, Фуллертон, которого убили у нас, здесь… он, случаем, не из того же колледжа?
— Совершенно верно.
— А-а-а… теперь понимаю!
— И что же вы поняли, дорогой мой Арчи?
— Одно из двух, мисс: либо вы решили уничтожить весь преподавательский состав Пембертона, чем, несомненно, заслужите горячее одобрение суперинтенданта, либо опять вздумали совать свой чертов нос в то, что вас совершенно не касается!
— Я мало знала мистера Фуллертона, но все же достаточно, чтобы не позволить его убийце спокойно разгуливать на свободе! Хоть это-то вы можете понять, Арчи?
— В первую очередь я думаю о том, что Пембертон входит в число вверенных мне территорий, так что, видать, нас с Тайлером, по вашей милости, ждут веселые денечки!
— И вы еще жалуетесь, неблагодарный?
— Я не стану жаловаться, мисс, но при условии, что в один прекрасный день меня вызовут составить протокол о вашей смерти от железа, огня, воды или яда!
— Как плохо вы умеете притворяться, Арчи… В глубине души вы ведь отлично знаете, что не можете без меня жить!.. До свидания и, надеюсь, очень скорого!
Когда констебль Тайлер наконец решился предстать пред грозные очи начальства, то обнаружил, что сержант, бессильно поникнув в кресле, заливается бессмысленным смехом. Сэмюель вдруг испугался, что голова Мак-Клостоу не выдержала испытаний.
— Шеф?.. Шеф?.. Это я… Тайлер… Вы хоть узнаете своего друга Сэмюеля?
Мак-Клостоу окинул его ничего не выражающим взглядом, встал и подошел к шкафу. Вытащив оттуда всегда бережно хранимый за кипами досье запас — нераспечатанную бутылку виски, он отвинтил пробку, поднес горлышко к губам и на глазах у восхищенного констебля одним махом отпил добрую половину.
— Оказывается, я жить без нее не могу! — блаженно рыгнув, сообщил Арчибальд. — Это я-то! Да я только и мечтаю о том дне, когда ее зароют глубоко-глубоко в землю!.. Скажите, Сэм, только честно, как, по-вашему, может, теперь, уйдя на пенсию, чертовка решила положить на меня глаз, а?
Решив, что сержант шутит, Тайлер ответил в том же духе:
— Очень может быть, шеф… Из вас получится великолепная парочка!
Глаза Арчибальда Мак-Клостоу чуть не вылезли из орбит. Несколько мгновений он стоял, пошатываясь, словно высказанное констеблем предположение упорно прокладывало дорогу в слегка затуманенном парами виски мозгу, потом снова поднес к губам бутылку и допил до дна. Сэмюель на своем веку повидал немало любителей крепко выпить, но на сей раз и он удивленно замер, раздумывая, как отреагирует организм Арчибальда на такое мощное влияние спиртного. Ответ он получил очень быстро. Сначала из рук сержанта выскользнула бутылка, потом Мак-Клостоу совершенно обалделыми глазами окинул комнату, неуверенно хихикнул и, повалившись, как сноп, во всю длину вытянулся на полу. Лоб с таким звоном стукнулся о деревянные паркетины, что у Сэмюеля дрожь пробежала по позвоночнику. Ничуть не сомневаясь, что его шеф мертв, бедняга констебль подумал, что мисс Мак-Картри, сама того не ведая, совершила свое первое настоящее убийство.
В городе умер какой-то старик. Поскольку перед этим он долго болел, родные попросили как можно быстрее положить покойника в гроб, и Питер Конвей не смог в назначенное время приехать за Иможен. Мисс Мак-Картри пришлось терпеливо ждать, и когда плотник наконец объявил, что готов ехать, было уже около восьми часов вечера. Сумерки быстро сгущались. Иможен сочла, что, раз она обещала приехать сегодня, лучше опоздать, чем откладывать поездку на завтра. Шотландка не любила нарушать слово. Будь на то его воля, Питер Конвей охотно подождал бы до утра, ибо, честно говоря, не особенно любил шататься ночами по пустошам. Питер, конечно, не слишком верил всяким россказням о гномах, домовых и прочей нечисти, но, живя в стране, где привидения — расхожая монета, волей-неволей задумаешься о возможности существования других сверхъестественных существ, быть может, не особо расположенных к живым. Впрочем, присутствие Иможен успокаивало Конвея. По его мнению, даже самые могущественные духи, затаившиеся в пустошах, вряд ли решатся напасть на рыжую воительницу.
Питер Конвей заблуждался. Не успели они отъехать от Каллендера и на несколько миль, как начались неприятности. Мотор, вероятно, питавший такое же глубокое отвращение к странным обитателям пустошей, как и его хозяин, вдруг начал чихать, хрипеть и захлебываться, пока наконец не умолк совсем. А молчание мотора куда неприятнее, чем любые звуки, какие он только способен издавать. Конвей скинул куртку и, подрагивая на ветру, поднял капот машины. Проковырявшись в моторе около часу, он заявил, что можно ехать.
Питер, против обыкновения, молчал, а Иможен напустила на себя полную безмятежность, но оба чутко ловили завывания ветра, казалось, доносившиеся из потустороннего мира. Меньше чем в миле от Пембертона машина опять вышла из строя. Питер, ощупав механизм, пришел к выводу, что на сей раз они застряли очень надолго, и снедаемая нетерпением мисс Мак-Картри, к восторженному изумлению спутника, решила идти пешком. Ее неукротимая воля настолько поразила плотника, что тот не посмел и заикнуться, как страшно ему будет тут одному.
Поэтому мисс Мак-Картри, поручив заботам Питера привезти чемодан, как только управится с мотором, и прихватив с собой только сумку, двинулась в путь. Едва она исчезла из глаз, Конвей достал всегда хранившуюся среди инструментов бутылку виски и принялся пить прямо из горлышка в надежде справиться наконец с охватившей его дрожью. Тем временем мисс Мак-Картри, явственно различая в стонах ветра многоголосый шум армии Роберта Брюса, выступившей в Баннокберн лупить англичан, шла широким, размашистым шагом. Крупный нос Иможен с удовольствием вдыхал ночные запахи, а перед глазами стояли внятные лишь ей одной видения. Куда полезнее, естественно, было бы смотреть на дорогу, потому что всего минут через пятнадцать, перестав слушать волынщиков Брюса и вернувшись к реальности двадцатого века, мисс Мак-Картри пришлось признать, что она совсем заблудилась и даже не помнит ни где, ни когда случайно свернула с Пембертонской дороги на эту болотистую почву. На мгновение шотландка впала в полную растерянность, но, представив, как будет насмехаться над ней Арчибальд Мак-Клостоу, взяла себя в руки и решительно отправилась на поиски колледжа, дороги или хотя бы машины Питера Конвея. Полтора часа спустя она так и не нашла ни того, ни другого, ни третьего.
Ничуть не догадываясь о постигших его спутницу неприятностях, Питер Конвей успел осушить бутылку виски и блаженно вытянулся на одеялах, которые никогда не забывал прихватить с собой на всякий случай. Почти тотчас же Питер погрузился в тот удивительно крепкий, здоровый сон, что так странно роднит детей и пьяниц. Ни холод, ни возможное нашествие нечистой силы его больше не заботили. А Иможен упорно продолжала бродить по пустошам, и какой-то пастух, решивший поискать отставшего от стада барана, увидев издали ее высокую фигуру, бросился ничком на землю, закрыв глаза и заткнув уши. Бедняга не сомневался, что это одна из тех могущественных ведьм, с которыми некогда поддерживали тесные связи предводители кланов, и теперь скоро пробьет его смертный час. Наконец, убедившись, что никогда не найдет дороги в густо засеянном полосками тумана однообразном пространстве, мисс Мак-Картри решила позвать на помощь. Она издала нечто вроде протяжного воинственного клича, и Дункан Фергюсон, старик, дремавший у себя в хижине примерно в четверти мили оттуда, сквозь сон подумал, что, как во времена его юности, по пустошам снова рыщут волки. А незадачливый пастух, оставив всякую надежду отыскать потерянного барана, с пеной на губах влетел к себе в стойло и остаток ночи провел в молитвах святой Ниниан, прося еще хоть ненадолго забыть о нем и оставить среди живых. Питеру Конвею, растянувшемуся на одеялах и под большой мухой, снилось, будто Елизавета Вторая, вызвав его в Букингемский дворец, предлагает корону Шотландии.
В Пембертонском колледже все спали или, по крайней мере, должны были бы спать. Однако дверь флигеля, где спали девушки, тихонько приоткрылась, и Элисон Кайл, ученица «второго года», в плотно запахнутом плаще выскользнула в залитый бледным и романтическим светом луны парк. Стараясь держаться в тени, девушка беззвучно прокралась к каменной скамье у черного хода, где ее поджидал высокий молодой человек — ученик «четвертого года» Джерри Лим. Элисон считала Джерри самым красивым парнем на свете, а по мнению Джерри, обскачи хоть всю Шотландию — все равно не найдешь девушки, которая хоть в подметки годилась бы Элисон. Отец этой новой Джульетты жил в Данди и зарабатывал массу денег на апельсиновом джеме, а родитель Ромео образца шестьдесят первого года обитал в Керколди и тоже не бедствовал — его линолеумный завод приносил очень недурные доходы. Оба главы семейства решили отправить единственных чад в Пембертон, надеясь, что там, в глуши, они целиком погрузятся в науки, но в Шотландии, как, впрочем, и везде, любовь разрушает самые хитроумные планы. Джерри и Элисон твердо решили пожениться, но прекрасно понимали, что родители ожидают от их пребывания в Пембертоне вовсе не свадьбы. И юноша, и девушка упорно, но безуспешно гадали, как это «старики» могут обращать внимание на что-нибудь, кроме любви. Они считали себя непонятыми и, проклиная слишком нежный возраст, мечтали сбежать или вдвоем кончить жизнь самоубийством, причем мысль о последнем тут же доводила обоих до слез. Настоящие маленькие шотландцы!
Взявшись за руки, они в очередной раз шептали друг другу слова любви, клеймили предполагаемую суровость отцов (пока даже не подозревавших об их намерениях) и непроходимую глупость сочинителей нелепых законов, мешающих пожениться людям, не достигшим какого-то там возрастного предела, как вдруг Элисон умолкла и по лицу ее скользнула тень беспокойства.
— Вы слышали, Джерри? — шепотом спросила девушка.
Юный Лим готов был исполнять любые причуды возлюбленной, но, как бы старательно ни напрягал слух, в конце концов признался, что не улавливает ни единого необычного звука. Элисон, дрожа, крепче прижалась к Джерри, чем доставила ему немалое удовольствие.
— Джерри… а что, если там привидение? — прошептала она.
Парень, даром что шотландец, высокомерно хмыкнул.
— Да ну же, darling, разве вы не знаете, что их давным-давно делают только на экспорт?
Элисон, отпрянув, изумленно посмотрела на Лима.
— Вы… не верите в привидения?
Она с тревогой ждала ответа. Так искренне верующая женщина мучительно задает любимому главный вопрос, в душе опасаясь, как бы он не оказался атеистом. Но Джерри, почувствовав волнение девушки, крепко прижал ее к груди.
— Вы же их ни разу не видели, правда?
— Нет, конечно, но…
— И, слово даю, никогда не увидите!
Хоть Элисон и решила верить всему, что говорит Джерри, ибо тот, кого она любит, никак не может ошибаться, но все же не могла сразу отринуть укоренившиеся за шестнадцать лет представления. И когда она уже собиралась неуверенно возразить, в тишине ночи отчетливо послышался скрип калитки. Девушка тихонько застонала от страха и спрятала голову на груди возлюбленного, но и тот уже не чувствовал прежней уверенности, ибо на сей раз тоже явственно уловил необычный звук.
— А не разумнее ли вернуться, darling? — шепнул он на ухо подруге.
Не поднимая головы, она чуть слышно пробормотала:
— Если по парку бродит привидение, я не двинусь с места!
— Готов поклясться, Элисон, никаких привидений тут нет!
Успокоенная его мужественным тоном, мисс Кайл встала и поплотнее запахнула плащ, но, едва она повернулась лицом к колледжу, как с ужасом увидела всего в нескольких шагах от себя залитое бледным светом весьма охочей до таких проделок луны привидение. Прежде чем упасть в обморок, Элисон так дико завизжала, что в нескольких окнах колледжа сразу зажегся свет, а Джерри, заикаясь от страха и уже нисколько не думая о возлюбленной, как заведенный бормотал:
— Леди Макбет!.. Леди Макбет!.. Леди Макбет!..
Однако пронзительный голос мисс Мак-Картри живо привел его в чувство.
— Не время сейчас блистать эрудицией, молодой человек! Занялись бы лучше этой крошкой, у которой, видать, в жилах не кровь, а водица! Вы шотландец?
Сбитый с толку Джерри окончательно перестал понимать что бы то ни было.
— Да…
— А она?
— Тоже.
— Просто не верится! В мое время никто не шлепался в обморок ни с того ни с сего!
Элисон, на которую никто не обращал внимания, потихоньку пришла в себя, но, открыв глаза, снова увидела перед собой высокую рыжую ведьму с горящим взором и чуть не закричала от ужаса, однако Иможен успела предотвратить новый обморок.
— Да вставайте же! Приличные девушки так себя не ведут! А для начала мне бы очень хотелось знать, какого черта вы тут делаете в такой поздний час?
Элисон, убедившись, что имеет дело вовсе не с привидением, сухо бросила:
— А вы?
Мисс Мак-Картри уже собиралась достойно ответить на возмутившую ее дерзость, но к ним подошел мужчина в халате и с фонариком в руке.
— Что тут
происходит? Кто кричал?
Элисон призналась, что кричала она, а испугало ее неожиданное появление в лунном свете, среди кустов, вот этой дамы.
— Если бы вы сейчас спали у себя в комнате, как того требуют правила, Элисон Кайл, да и вы тоже, Джерри Лим, подобные треволнения вам бы не грозили! Возвращайтесь домой, но имейте в виду: за эту выходку вам придется объяснять свое поведение дисциплинарному совету.
Пока джентльмен вежливо, но твердо отдавал приказания, мисс Мак-Картри внимательно его изучала. На вид она дала бы ему лет сорок пять. Наверняка получил прекрасное воспитание. Усталое и изрезанное морщинами лицо ни красивым, ни уродливым не назовешь, но в целом оно производило очень приятное впечатление. Выразительный, хорошо поставленный голос с головой выдавал выпускника Оксфорда, но чувствовалось, что незнакомец старается смягчать крайности произношения. На долю секунды его взгляд остановился на Иможен, и джентльмен с трудом скрыл удивление. Правда, говоря по совести, мисс Мак-Картри явилась в Пембертон в довольно жалком виде. Она слишком долго бродила по пустошам, хотя в основном, не отдавая себе в том отчета, топталась на одном месте. Усталая и измученная бесцельной ходьбой, Иможен перепачкалась в лужах, изорвала платье о колючки кустарников и растрепала волосы, пока в конце концов случайно не наткнулась на стену Пембертона. Выбрав неверное направление, шотландка вошла в парк не через главные ворота, а в калитку позади здания, которой почти не пользовались, но всегда держали открытой.
— Могу я спросить, мисс, с кем имею честь?..
Но Иможен всегда терпеть не могла елейного тона.
— По-моему, простая вежливость требует, чтоб вы представились первым!
— Оуэн Риз. Последние четыре года преподаю английский здесь, в Пембертоне.
— А я — Иможен Мак-Картри.
— Только не говорите, будто вы и есть преподавательница, которую мы сегодня вечером ждали взамен бедняги Фуллертона!
— А почему бы и нет? Кстати, должна с огорчением отметить, что вы мне ужасно не нравитесь, мистер Риз!
Собеседник Иможен расхохотался:
— Ну да? Очень жаль, потому что я уже успел проникнуться к вам большой симпатией, мисс Мак-Картри! Но осторожно: вот идет достопочтенный Мак-Дугал собственной персоной, да не один, а со свитой!
При виде их взъерошенный, заспанный и облаченный в клетчатый четырехцветный (в полном соответствии с основными цветами его клана — красно-зелено-бело-голубой) халат директор колледжа сердито заверещал:
— Опять одна из ваших шуточек, Риз? В таком случае я вынужден предупредить, что…
Но преподаватель английского невозмутимо перебил его:
— Мистер Мак-Дугал, позвольте представить вам мисс Иможен Мак-Картри, приехавшую заменить нашего дорогого Фуллертона.
Кейт Мак-Дугал и двое его спутников — один в ярко-зеленом спортивном костюме, второй в пижаме — круглыми глазами уставились на Иможен. Наконец Кейт отвернулся и еще раз посмотрел на Риза — тот чуть заметно кивнул. А мисс Мак-Картри уже начинала сердиться.
— Странная, как я погляжу, у вас, в Пембертоне, манера встречать преподавателей! — загремела она.
Но Кейт, когда что-то, по его мнению, задевало честь колледжа, тоже мгновенно воспламенялся.
— Видите ли, мисс, мы пока еще не привыкли к вторжениям в столь поздний час и в таком виде! Тем не менее позвольте сказать вам: «Добро пожаловать в Пембертон!» Хотя, по правде говоря, вы меня несколько удивили…
Иможен рассказала о перипетиях мучительной поездки из Каллендера. Узнав, что Питер Конвей до сих пор не привез ее чемодана, она пришла в такую ярость, что директор не на шутку встревожился. Зато Риз от души веселился, не сомневаясь, что новый педагог внесет в жизнь Пембертона большое оживление. Наконец, выразив Иможен глубокое сочувствие, Кейт представил ей своих спутников:
— Нашего преподавателя английского, Оуэна Риза, вы уже, несомненно, знаете… А это Гордон Бакстер — он преподает естественные науки и занимается спортивной подготовкой… — Молодой человек в зеленом костюме отвесил легкий поклон. — И, наконец, Дермот Стюарт, знаток истории и географии…
Взглянув на невысокого, коренастого Бакстера, Иможен подумала, что, вероятно, в нем есть примесь валлийской крови. Зато светловолосый Стюарт был высок и строен, хотя и сохранил еще остатки чисто юношеской неловкости. Очевидно, в Пембертон он попал сразу после университета.
Теперь, когда знакомство состоялось, Мак-Дугал хотел уже проводить Иможен в отведенную ей комнату, но вдруг вспомнил, что все они прибежали в парк, услышав чей-то вопль, и потребовал объяснений. Узнав, что Элисон Кайл и Джерри Лим, в нарушение всех правил дисциплины, прогуливались в парке посреди ночи, директор колледжа обещал строго наказать виновных, но не успел перечислить и малой толики кар, которые обрушит на голову непослушной парочки, когда одно из дотоле темных окон внезапно осветилось, с грохотом распахнулось и пораженным взорам собравшихся предстал заросший волосами обнаженный торс сорокалетнего атлета.
— Да кончится когда-нибудь этот шум и гам? Право слово, можно подумать, вы все спятили! Думаете, под такую дьявольскую возню мой истерзанный мозг сможет отдохнуть?
К огромному удивлению Иможен, Кейт Мак-Дугал начал оправдываться с величайшим смирением:
— Простите нас, мистер О'Флинн… тут двое юнцов нарушили дисциплину… но, если вы не возражаете, мы продолжим этот разговор завтра утром…
— Я хочу одного: чтобы меня оставили в покое! Иначе я немедленно уеду подальше от вашего сумасшедшего дома и местных психов!
— Уверяю вас, мистер О'Флинн…
Мисс Мак-Картри, недоумевая, как можно позволить так с собой разговаривать, ждала резкого отпора от стоявших рядом педагогов, но, поскольку никто из них и не подумал вмешиваться, сочла, что за честь колледжа придется постоять ей самой — в конце концов, разве мисс Мак-Картри теперь не такой же преподаватель, как и все прочие? Подойдя поближе к окну, шотландка со свойственной ей решимостью осадила грубияна:
— Довольно! Постыдились бы ругаться, как извозчик!
Удивленный как неожиданным нападением, так и чудовищным видом Иможен, О'Флинн на мгновение утратил дар речи.
— Господи! — наконец простонал он. — Это еще что за чучело?
Мисс Мак-Картри окончательно вышла из себя.
— Это, чтоб вы знали, ирландский дебил, настоящая шотландка — из тех, что на дух не выносит пьяниц вашей гнусной страны!
Оцепеневшие от ужаса мужчины (кроме Оуэна Риза, который не согласился бы отдать свое место на представлении и за тысячу фунтов) отчетливо видели, как могучая грудь Патрика О'Флинна выкатилась колесом, а тот, набрав полные легкие воздуха, что есть мочи заорал:
— Клянусь святым Коломбаном, сейчас я разделаюсь с этим шотландским пугалом!
О'Флинн отошел от окна, явно намереваясь немедленна выполнить угрозу, а Кейт Мак-Дугал, Гордон Бакстер и Дермот Стюарт поспешили совместными усилиями утащить Иможен из парка и втолкнуть в комнату. Закрывая дверь, директор не забыл предупредить:
— Завтрак — в половине восьмого утра, мисс… Спокойной ночи!
Но еще долго в коридорах коттеджа, где жили преподаватели, раздавались крики и проклятия обезумевшего от ярости Патрика О'Флинна, от имени зеленого Эрина[99] бросавшего вызов нахальной шотландке, а Иможен боролась с собой, кипя отчаянной жаждой встать лицом к лицу с противником и показать всем, что дочери гор не боятся каких-то папистов и пожирателей клевера! [100]
Глава IV
Мисс Мак-Картри проснулась, как всегда, в блестящей форме. Только мысль о том, что сегодня ей придется вести уроки, хотя она не имеет ни малейших представлений о педагогике, легким облачком омрачила радостное возбуждение утра. Однако Иможен быстро утешилась, подумав, что обучать юнцов наверняка не труднее, чем получить постоянную и весьма ответственную работу в Адмиралтействе. А кроме того, мисс Мак-Картри не собиралась задерживаться в Пембертоне больше чем на несколько дней — за это время она надеялась поймать и передать полиции убийцу Нормана Фуллертона. Хотя опыт и научил Иможен не доверять внешности, шотландка невольно думала, что зловещий О'Флинн, с которым она сцепилась ночью, изрядно смахивает на преступника.
В столовой Иможен встретила Оуэна Риза. Поздоровавшись, он представил ее директрисе, Мойре Мак-Дугал. Жена Кейта, слегка расплывшаяся, но благодаря пышным формам весьма соблазнительная сорокалетняя женщина вела в колледже уроки домоводства. Вероятно, миссис Мак-Дугал уже знала о ночных приключениях, поскольку встретила мисс Мак-Картри довольно прохладно. Потом Риз познакомил Иможен с Морин Мак-Фаддн, красивой женщиной лет тридцати с хвостиком, преподававшей французский язык. Она весело улыбнулась.
— Мистер Риз уже рассказал мне, как вы проучили Патрика О'Флинна, грозу всего Пембертона… Позвольте вас поздравить!
Мисс Мак-Фаддн очень понравилась Иможен, чего никак не скажешь об Элспет Уайтлоу, долговязой особе с огромными, выступающими вперед зубами. Мисс Уайтлоу интересовали только физика и химия и держалась она с сердечностью айсберга. Классическая старая дева лет пятидесяти. Наконец мисс Мак-Картри представили очаровательную златокудрую девушку с огромными наивными глазами — мисс Флору Притчел, учительницу рисования. Та пролепетала, что искренне восхищается Иможен и завидует ее мужеству, ибо мало у кого хватило бы духу повздорить со знаменитым Патриком О'Флинном, великим математиком, гордостью Пембертона, которую то и дело оспаривают другие колледжи и университеты Шотландии, Уэльса и Англии. К величайшему удивлению мисс Мак-Картри, всегда вежливый Оуэн Риз резко оборвал мисс Притчел:
— Вам так нравится мужество, моя дорогая? Уж не потому ли, что сами вы его начисто лишены?
В прекрасных глазах Флоры тут же блеснули слезинки, и Дермот Стюарт, судя по всему, ее верный рыцарь и защитник, сердито вскочил со стула.
— Риз! Я не позволю вас…
— Ну-ну, спокойно. Айвенго!.. По-моему, теперь вы перезнакомились со всеми, мисс Мак-Картри…
Он усадил шотландку за стол и чуть слышно шепнул:
— До чего ж мне действует на нервы эта крошка Флора со своими стонами перепуганной голубки!
— Это еще не повод вести себя так несправедливо… Она прелестна!
— Да, и превосходно об этом знает!
Наливая себе чай, Иможен раздумывала, не влюблен ли Оуэн Риз во Флору Притчел. Возможно, его неоправданное раздражение объясняется самой обыкновенной ревностью? Эта мысль немного огорчила мисс Мак-Картри, поскольку Риз ей очень понравился. Войдя в столовую, Кейт Мак-Дугал отвесил общий поклон, спросил у Иможен, хорошо ли она провела первую ночь в колледже, и, получив утвердительный ответ, явно обрадовался. Когда на стол подали яичницу с ветчиной, директор заявил, что твердо намерен как следует наказать Элисон Кайл и Джерри Лима, но для начала хотел бы знать мнение каждого из коллег. Одни предлагали запретить молодым людям прогулки по меньшей мере на месяц, другие удовольствовались бы просто публичным выговором. Наконец настала очередь мисс Мак-Картри. Она высказалась коротко и ясно:
— Встречаясь по ночам и обманывая таким образом доверие преподавателей колледжа и родителей, эти молодые люди совершили самую тяжкую провинность. Я полагаю, их надо исключить из Пембертона.
Директор вскочил со стула, а его жена возмущенно закричала:
— Исключить дочь «джема» Кайла и «линолеума» Лима?
— Ну и что? Чем мы тут занимаемся, обучением или коммерцией?
Оуэн Риз и Морин Мак-Фаддн низко склонились над тарелками, пытаясь скрыть душивший их смех. Но Кейт Мак-Дугал тут же отчитал обоих.
— Не понимаю, что тут смешного!
— Ох… простодушие мисс Мак-Картри меня просто очаровало, — признался Риз. — По-видимому, она искренне думает, будто с «джемом» и «линолеумом» можно обращаться, как со всеми остальными… Не сомневаюсь, что мисс Мак-Картри прекрасный педагог, но, чтобы управлять колледжем, ей пришлось бы еще очень многому учиться…
— У меня складывается впечатление, что вы опять насмешничаете, мистер Риз.
— Правда, господин директор?
Не обращая внимания на стынущую яичницу, Иможен внимательно следила за перепалкой, доказывавшей, что в Пембертоне отнюдь не царит полная гармония. О'Флинна, похоже, все боятся и ненавидят, Риз вроде бы терпеть не может Флору Притчел (или, наоборот, слишком любит?), то, как юный Дермот Стюарт бросился защищать девушку, красноречиво свидетельствует о его чувствах. Несколько раз перехватив взгляд Морин Мак-Фаддн, мисс Мак-Картри догадалась, что молодая женщина, кажется, любит Оуэна Риза. Сердце у Иможен ревниво сжалось, и она невольно подумала, что в крайнем случае эта на вид спокойная и уравновешенная особа вполне могла бы прикончить соперницу. Но убийство Фуллертона подобное предположение ни в коей мере не объясняло. А может, он подслушал угрозы Морин Оуэну Ризу? Но тогда пришлось бы допустить, что мисс Мак-Фаддн твердо решила привести свои мрачные замыслы в исполнение. Целиком во власти буйного воображения, мисс Мак-Картри уже прикидывала, что из Флоры Притчел вышла бы прелестная жертва, но появление Патрика О'Флинна отвлекло ее от зловещих мыслей.
Кейт Мак-Дугал поднялся.
— Мы все вас ждали, О'Флинн…
— А мне-то что за дело?
— Просто мы волновались, не заболели ли вы…
— Вот уж было бы неудивительно, после того как эта чокнутая красноволосая шотландка испортила мне всю ночь!
Наступило неловкое молчание, всегда предвещающее тяжкие потрясения и катастрофы. Сидевшая напротив О'Флинна мисс Мак-Картри, нарочно не глядя на математика, сердито зашипела:
— Очевидно, в Ирландии это новая манера здороваться? Если только вас не воспитывали на конюшне, мистер О'Флинн…
Ирландец сделал вид, будто только что ее заметил.
— Гляди-ка, и вы тут!
Он повернулся к Кейту Мак-Дугалу.
— Какого черта вам понадобилось брать в колледж эту бабу? Клоуном, что ли?
Терпение не входило в число основных добродетелей Иможен. Быстро подхватив тарелку с яичницей, она молниеносно швырнула ее вместе со всем содержимым в физиономию ирландца, который как раз только что успел выпрямиться и поднести вилку к губам. Как хороший математик он должен был бы оценить меткость мисс Мак-Картри, влепившей тарелку точно по центру, но, будучи лицом заинтересованным, никак не мог сохранить объективность. Реакция наступила не сразу. Свидетели необычайного происшествия замерли, не понимая, уж не привиделось ли им все это. Жертве тоже понадобилось время, чтобы сделать один-единственный непреложный вывод: нет, это не кошмарное видение и не галлюцинация — у кого-то и в самом деле хватило наглости швырнуть яичницу с ветчиной в лицо ему, Патрику О'Флинну, одному из самых уважаемых математиков Соединенного Королевства! Тарелка упала на пол и разлетелась вдребезги. Яичный желток золотистыми струйками стекал по лицу О'Флинна, к ресницам на правом глазу прилип кусочек бекона, а густая черная борода, испещренная пятнами и полосами, выглядела более чем живописно. Первой очнулась миссис Мак-Дугал и, стряхнув оцепенение, с пронзительным криком бросилась вытирать лицо математика, но тот ее резко оттолкнул и, вскочив со стула, заорал директору:
— Слушайте, Мак-Дугал, если эта мегера не уберется отсюда к вечеру, я сначала сверну ей шею, а потом пойду собирать чемодан!
Услышав презрительный смех Иможен, историк Дермот Стюарт подумал, что, вероятно, так же горделиво ржал конь Калигулы, когда хозяин, римский император, сделал его консулом. Бледная от страха Флора Притчел взирала на эту сцену вытаращенными глазами. Гордон Бакстер тихо сказал Морин Мак-Фаддн, что у мисс Мак-Картри великолепный бросок. По его мнению, в юности она могла бы достигнуть потрясающих успехов в крикете.
Мак-Дугал все еще не мог опомниться и лишь беззвучно разевал рот. Оуэн Риз заметил, что он похож на утопленника в первые мгновения после того, как ему добрых полчаса делали искусственное дыхание. Наконец директор уцепился за спинку стула, с трудом встал и, с самым мстительным видом ткнув пальцем в сторону Иможен, сипло каркнул:
— Мисс!
Иможен посмотрела на него невинными глазами и с вежливой улыбкой отозвалась:
— Да, мистер Мак-Дугал?
Ее цинизм так потряс директора, что бедняга лишь слабо застонал и, не в силах сказать больше ни слова, снова плюхнулся на стул. Но место мужа немедленно заняла жена.
— Мисс Мак-Картри, мистер О'Флинн — слава Пембертона!
— Очень обидно за колледж, миссис Мак-Дугал!
— Знания этого человека поистине безграничны!
— Как и его хамство! Впрочем, все ирландцы такие… Если хотите знать мое мнение, Господь давно забыл об этом племени… — Немного помолчав, мисс Мак-Картри ледяным тоном продолжала: — …но я, конечно, не думаю, будто в шотландском колледже кто-нибудь посмеет стать на сторону ирландца против шотландки! Учить измене и предательству родины — вовсе не в университетских правилах, насколько мне известно… Миссис Мак-Дугал, вы не дадите мне еще порцию яичницы?.. Моей уже распорядился мистер О'Флинн…
Присутствующие видели, как директор быстро поднес руку к воротничку, словно у него началось удушье, потом выпрямился, несколько раз судорожно взмахнул руками и пулей выскочил из комнаты. Прежде чем броситься следом за мужем, директриса укоризненно бросила Иможен:
— Вы… О!.. Вы…
— Не надо слишком сильно поджаривать яйца, миссис Мак-Дугал!
По общему мнению, если обоих Мак-Дугалов в тот день не сразил апоплексический удар, то лишь потому, что, невзирая на привычку Кейта выпивать по четыре бокала виски в день, а Мойры — рюмку джина перед сном, супруги не страдали гипертонией.
Узнав, что его вызывает Пембертон, Эндрю Копланд сразу вообразил, что с его сыном Дэвидом случилось несчастье, и смертельно испугался. К счастью, директор звонил только для того, чтобы объяснить, какой катастрофой для Пембертона обернулись первые же шаги протеже суперинтенданта. Копланд внимательно выслушал взволнованный рассказ о ночном появлении Иможен и о ее стычках с О'Флинном. Наконец, узнав, как лихо мисс Мак-Картри расправилась с ирландцем, суперинтендант восхищенно заметил:
— С характером женщина, насколько я понимаю, а, мистер Мак-Дугал?
— Несомненно, господин суперинтендант, несомненно, но я не могу отказаться от услуг мистера О'Флинна!
— И что это означает?
— То, что мне придется попросить мисс Мак-Картри оставить мой колледж.
— Вы хозяин у себя в доме, мистер Мак-Дугал, — сухо отозвался полицейский. — Поступайте как сочтете нужным, однако увольнение мисс Мак-Картри меня бы очень огорчило. До свидания.
И, не интересуясь ответом собеседника, Копланд повесил трубку. Кейт в полной растерянности подумал, что, кажется, угодил ненароком в осиное гнездо. Либо он выставит за дверь Иможен и навлечет на себя гнев суперинтенданта, либо О'Флинн, краса и гордость Пембертона, уедет в другой колледж. Не зная, куда деваться, в полном отчаянии, он поручил Мойре попробовать уломать ирландца и добиться отсрочки.
По расписанию первую лекцию Иможен предстояло читать во второй половине дня, и все утро у нее оказалось свободным. А в два часа ее ждали ученицы «второго года». Дожевав завтрак в полном молчании, она вернулась в парк и около часу с удовольствием провела на той самой скамейке, где ночью встречались Элисон и Джерри. Для первого выхода шотландка нарядилась в странное, несколько напоминающее монашескую рясу одеяние. Наконец, слегка продрогнув от утренней сырости, мисс Мак-Картри ушла в большую гостиную, служившую в основном библиотекой, устроилась в кресле-качалке спиной к двери и со спокойной совестью задремала. Проснулась она внезапно, чувствуя, что в комнате кто-то есть. Иможен сразу вспомнила об убийстве Фуллертона. Осторожно, так, чтобы кресло не скрипнуло, она повернулась и рискнула выглянуть из-за спинки. За столом сидел ее враг ирландец и что-то писал. Шотландка замерла. От одной мысли, что она оказалась наедине с далеко не дружелюбно настроенным колоссом, становилось не по себе. Однако, прежде чем мисс Мак-Картри успела решить, как ей поступить дальше, в гостиную вошла миссис Мак-Дугал и тут же бросилась к ирландцу.
— Мистер О'Флинн!
Математик вздрогнул.
— Неужели в этом проклятом доме нет ни единого места, где бы мне не мешали?
— Мистер О'Флинн… вы ведь не уедете, правда?
— Это уж решать вашему мужу. Коли оставит чокнутую — уеду я.
Иможен чуть не прыгнула на обидчика, но, вцепившись в кресло, сдержалась.
— Мне ведь, знаете ли, не составит труда найти другое место, — насмешливо заметил ирландец.
Мойра подошла к нему ближе и начала мурлыкать. Мисс Мак-Картри подумала, что она похожа на огромную жирную кошку, после долгих и томительных лет спокойной жизни вдруг взбесившуюся какой-то весной. О'Флинн, по-видимому, удивился не меньше шотландки.
— Что с вами, миссис Мак-Дугал?
— Меня зовут Мойра… Патрик, — проворковала директриса.
Колосс ужасно смутился.
— Я… я не понимаю…
— О, Патрик… пощадите мою стыдливость…
— Вы хотите сказать…
— Да, я люблю вас, Патрик!.. В тот день, когда вы переступили порог этого дома, я почувствовала, что всю жизнь ждала именно вас… Вы настоящий мужчина, сказала я себе, тот, без кого мне и свет не мил… Неужто и теперь, зная мою тайну, у вас хватит жестокости бросить меня одну?
— Слушайте, миссис Мак-Дугал, если вы таким способом пытаетесь удержать меня в колледже, предупреждаю…
— А вы посмотрите мне в глаза, Патрик! Неужели вы ничего не видите? Что говорит мой взгляд?
— Давайте объяснимся раз и навсегда, миссис Мак-Дугал. В последние двадцать пять лет я живу одной математикой, и у меня никогда не было времени подумать о чем-нибудь другом. О человеческом роде я сужу по его способности более или менее быстро понять равенство прямоугольных треугольников. Кстати, я совершенно уверен, что ваш муж не в состоянии доказать теорему Фалеса… Бакстер — что сумма углов прямоугольного треугольника равна двойной величине прямого… А что до вашего нового приобретения, то оно, похоже, не знает и таблицы умножения!
Только желание узнать, чем закончится эта сцена, укротило воинственный пыл мисс Мак-Картри. Она слышала, как директриса в полном экстазе шепнула:
— Никто не умеет говорить о математике так, как вы, Патрик!
Польщенный ирландец гордо выпрямился.
— Правда?
— Я думаю… если бы вы согласились мне немножко помочь… я могла бы понять геометрию…
— Клянусь святым Колумкием, вы меня искушаете!
Увидев, как О'Флинн схватил миссис Мак-Дугал за руки и приблизил крупную взъерошенную голову к самому ее лицу, Иможен испугалась, что сейчас он ее укусит. Однако математик лишь спросил страстным шепотом:
— Мойра… чему равен квадрат гипотенузы?
— Сумме квадратов катетов!
— Клянусь святым Падрэгом, я вас люблю! И теперь не уеду!
О'Флинн раскрыл объятия, и миссис Мак-Дугал прильнула к его груди. Именно в этот миг дверь распахнулась, и в библиотеку вошел Кейт Мак-Дугал. Пораженный представшей его глазам картиной, директор застыл как вкопанный.
— Мойра! — взвыл он.
Мисс Мак-Картри, по-прежнему прячась за спинкой кресла-качалки, вкушала сладость отмщения. Виновные отпрянули друг от друга. Мак-Дугал подошел к жене.
— Мойра… вы! Не верю своим глазам! В вашем-то возрасте!
— Это жестоко, Кейт! Умоляю, сжальтесь!
Математик с достоинством вмешался в разговор:
— Давайте решим проблему по-джентльменски, Мак-Дугал… Мы с вашей женой любим друг друга.
— С каких же пор?
— Уже несколько минут.
— Вы, кажется, издеваетесь надо мной, О'Флинн? Не советую!
— Нет, это вы начинаете действовать мне на нервы, Мак-Дугал!
— Я выгоняю вас из колледжа, О'Флинн! Ясно? Вон отсюда!
— Ладно, но я уеду, когда сам захочу.
— Если завтра я еще застану вас здесь — убью на месте!
Мойра, захрипев от ужаса, упала в обморок. Муж привел ее в чувство парой оплеух и рывком поднял на ноги.
— Чем изображать Джульетту, идите-ка лучше читать «кухню» ученицам «третьего года», дорогая моя!
Оставшись один, математик хотел было снова взяться за перо, но при виде выходящей из своего укрытия мисс Мак-Картри слегка оторопел. Она прошла мимо молча, но не отказала себе в удовольствии скорчить ирландцу ужасающую рожу. О'Флинн, родившийся в стране, где на каждом шагу попадаются эльфы, духи и домовые, вцепился обеими руками в волосы, дабы проверить, не спит ли он и не стал ли во сне жертвой порчи, насланной этой жуткой рыжей шотландкой, так поразительно смахивающей на настоящую ведьму. Ирландец ошарашенно проводил мисс Мак-Картри глазами. На пороге она повернулась и, присев в реверансе, насмешливо бросила:
— Good bye… Ромео!
Успокоив наконец бушевавшую в нем ярость, О'Флинн обнаружил, что ему придется заплатить солидный штраф за нанесение колледжу ущерба — от столика, за который он сел писать, почти ничего не осталось.
За ленчем в столовой царил ледяной холод. Один Дермот Стюарт, с восхищением и нежностью взиравший на Флору Притчел, ничего не видел и не слышал. Остальные же, глядя на хмурую физиономию Кейта Мак-Дугала, мертвенно-бледную — его жены, сердитое молчание О'Флинна и полную раскованность очень довольной собой мисс Мак-Картри, сделали вывод, что грядут крупные неприятности, но, поскольку об истинных причинах повисшего в воздухе напряжения никто, конечно, не догадывался, во всем винили утреннюю сцену и незавидную участь директора, которому пришлось выбирать между ирландцем и шотландкой. Когда принесли пудинг с изюмом, Мак-Дугал вдруг объявил:
— Дорогие коллеги, я вынужден с грустью сообщить вам о скором отъезде мистера О'Флинна…
Все посмотрели на мисс Мак-Картри, недоумевая, какие же влиятельные лица поддерживают эту шотландку, коль скоро ей в одночасье удалось покончить с таким опасным противником, как математик, чей отъезд, несомненно, чреват для колледжа очень большими финансовыми потерями. Всех настолько занимало поведение Иможен, что никто даже не заметил слез, навернувшихся на глаза миссис Мак-Дугал. Общее мнение выразил Оуэн Риз:
— Каждого из нас, я думаю, удивляет внезапность его решения…
— Удивляет не удивляет, — перебил его О'Флинн, — но так оно и есть. И у вас, мистер Риз, я разрешения спрашивать не стану!
— Никто не спорит, О'Флинн, — очень спокойно отозвался Оуэн. — Нам жаль терять хорошего преподавателя, утешает лишь, что заодно мы избавимся от самого невероятного хама, какого мне когда-либо доводилось видеть!
Ирландец с угрожающим видом вскочил, и несколько секунд все с ужасом ждали, что он набросится на Риза, но тут в тишине раздался подобный трубному гласу крик мисс Мак-Картри:
— Сядьте на место, Ромео, вы пугаете Джульетту!
Мойра уронила ложечку и опрометью выскочила из комнаты. А ее муж, не понимая, откуда, черт возьми, шотландке все известно, с тревогой подумал, что она запросто может наболтать лишнего. Зато ирландец покорно плюхнулся на стул.
— Повезло вам, шотландская ведьма, что я уезжаю, — проворчал он себе под нос, — а то наверняка бы не выдержал и свернул вам шею!
— Как Норману Фуллертону?
Патрик О'Флинн уткнулся в чашку, надеясь немного охладить клокотавшее в нем бешенство. Услышав вопрос, он чуть не захлебнулся, чай весьма неэстетично потек из ноздрей, и лишь энергичные усилия нескольких коллег спасли математика от неминуемой смерти. Отдышавшись, он злобно бросил шотландке:
— И вы смеете болтать, будто Нормана Фуллертона прикончил я?
— Ничего подобного. Я только заметила, что вполне могли бы.
— Предупреждаю: лучше не доводите меня до крайности! Вы не имеете права…
— А вы, Ромео? Вам, значит, можно лопать из чужой кормушки?
Вспомнив сцену, прерванную появлением директора, ирландец покраснел до ушей.
— Мисс Мак-Картри, нравится это мистеру Мак-Дугалу или нет, но я уеду завтра утром. К сожалению, первый поезд, на котором я могу выбраться из этой страны дикарей, уходит в полдень из Каллендера. А до того настоятельно советую вам не попадаться мне под руку, иначе я за себя не отвечаю! И прошу вас отнестись к совету с должным вниманием: я не шучу и действительно готов вас убить!
— А я, по-вашему, буду в это время спокойно распевать псалмы? Нет, мистер О'Флинн, послушайтесь-ка лучше вы доброго совета и обходите меня сторонкой… Уже не раз мужчины пытались отправить меня на тот свет…
— Как я их понимаю!
— Но, по-моему, даже вы должны сообразить, что раз я все еще здесь — значит, это они покинули наш мир…
Как и следовало ожидать, за столом наступила мертвая тишина. Вся воинственность О'Флинна вдруг куда-то исчезла.
— Но вы же не станете уверять нас, будто сами помогли им это сделать? — почти робко спросил он.
— Почему ж нет?.. Первому я расшибла голову камнем, а двух других прихлопнула из револьвера[101].
Флора Притчел, нервно хихикнув от ужаса, прижалась к Дермоту Стюарту, что преисполнило последнего огромной благодарности к покрутившей столько народу мисс Мак-Картри. Морин Мак-Фаддн скептически улыбалась. Гордон Бакстер, сначала немного удивленный, сейчас рассматривал Иможен под новым углом зрения, весьма близким к восхищению. Зато Элспет Уайтлоу брезгливо скривила губы. Оуэн Риз, от души забавляясь, проникался к шотландке все большей симпатией. А Кейт Мак-Дугал явно отрешился от происходящего. Все это просто не укладывалось в голове. Несчастный директор даже заподозрил суперинтенданта в недобрых намерениях. Может, полицейский, решив сыграть с ним чудовищную шутку, нарочно послал в колледж эту женскую разновидность Джека Потрошителя? Патрик О'Флинн видел только два возможных решения задачи: либо шотландка и впрямь сумасшедшая, либо на самом деле совершила преступления, которыми только что хвасталась… Впрочем, возможно, тут и то, и другое сразу… Оуэн Риз первым решился попросить объяснений.
— Надеюсь, вы понимаете, мисс Мак-Картри, как трудно нам поверить…
— Первого звали Эндрю Линдсей, двух других — Каннингхэм и Билл… А если вам хочется узнать подробнее — позвоните в Каллендер. Сержант Мак-Клостоу так меня ненавидит, что с удовольствием все расскажет. Вот, мистер О'Флинн, почему я говорю: если кто-то из нас двоих может прикончить другого, то никак не вы!
Ирландец почел за благо не спорить с Иможен, но, желая все-таки оставить последнее слово за собой, повернулся к убитому горем Мак-Дугалу:
— Право же, Пембертон превращается в довольно странное учебное заведение… Надеюсь, вы поймете, что я с радостью оставлю колледж, в котором математику скоро заменит изучение самых разнообразных способов избавиться от ближнего. Желаю вам хорошо повеселиться, Мак-Дугал!
Уходя, он так сильно хлопнул дверью, что со стола посыпалась посуда. А мисс Мак-Картри, растроганная несчастным видом директора, поспешила его успокоить:
— Не волнуйтесь, мистер Мак-Дугал, я убиваю только ради самозащиты.
Мисс Мак-Картри никогда в жизни не преподавала что бы то ни было и, не имея хотя бы поверхностных представлений о педагогике, даже не догадывалась, каким образом надо вести занятия. Более того, она понятия не имела, что входит в курс изучения истории британской культуры. При всей своей природной самоуверенности у двери класса Иможен едва не впала в настоящую панику, но, как всегда в трудную минуту, призвала на помощь Роберта Брюса, и это ее сразу успокоило. А потому к ученицам «второго года» вошла прежняя неукротимая Иможен Мак-Картри, достойная представительница клана Мак-Грегор.
При виде высокой рыжеволосой женщины с отнюдь не ласковым взглядом девочки притихли. Почти каждую из них появление шотландской воительницы и сам ее облик изрядно напугали. Иможен тут же заметила Элисон Кайл, нарушительницу дисциплины, пойманную ею сегодня ночью в парке. И мисс Мак-Картри решила приглядывать за ней. Наконец она устроилась за кафедрой, и надо было начинать эту чертову лекцию. «Дьявол меня забери, — подумала Иможен, — если я знаю, о чем рассказывать этим девицам из обеспеченных семей». И шотландка прибегла к старому, давно испытанному приему.
— Мисс Кайл!
Элисон встала, с неприкрытой враждебностью глядя на новую учительницу. Мисс Мак-Картри почувствовала, что рано или поздно столкновение с этой крошкой неизбежно, и решила сразу поставить ее на место.
— О чем вам рассказывали на последнем занятии?
— О поэтах, которые жили при дворе…
— При каком дворе?
— Ну, в Лондоне, естественно!
— А я и не знала, что мистер Фуллертон занимался с вами иностранной литературой…
— Простите, что?
— Вы шотландка, мисс Кайл?
— Разумеется! Мой отец — «джем» Кайл из Данди!
— И шотландка из приличной семьи считает своей королевой иностранку, какую-то узурпаторшу из Лондона?
Среди учениц появилось волнение. Одна из них, Мэри Бэнкс, возмущенно вскочила.
— Я англичанка, мисс, и не могу допустить, чтобы о Ее Величестве говорили в таком тоне! Это наша королева!
— Ваша королева, а не наша! И, раз уж вы англичанка, мисс, живейшим образом советую вам помолчать, ибо шотландцы не всегда будут терпеть — и особенно здесь! — чтобы англичане отдавали им приказы!
Ученицы разделились. Шотландки (за исключением Элисон, все еще не забывшей, что ее ночная эскапада обнаружилась благодаря Иможен) зааплодировали. Несколько англичанок попытались на них шикнуть, и очень скоро девушки сцепились врукопашную. Одни кричали «Святой Георгий!», другие — «Святой Андрей!». В конце концов поднялся такой шум, что Кейт Мак-Дугал, услышав его из своего кабинета, бросился в класс, но на пороге ошеломленно замер. Вихрь взметающихся юбок, растрепанные волосы, пронзительный визг и душераздирающие рыдания… Новый удар судьбы так поразил директора, что в первые минуты он совершенно онемел. Наконец, видя, что, невзирая на его присутствие, бой идет с прежним ожесточением, Мак-Дугал взял себя в руки.
— Довольно! — рявкнул он.
Сражающиеся мгновенно утихомирились.
— Ученицы Пембертона! Какой позор! Вот, значит, каковы результаты двухлетнего утонченного образования? Мисс Бэнкс, не может быть, чтобы вы позволили себе столь непристойное поведение! Не вас ли я всегда приводил в пример новичкам?
Мисс Бэнкс, глотая слезы, указала на Иможен.
— Это она виновата!
Кейт Мак-Дугал настолько ожидал чего-нибудь подобного, что почти не выказал удивления.
— Вот как?
— Она оскорбила английскую Корону!
Директор вопросительно поглядел на мисс Мак-Картри. Та пожала плечами.
— Я всего-навсего уточнила один исторический вопрос, а барышни воспользовались случаем свести личные счеты.
Мисс Бэнкс снова вскочила.
— Она назвала королеву узурпаторшей, а нас, англичан, — иностранцами.
— А разве это не так? — с улыбкой спросила директора Иможен.
Кейт Мак-Дугал заколебался. Будучи сам шотландцем и имея в основном клиентов-соотечественников, он не мог откреститься от священных идеалов «шотландского освобождения», не рискуя заработать кличку «изменник». И в то же время… Подумав, директор предпочел уклониться от прямого ответа и слегка изменить тему.
— Здесь, в колледже, не должно быть ни шотландок, ни англичанок, ни валлиек, ни ирландок! Все вы — соученицы, которым нужно вместе научиться вести себя как леди, а потом и в Великобритании, и во всем мире на собственном примере доказать превосходство образования, полученного в Соединенном Королевстве! Я бы очень попросил вас, юные особы, хорошенько это запомнить. И вы, мисс Мак-Картри, пожалуйста, не забывайте о моих словах!
Закончив эту благородную речь, Кейт Мак-Дугал с достоинством удалился. В классе снова наступила тишина, девочки, как могли, перевязали легкие ранения, а Иможен заняла прежнее место. Не желая оживлять утихшую вражду, она решила рассказать об Индии тех времен, когда закон и порядок поддерживали там британские войска. Не то чтоб мисс Мак-Картри хорошо знала вопрос, но зато он давал возможность публично воздать по заслугам отцу, Генри-Джеймсу-Герберту Мак-Картри. Сперва она набросала моральный портрет покойного капитана, мгновенно поставивший его в один ряд с общепризнанными святыми. Девочки слушали сначала с недоумением, потом начали хихикать. А Иможен, ничего не замечая, воспевала военную доблесть и мужество родителя, и из ее пылкого рассказа явственно следовало, что, по сравнению с достоинствами Генри-Джеймса, те, что принесли бессмертную славу Веллингтону, — лишь звук пустой. Юная Элисон, с самого начала урока искавшая случая отомстить мисс Мак-Картри, встала.
— Если я правильно поняла вас, мисс, — самым светским тоном осведомилась она, — проживи ваш достойный родитель подольше — Соединенному Королевству не пришлось бы предоставить Индии независимость?
Ученицы «второго года» затаили дыхание, боясь упустить хотя бы миг назревающей схватки. Слегка ошарашенная Иможен попыталась уклониться от ответа.
— Что-то я не очень хорошо поняла смысл вопроса, мисс Кайл…
Элисон торжествующе оглядела подруг и все с тем же напускным простодушием заметила:
— Я думаю, мисс, вам удивительно повезло, что у вас был такой необыкновенный отец…
— Вне всяких сомнений!
— Да только, уж простите, мисс, нам-то какое дело до вашего папочки? Мы ведь пришли сюда не за тем, чтоб слушать воспоминания детства… потому как на ваше детство, мисс, нам, извините, тоже чихать!
Послышались приглушенные смешки. Иможен заставила себя очень медленно и спокойно сосчитать до тридцати, иначе она непременно поддалась бы первому порыву и хорошенько взгрела нахальную девчонку. Класс, удивляясь молчанию учителя, совсем притих, и даже Элисон явно удивляло полное отсутствие реакции жертвы. Но, когда Иможен наконец вскинула голову, все содрогнулись.
— Знаете, мисс Кайл, почему я не ответила вам сразу?
— Может, просто нечего сказать, мисс?
— Ну уж насчет этого не сомневайтесь — тут все в порядке! Я не ответила, потому что медленно считала до тридцати.
— А зачем?
— Только для того, чтобы не устроить вам более чем заслуженную трепку!
И она осмелилась так разговаривать с Элисон Кайл из Данди?! Класс замер как громом пораженный. Опешившая от неожиданного выпада девочка слегка побледнела и с непривычки к такого рода аргументам, как все дети, попыталась укрыться за надежной стеной родительского авторитета.
— Вы, наверное, просто не знаете, с кем говорите, мисс! — высокомерно вздернув острый носик, заметила Элисон. — Я — единственная дочь Хэмиша-Грегора-Александра Кайла из Данди! Вы слышали о кайловском джеме, мисс?
— Ну и что?
Прямой вопрос выбил Элисон из колеи. А мисс Мак-Картри не преминула воспользоваться ее растерянностью:
— У нас готовить джем всегда поручали слегка придурковатым служанкам… Так вы, значит, из прислуги, мисс Кайл?
— О!
Видя, что их товарка явно не способна противостоять Иможен, девочки мгновенно переметнулись на сторону последней. Многие радостно захихикали, показывая тем самым, что полностью одобряют такое определение могущественного клана Кайлов. Кое-кто воспринял эту сцену как неожиданную возможность отыграться за прежние унижения. Элисон, еще, в сущности, совсем ребенок, чуть не плача от обиды, попыталась настоять на своем.
— И вы… вы смеете?..
И тут Иможен нанесла противнице сокрушительный удар.
— У вас очень бедный словарный запас, мисс Кайл! — насмешливо бросила она и, соскочив с кафедры, приблизилась к Элисон. — А теперь, мисс Кайл, вы извинитесь передо мной, и мы забудем об этом досадном происшествии.
— Извинюсь? По-вашему, Кайлы из Данди просят у кого-то прощения?
— А что, ума не хватает?
— Нет, но мы можем извиниться только перед человеком своего круга…
— Вы, надо думать, имеете в виду кухарок, мисс Кайл?
Весь класс откровенно захохотал. Эта рыжая начинала нравиться девочкам. А обиженная и сердитая Элисон совсем потеряла чувство меры:
— Я не позволю, чтобы меня оскорбляла какая-то темная личность!
Звук пощечины произвел на учениц «второго года» такое же впечатление, как если бы небо разверзлось и перед ними в раскатах грома и всполохах молний предстал сам Создатель. Девочки не верили своим глазам. Элисон Кайл получила затрещину! Наследница Александра Кайла все так же по-детски бросилась на обидчицу, но получила вторую оплеуху и шлепнулась на стул. Лицо ее горело, в горле стоял ком, все тело сотрясалось от рыданий. А Иможен, оглядев класс, спокойно заметила:
— Я еще ни разу в жизни не делала джем, но сейчас, кажется, готова попробовать!
Забыв, что ей уже перевалило за сорок и что никакие сердечные огорчения не сделают ее талию ни на сантиметр тоньше, Мойра Мак-Дугал оплакивала отъезд Патрика О'Флинна, а заодно и существование, которое ей уготовано подле мужа, видевшего наглядное доказательство измены, способное разом перечеркнуть семнадцать лет беспорочного супружества. И еще, с тех пор как она утром выбежала из столовой, Мойру терзал стыд. Короче говоря, достойная директриса Пембертона имела массу оснований проливать горючие слезы, и потому, когда дверь распахнулась и влетел явно доведенный до белого каления Кейт, она рыдала. Мойра, женщина начитанная, сразу подумала о сцене, разыгравшейся между Отелло и Дездемоной, и приготовилась к скорой смерти. Благодаря этому ее речь звучала особенно патетично:
— Прежде чем нанести мне последний удар, Кейт, знайте: я ни в чем не виновата! Я вела себя неосторожно, но не более того… и только ради славы нашего колледжа…
Мак-Дугал думал совсем о другом, и шекспировская фраза супруги повисла в воздухе. Наконец Кейт в полуобмороке рухнул в кресло и замер, по-видимому, совсем отключившись от действительности. И Мойре стало страшно. Неужели после стольких лет муж все еще любит ее до такой степени, чтобы повредиться в уме при первом же намеке на супружескую измену? Растроганная и польщенная директриса подошла к Кейту, нежно обняла за плечи и, нагнувшись, проворковала:
— Кейт… darling… не надо воображать то, чего нет и не было…
Казалось, этот ласковый, грудной голос мог бы смягчить даже камни, но Мак-Дугал и бровью не повел.
— Вы слышите меня, darling?
Обращение «дорогой» так удивило Кейта, что он стряхнул оторопь.
— Прошу прощения, Мойра… Что вы сказали?..
— Я говорила, что не надо воображать то, чего не было… Это приносит одни ненужные страдания…
— К несчастью, что бы
вы ни сказали, Мойра, результат один! Я своими глазами видел…
— Вам показалось, darling!
— Ах, показалось? Вы что, совсем за дурака меня держите, Мойра?
— Разумеется, нет, darling, но иногда мы принимаем за реальность совсем не то…
Директор окончательно пришел в себя. Поднявшись с кресла, он пристально посмотрел на жену.
— Не понимаю, Мойра, куда вы клоните?
К огромному удивлению Мак-Дугала, жена крепко прижалась к нему. Кейт настолько не привык к подобному обращению, что счел его почти непристойным и резко оттолкнул Мойру.
— Вы с ума сошли? А если кто-нибудь войдет? Да что с вами сегодня?
Униженная ж раздосадованная миссис Мак-Дугал ответила гораздо суше, чем ей хотелось бы:
— Я просто-напросто хотела вас успокоить, Кейт… умерить ваши необоснованные подозрения…
— Необоснованные? Скажете тоже! Да весь класс это видел!
Теперь уже Мойра перестала понимать, о чем толкует супруг.
— Но… что они видели, Кейт?
— Последний подвиг этой окаянной рыжей ведьмы!
— Господи! Что она еще натворила?
— Влепила пощечину «джему»!
— О!
— Чистая правда, дорогая моя!
— Да это какой-то дьявол в юбке! После того, как она обошлась с мистером О Флинном…
— Я вас настоятельно попрошу не упоминать при мне об этом субъекте… хотя бы приличия ради. Не желаю думать о вашем поведении!
— Клянусь вам, Кейт…
— Довольно, Мойра… Я не желаю думать ни о чем, кроме Пембертона, и его одного! Надо во что бы то ни стало уговорить Элисон Кайл не жаловаться отцу. Представляете, каким ударом для колледжа станет ее отъезд? Многие родители доверяют нам своих детей, следуя примеру Кайлов и Лимов. Я надеюсь на вас, Мойра…
— На меня?
— Да, я просил мисс Кайл прийти сюда… Вы ее примете… поговорите с ней по-матерински, скажете, что вам вполне понятно ее возмущение… Короче, намекните, что вы на ее стороне, а мисс Мак-Картри очень скоро отсюда уедет… В общем, попробуйте отбить у Элисон желание звонить домой. Защищая интересы колледжа, вы, может быть, и сумели бы доказать мне, что между вами и О'Флинном не было ничего серьезного…
— Как вы добры, Кейт!
Оставшись одна, Мойра Мак-Дугал попыталась выкинуть из головы Патрика О'Флинна и обдумать, каким образом успокоить самолюбие юной Элисон Кайл и умолить ее не думать больше о варварском нападении мисс Мак-Картри… Господи, и что за деревенщина эта рыжая? Неужто и в самом деле не понимает, кто такие Кайлы из Данди и какой внушительной суммой они ежегодно подкармливают Пембертон? И все же, несмотря на жизненную важность порученного мужем разговора, Мойра никак не могла отрешиться от мыслей о хоть и грубоватом, но таком могучем ирландце. Стоило директрисе закрыть глаза — и она, забыв о тридцатилетних муках воздержания, уносилась куда-то далеко-далеко в объятиях О'Флинна… возможно, даже на лошади… Грезы не имеют ничего общего с реальностью, и задыхающаяся от восторга миссис Мак-Дугал, пьянея от счастья, прижималась к мощной груди всадника, а тот, держа на сгибе левой руки арфу и каким-то чудесным образом ударяя по струнам, нараспев читал теоремы. И математика представлялась очарованному взору Мойры самым поэтичным из всех изобретений человечества. Услышав, что дверь отворяется, директриса широко открыла глаза. Однако, против ожидания, увидела она не Элисон Кайл, а О'Флинна.
— А, вы здесь? — буркнул ирландец.
Забыв обо всех клятвах, миссис Мак-Дугал снова поддалась настоятельным велениям страсти.
— Только не говорите, что не хотели меня видеть, Патрик, это разобьет мне сердце! — жеманно просюсюкала она.
— Я вам больше не верю, — заворчал О'Флинн.
— О Патрик…
— Сегодня, когда нас застукал ваш муж, вы живо переметнулись, так или нет?
— Пощадите мою стыдливость, Патрик…
— Клянусь святым Илтудом, это-то тут при чем?
— Ну не могла же я стать на вашу сторону при Кейте?.. Хотя, если честно, Патрик, мне безумно этого хотелось!..
О'Флинн, этот добродушный медведь, тут же смягчился и уже ласково пробормотал:
— Хоть сейчас-то вы говорите правду, Мойра?
— Клянусь вам…
И, сама не зная, как это получилось, директриса снова упала в объятия учителя математики. К несчастью, именно в эту минуту Элисон Кайл, выполняя просьбу Кейта Мак-Дугала, вошла в комнату. Увидев нежно обнявшуюся парочку, девушка и не подумала незаметно удалиться, а, напротив, удивленно охнула. Элисон поступила так без злого умысла, но влюбленные так стремительно отпрыгнули друг от друга, что ее изумленное восклицание перешло в громкий смех. О'Флинн вне себя от ярости набросился на девочку.
— Вы не могли сначала постучать в дверь?
— Я стучала, но… но вы наверняка не слышали… Что, впрочем, вполне естественно и понятно!
— Правда? Значит, вам все понятно, да?
— Ну, это не так уж трудно…
— Чего никак не скажешь о свойствах конусов, которые вам придется изучать, и очень внимательно!
— Конусов?.. Но я вовсе не собиралась…
— Ошибаетесь, мисс Кайл! В субботу и воскресенье, когда ваши подруги разъедутся по домам или уйдут гулять, вам придется добросовестно покорпеть над обычными и усеченными конусами, дабы написать небольшое, но блестящее исследование и убедить меня, что вы действительно постигли, чему равна площадь каждой поверхности и их сумма! Тогда, клянусь святым Маклоу, недостаток такта восполнится хотя бы скромными знаниями по геометрии!
Элисон Кайл, подобно всем юным созданиям, не выносила несправедливости. Суровость незаслуженной кары повергла ее в глубочайшее недоумение.
— Вы… вы наказываете меня… за то, что я… тут застала вас вместе? — заикаясь, пробормотала девочка.
— Вы нахалка, мисс Кайл! И к тому же лгунья!
— Лгунья?
— Я пытался вытащить соринку из глаза мисс Мак-Дугал, а вы хотите раздуть из этого Бог знает какую грязную историю! И как вам только не стыдно, мисс Кайл!
— Мне? Мне должно быть стыдно? О!
Девочка убежала в парк, где ее в конце концов и разыскал Джерри Лим. Увидев, что его возлюбленная исходит слезами злости и обиды, Джерри утащил Элисон на скамейку, которую оба уже считали своей «частной собственностью», несмотря на то что именно там ночью их поймала Иможен. Когда молодой человек узнал, что мисс Мак-Картри наградила его милую пощечиной, он хотел тут же бежать к оскорбительнице и удавить ее на месте. Но известие о том, что в воскресенье они с Элисон не смогут погулять вместе только из-за скандального поведения Патрика О'Флинна и Мойры Мак-Дугал, повергло молодого человека в такую ярость, что девушке пришлось утихомиривать не в меру рьяного защитника.
— Не стоит преувеличивать, Джерри… Меня же никто не убил!
— Но вас ударили, Элисон, а этого я никак не могу допустить!
— Darling… так вы меня по-настоящему любите?
— О, darling, как вам не совестно сомневаться? Вы — женщина моей жизни… вы станете матерью моих детей и…
— Прошу вас, Джерри, ни слова больше… это нехорошо… Как, по-вашему, нас выгонят из колледжа?
— За то, что вас избили?
— Не валяйте дурака, Джерри! За ночное свидание…
— Что ж, уедем, если они не хотят больше видеть нас здесь!
— Вы просто прелесть, Джерри, но, к несчастью, мозгов у вас не больше, чем у моего щенка Плум-Пудинга!
— Не понимаю…
— Если меня выгонят из Пембертона, а уж тем более за встречи с вами, можете не сомневаться — родители ушлют меня куда-нибудь к черту на рога, а ваши позаботятся, чтобы вы уехали в противоположном направлении!
— Верно! Об этом я совсем не подумал…
Элисон ласково потрепала возлюбленного по щеке.
— Не очень-то вы привыкли ломать голову, a, darling?
Джерри вскочил.
— Может, это из-за того, что я чересчур много думаю о вас? — обиженно спросил он. — Но, так или иначе, я не могу позволить, чтобы на вас поднимали руку, Элисон, и немедленно выложу свою точку зрения мисс Мак-Картри!
Иможен сидела у себя в комнате. Она нисколько не жалела, что так круто обошлась с Элисон Кайл (в конце концов, время от времени этим юным индюшкам из богатых семей надо показывать, что не вся земля у них в услужении), но охотно признавала, что, пожалуй, выбрала не лучший подход к педагогике. Впрочем, это не имело особого значения. Иможен приехала в Пембертон не для того, чтобы заново сделать карьеру, а в надежде разоблачить убийцу Нормана Фуллертона, просившего ее о помощи. Мисс Мак-Картри опустилась в кресло и стала мысленно перебирать всех преподавателей Пембертона. Кейта Мак-Дугала и его жену она тут же вычеркнула из списка подозреваемых. Ни у того, ни у другой не хватило бы пороху, оба больше всего боятся скандала, а именно к этому и привело убийство преподавателя… Нет, обоих можно спокойно отбросить.
А насчет остальных… Поглупевший, как все влюбленные, Дермот Стюарт, похоже, просто не способен думать ни о ком и ни о чем, кроме этой гусыни Флоры Притчел. Последняя тоже явно никуда не годится — она умеет только совершенно по-идиотски хихикать, чем доводит мисс Мак-Картри до исступления. Гордон Бакстер, судя по всему, интересуется исключительно спортом. Мисс Уайтлоу похожа на преступницу, но одного этого мало, и даже, наоборот, пожалуй, внешность свидетельствует в ее пользу, поскольку злоумышленники крайне редко выглядят отталкивающе. Тем не менее Иможен пообещала себе как можно больше узнать о прошлом преподавателя физики и химии.
Оставались Морин Мак-Фаддн и Оуэн Риз, оба — сплошное очарование… Но именно то, что Морин и Оуэн казались такими симпатичными и всячески выказывали Иможен дружеские чувства, особенно настораживало шотландку. Вне всякого сомнения, они любят друг друга. Может, Фуллертон, пока неизвестно каким образом, помешал этой любви? Допустим, Риз убил соперника, а Морин его покрывает? А кроме того, не надо забывать об этом грубом животном О'Флинне. Буйная кельтская кровь запросто могла толкнуть его на убийство. И если бы Фуллертона нашли здесь, в колледже, с разбитой всмятку головой или удавленным, Иможен без колебаний указала бы полицейским на ирландца, но удар кинжалом в спину… По правде говоря, при всей своей враждебности к математику мисс Мак-Картри признавала, что это никак не вяжется с его характером.
Морин Мак-Фаддн, тихонько постучав, просунула голову в щель и вежливо спросила, не помешает ли она Иможен и может ли зайти поболтать. Мисс Мак-Картри с улыбкой ответила, что очень рада гостье, и тут же рассердилась на себя за избыток радушия: не стоит поддаваться чарам учительницы французского языка!
— Мисс Мак-Картри, мне хотелось сказать вам наедине, как меня восхитили все ваши подвиги! Всего за несколько часов вы так много успели…
Как ни старалась Иможен держаться начеку, лесть всегда приятно щекотала ее самолюбие. А эта Мак-Фаддн к тому же казалась совершенно искренней.
— Вы слишком добры ко мне, мисс… По-моему, я, наоборот, вела себя ужасно глупо…
— Ничуть! Элисон Кайл давно заслуживала пощечины, а скотина О'Флинн поделом схлопотал полную тарелку яичницы! Так что ваши поступки более чем целительны для атмосферы колледжа, мисс Мак-Картри!
— Вряд ли с вами согласен мистер Мак-Дугал!
— Не важно! Мы все поддержим… я имею в виду Оуэна Риза и себя… На других особенно рассчитывать нечего… Элспет Уайтлоу ненавидит весь мир… Гордон Бакстер помешан на беге и крикете… Дермот Стюарт не видит никого и ничего, кроме Флоры Притчел, а Флора думает только о себе… В каком году вы закончили Джиртон?
Застигнутая врасплох, Иможен растерялась:
— Что?
— Я спросила, в каком году вы закончили Джиртон-колледж?
Мисс Мак-Картри разозлилась на себя — следовало предвидеть и расспросы, и ловушки… Она быстро подсчитала в уме.
— В тысяча девятьсот двадцать пятом…
— Вот как? Тогда вы наверняка помните мисс Планкет, она вела греческий…
— О да, конечно!
— А помните, как смешно она выглядела в парике, всегда надетом чуть-чуть набекрень?
Мисс Мак-Картри принужденно рассмеялась.
— Честно говоря, я совсем забыла милейшую Планкет… Но сейчас вижу ее, как живую, словно она сидит рядом с вами, мисс Мак-Фаддн.
— А как вас звали? Мод? Или Марджори?
— Да вроде бы Марджори…
— Ай, как нехорошо обманывать, мисс Мак-Картри…
Каллендерские друзья наверняка бы страшно расстроились, увидев выражение лица своей любимой амазонки.
— Но… мисс Мак-Фаддн… я не понимаю, о чем вы…
— Бросьте, мисс Мак-Картри, прекрасно вы все понимаете! Планкет никогда не существовало, а вы и не думали учиться в Джиртон-колледже, верно?
Голос Морин звучал так мягко и дружелюбно, что Иможен предпочла сразу признать поражение.
— Ну хорошо, я и вправду не заканчивала Кембриджа… И никакой я не преподаватель… А теперь, мисс Мак-Фаддн, может, вы к тому же не прочь узнать, что привело меня сюда, в Пембертон?
— Нет, это меня не касается. Простите, что я пристала к вам с расспросами, да еще и схитрила, но мне никак не верилось, что учитель, то есть человек, вынужденный постоянно думать о заработке, может так независимо держаться с начальством. Я очень рада знакомству с вами, мисс Мак-Картри. Хотите дружить?
Какой-то незнакомый голос нашептывал Иможен, что надо поостеречься, что обаятельная Морин в считанные минуты вывела ее на чистую воду и, окажись она не тем, за кого себя выдает, может быть очень опасным противником, а кроме того, кинжал, уложивший Фуллертона, — скорее женское оружие. Но, несмотря на все доводы рассудка, Иможен протянула мисс Мак-Фаддн руку. Во-первых, она никак не могла отделаться от симпатии к Морин, а во-вторых, решила немного отыграться за поражение. Поэтому, удержав руку преподавательницы французского в своей, она вдруг спросила:
— Вы любите Оуэна Риза, правда?
— Неужели это так заметно?
— Во всяком случае, достаточно, чтобы привлечь внимание старой девы вроде меня, совершенно равнодушной к таким вещам.
— Да, я люблю Оуэна Риза… Мы познакомились здесь два года назад… как только я приехала из Глазго…
— Я была бы счастлива завоевать и дружбу мистера Риза.
— Положитесь на меня, это несложно. Оуэн очень ценит людей мужественных.
В такую чудесную погоду грех было бы сидеть взаперти, и мисс Мак-Картри в перерыве между занятиями решила посидеть на скамейке, где Элисон и Джерри проводили много счастливых часов, пока другие спали и влюбленные могли воображать, будто они одни на свете. Юный Лим, заметив ее издали, тут же подбежал:
— Мисс Мак-Картри, у вас не найдётся для меня нескольких минут?
Несколько удивленная его тоном Иможен вздрогнула. Решительно, в этом колледже ее ждут сплошные сюрпризы! Тем не менее шотландка кивнула с обычной царственной снисходительностью.
— Я вас слушаю.
— Вы и в самом деле дали пощечину Элисон Кайл?
— Да вроде бы так.
— А вы знаете, что она дочь Кайла из Данди? Это «джем»!
— Ну и что?
— Неужели вы не понимаете? Кайловский джем!
— Вы начинаете действовать мне на нервы, молодой человек! Ну что вы ко мне пристали со своим джемом? К тому же я его терпеть не могу… И что дальше?
— Я требую, чтобы вы извинились перед Элисон Кайл!
— Что?
— Я требую, чтобы вы сказали Элисон, как жалеете о своем поступке!
— Ну да? А с чего бы я, по-вашему, стала это делать?
— Да хотя бы потому, что, если вы откажетесь, я все расскажу отцу!
— А почему это должно меня волновать?
— Как? Но ведь мой папа — «линолеум»!
— Я им не пользуюсь…
Джерри долго не мог опомниться от удивления. Эта шотландка явно не придавала никакого значения богам, царствовавшим над привычным ему мирком. Не желая приводить юношу в полное смятение, мисс Мак-Картри мягко посоветовала:
— Не пора ли вам присоединиться к друзьям?
— Мой отец добьется вашего увольнения из Пембертона!
— Меня бы это очень удивило… и вообще, хватит! Зарубите себе на носу, юный идиот, что ни ваш папа, ни вы, ни линолеум меня нисколько не интересуете!
— Не может быть! Значит, вы просто сумасшедшая!
Мисс Мак-Картри никому не позволяла вести себя непочтительно и вовсе не собиралась делать исключение для Джерри Лима, сына Хьюга Лима из Керколди. Нанесенный ею прямой короткий удар был достаточно силен, чтобы воздыхатель Элисон отлетел на несколько шагов и уселся на пятую точку.
Мойра, забыв прежние обещания и клятву, данную в присутствии пастора, а заодно растоптав долгие годы супружеской верности, решила бежать с О'Флинном. Сидя рядышком и нежно взявшись за руки, они обдумывали, как каждый из них поодиночке доберется до Каллендера. Наконец сошлись на том, что Мойра присоединятся к Патрику в Глазго, а оттуда они поедут в Ирландию. Пускай во грехе, но они проживут вместе много бесконечно счастливых лет. Время не властно над надеждами и мечтами! Войдя в комнату, Кейт снова застал их сидящими слишком близко друг к другу, чтобы не замышлять ничего дурного, но и глазом не моргнул. Пока виновные пытались принять более пристойную позу, директор, прислонившись к двери, переводил дух, потом рванул воротничок, словно воздуха все равно не хватало.
— Боже, Кейт, что с вами! — воскликнула перепуганная Мойра.
Поймав укоризненный взгляд Патрика, она невольно покраснела — не следовало бы так сильно сопереживать Кейту, но многолетняя привычка заставила ее поспешить на помощь мужу. Ирландец великодушно разделил с ней хлопоты. Они вдвоем ухватили директора под мышки и, дотащив до дивана, усадили. О'Флинн снял с него галстук и расстегнул воротник, а Мойра начала похлопывать по рукам, чувствуя, что Кейт вот-вот потеряет сознание.
— Умоляю, скажите, что с вами?
На губах директора Пембертона появилась легкая пена, глаза закатились.
— Эта женщина… О эта женщина… — прохрипел он.
— О ком вы, Кент?
— Об Иможен Мак-Картри…
— Что еще она натворила?
Мак-Дугал, громко икнув от отчаяния, признался:
— Нокаутировала «линолеум»!
В тот же вечер едва оправившийся от недавних волнений Мак-Дугал, подождав, пока все соберутся к ужину, сурово объявил:
— Мисс Мак-Картри, я думаю, коллега поддержат меня, если я скажу вам, что нам нужен преподаватель истории британской культуры, а не чемпион по боксу. Мистер Бакстер вполне справляется со спортивной программой. Вы позволили себе ударить двух учеников, которыми Пембертон особенно дорожит…
— Вы что же, самый обычный торговец, мистер Мак-Дугал?
Кейт стукнул кулаком по столу:
— Не ваше дело, кто я такой, мисс Мак-Картри! Я запрещаю вам судить меня и хочу, чтобы завтра же с утра вы покинули этот дом! Жалованье колледж выплатит вам за месяц вперед… А теперь, когда вопрос решен, желаю вам приятного аппетита, леди и джентльмены!
Оуэн Риз и Морин Мак-Фаддн, не сомневаясь, что Мак-Дугал совершил крайне неосторожный поступок, следили за реакцией Иможен. И та не заставила себя ждать. Высокая шотландка постучала по бокалу, требуя тишины. Одни посмотрели на нее с тревогой, другие — с беспокойством.
— Дорогие мои коллеги, наш директор слишком склонен принимать желаемое за действительное и воображать, будто достаточно отдать приказание, и все склонятся перед его волей. Однако, позволю себе заметить, он жестоко заблуждается.
Бледный от гнева Кейт Мак-Дугал положил ложку.
— И что это значит, мисс Мак-Картри?
— Только то, что я не уеду, пока не сочту нужным!
— Я вызову полицию, и вас вышвырнут вон!
— Более чем сомнительно, мой дорогой Мак-Дугал.
— Это еще почему?
Несмотря на внешнее спокойствие, Иможен кипела от гнева, а в таком состоянии она плохо соображала, что говорит.
— Потому что я приехала сюда помогать ей!
— Помогать полиции? Господи Боже, но в чем?
— Разоблачить убийцу Нормана Фуллертона!
Если бы мисс Мак-Картри объявила, что герцог Эдинбургский подал на развод, чтобы жениться на Брижит Бардо, вряд ли это произвело бы на аудиторию большее впечатление. Все застыли: одни — широко открыв рот, другие — с вилкой или ложкой у самых губ, третьи явно пытались сообразить, не обманул ли их слух. Спортивная тренировка помогла Гордону Бакстеру первым отойти от странного паралича, вдруг охватившего всех преподавателей Пембертонского колледжа.
— Вы хотите сказать, что преступник — один из нас, мисс?
Кейт Мак-Дугал поперхнулся, и Мойре пришлось долго хлопать его по спине. Наконец, когда из салфетки появилось красное от напряжения лицо и залитые кровью глаза, все поняли, что директор надолго вышел из строя.
— А вы не преувеличиваете немного, мисс Мак-Картри? — мягко спросил Оуэн Риз.
— Если я говорю, что убийца здесь, в Пембертоне, значит, мистер Риз, у меня есть на то основания. Я просто-напросто знаю, кто он!
Теперь уже О'Флинн счел нужным вмешаться:
— Клянусь святым Коломбаном! Да откуда вы можете это знать?
— От самого Нормана Фуллертона!
Ирландец, громко захохотав, выразительно покрутил пальцем у виска.
— Выходит, призрак бедняги Фуллертона явился к вам в спальню и, как тень отца Гамлета, назвал имя преступника?
— Нет, он сказал мне его перед смертью.
Иможен окинула сидящих за столом свирепым взглядом.
— Да, всего за несколько секунд до того, как его ударили кинжалом, Фуллертон предупредил меня, кого считать убийцей, если он погибнет насильственной смертью.
О'Флинн засмеялся еще громче.
— Тогда к чему столько выкрутасов? Почему бы четко и ясно не сказать, о ком речь!
— Фуллертон поделился опасениями со мной одной. Теперь нужно найти доказательства. Для того я и приехала в Пембертон. А за сим — желаю вам спокойной ночи!
И, не думая больше о том, что начнется в столовой после ее ухода, Иможен встала, с самым важным видом отвесила легкий поклон и направилась к двери. Однако, прежде чем шотландка успела удалиться, ее окликнул Оуэн Риз:
— Мисс Мак-Картри!
Она обернулась:
— Да, мистер Риз?
— Не забудьте покрепче запереть дверь на ночь!
— Спасибо за участие, мистер Риз, но, интересно, чего ради вы советуете мне принимать такие предосторожности?
— Если вы сказали нам правду, мисс Мак-Картри, теперь, когда преступник знает, что его имя известно вам, и только вам одной… вашей жизни угрожает большая опасность!
Раздеваясь, Иможен, в точности исполнившая рекомендации Оуэна Риза, думала, что вела себя как последняя дура. Она швырнула на стол все карты, насторожила убийцу, а меж тем, вопреки ее собственным утверждениям, понятия не имела, кто он. И что означают слова Риза? Искреннюю заботу или завуалированную угрозу? А может, он предупреждал сообщника, как действовать дальше? И героине Калдендера вдруг стало страшно. В полной панике мисс Мак-Картри бросилась к наконец привезенному Конвеем чемодану за револьвером, но оружие, к ее величайшему ужасу, исчезло. Револьвер украли. А кто это мог сделать, если не убийца Нормана Фуллертона?
Когда колледж уже готовился ко сну, Кейт Мак-Дугал, вцепившись в телефонную трубку и чуть не плача, рассказывал суперинтенданту Копланду, какие несчастья обрушила на его голову Иможен.
— О том, как мисс Мак-Картри обошлась с нашим лучшим преподавателем, я вам уже говорил, но, мало этого, теперь, когда О'Флинн уезжает, она вдобавок нанесла еще и сокрушительный удар по репутации колледжа. Мисс Мак-Картри не только надавала пощечин Элисон Кайл, дочери «джема» Кайла, которого вы наверняка знаете, мистер Копланд, не только подбила левый глаз Джерри Лиму, единственному наследнику «линолеума» Керкольди (хотя, если этих двух детей заберут, дело обернется катастрофой для Пембертона). Нет, этого ей показалось недостаточно! Ладно, пусть она распространяла гнусные сплетни, будто между моей женой и мистером О'Флинном существуют некие внеслужебные отношения — да, так и сказала публично! — но за ужином эта особа к тому же громко объявила, что убийца Нормана Фуллертона — один из наших преподавателей и она не уедет, пока не разоблачит его!.. Вот я и спрашиваю вас, мистер Копланд: какие грехи навлекли на меня это тяжкое наказание? И почему в такой короткий срок на меня свалялось сразу столько несчастий?
Эндрю Копланд слушал сначала недоверчиво, но потом, по мере того как несчастный директор называл все новые и новые беды, обрушившиеся на его колледж с появлением мисс Мак-Картри, начал про себя посмеиваться. К концу повествования суперинтендант проникся невольным преклонением перед незаурядной личностью Иможен. Мисс Мак-Картри казалась какой-то могучей стихией, всегда готовой сеять страх к разрушения.
— Мне говорили, мистер Мак-Дугал, что это довольно необычная женщина, но я никак не думал, что до такой степени! Может, я и ошибаюсь, но, по-моему, очень скоро она станет истинной королевой Пембертона!
— В таком случае мисс Мак-Картри придется управлять пустыней! Уверяю вас, никто не сможет выдержать долго, а сам я уже просто мечтаю покончить самоубийством!
— Да ну же, Мак-Дугал, не говорите глупостей! Завтра утром я приеду в Пембертон и постараюсь умерить рвение мисс Мак-Картри. Надеюсь, до тех пор не случится ничего страшного. Спокойной ночи.
Вопреки надеждам суперинтенданта, ночью произошло еще одно несчастье. Рано утром на скамейке в парке, где Элисон и Джерри назначали друг другу ночные свидания, нашли тело Патрика О'Флинна. Голову математика пробила пуля.
Глава V
— Повторяю вам, Сэмюель, вы не имеете права так двигать коня! Смотрите: раз, два, три… четыре! Или вот: раз, два, три… четыре! Это же совсем не трудно! А может, вы нарочно так делаете, Сэмюель?
Констебль Тайлер вздохнул. Он терпеть не мог шахматы и ровно ничего в них не понимал. Сержант Мак-Клостоу понимал не намного больше, но не отдавал себе в том отчета и самоуверенно пытался научить благородной игре несчастного констебля, превращая таким образом каждую минуту отдыха в нестерпимую пытку.
— Ну а теперь что скажете, Сэмюель? Здорово разыграно, а?
Радуясь удачному ходу, Мак-Клостоу требовал восторга и одобрения от подчиненного, иначе он не мог в полной мере насладиться успехом.
— И — хоп! Вам конец, Сэм! Мой ферзь держит вас с этой стороны, а ладья и кони готовы наброситься, если попытаетесь бежать, с другой! Чертовски красивая комбинация, Сэм! Вы согласны со мной?
— Знали б вы, шеф, до какой степени мне на это плевать…
Сержант сурово посмотрел на Тайлера.
— Отвечая мне так, констебль, вы проявляете неуважение к начальству и ясно показываете, что недостойны моей дружбы! Вы неблагодарны, Сэм!
Обличения сержанта прервал телефонный звонок. Он снял трубку.
— Полицейский участок Каллендера! Я вас слушаю… Что?.. Вы уверены?.. Ладно, договорились… Ничего не трогайте, мы выезжаем!
Положив трубку, Мак-Клостоу встал.
— Поехали в Пембертон, Тайлер, там только что убили преподавателя.
— Опять?
— То есть как это? Что вы имеете в виду?
— Ну, помните, шеф, того типа, которого убили на матче по регби… Фуллертон его звали…
— Господь Всемогущий! А ведь верно! Он тоже преподавал в Пембертоне!
— Да, шеф!
Застегивая последнюю пуговицу, Арчибальд Мак-Клостоу проворчал:
— Хотел бы я знать, кому взбрело в голову уничтожить всю пембертонскую профессуру…
— Маньяку или сумасшедшему.
Сержант на мгновение замер.
— Иможен Мак-Картри! — вдруг завопил он.
Констебль подскочил.
— Где? — с тревогой поинтересовался он.
Арчибальд, в странном возбуждении, схватил его за руку.
— Сумасшедшая! Вот что натолкнуло меня на мысль… И она сейчас в колледже! Значит, за убийцей далеко ходить не надо! Вы знаете, что я думаю об этом гнусном создании, Сэм… Не сомневаюсь, что и Фуллертона прикончила она, а теперь добавила к другим охотничьим трофеям еще одного преподавателя. Что может быть естественнее? Раз этой кошмарной женщине все дозволено, то почему бы ей не охотиться на учителей, как другие на куропаток?
Констеблю страшно не нравилось стойкое предубеждение сержанта против Иможен.
— Шеф, вы ее обвиняете без всяких доказательств!
— Знаю, Тайлер, воспоминания детства мешают вам увидеть эту Мак-Картри в ее истинном свете… И вы, не колеблясь, предаете меня… Я не стану вас упрекать, Тайлер… Раз уж вы уродились с низменной душой и прозаическим складом ума, ничего не попишешь… Во всяком случае, нам ни к чему ехать в Пембертон…
— Почему, шеф?
— А зачем? Как только я установлю несомненную виновность мисс Мак-Картри, меня тактично попросят больше не вмешиваться в эту историю, поскольку речь идет о безопасности Короны! Хотел бы я знать, что общего может быть между Иможен Мак-Картри и Короной, а, Тайлер?
Кейт Мак-Дугал лежал в постели с ледяным компрессом на лбу. Мойра то оплакивала смерть того, с кем собиралась бежать, то с тревогой поглядывала на мужа, с которым теперь ей предстояло остаться навеки. Короче говоря, ни один из Мак-Дугалов никак не мог играть в пембертонской трагедии отведенную ему роль, и с общего согласия обязанности директора взял на себя Оуэн Риз как дольше других работавший в Пембертоне. Он и встретил Мак-Клостоу с Тайлером. Узнав, в каком состоянии Мак-Дугалы, сержант объявил, что пока они ему не нужны. Прежде всего он хотел осмотреть труп и место происшествия. Но ни то, ни другое не позволило сделать определенных выводов, и Мак-Клостоу попросил собрать всех преподавателей в столовой. По его приказу туда же доставили убитого горем директора, и жена, которая, кстати говоря, произвела на сержанта очень приятное впечатление, усадила его в кресло. Зато при виде мисс Мак-Картри Арчибальд испуганно отскочил — ни дать ни взять путник, вовремя заметивший, что едва не наступил на змею. А Иможен улыбнулась полицейским и даже имела неосторожность дружески помахать рукой сержанту. Арчибальд усмотрел в таком поведении особый цинизм и явное желание его унизить.
— Леди и джентльмены, вряд ли я особенно удивлю вас, сообщив, что здесь и речи быть не может ни о естественной смерти, ни о самоубийстве. Патрика О'Флинна несомненно убили. И, памятуя о гибели Нормана Фуллертона, я бы сказал, что убийца действовал хладнокровно, по заранее продуманному плану. Я уверен, леди и джентльмены, вы согласитесь со мной, что такое необычное в университетской жизни событие требует нового расследования.
Жалобный стон Флоры Притчел взволновал Дермота Стюарта до глубины души. Он бросился к девушке и пылко сжал ее руки.
— Что с вами, мисс? — удивленно спросил Мак-Клостоу.
А Флора, очевидно решив, что вопрос таит скрытую угрозу, расплакалась.
— Это не я! Клянусь, не я! — рыдала она.
Сержант растерянно попытался ее успокоить.
— Но никто вас ни в чем не обвиняет, мисс!
— Довольно, Флора! — сухо заметила Морин Мак-Фаддн. — Перестаньте строить из себя маленькую девочку, это и глупо, и неуместно!
Мисс Притчел побледнела.
— Вы… вы меня ненавидите, правда?
Дермот Стюарт поспешил на помощь возлюбленной.
— Не тревожьтесь, Флора, я здесь!
Мак-Клостоу посмотрел на Тайлера, словно говоря, что, если поведение Флоры Притчел — типичный образчик университетских нравов, они тут не соскучатся.
— Я никого не обвиняю, — продолжал Арчибальд, — поймите это раз и навсегда! Полиция Ее Величества не имеет обыкновения обвинять кого бы то ни было без весомых доказательств. Патрика О'Флинна застрелили. Стало быть, мы должны попытаться найти револьвер. Констебль Тайлер вместе с кем-нибудь из вас… Может быть, вы согласитесь пойти с ним, мистер Бакстер?
Преподаватель физкультуры молча поклонился.
— …Итак, констебль в вашем присутствии быстро обыщет комнаты. И не спорьте! Это мой долг, и никто не помешает мне его выполнить!
Когда Сэм и Бакстер ушли, Оуэн Риз попросил разрешения сходить к ученикам — должен же кто-нибудь объяснить им, почему занятия откладываются. Сержант решил, что разумнее и к Ризу тоже приставить наблюдателя, а потому отправил с ним Элспет Уайтлоу. Таким образом они приглядят друг за другом, подумал он.
Едва Тайлер (по-прежнему вместе с Гордоном Бакстером) вернулся в столовую, по выражению его лица Мак-Клостоу сразу почувствовал, что его подчиненный сделал очень важное открытие, и от удовольствия по позвоночнику сержанта пробежала дрожь.
— Ну, Тайлер?
Констебль, не говоря ни слова, протянул ему обернутый платком револьвер. Мак-Клостоу так же аккуратно взял оружие и долго обнюхивал дуло.
— Из этого револьвера стреляли совсем недавно, — наконец торжественно объявил Арчибальд. — И я думаю, в голове жертвы обнаружится пуля того же калибра, согласны, Тайлер?
— Да, шеф… судя по отверстию и по виду раны, очень похоже на то, но окончательное заключение можно сделать только после вскрытия.
— Благодарю за информацию, Сэм, но, представьте себе, я тоже неплохо знаю свое дело! — холодно бросил Мак-Клостоу.
— Прошу прощения, шеф…
— А теперь, Сэм, я задам вам один вопрос и попрошу всех присутствующих особенно внимательно выслушать ответ… Где вы нашли револьвер, констебль Тайлер?
Сэмюель с тоской посмотрел на Иможен.
— В комнате, которую, как мне сказали, занимает мисс Мак-Картри…
Все повернулись к шотландке, но та хранила прежнюю невозмутимость.
— Ну и что? — спокойно спросила она. — Не вижу тут ничего странного. Это мой револьвер, и вполне естественно, что его нашли у меня в комнате. Как по-вашему?
— Я знаю, мисс, что, раз в деле замешаны вы, удивляться нечему, — иронически заметил сержант. — Вам даже могло показаться совершенно нормальным преподавать с револьвером в руке… И отстрел не понравившихся вам коллег, конечно, тоже выход из положения… Но, уж простите, я никак не могу разделять ваших вкусов!
— Арчибальд, это безнадежно… вы так дураком и помрете…
Наступило неприязненное молчание. В Пембертоне не привыкли к такому обращению со стражами порядка. И сержант, чувствуя неожиданную поддержку, приободрился.
— Честно говоря, меня не особенно трогает ваша ругань, мисс Мак-Картри, тем не менее, если вы не смените тон, придется подать в суд за оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей. А теперь — я вас слушаю, мисс!
— Лучше не надо, Арчи… Потому как, вздумай я и в самом деле выложить все, что о вас думаю, даже вы, при всей своей поистине гиппопотамьей чувствительности, наверняка покраснеете!
Мак-Клостоу колебался. Можно ли считать сравнение полицейского с гиппопотамом оскорбительным? Разумеется, есть британские бегемоты, но все же… И на всякий случай Арчибальд решил промолчать.
— Я буду вам очень признателен, мисс, если вы будете повежливее разговаривать с полицейскими и перестанете называть меня «Арчи», — только и сказал он.
— Ладно, Арчи… Но это не помешает мне все так же смеяться над вами!
— В таком случае, может, посмеемся вместе, мисс, когда вы объясните мне, почему мистера О'Флинна убили именно из вашего револьвера?
— Просто-напросто у меня его позаимствовали!
Мак-Клостоу насмешливо фыркнул:
— Не очень-то оригинальная система защиты, мисс!
— Правда никогда не бывает оригинальной, Арчи!
— Что ж, мисс, я нисколько не удивлюсь, коли это вы убили мистера О'Флинна, а возможно, и Нормана Фуллертона…
— Ваше упорство достойно лучшего применения, Арчи! И чего ради я совершила эти два убийства, как, по-вашему?
Мак-Клостоу не выдержал. Вспомнив все прежние обиды, он завопил:
— Потому что вы — чудовище! Потому что с тех пор как я приехал в Каллендер, вы хотите свести меня с ума! Потому что убийство — ваше любимое занятие! Потому что до сих пор вы нахально пользовались полной безнаказанностью! Потому что я не желаю уходить в отставку, не поглядев, как на вас накинут петлю! Потому что мне житья нет, пока вы попираете эту землю!
К огромному удивлению преподавателей Пембертона, Арчибальд Мак-Клостоу плакал и кричал в самой настоящей истерике. Расстроенный констебль Тайлер, пытаясь успокоить шефа, подвинул ему стул, и сержант сел, задыхаясь от избытка чувств. Иможен по-матерински заботливо растерла ему виски лавандовой водой и дала выпить разбавленного виски.
— Да ну же, Арчи, успокойтесь…
Мак-Клостоу выпил и вернул мисс Мак-Картри бокал.
— Надеюсь, вы подлили в это пойло яду? — пробормотал он.
— Простите, Арчи, забыла прихватить с собой пузырьки… Самой досадно, но уж придется, видно, отложить до следующего раза…
Услышав приглушенный смех, Арчибальд, как всегда, решил сорвать раздражение на Тайлере.
— Ну, констебль? До коих пор вы позволите ей тут паясничать? А если бы эта ведьма меня отравила, а? Вас бы, естественно, это очень устроило! Вы украли бы мой пост! Да, именно украли, Тайлер, потому что не годитесь в сержанты, никчемный вы полицейский!
Оторопевший констебль не знал, куда деваться от такого позора, но Иможен поспешила его ободрить.
— Не слушайте, Сэм… Вы же знаете, что Арчи скорее глуп, чем зол!
Мак-Клостоу вскочил со стула.
— Ну, на сей раз вы свое получите! — заорал он. — Сами нарывались!
По правде говоря, словесная дуэль между мисс Мак-Картри и Мак-Клостоу настолько занимала обитателей Пембертона, что о бедняге О'Флинне совсем забыли. Казалось, сержант вот-вот возьмет верх, но в столовую неожиданно вошел суперинтендант Эндрю Копланд.
— Ну, Мак-Клостоу, что у вас здесь происходит? Даже в парке слышно, как вы кричите! Полное неприличие. Но прежде всего я хочу знать, что привело вас с констеблем сюда?
Суперинтендант еще не слышал об убийстве О'Флинна и приехал выполнить обещание, данное Мак-Дугалу. Узнав о разыгравшейся ночью трагедии, Копланд пришел в ярость.
— А почему вы не позвонили мне в Перт и не поставили в известность, сержант? Вот уж не ожидал от вас такого легкомыслия! Но свое поведение вы объясните позже… Что вам удалось выяснить?
— Мы нашли орудие преступления… в комнате мисс Мак-Картри, и та признала, что это ее револьвер…
Эндрю Копланд повернулся к высокой рыжей шотландке. Так вот она, знаменитая мисс Мак-Картри?
— Это правда, мисс?
— Правда.
— Хорошо. В таком случае, сержант, по-моему, можно отпустить преподавателей к ученикам. Вы, мисс Мак-Картри, оставайтесь здесь. Вы, Мак-Клостоу, позвоните в управление, попросите прислать фотографов и предупредить медицинского эксперта. А потом пусть забирают тело. Более чем странно, сержант, что вы до сих пор всего этого не сделали и мне приходится говорить такие вещи! Тайлер, последите, чтобы мне не мешали.
Оставшись вдвоем с Иможен, Эндрю Копланд предложил ей сесть.
— Я много слышал о вас, мисс… и, естественно, заранее склонен с доверием отнестись к вашим словам и поступкам, но, к несчастью, уже не раз изворотливый ум вводил в заблуждение даже самых опытных специалистов…
— И в данном случае изворотливый ум — это я?
— Простите, если я вас шокировал, но…
— Ничуть. Я прекрасно понимаю ход ваших рассуждений. Однако с тем же успехом можно предположить, что ради места суперинтенданта полиции вы ввели в заблуждение опытных специалистов и побудили начальство доверить такой важный пост опасному, самодовольному кретину, верно?
Еще ни разу никто не осмеливался так разговаривать с Копландом. Это так потрясло суперинтенданта, что он не сразу нашелся с ответом. Наконец, собрав всю свою энергию, он величественно встал.
— По-моему, вы теряете голову, мисс! Я жду, чтобы вы немедленно извинились!
— Это не в моих привычках, суперинтендант.
— Что ж, я заставляю вас их изменить, уж положитесь на меня!
— Вряд ли вам это удастся.
— Вы хоть отдаете себе отчет, что все указывает на вас как на убийцу этого О'Флинна?
— Ну и что?
— Вы действительно так глупы, мисс, или только прикидываетесь?
— Если я прикидываюсь, то уже одно это отличает меня от вас! — буркнула Иможен и, не ожидая ответа, продолжала: — Выходит, преступнику достаточно подстроить ловушку, в которую не угодил бы и умственно отсталый, чтобы вы тотчас же попались на крючок? Ну скажите на милость, с какой стати мне понадобилось убивать О'Флинна?
В это время, опираясь на жену, в столовую вошел Мак-Дугал. Пытаясь поклониться, он чуть не рухнул перед носом суперинтенданта. Ни дать ни взять «Больные чумой из Яффы перед Бонапартом», разве что директор Пембертона был одет поприличнее. И все же его вид произвел сильное впечатление на Эндрю Копланда.
— Это уж слишком! — сварливо захныкал Мак-Дугал. — Ничего не скажешь, хорошенького педагога вы мне порекомендовали, суперинтендант! Помимо всех несчастий, которые она обрушила на мою голову всего за двадцать четыре часа, мисс Мак-Картри вздумалось еще и совершить убийство! Господи Боже! Невольно подумаешь, будто вы нарочно послали ее сюда, чтобы вконец меня разорить! Но, будь вы хоть тридцать три раза суперинтендант полиции, я подам на вас в суд!
Слегка опешивший поначалу Копланд быстро сообразил, что все словно сговорились не оказывать его особе должного почтения и давно пора положить этому конец.
— Думайте, что говорите, Кейт Мак-Дугал! На каких основаниях вы обвинили мисс Мак-Картри в убийстве?
— Ага, ну конечно! Надеетесь ее обелить и таким образом снять с себя ответственность?
— Мак-Дугал!
Мойра попыталась угомонить мужа, но тот, вне себя от бешенства, набросился и на нее:
— Оставьте меня в покое, Мойра Мак-Дугал! Мне надоело быть для всех козлом отпущения, и никто не помешает высказаться до конца!
Спокойствие Иможен странно контрастировало с истерическим возбуждением директора колледжа.
— Болтайте что вздумается, Мак-Дугал, но предупреждаю: взвешивайте каждое слово! Попробуйте только задеть мою честь — и вас вырвут из моих рук только для того, чтобы отправить в больницу!
— Слыхали, суперинтендант, слыхали? Вчера вечером она при всех обещала расправиться с О'Флинном! Так кто же совершил убийство? Ваша протеже посоветовала математику обходить ее стороной, если не хочет умереть до срока. Так или нет, мисс Мак-Картри?
— Ну, отвечайте, мисс! — приказал Копланд.
— Слова, слова… пустое сотрясение воздуха! Мало ли чего я могла наговорить препротивному, самовлюбленному субъекту! Это куда безобиднее угроз, которыми осыпал ирландца Мак-Дугал, увидев, как тот обнимает его жену!
Кейт Мак-Дугал онемел от ужаса, а его жена стыдливо закрыла лицо руками. Копланд не мог скрыть удивления.
— Это правда? — с любопытством осведомился он.
Директор колледжа, немного поколебавшись, решил, что отпираться бесполезно.
— Да… — пробормотал он.
Суперинтендант присвистнул.
— По-моему, это совершенно меняет дело. Вы не согласны со мной?
Несчастный хозяин Пембертона, на которого меньше чем за двое суток свалилось столько тревог, несчастный и униженный, только руками развел в знак того, что отказывается от неравной борьбы со злой судьбой. Несмотря на то что устав защищает полицейским показывать свои чувства, отчаяние Мак-Дугала не могло не тронуть Эндрю Копланда, и он пожалел, что служебный долг повелевает еще больше разбередить раны бедняги.
— Я очень сочувствую вам, Мак-Дугал, но черт меня побери, если я понимаю, каким образом мисс Мак-Картри оказалась на месте, когда миссис Мак-Дугал позволила себе… гм… столь необдуманный поступок!
Мойра Мак-Дугал испытывала невыразимые муки и с ужасом спрашивала себя, какая же страшная расплата, должно быть, ожидает тех жен, что окончательно забыли о супружеском долге.
— Понятия не имею, господин суперинтендант! Когда произошла эта злополучная сцена, я мог бы поклясться, что в библиотеке нет никого, кроме нас троих! Но, вероятно, эта посланница Сатаны пряталась в каком-нибудь темном углу!
— Во всяком случае, я вынужден отметить, Мак-Дугал, что у вас были довольно веские причины избавиться от Патрика О'Флинна… Боюсь, вас ожидают большие неприятности…
Констебль Тайлер, просунув голову в щель, доложил, что с суперинтендантом хочет поговорить один из преподавателей, мистер Оуэн Риз. Копланд приказал впустить его в столовую. Риз ему сразу понравился, потому что, невзирая на все несчастья, сумел сохранить полное хладнокровие.
— Вы хотели меня видеть, мистер Риз?
— С вашего позволения, господин суперинтендант, я считаю нужным поделиться с вами кое-какими соображениями насчет гибели О'Флинна…
— Если угодно, мы можем поговорить наедине.
— О, это липшее.
— Тогда я вас слушаю.
— Дело вот в чем. Я довольно давно знаю мистера Мак-Дугала и уверен, что даже в состоянии аффекта он не способен никого убить. Более того, вероятно, он ни разу в жизни не прикасался к револьверу и понятия не имеет, как с ним обращаться.
— Спасибо, — сквозь слезы пробормотал бедняга директор.
— Что до мисс Мак-Картри, — продолжал Риз, — то с ней мы знакомы всего несколько часов, и тем не менее могу с полной уверенностью сказать, что наносить удар в спину противно ее натуре. А кроме того, задумай мисс Мак-Картри прикончить О'Флинна, наверняка не стала бы стрелять из своего собственного револьвера и уж тем более предварительно оповещать об этом весь колледж… Мисс Мак-Картри не настолько глупа, чтобы нарочно навлекать на себя подозрения!
— Короче, если я вас правильно понял, мистер Риз, ни мисс Мак-Картри, ни мистер Мак-Дугал преступления не совершали? Зато кто-то другой, узнав либо о вражде, возникшей между жертвой и обманутым мужем, либо о ссоре О'Флинна с мисс Мак-Картри, воспользовался случаем свести с математиком личные счеты и свалить вину на кого-то еще?.. Но тогда возникает новый вопрос: кто так люто ненавидел Патрика О'Флинна?
— Никто.
— А, вы все же это признаете?
— И тем более охотно, господин суперинтендант, что почти не сомневаюсь: тут произошла ошибка.
— Ошибка? Что вы имеете в виду?
— На О'Флинне был темный халат, очень похожий на платье мисс Мак-Картри… Ночью убийца вполне мог их перепутать, тем более что наверняка трусил… Вероятно, он сам заметил ошибку, но слишком поздно. Иными словами, на жизнь ирландца никто не покушался и застрелили его просто по недоразумению. Такой вывод подсказывает элементарная логика.
— Не совсем так, мистер Риз! Не представляю, кто мог страстно желать смерти мисс Мак-Картри, кроме того же О'Флинна, с которым у нее произошло серьезное столкновение, или опять-таки мистера Мак-Дугала, опасавшегося, что ее пребывание в колледже может обернуться для него финансовым крахом.
— Нет, господин суперинтендант, есть еще и третье лицо… Убийца Нормана Фуллертона. Вчера вечером мисс Мак-Картри имела неосторожность публично заявить, что знает его и приехала в Пембертон искать доказательства.
Как только Каллендера достигла весть, что Иможен Мак-Картри опять замешана в историю с убийством, все общество охватило глубокое волнение. Возмущенная бакалейщица Элизабет Мак-Грю громко вопрошала, чего ждет правительство Ее Величества и почему до сих пор не угомонило проклятую бабу? Подруги и неизменные покупательницы — миссис Плери, Фрэйзер и Шарп горячо поддержали мнение Элизабет, но Уильям Мак-Грю с отвагой, несколько поразившей кумушек, не колеблясь заявил, что считает Иможен выдающейся личностью и был бы счастлив и горд принять ее в семью. Уязвленная миссис Мак-Грю вообразила, будто муж публично признался, что предпочитает ей мисс Мак-Картри. Какая горькая обида для порядочной женщины, ни разу не изменявшей супружескому долгу (не считая, конечно, романа с торговцем бисквитами из Абердина, но это старая история и никто о ней даже не подозревает)! А Уильям Мак-Грю, нимало не беспокоясь о задетом самолюбии жены, воспользовался случаем удрать в кабачок Теда Булита, еще одного преданного друга Иможен.
Как только Мак-Грю переступил порог «Гордого Горца», его окликнул Булит:
— Вы уже в курсе, Уильям?
— Конечно, Тед. Именно потому и пришел. По-моему, такую новость надо обмыть.
— В самую точку, Уильям! Более того, я как раз придумываю новый коктейль и хочу назвать его «Иможен». Как вам нравится треть джина, треть рому, а вот насчет последней трети я еще окончательно не решил…
К стойке подошла с подносом вымытых бокалов и кружек миссис Булит.
— А почему бы вам не добавить крысиного аду, Тед? — предложила она.
Миссис Булит ненавидела Иможен, об этом знал весь город, но все слышали также, что муж не раз пребольно колотил ее в тщетной надежде заставить относиться к мисс Мак-Картри с большей симпатией. Рачительный хозяин, Булит подождал, пока жена поставит поднос на стойку, и лишь потом принялся ее воспитывать.
— Маргарет! Сколько раз я запрещал вам вмешиваться в мои разговоры?
— Жена я вам или нет, мистер Булит?
— Увы, да!
— А в таком случае вы не должны ничего от меня скрывать и я имею полное право совать нос куда вздумается!
— Верно, Маргарет, но и я, следуя правилам и традициям нашей доброй старой Шотландии, имею полное право полировать вам шкуру, когда взбредет в голову или в наказание за дерзость! И в настоящий момент честь требует от меня примерно высечь вас за оскорбление, нанесенное мужу и, что еще больше отягчает вашу вину, мисс Мак-Картри, гордости всех порядочных людей Каллендера!
— И пьяниц!
Не к добру вырвалось это у Маргарет! И очень скоро во всех домах по соседству с «Гордым Горцем» хозяйки, прекратив варить обед, навострили уши. «Опять Тед лупит бедолагу Маргарет», — говорили одни с веселым любопытством, другие — с жалостью.
А преподобный Хекверсон, узнав новость, побежал в церковь молить Всевышнего остановить упорствующую во грехе мисс Мак-Картри и не дать ее душе погибнуть безвозвратно.
Доктору Элскотту о событии рассказал пациент, но он лишь философски пожал плечами.
— Иможен Мак-Картри ничто не исправит, кроме могилы… да и то, честно говоря, вряд ли. По-моему, если ее впустят в рай, она и там сумеет вести себя отвратительно и даже у Всевышнего не хватит терпения выдерживать ее фокусы… да еще целую вечность! Готов спорить, эта особа и там ухитрится создать осложнения!
Миссис Элрой только вздохнула. Иможен и в старости оставалась для своей няни младенцем, и та в какой-то мере винила во всех ее выходках себя.
Однако самый большой успех, несомненно, выпал на долю Арчибальда Мак-Клостоу. Вернувшись домой из Пембертона, где он оставил констебля Тайлера, сержант решил заглянуть в «Гордого Горца» и пропустить стаканчик — за долгие часы в колледже его истомила жажда. Всеобщее внимание так льстило самолюбию Мак-Клостоу, что сначала он сделал вид, будто не скажет ни слова. Не сомневаясь, что после того как он сообщит такие потрясающие новости, Тед не осмелится требовать денег, Арчибальд молча пил одну рюмку за другой. Наконец упорное молчание Мак-Клостоу вывело кабатчика из терпения.
— Ну, сержант, по слухам, наша Иможен снова стала сама собой? — дрожащим от восторга голосом спросил он.
Мак-Клостоу допил до последней капли и, поставив рюмку на стойку, тихонько подтолкнул к Булиту. Тот снова налил виски. Арчибальд блаженно вздохнул. Теперь можно и удовлетворить всеобщее любопытство! Не зная о разговоре суперинтенданта с Ризом, он полагал, что расследование закончено.
— Вашей Иможен, мистер Булит, недолго осталось отравлять жизнь порядочным людям!
Торжественное заявление сержанта обрушилось на кабачок, как чума. Будь Мак-Клостоу поумнее, он бы заметил на лицах окружающих явное неодобрение и придержал язык, но, думая только о собственных счетах с ненавистной воительницей, сержант выложил все, что переполняло его душу:
— И давно пора! Сколько лет она не дает Каллендеру покоя! Нам и так слишком долго затыкали рот, позволяя этой ведьме убивать ближних сколько вздумается! А знаете, почему нам не давали вмешиваться, мистер Булит?
— Да потому, черт возьми, что мисс Мак-Картри ни в чем не виновата, а правосудие у нас есть, хотя некоторые его слуги напрочь не способны выполнять свои обязанности!
Слепое ожесточение помешало Арчибальду обдумать слова кабатчика.
— Нет, потому что она всегда чертовски ловко изворачивалась и умело прикидывалась невинной овечкой! Но на сей раз ей крышка! Человек, которому накануне вечером мисс Мак-Картри прилюдно угрожала расправой, застрелен из ее же револьвера!.. Ну, что скажете?
Тед пристально посмотрел Мак-Клостоу в глаза.
— Скажу, что мне противно смотреть, с каким ожесточением полицейский преследует Дочь Гор! — отчеканил он. — И еще, сержант, скажу, что Иможен Мак-Картри — гордость Каллендера и благодаря ей мы поколотили доунских «Бульдозеров»! Могу добавить, что только дураки, неудачники и завистники в нашем городе ополчились против нее!
Грубость выпада на мгновение парализовала Мак-Клостоу. Наконец, оправившись от потрясения, он встал и, приблизив к кабатчику побагровевшее от злости лицо, рявкнул:
— Сообщник! Вот кто вы такой! Я закрою ваше заведение, Тед Булит, как угрозу общественному здоровью! А ваше виски так разбавлено, что его не станет пить даже трехлетний малыш!
За спиной сержанта поднялся угрожающий ропот, и кто-то из посетителей громко проговорил:
— Это недоразумение ругает виски и еще смеет называть себя шотландцем! Да откуда, черт возьми, к нам принесло такого наглеца!
Сержант так резко обернулся, будто в ягодицу ему вонзили булавку.
— Кто это сказал? Пусть сейчас же признается, подлый трус, и я вколочу ему эти слова обратно в глотку!
— Прошу вас не устраивать скандал в моем кафе, мистер Мак-Клостоу, — холодно бросил Тед. — Иначе я позову полицию и попрошу выставить вас вон!
— Полицию? Ну вы даете! Полиция — это я и есть!
Тед широким жестом обвел зал.
— В крайнем случае присутствующие здесь джентльмены засвидетельствуют, что вы вели себя совершенно не подобающим полицейскому образом, если, конечно, он не пьян…
— Значит, по-вашему, я пьян?
— Вы уже выпили семь рюмок виски…
— Ну и что?
— Ничего, просто вы должны мне семнадцать шиллингов и девять пенсов!
Еще долго после этого все, кто сталкивался в тот день с сержантом Мак-Клостоу, ломали голову, на что он намекает, обвиняя мисс Мак-Картри в мошенничестве, и почему клянется отречься от собственного имени, если не заставит дочь капитана вернуть ему семнадцать шиллингов и девять пенсов. Томительные часы одинокого бдения ничуть не укротили ярость Арчибальда даже к вечеру, когда он поехал в Пембертон сменить на дежурстве Тайлера, — суперинтендант опасался нового убийства. Мак-Клостоу думал иначе, но очень надеялся, что мисс Мак-Картри совершит еще одно покушение. Арчибальд твердо решил не спускать с нее глаз и застукать с поличным. Для начала он устроит ненавистной врагине трепку, какой она еще не видывала за всю свою собачью жизнь, а потом за шиворот притащит в тюрьму Каллендера, где и предложит Теду Булиту навестить любимую подружку. Какое восхитительное мщение!
Эндрю Копланд вернулся в Перт. Мак-Дугал, подобно кораблю, обреченному затонуть посреди Атлантического океана без всякой надежды на помощь, проникся той удивительной суровостью, что свойственна лишь тем, кто твердо знает, как близок их смертный час. Директор нисколько не сомневался, что и он сам, и его счет в банке безвозвратно погибнут вместе с репутацией Пембертона. Уже и суперинтендант не скрывал, что не испытывает особого желания держать сына в доме, где, судя по всему, преподает один из учеников Томаса де Квинси[102]. Кроме того, кошмарное обращение мисс Мак-Картри с Элисон Кайл почти не оставляло надежды, что магнат джема и король линолеума не заберут детей из колледжа, где с ними так непростительно грубы. Стараясь смягчить удар, Мак-Дугал предупредил Джерри и Элисон, что хочет поговорить с ними после ужина.
Но у обоих молодых людей тоже было далеко не спокойно на душе. Мисс Флора Притчел проговорилась, что на собрании преподавателей их недоброжелательница мисс Мак-Картри требовала отчисления. Поэтому, когда им передали приглашение директора, ни юная Элисон, ни ее возлюбленный не сомневались ни секунды, что Мак-Дугал хочет отправить их домой. И молодые люди уныло бродили вдвоем по бесконечным коридорам Пембертона. Джерри терзала не только перспектива скорого отъезда, но и другие, столь же неприятные чувства. Поэтому молодой человек пребывал в очень скверном настроении. Наконец он остановился и скрестил на груди руки.
— Подумать только, я так хорошо все придумал на воскресенье! И угораздило же нас влипнуть в историю!
Элисон безуспешно пыталась сохранить невозмутимость.
— Вы… ведь не пойдете гулять с другой? — робко спросила она.
— Пока не знаю!
— О Джерри…
В голосе девочки звучало такое отчаяние, что юный Лим тут же обнял ее и стал утешать.
— Я тоже никуда не пойду и составлю вам компанию.
— Правда?
— Клянусь вам, но впредь постарайтесь не охать, увидев, что кто-то обнимается!
— Дайте слово, что любите меня одну, Джерри!
— Да что это с вами?
— В доме, где царит несправедливость, вполне могли украсть у меня и ваше сердце! Предупреждаю вас, Джерри, когда мы поженимся…
Но юноша перебил ее.
— Пока мы еще не женаты, darling… — с самым зловещим видом заметил он. — Если нас выставят отсюда, папочка отправит меня в Сент-Эндрюс, и можно не сомневаться, что ваши родители тут же пристроят вас под опеку тетушки, в Глазго…
— Это было бы ужасно, Джерри…
— Еще бы нет! — с чувством подтвердил молодой человек. — Потому что мы не сможем встречаться, а если я не буду вас видеть, Элисон, то со временем забуду… Разлука разобьет мне сердце, но я не смогу долго любить девушку, которую больше никогда не увижу…
— А вот я буду любить вас вечно, Джерри… Нет, никак нельзя допускать, чтобы нас выгнали отсюда!
— Теперь это от нас больше не зависит, darling…
— Очень даже зависит, если с умом взяться за дело…
— Что вы имеете в виду?
— Я готова забыть о пощечине и идти умолять мисс Мак-Картри не настаивать на отчислении.
— Вряд ли вы чего-нибудь добьетесь, Элисон…
— Ну, если меня постигнет неудача, попробуете вы!
— Неужели вы хотите заставить меня извиняться, после того как она совершенно бессовестным и неожиданным ударом подбила мне глаз, да так, что он теперь почти не открывается?
— Вам придется сделать даже больше, Джерри… Я настолько доверяю вам, что разрешаю охмурить эту Мак-Картри!
— Мне? Мне — любезничать со здоровенной старой козой? Но, Господи Боже, каким же, по-вашему, образом я мог бы заставить ее влюбиться?
— Самое время попробовать «систему» Чарли Бойера! Не вы ли хвастались, будто изучили ее до тонкостей? Ну-ка, как там? Пристальный взгляд и нежное, похожее на воркование голубя, покашливание… Или вы не особенно уверены в себе?
— О, об этом можете не беспокоиться! Но вдруг уродине взбредет в голову кинуться мне на шею?
— Не бойтесь! Я буду рядом!
— Ну да? И вы воображаете, будто я смогу обольщать другую женщину у вас на глазах?
— Я подожду вас за дверью… Ну, идемте?
— Да, но имейте в виду: что бы ни случилось, за все отвечаете вы!
Взявшись за руки, они пошли к преподавательскому коттеджу, но, прежде чем успели добраться до дома, Элисон вдруг замерла.
— Ой, Джерри, и как я раньше не подумала! Ведь работать в воскресенье велел мне О'Флинн! А его убили!
— Ну и что?
— А то, что, раз математик умер, наказание не считается! Там, где он теперь, бедняге, должно быть, все равно, пойду я гулять в воскресенье или нет, верно?
Джерри окинул девушку суровым взглядом.
— И вы посмеете ослушаться мертвого? Захотели, чтобы он являлся вам по ночам и укорял за непослушание?
— О'Флинн был ирландцем!
— Ну, уж как-нибудь шотландские привидения потеснятся и дадут ему местечко!
Констебль Сэмюель Тайлер сказал молодым людям, что Иможен сидит одна в маленькой читальне.
Шотландка нарочно ушла подальше от коллег — ей хотелось подумать. Может, разоблачения Оуэна Риза и спасли ее от следственной тюрьмы, но тем реальнее сейчас выглядела перспектива угодить в морг. А кроме того, Иможен терзали угрызения совести. Шотландка с раскаянием думала, что О'Флинна убили вместо нее, и только из-за дурацкой болтовни за ужином. И зачем понадобилось хвастаться, будто она знает убийцу Фуллертона? Но так или иначе, а теперь у мисс Мак-Картри больше не осталось никаких иллюзий: преступник и в самом деле тут, в Пембертоне, и постарается как можно скорее исправить ошибку, отправив ее следом за ирландцем. Впервые в жизни Иможен усомнилась, так ли уж она проницательна, как ей нравилось думать?
У шотландки настолько разошлись нервы, что, услышав, как открывается дверь, она подскочила в кресле и чуть не закричала. Однако, узнав Элисон Кайл, мисс Мак-Картри быстро успокоилась — желание оставаться для всех «несгибаемой Иможен» взяло верх над остальными чувствами. А девушка, ничуть не догадываясь о том, что на уме у высокой шотландки, спросила:
— Я не помешала вам, мисс?
— Чего вы от меня хотите, мисс Кайл?
— Сказать, что решила забыть о пощечине…
— Вот как?
— …и не жаловаться папе…
Иможен встала и приблизилась к девушке.
— Послушайте, мисс Кайл, вы, похоже, вообразили, будто ваш папочка чуть ли не солнце на нашем небосводе? Как дочь вы совершенно правы. Но меня торговцы джемом не интересуют ни в малейшей мере. И, честно говоря, мы, потомки вождей древних кланов Горной страны, презираем шотландцев, унизившихся до торговли. Ну а теперь говорите, чем я могу вам помочь!
Элисон, широко открыв глаза, взирала на мисс Мак-Картри. Неужели она и вправду такое чудовище? Только какая-нибудь коммунистка могла так пренебрежительно отзываться не только о знаменитом джеме, но и о самом Хэмише-Грегоре-Александре Кайле, с которым ни одно живое существо не может поддерживать простых человеческих отношений…
— Ничем, мисс… ничем… Мне очень жаль… Простите…
И девушка убежала к поджидавшему ее в коридоре юному Лиму.
— Ну как?
— Ох, Джерри!.. Теперь ваша очередь попробовать… Не хотелось бы вас обескураживать, но, по правде говоря, боюсь, у вас тоже ничего не выйдет. Она ужасна!
— Не бойтесь, Элисон, я в полной боевой готовности! Ваша Мак-Картри ни за что не устоит!
Но девушку все еще терзали сомнения.
— Вы уверены?
— Судите сами, darling!
И Джерри, отступив на шаг, окинул Элисон таким страстным взглядом, что девушка затрепетала от счастья, а услышав нежное, тихое воркование, чуть не упала в обморок. Нет, подумала она, если эта Мак-Картри не ходячий айсберг, ее это не может не взволновать, а когда женщина взволнована — легче забывает о неприятном, будь она хоть сто раз профессор! И Элисон больше не сомневалась в успехе. Она упала в объятия Джерри в ту самую минуту, когда в коридоре появился Тайлер. Полицейский с умилением хлопнул Джерри по плечу, и тот живо отпрянул от девушки.
— По-моему, тут не самое подходящее для этого место, — добродушно улыбаясь, заметил Сэмюель.
— Сейчас я вам все объясню… — пробормотала сконфуженная Элисон.
— Не стоит, мисс. Я не настолько стар, чтобы совсем забыть свою молодость…
Мисс Кайл зарделась от смущения и, чтобы не отвечать, подтолкнула Лима к двери, за которой Иможен, раздумывая о будущем, начинала горько жалеть о тихом доме в Каллендере и спокойном кабинете в Адмиралтействе. Однако появление Джерри вновь вернуло ей хладнокровие.
— Теперь вы, молодой человек, пришли уверять меня, будто нисколько не сердитесь, что я, может, и немного жестоко, напомнила вам о почтении к женщинам?
Хитрюга Лим прикинулся взволнованным.
— Мисс… я пришел поблагодарить вас…
— Поблагодарить?
— За то, что наставили меня на путь истинный…
Глядя на раскаявшегося грешника, Иможен, больше привыкшая к баталиям, слегка растерялась.
— Ну вот и хорошо… Вот и отлично… — пробормотала она. — Право же, не знаю, что еще тут можно добавить…
— И потом, на вас сейчас действуют чары…
Мисс Мак-Картри не поняла, что он имеет в виду. Поглядев на молодого человека, она заметила, что тот уставился на нее каким-то странным взглядом.
— Что?
Но Джерри, не сомневаясь в могуществе своей «системы», продолжал:
— И это еще что! Скоро вы сами убедитесь…
— А вы, случаем, не потешаетесь надо мной, молодой человек?
— Расслабьтесь… не защищайтесь… Впрочем, сопротивление все равно не поможет…
— Ничего не понимаю! Что за чушь вы несете? И вообще, я попрошу вас не смотреть на меня так, это просто нахальство!
Джерри еще больше вытаращил глаза.
— Вы растаяли… Я чувствую, что вы готовы сдаться…
— Да вы спятили, что ли?
Иможен хотела еще что-то сказать, но, услышав, что ее собеседник издал какой-то странный звук — то ли икнул, то ли захрипел, бросилась на помощь.
— Вы больны, мой мальчик? Вам плохо?
Однако «мальчик» снова издал тот же звук. Мисс Мак-Картри побежала к двери.
— Я вижу, вам и вправду очень скверно! Сейчас позову врача!
— Не стоит… — признался разочарованный Лим. — Номер не вышел…
Иможен с удивлением поглядела на него.
— Что не вышло?
— Да этот чертов вздох!
— А-а-а, так это рычание больного тигра было всего-навсего вздохом? А могу я узнать, какой в нем прок?
— Ну, чтобы очаровывать женщин…
Поняв, что собеседник не прикидывается, Иможен расхохоталась.
— Ну да? Видать, у нового поколения очень своеобразные представления об ухаживании за женщиной! Так, значит, если я правильно поняла, вы хотели меня соблазнить?
— Да.
— Отвага младенца! Это у вас от наивности! Но, знаете, малыш, от души советую вам испробовать свои таланты на ком-нибудь другом, хотя бы из уважения к возрасту…
— Ну, знаете, бывают просто замечательные бабушки!
Мисс Мак-Картри обиделась.
— Вы просто дурак! Убирайтесь отсюда!
Расстроенный неудачей и униженный явным презрением Иможен, Джерри встал на дыбы.
— Это вас мой отец уберет из колледжа!
Шотландка налетела на юного Лима, как смерч. Ухватив его за руку, она с размаху влепила ему пощечину, а потом, открыв дверь, изо всех сил швырнула в коридор, так что парень на глазах у остолбеневшей от ужаса Элисон проехал на одной ноге к противоположной стене и, врезавшись в нее, упал подле девушки. Элисон склонилась над его распростертым на полу телом.
— Джерри! О Джерри, darling! Что она с вами сделала?
Лим открыл глаза и окинул подругу разочарованным взглядом.
— Одно из двух: либо моя «система» подкачала, либо у этой женщины нет сердца…
Мойра Мак-Дугал долго колебалась, прежде чем сообщить мужу об очередном подвиге Иможен, боясь еще больше его расстроить, но директор уже впал в такое состояние, когда человек может выслушать что угодно. Узнав, что Иможен чуть не до потери сознания уходила Джерри Лима, Кейт только вздохнул.
— Порадуемся, что она его не убила!.. Сказали б вы этой женщине, Мойра, что она напрасно тратит кучу времени! Раз она явилась сюда уничтожить Пембертон, посоветуйте просто поджечь здание… Так будет гораздо быстрее!
И, к неизъяснимому ужасу Мойры, некогда блестящий выпускник кембриджского Корпуса Кристи Кейт Мак-Дугал начал смеяться как одержимый. Супруга раздумывала, как прекратить этот приступ нездорового веселья, но внезапно в коридоре послышался громкий шум. Он и вернул Кейта на землю. Директор вскочил и вылетел за дверь: Элспет Уайтлоу порадовала его новым известием — из ее лаборатории стащили пузырек с сулемой, и ее там больше чем достаточно, чтобы отравить весь колледж!
С этой минуты Пембертон, казалось, охватила волна безумия. Каждый из преподавателей внимательно смотрел, как ест или пьет другой, словно ожидая, что тот сейчас же упадет мертвым. Прежде чем сделать глоток, бокал долго обнюхивали, а еду жевали по крохам, не решаясь проглотить. Дермот Стюарт больше не отходил от Флоры Притчел ни на шаг и просил, чтобы она разрешила ему, как подопытному кролику, пробовать для нее еду и питье. Элспет Уайтлоу все время бормотала под нос, припоминая уголки, куда могла случайно положить флакон, но его так и не нашли. Гордон Бакстер поставил возле тарелки открытую бутылку молока, готовясь проглотить ее содержимое при первых же признаках рези в желудке. Испуганная Мойра вообще отказалась есть, а ее муж, наоборот, жадно глотал пищу в надежде, что яд избавит его от мучительного стыда, вот уже сутки не дававшего ему ни минуты покоя. Иможен старалась, чтобы ей накладывали еду в последнюю очередь — в отличие от других она точно знала, для кого убийца стащил сулему. Сказать, что шотландка относилась к этому спокойно, значило бы соврать, но в панику не впадала. Иможен хотела показать, что она — не чета этим жалким людям, по большей части не достойным чести родиться в Горной стране.
Но больше всех перепугался, пожалуй, констебль Тайлер. Сэмюелю не терпелось поскорее смениться с дежурства и уступить место шефу — его мучил страх, что вот-вот совершится новое преступление и вся ответственность за начало следствия ляжет на него. Поэтому, увидев Арчибальда Мак-Клостоу и его взъерошенную бороду, констебль вздохнул с неизъяснимым облегчением. Первым делом он рассказал сержанту о краже яда. Тот молча выслушал и тут же успокоил подчиненного:
— Сэм, старина, можете нисколько не волноваться! Не думаю, чтобы в моем присутствии убийца посмел продолжать свое грязное дело!
— А вдруг, шеф?..
— Да ничего не случится, уверяю вас! Преступник отлично отдает себе отчет, что я его знаю!
Тайлер в полном обалдении воззрился на сержанта.
— Вы знаете убийцу, шеф?
— Не хуже, чем вас, Сэм!
— Но кто же он такой, шеф?
— А кто же еще, Сэм, как не это жуткое создание, вечно жаждущее крови ближних?
— О, шеф! Вы все еще подозреваете мисс Иможен?
— Вот именно, Сэм! Вас она может обмануть, но меня — никогда! И я уверен, что еще до ухода в отставку увижу и услышу, как мисс Мак-Картри приговаривают по меньшей мере к пожизненной каторге!
В эту минуту Арчибальд походил на Калхаса, предрекающего грекам всевозможные беды, и даже его борода мстительно трепыхалась. На Тайлера все это произвело тягостное впечатление.
— Я ни на секунду не спущу с нее глаз, Сэм, и при первом же подозрительном поползновении наброшусь, слегка придушу (просто чтобы малость успокоить нервы), надену наручники, суну в рот кляп и заставлю выложить всю правду!
Но такую программу было куда проще изложить, чем выполнить. Когда Мак-Клостоу заглянул в столовую, Иможен уже ушла. К тому времени там оставалась лишь Флора Притчел и, разумеется, Дермот Стюарт, не отводивший от учительницы рисования влюбленного взора. Сержант очень вежливо спросил, где найти мисс Мак-Картри, на что ему довольно резко ответили, что понятия не имеют и вообще плевать хотели и на означенную особу и на все на свете. Арчибальд, которого несчастья, свалившиеся на него по милости Иможен, сделали особенно чувствительным, рассердился.
— Может, я университетов не кончал, сэр, но, когда мне задают вопрос, все-таки стараюсь отвечать полюбезнее!
Дермот, парень в глубине души совсем не злой и не грубый, немедленно подошел и пожал сержанту руку.
— Простите, но рядом с ней время для меня всегда летит слишком быстро, поэтому я начинаю воспринимать всех остальных как приставал и подозревать, что все нарочно сговорились помешать мне по-настоящему насладиться таким счастьем!
Флора издала очень приятный грудной смешок.
— Не слушайте Дермота, сержант, — пропела она, — он всегда преувеличивает!
Сержант заподозрил, что эта парочка решила поиздеваться над ним и нарочно ломает комедию. Однако полной уверенности Арчибальд не испытывал, поэтому сделать внушение не посмел и предпочел уйти из столовой. Узнав от слуги, что мисс Мак-Картри, кажется, гуляла в парке, он бросился туда.
А Иможен в это время как раз возвращалась в дом. Она устала за день и хотела поскорее лечь спать. Но, свернув в коридор, она вдруг заметила, что ручка ее двери шевелится. Шотландка быстро отскочила в тень и благодаря этому маневру увидела Оуэна Риза, выходившего из ее комнаты. Все его поведение выдавало крайнее беспокойство. Иможен, не вмешиваясь, позволила учителю английского уйти. Будь это не Оуэн Риз, а кто-нибудь другой, ему бы пришлось объяснить, что он забыл в комнате мисс Мак-Картри, но Риз ей нравился. И шотландка знала, что ужасно огорчится, если выяснится, что у него темная душа. Она в свою очередь вошла в комнату. Закрыв дверь, Иможен внимательно огляделась, пытаясь угадать, зачем приходил Риз, потом осмотрела каждую вещь, припоминая, как они лежали раньше. Тщетно. Комната выглядела точно так же, как в тот момент, когда она уходила ужинать. Смирившись с поражением, шотландка оставила бесполезные поиски, но пообещала себе утром же спросить у Оуэна, что означают его тайные вторжения на чужую территорию. Забравшись в постель, мисс Мак-Картри хотела проглотить таблетки (в последние несколько лет она принимала легкое снотворное), но графин у изголовья оказался пустым. Иможен удивилась, поскольку сама наполнила его перед ужином, но встала и пошла за другим, стоявшим на туалетном столике. Но и там было пусто. Шотландка тут же снова подумала об Оуэне Ризе. Так вот зачем он приходил? Какое ребячество! Во всяком случае, если ее хотели помучить жаждой — просчитались, так как Иможен всегда заботливо хранила в запасе бутылку виски.
Вот и теперь мисс Мак-Картри достала из чемодана бутылку «Блэк энд Уайт», улыбнулась ей, как старой подруге, и уже хотела жизнерадостно поднести горлышко к губам, но призадумалась: а что, если к виски подмешали яд? Иможен осторожно понюхала бутылку и, как ей показалось, почувствовала странный запах. Но, может, это обычная игра воображения? И тут мисс Мак-Картри внезапно поняла, зачем приходил Оуэн Риз. Угадав, что преступник попытается ее отравить, учитель английского предусмотрительно вылил воду из обоих графинов. Но о виски Риз не подозревал, в отличие от убийцы, который наверняка заметил бутылку, когда стащил револьвер. Только Элспет Уайтлоу могла быстро выяснить, отравлено виски или нет. Иможен накинула халат, сунула ноги в шлепанцы и с бутылкой в руке выскользнула в коридор. Мак-Клостоу, наблюдавший за ее дверью из укрытия, решил, что сейчас наконец поймает мисс Мак-Картри с поличным, и двинулся следом.
Мисс Уайтлоу решала задачу по физике и еще не ложилась. Не испытывая особой симпатии к героине Каллендеpa, она встретила Иможен подозрительным взглядом. Однако, узнав, в чем дело, Элспет так и затрепетала от удовольствия — ничто ее не радовало больше, чем химические опыты. Выхватив у мисс Мак-Картри бутылку, она быстро побежала в лабораторию, но на пороге столкнулась с сержантом.
— А вам-то что тут надо? Взбредет же в голову в такой поздний час стучаться к девушке! Может, вас мучают комплексы и вы надеетесь от них избавиться? Предупреждаю: я терпеть не могу бородатых! Да, потому что борода — ретроградна, негигиенична и выражает зверскую сущность! Или вы думали удовлетворить здесь самые низменные инстинкты? Впрочем, у вас поперек физиономии написано, что вы любитель клубнички… Наверняка не даете проходу маленьким девочкам, а? Противно смотреть! А теперь — убирайтесь с дороги!
Этот неожиданный душ настолько поразил сержанта, что бедняга так и замер с открытым ртом, а мисс Мак-Картри не преминула воспользоваться его молчанием.
— У вас поразительное чутье, мисс Уайтлоу, — заметила она, — этот тип в точности таков, как вы его описали. Я знаю его очень давно, и весь Каллендер не устает повторять, что, будь у сержанта хоть крупица порядочности, он бы давным-давно сам заперся в тюрьме и не высовывал носа!
И они удалились прежде, чем несчастный Арчибальд успел хотя бы шелохнуться. Наконец он очнулся, рванул за обидчицами, обогнал их и, раскинув руки крестом, преградил дорогу. Мисс Уайтлоу была не из робкого десятка.
— Убирайтесь отсюда, сержант, да поживее, — сухо бросила она, метнув на Мак-Клостоу испепеляющий взгляд. — Для вас же лучше…
— Но, послушайте, мисс…
Иможен решила подлить масла в огонь.
— Да ну же, Арчи, угомонитесь! Сейчас совсем не время играть в салочки…
И, повернувшись к спутнице, она лукаво добавила:
— Вечно он так… резвится, как малыш…
Элспет Уайтлоу продолжала буравить сержанта недоверчивым взглядом.
— Никогда еще не видала малыша с этой отвратительной штуковиной на подбородке! Ну, пойдемте скорее!
Мак-Клостоу покорно опустил руки.
— Как малыш… как малыш… — бормотал он словно заведенный.
Однако, прежде чем обе женщины исчезли в лаборатории, сержант пришел в себя и повторил прежний маневр. Мисс Уайтлоу, не привыкшая к такому упорству, остановилась.
— Эту бутылку дала вам мисс Мак-Картри, мисс! А вам известно, что внутри? — быстро спросил Арчибальд, воспользовавшись их молчанием.
— Разумеется, яд! А что, хотите попробовать?
А Иможен невозмутимо добавила:
— Раз наш Арчи так любит сулему, мы ему оставим капельку!
Это окончательно добило сержанта, и он не стал больше настаивать, сказав себе, что у преподавателей Пембертона — довольно странные причуды. То, что мисс Мак-Картри могла пить яд, не особенно удивило Арчибальда — он искренне считал ее способной на все.
Мисс Уайтлоу знала, что ищет, а потому исследование не заняло много времени. Очень скоро Элспет обнаружила в виски яд и сообщила Иможен, что даже на первый взгляд видно: там достаточно сулемы, чтобы отправить на тот свет пару быков в расцвете сил.
— Вы уже попробовали, дорогая коллега?
Мисс Мак-Картри почудилось, что химичка задала вопрос с тайной надеждой понаблюдать за ее агонией, и это ее глубоко уязвило.
— Я не знаю, что вам обо мне наговорили, мисс Уайтлоу, но, уверяю вас, я не имею обыкновения пить вместо аперитива сулему!
Иможен возвращалась к себе в комнату, внимательно оглядывая каждый поворот, каждый выступ или нишу в коридоре. Любой темный уголок внушал ей подозрения. Шотландку нисколько не удивляло, что ее пытались убить, — в конце концов, у того, кто прикончил Фуллертона и О'Флинна, в сущности, не было другого выхода. А вот странное поведение Оуэна Риза оставалось загадкой. Раз он так хорошо знал планы убийцы и, более того, точное время, когда тот попытается привести их в исполнение, следовало предположить одно из двух: либо Риз — сообщник преступника, либо ни на миг не выпускает его из поля зрения. Но как из одного, так и из другого вытекало, что, хоть учитель английского и пытается разрушить преступные замыслы, личность убийцы ему, бесспорно, известна. Тогда почему он молчит? Неужели не понимает, что это может стоить новых человеческих жизней? Какие важные причины толкают честного, порядочного и неглупого Риза на подобное безумие? Только одно может заставить умного человека совершать идиотские поступки — любовь! Это логическое заключение подвело мисс Мак-Картри к одному-единственному имени, и то она не решилась произнести его даже вполголоса — Морин Мак-Фаддн вызывала у нее слишком горячую симпатию. Иможен стало бесконечно грустно, а в утешение она вспомнила лишь, как много людей внушали ей самые нежные чувства, а на поверку оказывались стопроцентными мерзавцами. И с годами их число неуклонно росло…
Горькие размышления нисколько не мешали нашей шотландке держаться настороже, и, увидев, что впереди маячит притаившаяся в густой тени фигура сержанта Мак-Клостоу, она грустно улыбнулась. Однако Иможен не стала показывать, что заметила соглядатая, и, лишь поравнявшись с ним, негромко проговорила:
— Спокойной ночи, Арчи!
Но вместо ответа на мисс Мак-Картри набросились сзади, и чьи-то руки крепко сдавили ей горло. Шотландка попробовала крикнуть, рванулась изо всех сил, но упала, так и не сумев избавиться от мертвой хватки врата. Потом где-то в отдалении послышался топот бегущих ног, и мисс Мак-Картри потеряла сознание.
Впоследствии Гордон Бакстер уверял, будто крики, заставившие его выскочить из постели, поразительно напоминали о тех днях на отцовской ферме в графстве Нэрн, когда работники резали свинью. В свою очередь Оуэн Риз, прибежавший на место происшествия почти одновременно с учителем физкультуры, клялся, что, проживи он хоть тысячу лет, все равно не забудет этого фантастического зрелища. А увидели они, что мисс Мак-Картри лежит на спине, обеими руками вцепившись в бороду Арчибальда Мак-Клостоу и встряхивая его голову, как какая-нибудь домохозяйка — корзину с салатом. Вопли несчастного сержанта их и разбудили. Наконец с огромным трудом мужчинам удалось спасти Мак-Клостоу. Едва отдышавшись, Иможен обвинила полицейского в покушении на ее жизнь, а бедняга Арчибальд с залитым слезами лицом и насквозь промокшей бородой объяснял, как, услышав, что кто-то назвал его по имени, побежал в этот коридор и уже издали увидел две сцепившиеся в смертельной схватке фигуры. Один явно нападал, другой защищался. Сержант сразу же попробовал схватить нападавшего, но тот оказался на редкость ловким и подвижным, а мисс Мак-Картри еще больше осложнила дело: в полубеспамятстве она схватила Арчибальда за штанину и, резко дернув, опрокинула на пол, а потом принялась за бороду. Шотландку отвели в ее комнату, сержанта угостили двойным виски, но и много дней спустя после ночного сражения из этой части коридора выметали клочки бороды.
Глава VI
На следующее утро, после того как коллеги дружно выразили мисс Мак-Картри сочувствие (причем шотландка с горечью думала, что среди них наверняка был и тот, кто ночью пытался ее убить), она столкнулась с директором колледжа. Тот даже не поздоровался.
— Вы, вероятно, не знаете, мистер Мак-Дугал, что сегодня ночью меня чуть не убили? — удивленно и обиженно спросила Иможен.
— Меня не интересуют благие намерения, так и не увенчавшиеся успехом, мисс Мак-Картри!
— Насколько я понимаю, господин директор, вы жалеете, что я осталась в живых?
— Да, жалею! Тот, кто на вас напал, — бездельник и лодырь, иначе он сумел бы покончить с вами раз и навсегда! Да, мисс Мак-Картри, вы — ходячая катастрофа, и тот, кто поможет от вас избавиться, заслужит вечную признательность человечества вообще и Пембертона в частности! А на сем — позвольте откланяться!
Несмотря на весь свой апломб, Иможен немного расстроилась: выпад был и неожиданным, и несправедливым. На мгновение шотландке захотелось все бросить и вернуться в Каллендер, но почти тотчас же перед глазами мелькнуло тонкое, одухотворенное лицо Нормана Фуллертона, и мисс Мак-Картри укорила себя за недостойную слабость. Она поклялась не отказываться от борьбы, пока убийцу Фуллертона и О'Флинна не посадят под замок. И эта клятва далась Иможен с тем большим трудом, что она почти не сомневалась в виновности Морин Мак-Фаддн, обаятельной учительницы французского языка, ибо ради кого еще Оуэн Риз стал бы так рисковать?..
Констебль Тайлер мирно проспал всю ночь, а утром, усевшись на полицейский мотоцикл, поехал сменить на дежурстве своего шефа Арчибальда Мак-Клостоу. Человек недалекий и простодушный, констебль даже не заметил смущенного вида обитателей колледжа. К огромному удивлению Тайлера, его проводили на кухню, где он и обнаружил сержанта. Взгляд Арчибальда выражал смертную муку, веки покраснели, а подбородок покрывал густой слой мази.
— А-а-а… это вы, Сэм… — пробормотал сержант.
Сам не зная почему, Тайлер почувствовал, что у него сжалось сердце. Этот тусклый, смиренный голос даже отдаленно не походил на привычный рык его шефа. Даром что Мак-Клостоу втемяшилось во что бы то ни стало научить его играть в шахматы, Сэмюель всегда относился к нему по-дружески.
— Шеф… что-нибудь неладно?
В глазах Арчибальда констебль увидел целый мир несправедливых обид и незаслуженных страданий.
— Да все неладно, Сэм… Сегодня ночью я чуть не погиб, спасая человека от смертельной опасности… Это едва не стоило мне бороды…
Констебль окончательно растерялся.
— Бороды, шеф?
— Не знаю, каким чудом она выдержала такой зверский натиск… и как ее не оторвали вместе с кожей…
— Но кто же…
— КТО?
Арчибальд медленно встал и навис над констеблем, словно живое воплощение оскорбленной справедливости, обманутой добродетели и попранной чести, так что пораженный Тайлер отшатнулся.
— Кто? И вы еще смеете спрашивать, Сэмюель?
Тут констебля наконец осенило.
— Шеф! — в отчаянии завопил он. — Надеюсь, вы не хотите сказать, будто это…
— А кто же еще, Тайлер? Кто, как не эта фурия, очевидно поклявшаяся самому дьяволу отправить меня на старости лет в сумасшедший дом? Кто, если не гнусная Иможен Мак-Картри, которая вцепилась в меня, как гарпия, и не перестает терзать ни на минуту? Послушайте, Тайлер, на сей раз решено: я прикончу ее, а потом наложу на себя руки!
— Шеф, вы не имеете права…
— Не говорите мне о правах, Сэм, я уже за гранью всего этого! Не могу больше… Любому терпению есть предел… А меня одно упоминание о ней доводит до истерики…
— Но скажите, шеф, почему мисс Иможен так отвратительно с вами обошлась?
— Потому что я спасал ей жизнь!
Мак-Клостоу подробно рассказал констеблю о ночных приключениях, которые, по его мнению, погубили репутацию сержанта полиции Ее Величества и нанесли серьезный урон его
бороде.
— Кто-то из нас двоих явно спятил — либо я, либо эта женщина! — мрачно подытожил он. — И чтобы выяснить это раз и навсегда, я должен ее прикончить! Как только увижу — возьму и без всяких там предупреждений выпущу в брюхо весь магазин! Ну а уж потом послушаю объяснения!
— У вас нет оружия, шеф!
— Я прихватил с собой револьвер, Сэм.
— Но это же запрещено!
— Говорю вам, мне уже не до правил и уставов!
И, дабы показать незыблемость своего решения, Мак-Клостоу принялся тщательно разбирать и протирать револьвер. Щелкая курком, он с такой дикой радостью стиснул зубы и так блаженно улыбнулся, что, даже не кончая Оксфорда или Кембриджа, любой бы сообразил: сержант представил, как стреляет в Иможен Мак-Картри. У честного Тайлера застрял комок в горле. Эта хладнокровная подготовка к бойне и пугала, и возмущала его простую душу. Сэмюель не желал Иможен смерти, ибо для него это означало бы убийство самой юности, и не представлял, как поведет в тюрьму собственного шефа. С точки зрения констебля, это было бы ужасным кощунством. Иможен Мак-Картри спасло только то, что, когда она вошла на кухню, сержант еще не успел собрать револьвер.
— Ну, Сэм, как дела? Все в порядке? — весело спросила она. — Я счастлива вас видеть, Арчи, тем более что уже довольно давно ищу…
Легенды рассказывают, что путешественники баснословных времен, забредавшие на край света, порой встречали неких дам по фамилии Горгона, и если злая судьба сталкивала их с Медузой — самой страшной из сестер, то застывали на месте, не в силах удрать от неминуемой гибели. Но, сколько бы глубоко ни было описанное в легендах оцепенение, вряд ли оно отличалось от полного паралича, в который повергло Арчибальда Мак-Клостоу неожиданное появление Иможен Мак-Картри. А шотландка, не подозревая о чуть не разыгравшейся драме, продолжала:
— Арчи, сегодня ночью я вела себя ужасно глупо, но меня слишком крепко придушили, и я просто не узнала вас… А потом выяснилось, что я обязана вам жизнью… Теперь вы станете для меня братом… Я принимаю вас в клан Мак-Грегоров!
И в доказательство самых благородных намерений Иможен, склонившись над сержантом, нежно облобызала его в обе щеки.
— Ну и колючая у вас борода, Арчи! — кокетливо заметила она. — Кажется, будто целуешь медвежонка…
Прямое напоминание о бороде, так жестоко пострадавшей от той же мисс Мак-Картри, вернуло сержанту способность соображать. Он вскочил, довольно грубо оттолкнул Иможен и разразился истерическими воплями:
— Она меня поцеловала!.. Иможен Мак-Картри меня поцеловала!..
Потом он закружил по кухне, как больная вертячкой овца, прыгнул на один стул, с него — на другой и, распахнув дверь, выскочил прямо в парк, где до полусмерти напугал стайку девушек, разучивавших фигуры джиги. Да и как не испугаться, если перед вами внезапно вырастает какой-то огромный бородач и принимается сыпать проклятиями, каких отродясь никто не слыхал в учебном заведении, а потом галопом мчится куда-то в глубину парка?
Иможен, не веря своим глазам, так и осталась на кухне.
— Скажите честно, Сэм, неужели это мой поцелуй привел его в такое состояние? — ошарашенно спросила она Тайлера.
Констебль ткнул пальцем в разложенные на столе части револьвера.
— Вы чудом избежали смерти, мисс…
— Что? Вы хотите сказать, будто Арчи… Но почему? Что я ему сделала?
Мисс Мак-Картри не понимала, с чего вдруг столько людей возжаждали отправить ее в мир иной. Чего им надо? Ведь, в конце-то концов, Иможен добивается лишь справедливости… Мак-Клостоу, Мак-Дугал, не говоря уж об убийце, шастающем по колледжу… Шотландка не привыкла сидеть сложа руки и спокойно ждать, пока ей свернут шею, она давно знала, что лучшая защита — это нападение, а потому решила сходить к Морин Мак-Фаддн и при случае прямо сказать, что считает ее убийцей двух преподавателей и советует поскорее самой во всем признаться, если хочет хоть немного облегчить свою участь. Повторяя про себя пылкую обвинительную речь, мисс Мак-Картри постучала в дверь учительницы французского языка.
Морин сидела в кресле-качалке и читала. Узнав Иможен, она с улыбкой пригласила ее в комнату. Героине Каллендера мисс Мак-Фаддн показалась еще очаровательнее, чем обычно, но с такого рода слабостями следовало бороться.
— Прошу прощения, мисс Мак-Фаддн, я побеспокоила вас…
— Наоборот, я очень рада, что вы зашли в мою комнатенку, мисс Мак-Картри. Садитесь, пожалуйста.
Иможен подвинула себе что-то вроде пуфика и села лицом к хозяйке.
— Чем могу вам служить, мисс Мак-Картри?
— Ничем… Пожалуй, скорее я могла бы помочь вам устроить красивый финал…
— Простите, что?
— Несмотря ни на что, вы мне очень симпатичны, мисс Мак-Фаддн… и, по правде говоря, я не сержусь на вас за сегодняшнюю ночь…
— Боюсь, я плохо понимаю вас, мисс Мак-Картри…
— Прошу вас, не надо хитрить, это не поможет… Оуэн Риз вас любит, правда? Хоть с этим-то вы не станете спорить?
— Ничего подобного.
Словно налетев на невидимое препятствие, Иможен вдруг потеряла всякую уверенность в собственной правоте, и весь боевой задор улетучился.
— Однако, глядя на вас… все думают…
— И ошибаются, мисс Мак-Картри… Это я люблю Оуэна Риза. Что до него… Надеюсь, Оуэн испытывает ко мне нечто большее, чем обычная дружеская симпатия, но и то не уверена… Поверьте, мне нелегко делать такие признания, и я решилась на это только потому, что вы, по-моему, вышли на ложный след… Или я заблуждаюсь?
— Нет.
— Оуэну приятно мое общество… У нас общие вкусы и склад ума… Но для любви этого мало, не так ли? Да, конечно, время романтической влюбленности для меня давно прошло, но мне бы очень хотелось в один прекрасный день услышать от любимого человека, что он меня любит и хотел бы видеть спутницей жизни… Меж тем, если уж быть до конца откровенной, для нас этот день так и не настал…
— Почему?
Морин чуть заметно пожала плечами.
— Оуэн — человек очень скрытный. Я знаю, он был когда-то женат… и крайне неудачно. Он много настрадался… потому-то, будучи валлийцем, в конце концов переехал в Шотландию… словно бежал. Возможно, Оуэн просто боится новых брачных экспериментов? Или же просто не любит…
Иможен не отличалась особой чувствительностью, но все же угадала, что эта приятная утонченная женщина глубоко несчастна, и неожиданно для себя самой взяла ее за руки.
— Мисс Мах-Фаддн, вы и представить себе не можете, как меня обрадовала ваши слова!
— Вам приятно узнать, что меня не любят так, как вы думали?
— Да. Позвольте, я вам все объясню…
Мисс Мак-Картри рассказала Морин, как увидела Риза выходящим из ее комнаты, как она догадалась о причинах этого странного визита и как Риз, по всей видимости, вылил воду из графинов, не зная, к несчастью, о тайных запасах Иможен (касаясь этого эпизода, шотландка покраснела, ибо ей невольно пришлось признаться в слабости). Мисс Мак-Фаддн слушала молча и, лишь когда Иможен умолкла, задумчиво проговорила:
— Так вы решили, что я и есть преступница, которую вы разыскиваете? А Оуэн, зная о моих кровожадных наклонностях, ради любви ограничивался только разрушением темных замыслов?
— А иначе зачем бы ему выливать воду из графинов?
— Вы наверняка правы… Но Оуэн поступил так вовсе не из-за меня… В какой-то мере я даже сожалею об этом, ведь такая забота доказывала бы, что я ему не безразлична…
— Простите, мисс Мак-Фаддн… но не значит ли это, что мистер Риз любит другую?
— Нет… Будь это так, я бы давно догадалась, да и та женщина, несомненно, сумела бы омрачить нашу дружбу… и духовную близость, обманувшую вас. Нет, мисс Мак-Картри, никакой другой женщины тут нет…
— Тогда, значит…
— …значит, Оуэн выгораживает мужчину. Если, конечно, вы правильно истолковали его действия.
— Мужчину?
— У Оуэна культ дружбы… Например, Гордона Бакстера устроил сюда он… Кажется, когда-то давно Бакстер спас ему жизнь… Оуэн этого не забыл и, когда наш спортсмен попал в трудное положение — вроде бы он работал где-то в Гане, — предложил ему место здесь, в колледже. Насколько я знаю, мистер Мак-Дугал специально придумал эту вакансию из симпатии к Оуэну, которого хочет сделать своим преемником.
— А Гордон Бакстер способен на убийство?
— Я почти ничего о нем не знаю. Гордон удивительно замкнут и, похоже, не думает ни о чем, кроме крикета, бега и гимнастики. С чего бы ему убивать такого милого и благожелательного человека, как Фуллертон? Правда, у каждого из нас с мотивами преступления очень скверно… тем более что Фуллертон, уверяю вас, отлично ладил со всеми. Короче говоря, мисс Мак-Картри, может, вы ошиблись, решив, что убийца здесь?
— Нет, мисс Мак-Фаддн. Я не ошиблась. Фуллертона и О'Флинна, вне всяких сомнений, убил кто-то из преподавателей.
— Меня восхищает ваша убежденность. Но могу я спросить, на чем она основана?
— На том, что послужило поводом к убийству Фуллертона. Он сам говорил мне о готовящемся преступлении, еще не зная, что сам станет жертвой.
— Больше всего меня пугает, что нас совсем немного… круг ограничен и, по идее, убийцу должны бы найти очень быстро… но тем не менее… Давайте переберем всех. Мак-Дугала заподозрить трудно. Его беспокоит только репутация Пембертона. И уж коли нашему директору взбрела бы фантазия кого-нибудь прикончить, он постарался бы сделать это как можно дальше от любимого Пембертона. Может, у него и были причины сердиться на О'Флинна, но, по-моему, для Мак-Дугала процветание колледжа куда важнее, чем измены супруги… А кроме того, он, безусловно, ценил Нормана Фуллертона…
— Стало быть, оставим Кейта Мак-Дугала в покое, а заодно я бы исключила из числа подозреваемых и его супругу. Мойра, на мой взгляд, слишком глупа и не способна придумать что-нибудь оригинальное, а кроме того, она любила О'Флинн…
— Дермот Стюарт, если разговаривать с ним тет-а-тет, далеко не глуп. Это богатый молодой человек, и сюда он залетел очень ненадолго. Родители Дермота — ливерпульские Стюарты, одни из крупнейших судовладельцев Соединенного Королевства. Наш историк попал в Пембертон только потому, что поссорился с ними, заканчивая Оксфорд. Но он — единственный сын в семье… А Флора — как раз то, что нужно Стюартам: красивая, элегантная и небольшого ума, зато умеет носить платье и будет хорошо держаться на приемах. Так можно ли желать лучшего?
— Значит, по-вашему, Дермот Стюарт и Флора Притчел — тоже вне подозрений?
— А разве вы не заметили, что весь мир для них как будто перестал существовать? Эти двое любят друг друга. И, по крайней мере, он — до безумия. А Флора, как мне кажется, слишком ограниченна интеллектуально, чтобы полностью осознать эту страсть и должным образом на нее ответить. Вот она и хихикает все время от смущения. И вы думаете, эти молодые люди или хотя бы один из них пребывают в подходящем для убийства умонастроении?
— А как насчет ревности?
— Она могла бы затронуть лишь Стюарта, поскольку ни Элспет Уайтлоу, ни я не представляем для Флоры ни малейшей опасности. О'Флинн считал мисс Притчел дурой и просто не обращал на нее внимания. Да и Фуллертона наша Флора, скорее всего, только забавляла. Нет, мисс Мак-Картри, боюсь, что копать с этой стороны — дело безнадежное…
— Ладно, оставим и их тоже… Круг подозреваемых сужается.
— И сузится еще больше, потому что я бы предложила вам исключить из него и Элспет Уайтлоу — кроме пробирок и колб, ее ничто не занимает.
— Стало быть, у нас остаются Оуэн Риз, Гордон Бакстер и… вы…
— Разумеется, будь я виновна, все равно стала бы уверять, будто ни при чем, но, честно говоря, сколько ни ломаю голову, никак не соображу, какие такие причины могли бы толкнуть меня на убийство. Фуллертон был на редкость приятным коллегой. Мы очень симпатизировали друг другу, и нередко он вместе с Оуэном заходил ко мне попить чаю. Я искренне ценила тонкость и глубину ума Фуллертона. Жениться он не собирался, поскольку, как некогда знаменитый «мистер Чипс» [103], безраздельно отдавался преподаванию и обожал «академическую» атмосферу. Да, это был по-настоящему хороший человек… Что до О'Флинна, то меня всегда отталкивала его грубость, и я старалась как можно реже иметь с ним дело, но, честное слово, бедняга математик никогда не внушал мне такой ненависти, чтобы схватиться за револьвер.
— Значит, остаются только Оуэн Риз и Гордон Бакстер.
— По-моему, я неплохо изучила Оуэна… Но даже не представляю, зачем бы он мог совершить эти два убийства… Разве что Риз — сумасшедший и временами становится совершенно другим человеком, но это уже смахивает на историю доктора Джекила и мистера Хайда. К тому же мы уже третий год живем бок о бок, и я бы наверняка что-нибудь заметила.
— А Бакстер?
— Странный молодой человек… Он почти ни с кем не разговаривает. И не потому, что грубиян вроде покойного О'Флинна, а просто как бы не замечает окружающих… Бакстер оживает только на спортивной площадке или в своем зале. Мне кажется, мисс Мак-Картри, он панически боится неподвижности.
— Не понимаю, что вы…
— Движение избавляет Бакстера от необходимости думать. По-моему, у него какая-то навязчивая мысль, но я так и не смогла разобраться в этом сама, а Оуэна спросить не решилась.
— Короче говоря, Бакстер кажется вам наиболее подозрительным из всех?
— Пожалуй, хотя я опять-таки не понимаю, чем ему мог помешать Фуллертон. Об убийстве О'Флинна я не говорю, раз, судя по всему, это случайность.
Расставшись с Морин, мисс Мак-Картри твердо решила повнимательнее приглядеться к Гордону Бакстеру. Тем более что у нее были к тому и дополнительные причины. Иможен ни слова не сказала об этом мисс Мак-Фаддн, не желая влиять на ход ее мыслей, но сама хорошо запомнила, что, по признанию Арчибальда Мак-Клостоу, тот, кто покушался на ее жизнь, выскользнул из его рук только благодаря крепким мускулам и невероятной гибкости — двум качествам, обычно отличающим спортсменов. Иможен хотелось хорошенько поразмыслить в тишине, и она направилась к каменной скамье в глубине парка. Шотландка беззвучно ступала по траве и вдруг с досадой услышала негромкие голоса, доносившиеся с ее излюбленного места. Иможен сердито подумала, что, вероятно, там снова сидят неисправимые Элисон Кайл и Джерри Лим, и поклялась на сей раз проучить их по-настоящему, но потом до нее внезапно дошло, что в это время молодые люди должны слушать лекции и их отсутствие сразу бы заметили. Ночное приключение настроило мисс Мак-Картри на подозрительный лад, поэтому она тихонько подкралась к скамейке, обогнула ее и только тогда решилась кинуть любопытный взгляд из-за кустов. Иможен чуть не выругалась — на любимом месте свиданий Элисон и Джерри, взявшись за руки, сидели Флора Притчел и Дермот Стюарт. «Неужели не могли поворковать где-нибудь еще?» — негодовала шотландка. Однако, не теряя надежды, что молодые люди очень скоро уйдут, мисс Мак-Картри села прямо на землю. Ей и в голову не приходило, что это ужасная бестактность. Сначала Иможен не обращала внимания на то, что говорил Дермот Стюарт, она и литературу-то такую не любила, считая слишком пресной, и всегда отдавала предпочтение Вальтеру Скотту, но мало-помалу, поддаваясь очарованию тихого, музыкального голоса, начала прислушиваться.
— Как мне хорошо с вами, Флора…
— О, не надо…
— Вы запрещаете мне чувствовать себя счастливым?
— Нет, называть меня по имени… это слишком фамильярно.
— Простите, но именно так я обращаюсь к вам, когда вас нет рядом!
Мисс Притчел, по обыкновению, идиотски хихикнула.
— Вы что, разговариваете со мной, когда меня нет?
— И даже чаще, чем когда мы вместе, потому что тогда у меня хватает решимости высказать все, что так и переполняет мое сердце!
— Но… почему?
— Потому что я люблю вас!
— О, мистер Стюарт, вам бы не следовало…
— Что, любить вас?
— Нет… говорить об этом…
— Но если я не скажу, то как вы узнаете о моей любви, Флора?
— Замолчите, мне стыдно…
— Право же, тут нечего стыдиться, Флора! Я порядочный человек. Я люблю вас. И вы должны узнать об этом, поверить мне! Я до смерти люблю вас, и вы одна занимаете все мои мысли!
— Все время?
— Да, все время!
Дурацкий смех Флоры выводил Иможен из себя. Она никак не могла взять в толк, каким образом красивый молодой человек вроде Дермота Стюарта мог влюбиться в эту чудовищную гусыню.
— Но не на лекциях же, наверное?
— Наоборот! К примеру, рассказывая о Мессалине, о Лукреции Борджиа, Анне Болейн или Помпадур, я говорю о вас, а сам чувствую себя то Клавдием, то Александром Шестым, то Генрихом Восьмым или Людовиком Пятнадцатым, и только благодаря этому нахожу подходящие слова, чтобы описать прелесть этих навсегда исчезнувших фавориток, любимых сильными мира сего точно так же, как я люблю вас, Флора, с той разницей, что я испытываю к вам гораздо большее уважение!
Мисс Притчел в экстазе сложила руки.
— О, подумать только, меня любят четыре короля сразу!
— А на уроках географии я путешествую по всему земному шару, и, куда бы ни вела дорога, на горизонте всегда возникает ваше прелестное личико, Флора! Оно манит меня в блаженный край, к истокам реки Любовь!
Иможен показалось, что мисс Притчел больше не в силах сопротивляться. До нее донесся похожий на вздох шепот:
— Дермот…
— Флора! Неужто вы отвергнете любовь, бросившую к вашим ногам Историю и Землю?
— Нет…
— Флора!
— Дермот!
— Вы любите меня, дорогая?
— Я… я думаю, да…
— И… вы согласны стать моей женой?
— А что скажет мистер Мак-Дугал?
— Ему-то какое до этого дело?
— Мистер Мак-Дугал хочет, чтобы у него преподавали только холостяки…
— Надеюсь, вы не думаете, что миссис Стюарт останется в каком-то захолустном колледже? Ну нет, мои родители с распростертыми объятиями примут ее в своем ливерпульском особняке!
— А полюбят ли они меня, Дермот?
— Не сомневаюсь, Флора! Кто же может вас не любить? Флора… можно мне поцеловать вас?
— О, Дермот!..
Иможен почувствовала, что эта очаровательная дурочка сейчас опять примется за свои обезьяньи ужимки, и нетерпеливо вскочила на ноги.
— Да поцелуйтесь же, если он так просит! — крикнула она.
Мисс Мак-Картри появилась внезапно, как чертик из табакерки, и влюбленные невольно вскрикнули от удивления.
— Вы подслушивали? — возмутился разъяренный Дермот.
— Так заперлись бы в комнате, если хотите держать свои тайны при себе!
Предложение совершенно ошарашило несчастную мисс Притчед.
— О, неужели вы меня так презираете, мисс Мак-Картри?
— Черт возьми, вы что, действительно дура или прикидываетесь?
Флора разразилась слезами.
— Так я и знала, не следовало мне вас слушать, Дермот, — всхлипывала она. — Я поступила дурно… Мисс Мак-Картри Бог знает что обо мне подумает… О, Дермот, зачем только я согласилась пойти сюда с вами?
Вне себя от ярости, молодой человек зарычал на Иможен:
— Видите, что вы натворили? Из-за вас у Флоры теперь будет комплекс вины!
— Так отхлещите ее по щекам, это очень помогает!
— О!!! Бить Флору? Но… Неужто вы совсем чудовище?
И, схватив возлюбленную за руку, Стюарт так быстро потащил ее прочь, словно девушке и вправду грозила опасность. Наконец-то мисс Мак-Картри получила возможность устроиться с комфортом, но, вопреки первоначальным намерениям, не смогла сосредоточиться на поисках убийцы. Несмотря на все старания шотландки, в голове ее все еще звучала нежная музыка слов Дермота Стюарта, и это рождало в душе непривычную истому. Иможен думала о Дугласе Скиннере, который хотел жениться на ней, но погиб, так и не успев привести в исполнение свои матримониальные планы[104]. Потом на память мисс Мак-Картри пришел родич Розмери Элрой, Ангус Мак-Дональд. Он тоже пришел просить ее руки, но, наслушавшись неосторожных рассказов о ее героическом прошлом, в ужасе сбежал[105]. Шотландка мысленно возвращалась и к тем, кто ухаживал за ней только для того, чтобы усыпить подозрения… А теперь уже никто никогда не заговорит с ней о любви. Мисс Мак-Картри чувствовала себя приговоренной к одинокой старости в Каллендере. Невеселая перспектива… И из плоской груди Иможен вырвался вздох.
Шотландка переживала одну из тех тоскливых минут, когда одиночество кажется худшим из зол и вы готовы обрадоваться кому угодно, лишь бы избавиться от гнетущего молчания. Поэтому, подняв глаза и заметив, что к дому мирно бредет уже оправившийся от недавних волнений Мак-Клостоу, мисс Мак-Картри окликнула его почти с нежностью:
— Арчи!..
Сержант вздрогнул, словно грешник, которого внезапно похлопал по плечу и позвал Ангел Мщения с огненным мечом.
— Подойдите поближе, Арчи, я хочу с вами поговорить.
Мак-Клостоу отчаянно хотелось удрать, но Иможен подавляла его, лишала воли к сопротивлению, и сержант, как под гипнозом подойдя к скамейке, сел рядом с дочерью капитана.
— Арчи, вы не должны на меня сердиться за то, что случилось ночью… Поставьте себя на мое место… Я была в полуобмороке… А потом открываю глаза и вдруг вижу, что рядом кто-то есть… ну и ухватила вас за бороду, решив дорого продать свою жизнь…
Напоминание об этом тягостном эпизоде исторгло у сержанта легкий стон. Мисс Мак-Картри по-матерински склонилась к его плечу.
— Если хотите, мы можем стать друзьями, Арчи. Ни вы, ни я уже не первой молодости, но то-то и оно, что мы как раз достигли возраста, когда дружба предстает в своем истинном значении — как чувство, гораздо более надежное, чистое и возвышенное, чем любовь… Ну, Арчибальд Мак-Клостоу, хотите стать моим другом?
Сержант, не веря собственным ушам, слушал удивительный монолог мисс Мак-Картри и в конце концов пришел к выводу, что Иможен, отбросив всякое целомудрие, нахально намекает, будто женитьба — самый почетный выход из положения для них обоих. Как истинный шотландец, он тут же заподозрил амазонку, что ее интересует не столько он, Арчибальд Мак-Клостоу, сколько его будущая пенсия. Неужто рыжая ведьма хочет наложить лапу и на нее? Сержант содрогнулся от негодования.
— Хотите заграбастать мою пенсию, а? — грубо спросил он.
Иможен так погрузилась в нежно-голубую меланхолию, что смысл вопроса не сразу дошел до ее сознания. И Мак-Клостоу пришлось объяснять. Только тут шотландка оценила всю гнусность предположений сержанта.
— Арчи… И вам не стыдно?
— Это вы постыдились бы вот так бросаться на шею мужчине! И, если хотите знать мое мнение, мисс Мак-Картри, вы ведете себя неприлично!
— Видит Бог, Мак-Клостоу, я изо всех сил старалась исправить все недоразумения, но вы будто нарочно то и дело усложняете положение! Ну, теперь берегитесь!
И тут сержант совершенно озверел. Вспомнив прежние несчастья и предвидя то, что эта проклятая стерва еще заставит его пережить, Мак-Клостоу потерял голову. Он бросился на Иможен, схватил ее за плечи и принялся трясти как грушу. Мисс Мак-Картри онемела от возмущения. Наконец, когда она уже собиралась дать достойный отпор бессовестному нападению представителя полиции Ее Величества ни на в чем не повинную гражданку Соединенного Королевства, совсем рядом послышался спокойный голос:
— Ну, сержант, что на вас нашло? Ничего не скажешь, хорошенькое поведение для полицейского! Вы что же, пытаетесь оказать физическое давление на свидетеля?
Арчибальд Мак-Клостоу взирал на мисс Мак-Картри и неизвестно откуда взявшегося суперинтенданта с таким ошарашенным видом, будто в него неожиданно угодила молния. Не в силах издать ни звука, он лишь конвульсивно открывал и закрывал рот. Эндрю Копланд с любопытством смотрел на подчиненного.
— Ну, Мак-Клостоу, что означают эти странные упражнения? Приказываю вам отвечать!
Но парализованный страхом и стыдом Арчибальд мог выдавить из себя лишь какое-то бессвязное бормотание. Выглядело это весьма непочтительно. Суперинтендант едва не вышел из себя, но шотландка, решив, что судьба предоставила ей возможность одержать окончательную победу над всегдашним противником, вмешалась в разговор:
— Простите его, суперинтендант… Арчи очень смущен… Сегодня в его жизни произошло великое событие…
— Правда?
Сержант повернулся к ненавистной врагине, пытаясь сообразить, какую пакость она опять задумала.
— Когда вы так неожиданно появились, суперинтендант, Арчи со свойственным ему пылом умолял меня выйти за него замуж. И я счастлива, что теперь могу в вашем присутствии ответить согласием. Это еще больше скрепит наш союз, суперинтендант.
— О, мисс, позвольте мне искренне поздравить будущую миссис Мак-Клостоу!
Эндрю Копланд долго жал руку Иможен, потом по-медвежьи сдавил пальцы совершенно оцепеневшего Арчибальда.
— Я очень рад за вас, мой мальчик! Не сомневаюсь, что будущая Иможен Мак-Клостоу станет для вас превосходной супругой!
Только теперь до сержанта как будто дошло, о чем ему толкуют. И, к огромному удивлению свидетелей этой сцены, подскочив на месте, Арчибальд громко завопил:
— Иможен Мак-Клостоу!.. Иможен МАК… КЛОС… ТОУ! Ха-ха-ха!
Все тело сержанта сотрясал безумный, истерический смех, и суперинтендант даже испугался за его рассудок. Позже он уверял, что, хотя семь лет подряд выезжал в Танганьику охотиться на крупных зверей, ни разу не слышал воплей, по силе звука и свирепости хоть отдаленно сравнимых с ревом бешеного слона, мычанием гиппопотама и рыком голодного льва, прозвучавшими одновременно в диком крике Мак-Клостоу, сержанта полиции Ее Величества, прежде чем тот, прижав локти к туловищу, бросился бежать куда-то вслепую. Столь мало соответствующее уставу поведение глубоко поразило суперинтенданта. В душе его бушевала лавина самых разнообразных чувств. Непочтительность подчиненного пугала и озадачивала, начальственный гнев требовал выхода, не говоря уж о том, что как джентльмен Эндрю Копланд не мог смириться с такой невероятной грубостью. К счастью, Иможен, очень довольная очередным триумфом и полным смятением давнего врага, попыталась уладить его отношения с начальством.
— Арчи немного переутомился в последнее время… Попытайтесь его понять…
Но суперинтендант Эндрю Копланд, при всем желании, понять не мог. Как, впрочем, и барышни, чей танец Мак-Клостоу уже нарушил сегодня. Только они успокоились и снова собрались в круг, намереваясь изучать какую-то особенно сложную фигуру, как вдруг, откуда ни возьмись, опять вылетел этот странный полицейский и все испортил. С тех пор многие барышни (все они происходили из приличных семей и никогда не имели дела с полицией) сохранили смутные опасения и подспудную уверенность, что полицейские — очень необычные существа.
Наконец суперинтендант ушел искать сержанта и констебля, и мисс Мак-Картри могла вернуться к своим мечтам. Вокруг скамейки снова царили тишина и покой. Иможен немного мучили угрызения совести за то, что, пожалуй, она сыграла с Мак-Клостоу слишком злую шутку, но мало-помалу шотландка убедила себя, что Арчи давно заслуживал хорошего урока и впредь, возможно, поостережется приставать к ней, как только в окрестностях происходит что-то из ряда вон выходящее. Кроме того, мисс Мак-Картри твердо решила показать сержанту, как должен работать полицейский, во всяком случае, умный. А Мак-Клостоу умом явно не отличался. И шотландка представляла, как посрамит его, разоблачив убийцу Нормана Фуллертона и Патрика О'Флинна. Да, именно она передаст карающей деснице правосудия того, кто пытался прикончить Иможен Мак-Картри! С ее точки зрения, проблема теперь значительно упростилась. Исключив из числа подозреваемых Элспет Уайтлоу, Дермота Стюарта, Флору Притчел, Морин Мак-Фаддн и обоих Мак-Дугалов, она могла выбирать лишь между Оуэном Ризом и Гордоном Бакстером. Объяснения Морин, разумеется, можно было бы принять в расчет, но мисс Мак-Картри с огорчением отмечала всю их неубедительность. Нет, как ни грустно, а странные поступки Риза больше похожи на сообщничество, чем на самопожертвование ради дружбы.
Об этом и размышляла Иможен, когда мимо нее трусцой пробежал Гордон Бакстер в спортивном костюме. Чувствовалось, что молодой человек занят исключительно отработкой дыхания и игры мышц. Похоже, для него все трудности на свете разрешались каким-нибудь спортивным подвигом — лазаньем по канату, бегом по пересеченной местности или боксом. Просто и ясно. Но действительно ли Гордон Бакстер так примитивен? Может, это только маска, скрывающая преступную сущность? О том, чтобы преследовать спортсмена, не могло быть и речи, поэтому шотландка так и осталась сидеть на скамейке, обдумывая все те же вопросы и с раздражением убеждаясь, что никак не находит ответа, во всяком случае, пока. Зато, увидев в конце аллеи фигуру Оуэна Риза, мисс Мак-Картри побежала прятаться за живую изгородь. Валлиец казался озабоченным. Каждые два-три шага он настороженно озирался, словно боясь, что за ним следят. Сердце Иможен забилось от предчувствия, что она приближается к развязке. С грустью подумав о Морин Мак-Фаддн, которой теперь придется признать, что ее любимый — совсем не тот человек, каким ей казался, шотландка крадучись двинулась следом за Оуэном Ризом.
Иможен сразу поняла, что преподаватель английского языка направляется к старым, заброшенным конюшням, давно уже служившим кладовой. Древний охотничий инстинкт возбуждал шотландку. Не отрывая горящих глаз от спины Риза, она тихо шла следом и вновь ощущала лихорадочную атмосферу прежних приключений. По мнению мисс Мак-Картри, Оуэн Риз хотел тайком поговорить с Гордоном Бакстером. Разгоряченное воображение подсказывало, что учитель физкультуры шантажист, заставляющий беднягу валлийца участвовать в своих преступлениях. Иможен настолько погрузилась в драматические размышления и так сосредоточенно смотрела на спину Риза, что не слышала шагов у себя за спиной. Лишь когда под чьей-то ногой обломилась ветка, мисс Мак-Картри почуяла неладное, но было уже поздно. Прежде чем она успела обернуться, на голову обрушился удар. Густая шевелюра несколько смягчила его, но перед глазами все поплыло. Падая, она подумала, что Гордон Бакстер, обежав круг, напал на нее сзади. Иможен вытянулась на траве, и ее горло тут же сдавили сильные руки.
Увидев стайку испуганных девушек, темпераментно обсуждавших странную манеру сержанта Мак-Клостоу то и дело мешать их хореографическим упражнениям, констебль Тайлер встревожился, тем более что никак не мог разыскать ни шефа, ни Иможен Мак-Картри. Добряк Сэмюель с ужасом думал, как бы они снова не сцепились, и побежал разыскивать обоих так быстро, как только позволяло ему достоинство (Сэм искренне полагал, что полицейский всегда должен выглядеть внушительно). В конце концов он разыскал Арчибальда Мак-Клостоу в укромном уголке парка, противоположном тому, где Иможен выслеживала Оуэна Риза. Сержант с самым решительным видом делал петлю на конце веревки, привязанной к толстой ветке у него над головой.
— Шеф!
Мак-Клостоу окинул подчиненного отрешенным от земных треволнений взглядом человека, твердо решившего умереть.
— Уйдите, Тайлер…
— Не раньше, чем выясню, что вы задумали!
— А что, разве и так не видно?
— Так вы… и впрямь хотите… повеситься, шеф? — с ужасом пролепетал Сэмюель.
— Вот именно!
— Но… почему?
Сержант издал долгий стон, странно не вязавшийся ни с могучей фигурой, ни со свирепой физиономией этого здоровенного бородача, потом пошатнулся и, вне себя от отчаяния, уткнулся Сэмюелю в плечо.
— Я больше не могу, Сэм… Проклятая Мак-Картри сказала суперинтенданту, что я просил ее руки и она согласна! Слышите, Сэм? Она согласна! И суперинтендант меня поздравил! Мало того, даже назвал ее «будущей Иможен Мак-Клостоу»!.. А, каково, Сэм?! Иможен Мак-Клостоу! Нет, лучше умереть!
— Шеф…
— Замолчите, Тайлер, и уходите отсюда! Это приказ! Не мешайте мне раз и навсегда покончить с существованием, которое гнусная ведьма превратила в ад!
— Вы это окончательно решили, шеф?
— Да, и бесповоротно!
— И ничто не заставит вас передумать?
— Ничто! Я вернусь в Каллендер только мертвым!
— В таком случае…
Констебль подтянулся и безукоризненно четко отдал честь.
— Слушаюсь, шеф!
И на глазах у слегка опешившего Арчибальда Мак-Клостоу констебль Тайлер, как и полагалось по уставу, начал разворачиваться, однако на самом деле он лишь хорошенько размахнулся и что было сил стукнул сержанта в челюсть. Арчибальд рухнул как подкошенный, и Сэм взвалил его на плечи. В ту же секунду примерно в сотне метров оттуда упала Иможен.
Открыв глаза, Арчибальд Мак-Клостоу с ужасом узрел лежавшую на кровати Иможен Мак-Картри. Сначала он ничего не понял, но потом вдруг с ужасом почувствовал, что тоже лежит. И Арчи вообразил, будто его уже женили.
— Тайлер! — в дикой панике заорал он.
Констебль немедленно вошел в комнату.
— Тайлер… что она тут делает? И вообще, где это мы?
— В больнице колледжа… На жизнь мисс Мак-Картри опять покушались… очень сильно ударили по голове.
— Она умрет?
Вопрос явно прозвучал с надеждой, и Сэм рассердился.
— О нет! Всего-навсего легкое сотрясение, как и у вас. Потому-то обоих и принесли сюда отлежаться…
— Ясно… Но, скажите, Тайлер, кто и каким образом напал на меня?
Констебль глубоко вздохнул — ему наверняка предстояло пережить несколько очень тяжелых минут. Добряк уже хотел было признаться, как, нарушив все правила иерархии, поднял руку на шефа и тем самым спас ему жизнь, но тут Иможен Мак-Картри открыла еще затуманенные глаза и, смутно различая силуэты двух мужчин в полицейской форме, выдохнула:
— Хелло, Арчи!
Сержант встал, и оба полицейских подошли к постели мисс Мак-Картри. Она улыбнулась.
— Так я не умерла?
— Увы, нет!..
И, повернувшись на каблуках, Мак-Клостоу вышел из комнаты. Иможен не стала метать громы и молнии.
— Бедняжка Арчи начисто лишен чувства юмора, — лишь заметила она. — Вы уже знаете, как я его разыграла, Сэм?
— Нехорошо это, мисс Иможен… Честное слово, вы сведете сержанта с ума! И часу не прошло, как он пытался покончить с собой, и мне пришлось стукнуть собственного шефа, иначе он повесился бы в парке на суку! Нет, мисс, положа руку на сердце, не могу сказать, что вы по-честному поступили с сержантом Мак-Клостоу!
— Да ну, Сэм, не стоит плакать! Обещаю вам оставить Арчи в покое, как только он сам прекратит ко мне цепляться! А теперь объясните лучше, каким чудом я осталась в живых. Последнее, что я помню, — это железная хватка на горле…
— Я пока точно не знаю, что произошло, мисс. Верзила валлиец — ну, знаете, учитель английского? — принес вас сюда на руках, сказав, что нашел возле старых конюшен.
Естественно, Оуэн Риз не станет выдавать своего друга Гордона Бакстера, даже после того как тот чуть не придушил Иможен! Ну и пусть! Преступника это не спасет. Шотландка все равно уже не сомневалась в виновности учителя физкультуры, а Риз, вероятно, против воли подчинялся определенным требованиям убийцы. Мысль о том, что скоро она разоблачит Бакстера, придала амазонке новых сил.
— Сэм… Принесите мне капельку виски… Я чувствую, что только это поставит меня на ноги.
— Но, мисс Иможен, здесь же колледж, а не бар!
— Ба! Я не сомневаюсь, что в шотландском доме виски непременно найдется. Вам надо просто хорошенько поискать, пока я ловлю убийцу! Или вы хотите взвалить всю работу на меня одну, Сэмюель?
За ленчем все поздравляли раскрасневшуюся и повеселевшую Иможен (Сэм раздобыл-таки бутылку вески) с тем, что ей уже дважды удалось избежать смерти. Эндрю Копланд долго пытался выяснить у мисс Мак-Картри, кто на нее напал, но так и не достиг цели, более того, в конце концов героиня Каллендера заявила, что обойдется без его помощи, чем глубоко уязвила самолюбие суперинтенданта. В отместку за унижение он без обиняков выложил Мак-Клостоу все, что думает о нем самом и о его манере вести расследование, печальные результаты чего уже налицо. После такой выволочки всякий раз, как сержанту случалось поглядеть на ненавистную шотландку, в глазах его вспыхивал мрачный огонь. Мак-Дугалы даже не спускались в столовую, и, по слухам, с тех пор как суперинтендант объявил о намерении поскорее забрать своего единственного отпрыска из Пембертона, Кейт слег, а Мойра, неотлучно наблюдая за мужем, все время мерила ему температуру. Короче, над колледжем сгущались грозовые облака. Эндрю Копланд вернулся в Перт, предварительно поклявшись, что, если сержант Мак-Клостоу не позвонит ему сегодня же вечером и не сообщит об аресте убийцы, он, суперинтендант, лишит его звания и отправит патрулировать улицы, поскольку, к великому стыду всей шотландской полиции, Копланду придется звать на помощь Скотленд-Ярд, а все — из-за скандальной бездарности Арчибальда Мак-Клостоу!
Физиономия констебля Тайлера вытянулась на добрый локоть — он отлично знал, что в конечном счете начальственный гнев обрушится на него. Мак-Дугалы обдумывали двойное самоубийство как единственный шанс не увидеть окончательного крушения Пембертона. Элспет Уайтлоу впервые в жизни как будто заметила, что мир не ограничивается ее лабораторией. Флора Притчел, по-видимому не вполне понимая происходящее, все же ощущала гнет всеобщей подозрительности, воцарившейся в колледже, и время от времени испуганно вскрикивала. Но если Дермота Стюарта это умиляло, остальные выходили из себя. Гордон Бакстер, похоже, ни на что не обращал внимания и лишь поигрывал мускулами незаметно для других. Иможен восхищалась таким самообладанием и думала, что оно может обмануть кого угодно, но не ее. Оуэн Риз, явно не в своей тарелке, время от времени искоса поглядывал на мисс Мак-Картри. Иможен делала вид, будто ничего не замечает, но наслаждалась смятением сообщника, очевидно готового «расколоться».
Морин Мак-Фаддн смотрела лишь на Оуэна Риза. Она тоже чувствовала его беспокойство и с ужасом ждала развязки. И только одна мисс Мак-Картри среди всех этих людей, откровенно мечтавших оказаться подальше от Пембертона, сохраняла полную безмятежность и более чем солидный аппетит. Тайлер, время от времени заглядывая в столовую, смотрел на нее с восхищением. Какая женщина! И констебль сочувственно думал об Арчибальде Мак-Клостоу. Конечно, у сержанта нет никаких шансов выстоять против Иможен. А несчастный, поруганный и избитый Арчибальд, забившись в тихий уголок парка, мучительно пытался понять хоть что-нибудь не только в убийстве Фуллертона и О'Флинна, а заодно и в покушениях на мисс Мак-Картри, но и, главным образом, в своих собственных несчастьях. Тщетно.
После ленча Иможен решила немного передохнуть и поднялась к себе в комнату. Удар по голове обернулся ужасной мигренью. Но едва Иможен закрыла глаза, кто-то тихонько поскребся в дверь. Шотландка тут же вскочила. Не задумал ли убийца новое покушение? Мисс Мак-Картри, прихватив револьвер, подошла к двери.
— Кто там? — почти прошептала она.
— Мисс Мак-Фаддн…
Иможен сразу распахнула дверь, и Морин скользнула в комнату. Судя по красным, распухшим векам, молодая женщина недавно плакала.
— Простите, что побеспокоила вас, но… мне страшно…
Мисс Мак-Картри тщательно заперла за гостьей, положила револьвер рядом с собой и указала Морин на кресло.
— Вы узнали что-нибудь новое?
— Ко мне только что заходил Оуэн Риз…
— И что же?
— Вы не ошиблись, мисс Мак-Картри, Оуэн знает виновного. Он признался, что не может его выдать… не имеет права… из-за прошлого…
— Значит, Гордона Бакстера он прямо не назвал, но косвенно снова указал на него?
— Я тоже так думаю.
— Мистер Риз знал, что вы мне все расскажете?
— Да. В определенном смысле это он и послал меня к вам.
— Зачем?
— Предупредить, что заглянет сюда, когда все соберутся в столовой пить чай. Оуэн сказал мне, что хочет представить на ваш суд все свои сомнения, и уверен, что вы его поймете.
— Каковы бы ни были моральные обязательства мистера Оуэна Риза, пусть не рассчитывает, будто я тоже стану покрывать преступника, после того как уже две смерти ясно показали, сколь чудовищную ошибку он совершил из-за своей щепетильности!
— А еще Оуэн признался, что сегодня же поговорит с человеком, виновным во всех этих ужасах, и пригрозит публичным разоблачением, если тот немедленно не уедет из колледжа.
— Это лишь иной способ назвать преступника…
— По-моему, Оуэн не прочь обезвредить убийцу, но сам не может выдать его полиции. Честно говоря, мисс Мак-Картри, мне трудно простить Оуэну такую преданность прошлому. Пусть даже он и в самом деле обязан Бакстеру жизнью, но, право же, это не повод разрешать ему безнаказанно убивать других!
Иможен задумалась.
— Простите, если я причиняю вам боль, мисс Мак-Фаддн, но как вы объясните то, что благодарность Гордону Бакстеру мешает Оуэну Ризу признаться вам в любви?
— Не знаю… Возможно, в конце концов он просто меня не любит и я приняла за действительность мечты, которые в тот или иной момент появляются у любой женщины…
Элисон Кайл и Джерри Лим решили, что, пожалуй, осторожности ради лучше предупредить удар и самим пожаловаться родителям, а не ждать, пока их с позором выставят из колледжа. Поэтому оба позвонили домой и сказали, что здесь с ними обращаются невыносимо грубо. Отцы отреагировали на сообщение совершенно по-разному. Мистер Лим, внимательно выслушав повесть о злоключениях сына, заметил:
— Джерри, эта женщина подбила вам глаз за то, что вы непочтительно разговаривали с ней…
— Клянусь вам, отец…
— Помолчите, Джерри, а то мне придется самому приехать в Пембертон и довершить то, что начала ваша мисс Мак-Картри! Впрочем, все мои симпатии — на стороне этой решительной женщины! Вы прекрасно знаете, Джерри, что я всегда считал вас негодным бездельником. Ради вашей матери я долго позволял вам терять время в колледжах, но лишь до тех пор, пока эта шутка мне не надоест. И теперь, если вас вышвырнут из Пембертона, я сразу же отправлю вас грузчиком к себе на завод. По крайней мере научитесь зарабатывать на кусок хлеба, и у вас появятся мускулы! А насчет преступлений — оставьте все эти глупости для своей маменьки (она так наивна, что, пожалуй, поверит вам), а меня попрошу оставить в покое. В отличие от вас мне нужно работать!
И Джерри Лим в самом подавленном настроении поплелся к себе в комнату, решив, что конвейерное производство линолеума ужасно иссушает родительские сердца.
Зато отец Эдисон считал дочь восьмым чудом света и, помимо отцовской любви, перенес на девочку
всю нежность, так и не нашедшую воплощения в супружестве из-за отвратительного характера миссис Кайл (он искренне считал, что сможет вновь полюбить свою лучшую половину, только когда она навеки упокоится на кладбище в Данди). Поэтому, когда король джема Хэмиш-Грегор-Александр Кайл услышал, что его милое дитя, его бесценную жемчужину, гордость всего рода Кайлов и утеху его старости побили, у него тут же закипела кровь.
— Элисон, если это мужчина, я его поколочу, а если женщина — добьюсь, чтобы ее выставили вон! Я еду!
Приехав в Пембертон, Хэмиш-Грегор-Александр Кайл поднял страшный шум и потребовал, чтобы его немедленно принял директор. Кайл намеревался устроить этому типу такую встряску, что тот навсегда запомнит, как надо обращаться с его дочкой, а пока Мак-Дугал готовился к встрече, магнат вышел в парк и с гордым видом начал прогуливаться по аллее. Там он и столкнулся с сержантом Мак-Клостоу. Кайл мог ожидать, что встретит в колледже кого угодно, но только не полицейского в форме, поэтому от удивления остановился как вкопанный.
— Что вам здесь понадобилось, сержант?
Но Арчибальд сейчас был совсем не в настроении терпеть какую бы то ни было фамильярность.
— А вам? — сердито буркнул он.
Хэмиш-Грегор-Александр Кайл так привык, что в Данди все, включая полицейских, при виде его почтительно кланяются, что сразу взбеленился.
— Нет, послушайте, может, все-таки смените тон?
— А вы?
— Это уж слишком! Я покажу вам, с кем вы так дерзко разговариваете, мой мальчик!
— И поторопитесь! Не то я живо составлю протокол и вам придется отвечать за оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей! Ну, выкладывайте: имя, фамилия, род занятий!
Кайл хмыкнул. Как этот грубиян побледнеет, узнав, с кем имеет дело!
— Хэмиш-Грегор-Александр Кайл, — старательно отчеканивая каждый слог, представился он. — Владелец заводов джема в Данди! Ну, мой мальчик, это вам о чем-нибудь говорит?
— Ни о чем.
У Кайла началось весьма неприятное головокружение. Неужто этот полицейский никогда не слыхал о всемирно известном джеме?
— Знайте, мой мальчик, я зарабатываю по меньшей мере пятьдесят тысяч фунтов в год, ежеутренне поставляя изысканное лакомство к завтраку миллионов цивилизованных людей!
— А я и семидесяти фунтов не получаю, хотя приходится рисковать собственной шкурой ради людей вроде вас!
Кайл высокомерно улыбнулся:
— Ну, сейчас-то мне вряд ли угрожает опасность…
— Ошибаетесь, мистер Кайл. Смерть так и бродит по колледжу!
— Что вы болтаете?
— Ну, если, по-вашему, два убийства и два покушения — недостаточный повод для беспокойства, то я молчу.
— З-здесь? — заикаясь от волнения, спросил король джема.
— Вот именно.
Хэмиш-Грегор-Александр Кайл представил себе крошку Элисон с перерезанным горлом или изрешеченную пулями.
— Где директор этой проклятой лавочки? — зарычал он.
— Уж наверное не в парке!
Но Кайл уже не слушал. С невероятной для себя прытью он мчался в кабинет директора.
Мойра с массой предосторожностей разбудила супруга, и тот постарался ради богатейшего из своих клиентов одеться как можно элегантнее. Зная, что Элисон звонила отцу, он готовился принести от всего Пембертона глубокие извинения за то, что с дочерью джемного магната обошлись без должного пиетета. Но едва Мак-Дугал успел опуститься в кресло, дверь распахнулась и перед ним предстал запыхавшийся Кайл. Перекошенная физиономия Хэмиша-Грегора-Александра выглядела настолько необычно, что директор даже забыл поздороваться, а когда наконец попытался загладить неловкость, отец Элисон заткнул ему рот:
— Кейт Мак-Дугал! Вы просто негодяй!
Разговор начинался очень скверно, тем более что такая грубость в устах богатого джентльмена вроде Кайла выглядела довольно странно. Но директор лишь смиренно вздохнул. Ему, бесспорно, предстояло пережить очень неприятные минуты, тем более что ни о каких объяснениях речи вообще идти не могло, ибо Кайл сразу расставил все точки над «i».
— Уж не воображаете ли вы, часом, будто я плачу около тысячи фунтов в год за то, чтобы мою дочь оскорбляли, били, а возможно, и прикончили кровожадные убийцы, которые завелись в вашем колледже? Ну, я вас спрашиваю, что у вас тут: учебное заведение или разбойничий вертеп?
— Послушайте, мистер Кайл, я…
— Нет, ничего не желаю слушать! Позовите мою дочь! Я забираю ее домой, и сейчас же! А вы не только не получите денег за этот триместр, но еще и мои поверенные возбудят уголовное дело, и вас будут судить, как мошенника! Я разорю вас, разорю вчистую, Мак-Дугал! Ясно?
С этой минуты уже ничто не трогало директора Пембертона. Он приказал вызвать Элисон Кайл в кабинет, где ее ждет отец, а сам вернулся в спальню и снова лег. А Элисон в это время разговаривала с Джерри. Узнав, что Хэмиш-Грегор-Александр здесь, девушка поспешила успокоить возлюбленного — она знала, что отец выполнит любые ее желания, — и обещала скоро вернуться с головой Иможен Мак-Картри на блюде.
Кайл обнял дочь с такой нежностью, будто она только что спаслась от величайшей катастрофы. Девушка слегка удивилась, но не показала виду.
— Немедленно собирайтесь, Элисон! Мы уезжаем!
— Как, я бросаю колледж?
— По-вашему, это колледж? Смех, да и только! Но хватит болтать! Бегите за вещами, Элисон!
— Папа, я никуда не поеду, пока вы не разберетесь с этой Мак-Картри! Она дала мне пощечину!
— Верно! Пусть ее немедленно вызовут сюда да предупредят, что с ней хочет поговорить «джем» Кайл!
По мнению Иможен, стрелки часов совсем обленились — уж очень ей не терпелось поскорее выслушать признания Оуэна Риза. Когда в дверь постучали, она подумала, что это учитель английского, но в комнату заглянула всего-навсего Элисон.
— Папа здесь! — торжествующе бросила она прямо с порога.
— Ну и что?
— Он хочет вас видеть!
Смех мисс Мак-Картри напоминал ржание боевого коня.
— Ах, он хочет? Ну что ж, зато я не хочу!
— Не забывайте, что папа делает знаменитый кайловский джем!
— Настаивать бесполезно — у меня уже есть свои поставщики!
— Постав… О!
Когда Хэмиш-Грегор-Александр Кайл узнал, что нахалка Мак-Картри считает его каким-то жалким коммивояжером, только и мечтающим, как бы всучить покупателю хоть немного товара, он мигом позабыл все правила хорошего тона, какие любой джентльмен выполняет чисто автоматически, и вместе с дочерью ринулся прямиком в комнату Иможен. Магнат влетел туда, как таран в ворота неприятельской крепости. Шотландка настолько не ожидала такого стремительного нападения, что на секунду дрогнула. Кайл воспользовался ее удивленным молчанием.
— Значит, вы и есть мисс Мак-Картри, о которой так много говорят… даже слишком много?
— А вы, надо думать, торговец джемом?
— Торговец дже… О! Я Кайл из Данди!
— И что, у вас в Данди не учат, что нельзя входить к людям без спросу?
— Речь не о том! Вы позволили себе ударить по щеке мою дочь!
— И готова проделать то же самое с ее папашей, если он сейчас же не уберется отсюда!
— Со мной?! И вы посмеете ударить меня?.. Меня-я?!
Элисон, смутно чувствуя, что, столкнувшись с неожиданным сопротивлением, ее отец несколько растерялся, решила поддержать в нем воинственный пыл.
— Не поддавайтесь, daddy!
Хэмиш-Грегор-Александр Кайл сразу пришел в себя.
— Поддаваться? Вы шутите, Элисон? Тот, в чьих жилах течет благородная кровь Мак-Леодов, никогда не уступит какой-то…
— …праправнучке Мак-Грегоров, мистер Кайл! И для меня все Мак-Леоды — просто дерьмо!
В эту минуту столкнулись не оскорбленный отец, решивший отомстить за обиду нежно любимой наследницы, и не старая дева, отстаивающая право на неприкосновенность жилища, нет, из глуби веков вдруг вернулась и обрела прежнюю силу древняя клановая вражда. И снова, как некогда, среди пустошей с клаймором[106] в руке лицом к лицу встретились Мак-Грегоры и Мак-Леоды. Кайл тут же бросился в атаку:
— Мне бы следовало сразу догадаться, что вы в родстве с этими трусишками, которые всегда нападали только на слабых!
— Ваша дочка — не слабая, а слегка придурковата, что, впрочем, меня нимало не удивляет, поскольку у Мак-Леодов испокон веков было плохо с головой!
Все это, разумеется, не имело под собой ни малейших оснований, но, коль скоро ни Иможен, ни Кайл лезть в драку не хотели, оставалось лишь обмениваться обидными словами. По правде говоря, смысл уже не имел особого значения, важнее всего было с блеском ответить.
Кайл, привыкший слушать свары рабочих завода, несомненно, обладал гораздо более выразительным словарем, чем его противница, и мисс Мак-Картри почувствовала, что ей грозит поражение. И, в полной уверенности, что затронута не только ее собственная честь, но и репутация сотен почивших Мак-Грегоров, Иможен без колебаний швырнула в физиономию Кайла стакан с водой, который держала в руках, когда он вошел. А пока Хэмиш-Грегор-Александр, внезапно получивший душ, испуганно протирал глаза, героиня Каллендера перешла в наступление. Элисон с громкими воплями кинулась помогать отцу, но, получив вторую пощечину, отлетела в другой конец комнаты и толкнула туалетный столик. Столик перевернулся и придавил девушке ноги, а стоявший на нем горшок с цветами упал ей в объятия.
Сначала все подумали о землетрясении, потом о новом покушении и наконец пришли к выводу, что загнанный в ловушку убийца яростно отбивается от полицейских. Опасаясь какого-нибудь нового несчастья, преподаватели во главе с Кейтом Мак-Дугалом побежали на шум. В свою очередь, Мак-Клостоу и Тайлер спешили к месту, из которого доносились отзвуки сражения. При виде полицейских директор колледжа резко затормозил, и те, кто бежал сзади, стали наступать друг другу на ноги. Если ни сержант, ни констебль не дерутся с убийцей, то кто же поднял такой тарарам? Сообразив, что комната мисс Мак-Картри совсем рядом, бедняга Мак-Дугал почувствовал, что по его позвоночнику пробежал холодок. Теперь он ждал чего угодно!
Но только не поразительного и страшного зрелища, представшего его глазам, когда Мак-Клостоу открыл дверь. Хэмиш-Грегор-Александр Кайл лежал на полу, а Иможен Мак-Картри, усевшись на него верхом, добросовестно молотила кулаками.
— Признайтесь, что ни один Мак-Леод и в подметки не годится Мак-Грегорам, или я вас уничтожу! — приговаривала она.
Кейт Мак-Дугал без чувств грянул навзничь. Никто сначала даже не заметил, что в уголке тихонько плачет зажатая столиком Элисон. А потом все долго ломали голову, каким образом у нее в руках оказался горшок с цветами. Но, не желая еще больше расстраивать девушку, никто так и не стал ее об этом спрашивать. Впрочем, она все равно вряд ли сумела бы ответить вразумительно. А мисс Мак-Картри, воспользовавшись всеобщим замешательством, сжала шею Кайла тощими костистыми пальцами.
— Поторопитесь, мистер Кайл, или я отправлю вас следом за вашими проклятыми Мак-Леодами!
Хэмиш-Грегор-Александр Кайл почувствовал, что близится его смертный час.
— Со… гласен… М… Мак-Леод не… не стоит Ма… Мама… Мак-Грегора… — прохрипел он.
В тот же миг Мак-Клостоу и Тайлер отодрали от врага торжествующую амазонку.
— Ну, все слыхали? Мак-Леод снова опозорился перед Мак-Грегорами! — в полном упоении воскликнула она.
Полицейские унесли из ее комнаты мистера Кайла.
Джерри поджидал Элисон там, где она назначила ему свидание, — у старых конюшен. Будучи довольно далеко от главного здания колледжа, он не слышал шума и ничего не знал о новом скандале, потрясшем Пембертон. Как только в конце аллеи появилась фигурка возлюбленной, молодой человек побежал навстречу, но, заметив, что девушка опять плакала, резко затормозил.
— Что случилось, darling? — спросил он, уже предчувствуя катастрофу.
— Она опять дала мне пощечину!
Новая грубость мисс Мак-Картри окончательно выбила юного Лима из колеи. Все это превосходило его понимание, поэтому несчастный молодой человек лишь машинально открыл объятия и прижал плачущую Элисон к груди.
— Но послушайте, дорогая, надеюсь, ваш отец не мог позволить так жестоко обращаться с вами?
— Мой отец?
И она рассказала о сокрушительном поражении «джема» Кайла, а заодно и всех Мак-Леодов, нанесенном девой-воительницей из Каллендера. Джерри не верил своим ушам.
— Но ваш отец добьется ее увольнения, правда?
— Когда я в последний раз видела их обоих, — с горечью призналась Элисон, — папа жалел, что он не вдовец и из-за этого не может жениться на мисс Мак-Картри, ибо она лучше любого мужчины сумела бы держать в руках весь персонал! А потом сказал мне, что, если я еще раз попробую противиться воле мисс Мак-Картри, он пошлет меня в пансион к англичанам!
Как перипетии сражения, так и скромное торжество общепризнанной победы не помешали Иможен думать о свидании с Оуэном Ризом. Наконец-то она узнает имя убийцы, и перспектива нового триумфа, после того как она посрамила ненавистное племя Мак-Леодов, заранее опьяняло шотландку. Попив чаю, ибо мистер Кайл, прежде чем вернуться домой, в Данди, непременно хотел разделить с ней «кекс дружбы» и «джем примирения» (разумеется, его собственного производства), Иможен поднялась к себе в комнату и стала поджидать учителя английского.
Около семи часов вечера мисс Мак-Картри начала подумывать, уж не посмеялись ли над ней Морин Мак-Фаддн, Оуэн Риз и Гордон Бакстер, как вдруг в глубине коридора послышались чьи-то шаги. Сама не зная почему, Иможен сразу подумала, что валлиец идет на обещанное свидание. Мисс Мак-Картри подошла к двери, решив открыть ее заблаговременно, чтобы посетитель мог проскользнуть понезаметнее, но не успела повернуть ручку, как раздался приглушенный крик и почти сразу же — шум падающего тела. Мисс Мак-Картри, не раздумывая, выбежала из комнаты и увидела, что в глубине коридора исчезает неясный силуэт, а на полу, совсем рядом, скорчился какой-то человек. Подбежав, шотландка узнала Оуэна Риза. Из раны под мышкой текла кровь, а рядом лежало орудие преступления — длинный тонкий кинжал, уже оборвавший жизнь Нормана Фуллертона. Не думая об опасности, Иможен подняла нож, и почти сразу насмешливый голос спросил:
— По-моему, на сей раз, мисс Мак-Картри, вам будет очень трудно доказать свою невиновность, а?
Вернувшись к реальности, Иможен увидела перед собой четыре ноги. Шотландка вскинула глаза и узрела суровые лица Арчибальда Мак-Клостоу и Сэмюеля Тайлера.
Глава VII
Узнав об аресте Иможен Мак-Картри, Кейт Мак-Дугал вновь обрел вкус к жизни. Он выскочил из постели, где всего несколько минут назад призывал смерть, ибо только она могла бы избавить его от бесчестья, и торопливо оделся, собираясь в полной мере насладиться отмщением, на которое даже надеяться не смел. В то же время суперинтендант Эндрю Копланд, поговорив по телефону с Мак-Клостоу, торопливо покинул кабинет и помчался из Перта в Пембертон. Но предварительно он строго наказал сержанту не предпринимать самостоятельно никаких шагов, поскольку, до тех пор пока все не прояснится окончательно, отказывается верить в виновность Иможен Мак-Картри. Уверения Арчибальда, будто он поймал преступницу с поличным, остались втуне.
Все собрались в гостиной — едва приехав в колледж, суперинтендант решил устроить там что-то вроде заседания следственного суда. Копланд попросил созвать преподавателей и предупредить директора с женой. Наконец, когда все они расселись по местам, он отправил Тайлера за Иможен, запертой в больничной палате под надзором Мак-Клостоу. Она вошла с гордо поднятой головой, и, не будь Морин Мак-Фаддн так озабочена судьбой Оуэна Риза, наверняка с улыбкой подумала бы, что воинственная шотландка ни за что не сдастся без боя. Для начала суперинтендант напомнил о двух убийствах, заметив, что оба преступления противоречат версии о виновности мисс Мак-Картри. Сержант попытался было возражать, но его в самых резких выражениях призвали к порядку. Укротив Мак-Клостоу, Копланд продолжал:
— Сержант, а вместе с ним и констебль Тайлер заявили, будто обнаружили мисс Мак-Картри на месте пре… Вы хотите что-то сказать, Тайлер?
Съежившись под грозным взглядом шефа и не смея глядеть ему в глаза, констебль уточнил:
— Простите, господин суперинтендант, но я должен объяснить, что мы не видели, как мисс Мак-Картри наносила удар. Она просто сидела на корточках рядом с раненым и держала в руке кинжал, которым, если верить врачу, чуть не убили мистера Риза…
— Это верно, сержант?
Арчибальд недовольно заворчал, но Копланд принял эти странные звуки за знак согласия.
— Я с огорчением вынужден отметить, сержант, что, по-видимому, вы испытываете к мисс Мак-Картри особую враждебность, поэтому впредь ваши показания придется тщательно взвешивать. Скажите, констебль, вы не обратили внимания, каким образом мисс Мак-Картри держала кинжал?
— Да, конечно, сэр.
— Сложилось ли у вас ощущение, что мисс Мак-Картри держит его так, будто только что нанесла удар и собирается ударить снова?
— Безусловно нет, господин суперинтендант. Скорее, так разглядывают необычную вещь…
— Спасибо, Сэм! — громко сказала Иможен. — Вы, по крайней мере, честный человек! Не то что этот ублюдок, родившийся где-то на границе Шотландии!
— Вы слышали? — взвыл сержант, обращаясь к Копланду.
— Кажется, я еще не оглох! А вы что, узнали себя в этом описании?
Все засмеялись, и Мак-Клостоу позволил себе намекнуть, что чудовищную ведьму, должно быть, поддерживают очень высокие «шишки», коли ей позволяется безнаказанно убивать кого ни попадя. Суперинтендант пришел в бешенство:
— Выйдите отсюда, сержант! Встаньте у двери с той стороны и не выпускайте никого из этой комнаты, пусть даже силой, пока я не разрешу всем присутствующим разойтись!
Мак-Клостоу вышел.
— Смерть Нормана Фуллертона с логической точки зрения невозможно приписать мисс Мак-Картри, поскольку они познакомились всего за полчаса до трагедии, а, при всей горячности нашей воительницы, я не думаю, чтобы она истребляла ближних просто развлечения ради!..
Иможен с благодарностью улыбнулась суперинтенданту и заговорщически подмигнула.
— Кроме того, по-видимому, О'Флинна застрелили по недоразумению. Эту версию подтверждают два последовавших за этим покушения на мисс Мак-Картри. Следовательно, и, я полагаю, вы согласитесь со мной, леди и джентльмены, что если все указывает на невиновность мисс Мак-Картри, то у нас есть серьезные основания считать, что убийца принадлежит к числу преподавателей Пембертона и находится сейчас в этой комнате.
Слова суперинтенданта вызвали сильное волнение, и даже Кейт Мак-Дугал, несколько утративший интерес к происходящему после того как угадал, что его мучительница снова выйдет сухой из воды, вздрогнул.
— К счастью, мистер Риз пострадал не так сильно, как нам сначала показалось… Я думаю, он обязан жизнью мисс Мак-Картри, чье появление спугнуло убийцу. Мисс, не могли бы вы нам его описать?
— Нет… Все произошло так быстро… И я в основном смотрела на Оуэна Риза.
— А кто-нибудь знает, куда направлялся Риз, когда на него напали? — вмешался директор колледжа.
— Ко мне!
Все взгляды тут же обратились к Иможен, но она и не подумала смутиться.
— Он шел с какой-нибудь определенной целью? — спросил суперинтендант. — Я хочу сказать: имеет ли это отношение к нашему расследованию?
— Насколько я понимаю, Оуэн Риз хотел извиниться передо мной за тогдашнее нападение в парке.
— Извиниться? То есть получается, это он на вас напал?
— Нет, просто знал, кто это сделал.
— Вы уверены?
— Вполне!
— Тогда, как только мистеру Ризу станет лучше, мы попросим его назвать нам имя виновного.
— Он ничего не скажет!
— Но почему?
— Потому что мистер Риз воображает, будто связан с ним долгом чести! Я же свободна от подобных обязательств и не вижу причин скрывать от вас, что убийца Нормана Фуллертона и Патрика О'Флинна, а также тот, кто дважды пытался отправить меня в мир иной и ранил Оуэна Риза, — это он!
И, словно само воплощение правосудия, Иможен торжественно указала на Гордона Бакстера. На несколько секунд воцарилась тишина, потом все разом закричали. Учитель физкультуры, казалось, не сразу понял, в чем дело, а когда до него наконец дошло, что его обвиняют во множестве разнообразных преступлений, вскочил и кинулся к мисс Мак-Картри. Дермот Стюарт попытался его остановить, но получил короткий прямой удар в переносицу, и нос несчастного тут же превратился в фонтан. Флора Притчел едва не упала в обморок. Мисс Мак-Фаддн помогла ей довести Дермота до дивана и уложить. Учительница рисования опустилась на колени возле Стюарта и, вытирая окровавленный нос, умоляла не умирать. Эти двое полностью утратили интерес к сражению. Благодаря ловкой подножке Сэмюелю Тайлеру наконец удалось повалить Бакстера, и тогда уж они с суперинтендантом вдвоем надели на парня наручники. Покончив с этой операцией, Копланд спросил учителя физкультуры:
— А теперь, мой мальчик, может, вы нам дадите кое-какие объяснения?
— Вы просто рехнулись! А эта рыжая дылда — больше всех остальных!
— Не думаю, Бакстер, что вам поможет такая глупая система самозащиты!
— Мне нечего защищаться, потому что я ни в чем не виновен!
— Он действительно не виновен, господин суперинтендант!
Все повернулись к двери. На пороге стоял мертвенно-бледный Оуэн Риз. Морин бросилась к нему.
— Оуэн, какая неосторожность!
— Я слишком долго молчал, Морин… и теперь обязан говорить. Констебль, вы можете снять наручники с бедняги Бакстера. Он провинился не больше, чем новорожденный ягненок.
Суперинтендант заколебался, но от Риза исходила такая уверенность, держался он так спокойно и властно, что Копланд кивком приказал Тайлеру освободить спортсмена. А Иможен начала опасаться, что ошиблась.
Оуэн Риз опустился в кресло.
— Несколько лет назад, — начал он, — одного преподавателя, до тех пор жившего исключительно для науки, потрясла нежданная встреча. В мюзик-холле того города, где он преподавал, учитель познакомился с неземным существом — танцовщицей-акробаткой — и по уши влюбился. В те времена на него возлагали большие надежды, молодая особа об этом узнала и, хотя страстно любила только деньги, согласилась выйти замуж. Таким образом она обрела очень скромное положение, но зато избавилась от социального круга, где ей не особенно нравилось, тем более что барышня получила прекрасное образование и в мюзик-холл попала случайно — просто потому, что считала учительский заработок нищенским. Эту сколь эрудированную, столь и бессердечную танцовщицу звали Фанни Песлер… Очень скоро она убедилась, что муж никогда не обеспечит ей желанную роскошь… Но Фанни так безумно жаждала денег, что потихоньку начала мошенничать. Дальше — больше, пока однажды не случилось то, что и следовало ожидать: ее посадили в тюрьму. Мужу пришлось уехать из того города, махнуть рукой на карьеру и перебраться в один отдаленный колледж, где никто не слышал о его печальной истории. А Фанни, освободившись через четыре года, решила, что надежнее всего скроет ее позор столь презираемая прежде работа учителя… Она изменила имя, ухитрилась подделать бумаги, и, по иронии судьбы, вышло так, что через несколько лет, когда Фанни уже почти стукнуло тридцать (хотя выглядела она гораздо моложе), она осела в колледже, где работал ее бывший муж.
Оуэн Риз на минуту прервался и выпил воды.
— К тому времени муж получил развод, но ему и в голову не пришло мстить женщине, испортившей ему жизнь и карьеру. Он просто решил не обращать на Фанни внимания. Так все и шло до тех пор, пока он не понял, что Фанни замышляет новый обман. Жертвой этого классического жульничества она избрала богатого и наивного молодого человека. Фанни собиралась выйти за него замуж, обобрать до нитки и сбежать. Бывший муж пригрозил разоблачением, и Фанни поклялась убить его, если посмеет выполнить угрозу. Этот отвратительный разговор случайно услышал Норман Фуллертон. Испугавшись, что он все расскажет, Фанни совершили первое убийство. Когда мисс Мак-Картри сказала, что знает от Фуллертона имя убийцы, Фанни еще больше перепугалась и решила разделаться с опасным свидетелем. Ссора мисс Мак-Картри с О'Флинном давала ей возможность свалить вину на другого. Как вы верно угадали, господин суперинтендант, О'Флинна Фанни застрелила случайно, перепутав его в темноте с мисс Мак-Картри. Об раза покушалась на жизнь нашей новой коллеги тоже Фанни. Тогда, в парке, мисс Мак-Картри думала, будто я иду на встречу с Бакстером, а на самом деле я собирался объявить бывшей мисс Песлер, что больше не намерен молчать. Зная, что я хочу объяснить все мисс Мак-Картри, Фанни напала на меня в коридоре…
Никто из присутствующих, напряженно ловивших каждое слово, не обратил внимания, как кто-то из них незаметно выскользнул из комнаты. Но почти тотчас же послышался крик, все повернулись к двери и увидели сержанта Мак-Клостоу с Флорой Притчел на руках. Арчибальд испуганно таращил глаза.
— Должно быть, я стукнул слишком сильно…
И, поглядев на Иможен, он, словно извиняясь, добавил:
— Я думал, это вы!
— Ладно уж, все равно спасибо!
Дермота Стюарта попросили освободить диван, чтобы уложить туда потерявшую сознание Флору. Молодой человек застонал и принялся грозить Мак-Клостоу всевозможными административными карами, но Оуэн Риз сухо оборвал поток проклятий:
— Да замолчите же, Стюарт, и попытайтесь вести себя как мужчина!
Удивленный неожиданным выпадом, Дермот огрызнулся:
— Не вам меня учить, Риз! Продолжайте лучше рассказывать байки, они меня не интересуют!
— Ошибаетесь, это — до тех пор, пока вы не знаете, что тот преподаватель — я сам, а Фанни Песлер, танцовщица, влюбленная только в деньги, теперь зовется Флорой Притчел!
Поднялся невообразимый шум. Дермот Стюарт пронзительно выкрикивал что-то невразумительное, совершенно преобразившаяся мисс Притчел осыпала Оуэна Риза руганью, суперинтендант Копланд приказывал Мак-Клостоу и Тайлеру надеть наручники на изящные запястья Фанни-Флоры. А раздосадованная Иможен думала, что опять угодила впросак и рискует очень сильно попортить себе репутацию. Однако как только Флору-Фанни увели, Оуэн Риз повернулся к шотландке.
— Ваша хитрость, мисс Мак-Картри, была крайне неосторожным, но зато ловким ходом… Указав на Гордона Бакстера, который, как я надеюсь, простит вам несколько неприятных минут, вы усыпили бдительность Фанни. По-моему, вы блестяще выполнили свою задачу и сумели достойно отомстить за Нормана Фуллертона.
Иможен так никогда и не узнала, смеялся над ней Оуэн Риз или нет. Во всяком случае, героиня Каллендера без всяких угрызений совести приняла поздравления суперинтенданта и недавних коллег. Даже Кейт Мак-Дугал почел своим долгом извиниться за то, что питал к шотландке такую враждебность, и сделал это тем охотнее, что знал о поразительных переменах в поведении Хэмиша-Грегора-Александра Кайла. И когда Питер Конвей приехал за мисс Мак-Картри, все в Пембертоне жалели о ее отъезде.
Конвей по собственному почину затормозил возле «Гордого Горца». Тед Булит и Уильям Мак-Грю поджидали Иможен на пороге. Шотландка не заставила себя упрашивать и тут же вошла в бар. Друзья встретили ее овацией. Как только Тед налил всем виски и произнес тост за здоровье мисс Мак-Картри, красы и славы Горной страны, амазонку стали просить рассказать, каким образом ей удалось разоблачить убийцу Нормана Фуллертона и Патрика О'Флинна. Приличия ради Иможен немного поупрямилась, но очень быстро уступила уговорам.
— С самого начала, то есть когда я приехала в Пембертон, эта молодая женщина показалась мне подозрительной…
А дальше добрых два часа мисс Мак-Картри вдохновенно лгала, но никто не усомнился в правдивости ее слов, и в первую очередь — сама Иможен.
За рассказом последовало множество тостов во славу мисс Мак-Картри, благодаря которой Каллендер стал самым знаменитым городком Шотландии, за дружбу Теда Булита и Уильяма Мак-Грю, за посрамление врагов Иможен, за добрую старую родину. Потом перешли к более высоким материям: пили за несчастную королеву Марию Стюарт и за избавление от англичан. Иможен, явно утратив чувство реальности, предложила назначить комиссию и потребовать от Елизаветы Второй признать независимость Шотландии, в противном же случае объявить войну. Мисс Мак-Картри привела в пример Роберта Брюса и заметила, что надо бы создать новый гимн, который призывал бы к отмщению и воспламенял кровь всех добрых шотландцев. Однако дальше первой ноты дело не пошло, ибо виски напрочь парализовало голосовые связки присутствующих. В это время мимо «Гордого Горца» проходил преподобный Хекверсон. Услышав шум, он очень удивился и решил сурово одернуть слишком буйных пьяниц. Но при виде Иможен Мак-Картри весь его энтузиазм куда-то исчез. А рыжая воительница указала на Хекверсона как на один из столпов английского гнета, и священнику пришлось поспешно ретироваться, да и то он лишь чудом спасся от беды — какой-то нечестивец размахнулся, и бокал виски угодил в дверь прямо над головой бедняги пастора.
Сержант Мак-Клостоу собирался идти спать, когда в участок неожиданно влетел его земляк, преподобный Хекверсон. Вытаращенные глаза пастора метали молнии.
— Во имя Того, кто властвует как на земле, так и на небе, я призываю вас, Арчибальд Мак-Клостоу, воспользоваться данными вам полномочиями и прогнать бесстыдную суку!
Сержант косо поглядел на земляка.
— Вам что, нехорошо, преподобный?
— Арчибальд, она сидит на столе! Она пьяна! И заправляет целым хором пьяниц! А когда я попытался их пристыдить, меня высмеяли, осыпали оскорблениями, и мне пришлось бежать от ужасных угроз!
— Это еще что за новости, преподобный?
— Да говорю же вам: я видел ее, бессовестную!
— Клянусь Сатаной и всеми его потрохами, не понимаю, о ком вы толкуете!
— Об Иможен Мак-Картри, которая устраивает настоящий шабаш в «Гордом Горце» у Теда Булита!
— Ах, об Иможен Мак-Картри, да?
— О ком же еще?
Мак-Клостоу медленно встал, подошел к пастору и почти ласково попросил:
— Убирайтесь отсюда!
Вконец ошарашенный Хекверсон не верил своим ушам.
— А? Что? И вы смеете…
— Говорю же вам: убирайтесь, пока у меня не лопнуло терпение!
— Но, Арчибальд…
— Первого, кто еще раз произнесет имя этой проклятой твари в моем присутствии, я удавлю собственными руками! Ясно?
— Не может быть, Арчи, чтобы вы настолько утратили почтение к…
— Слушайте, преподобный, я все потерял, так что в подробности входить не стоит. До сих пор я твердо верил, что законы существуют для всех. Так вот, я ошибался: Иможен Мак-Картри выше закона!
— Но послушайте, Мак-Клостоу…
— Выше закона, преподобный! Ей можно убивать, вдребезги разнести колледж, испортить карьеру такому человеку, как я, — и она будет права, всегда права! Мисс Мак-Картри дебоширит в «Гордом Горце», хотя по правилам его следовало закрыть час назад? Ну и что? Часы закрытия питейных заведений уже никого не волнуют, если Иможен Мак-Картри вздумалось их отменить! Хочет петь всю ночь — пожалуйста, имеет полное право! Если я узнаю, что мисс Мак-Картри нагишом прогуливается по Каллендеру, то посажу в тюрьму не ее, а тех, кто посмеет возмущаться! А захочет поджечь полицейский участок — сам принесу спички! Завтра же собираю чемоданы, оставляю ключи Тайлеру и еду добровольно сдаваться в пертский дурдом — лучше уж я сам туда явлюсь, чем меня привезут в смирительной рубашке!
Опьяненная аплодисментами, поздравлениями и неумеренными возлияниями виски, Иможен вернулась домой около одиннадцати вечера. Миссис Элрой встретила хозяйку суровым, неодобрительным взглядом.
— П-п… вет, Роз… мери…
— И вы так поздно возвращаетесь домой, мисс Иможен? Подумать только, больше трех часов просидели в «Гордом Горце»!
— Н-не м-может б-быть!
Миссис Элрой подошла поближе и с подозрением принюхалась.
— Клянусь Святым Милосердием Спасителя, вы пили виски!
— О… а… а… оу…
— Что это значит, вы лаете, мисс Иможен?
— О… ч… чуть-ч… чуть…
— Мисс Иможен, вы пьяны!
— Я?! Н-ни-ког-да в ж-жизни!
Потрясенная миссис Элрой умоляюще сложила руки.
— Господь Всемогущий, я как будто снова слышу вашего отца!
Мисс Мак-Картри издала самый настоящий воинственный клич, и Розмери Элрой на всякий случай отскочила поближе к двери, готовя быстрое отступление — она хорошо помнила, что с пьяных глаз покойный капитан иногда бывал опасен.
— Daddy!.. Дуглас!.. Роберт!..
Мисс Мак-Картри во всю силу легких выкликала своих домашних богов — отца, навеки сгинувшего жениха и непревзойденного борца за свободу Шотландии.
— Daddy!.. Дуглас!.. Роберт!.. Миссис Элрой, я должна рассказать им, что снова, к великой славе Горной страны, я боролась с преступностью и разоблачила убийцу!
Изображения героев стояли наверху, в спальне, и мисс Мак-Картри ринулась к лестнице — так последние сторонники «доброго принца Чарли», увидев, что их дело обречено, налетели на войска Кемберленда в последней, отчаянной попытке прорваться. Первые шесть ступенек она с лету перескочила, о девятую споткнулась, на двенадцатой поскользнулась, пятнадцатую не нашла и тут же съехала вниз на животе. К ужасу миссис Элрой, платье Иможен задралось до подмышек. Очутившись на полу, мисс Мак-Картри замерла и больше не двигалась, так что старая служанка сочла ее мертвой.
Иможен спала.
НУ И НАЛОМАЛИ ВЫ ДРОВ, ИНСПЕКТОР

Посвящается Пьеру Буало и Тома
Нарсежаку, великим знатокам глубин человеческой души.
Ш.Э.
Главные действующие лица
Ларри Гендерсон — торговый представитель.
Джойс Гендерсон — его жена, учительница в Уотфорде.
Ричард Болтон — суперинтендант Скотленд-Ярда.
Джанет Болтон — его жена.
Кристофер Мортлок — инспектор Скотленд-Ярда.
Глэдис Джилмон — соседка Гендерсонов.
Бенни — ее сын.
Сержант Бредли из полицейского участка Уотфорда.
Мелвин Дэвис — владелец ресторана «Роуг'с Мач» в Сохо.
Барбара Коукбэн — его невеста.
Перри Сэдлер — служащий Дэвиса.
Свэн Лейк — служащий Дэвиса.
Джордж Фиппс — служащий Дэвиса.
Глава I
Никому из коллег по Скотленд-Ярду не пришло бы в голову назвать инспектора Кристофера Мортлока весельчаком. За десять лет службы в полиции Кристофер не обрел ни одного друга, ему так и не довелось встретить человека, способного вынести его хмурый вид, ничего не выражающую физиономию и замкнутый характер. Всем, кто пробовал завязать с Мортлоком какие-либо отношения, помимо служебных, пришлось оставить бесплодные попытки. Когда лет пять назад инспектор женился, на свадьбу пришел только его шеф, старший инспектор Ричард Болтон. Другие лишь жалели новобрачную Сьюзан, теряясь в догадках, что ее могло пленить в такой заурядной личности, как Крис. Этот последний не обладал ничем, что могло бы привлечь взгляд или задержать внимание. Для повседневной работы полицейского это превосходное качество, но куда менее ценное, когда хочешь понравиться взбалмошной девушке вроде Сьюзан. В конце концов случилось то, чего и следовало ожидать: прожив два года с Крисом и окончательно утратив надежду, что тот добьется успеха, молодая женщина оставила его.
Несомненно, она воображала, будто инспектор Скотленд-Ярда — супермен вроде тех частных детективов, героев популярных кинофильмов, которые проводят время либо в шикарных авто, либо в модных ресторанах. Однако довольно быстро до Сьюзан дошло: ее муж — обыкновенный британский чиновник, каких много, и она с досадой призналась себе, что с тем же успехом могла выйти замуж за почтового служащего или клерка министерства. В конечном счете Сьюзан выложила это Крису и тут же заявила, что собирается подать на развод.
Обдумывая ответ, Мортлок заперся у себя в спальне и долго изучал собственное отражение в зеркале. Среднего роста, он никоим образом не напоминал киноактера, а скорее походил на типичного англичанина — их тысячи можно встретить на улице в часы пик. Крис носил мягкую шляпу, а не котелок, но и от этого не выглядел романтичнее. Короче, самый обычный мужчина — заурядное лицо, полное отсутствие хотя бы редкостной физической силы. Даже развлечений Крис не любил и всегда мечтал о семейном очаге, где бы за ним ухаживали, а преданная жена подарила бы крепких парнишек, которые затем стали бы хорошими полицейскими. Было совершенно очевидно, что эта роль — не для Сьюзан, и муж предоставил ей свободу. Очень немногие из коллег Мортлока знали о его маленькой домашней драме, да и тех, кто знал, она не слишком интересовала; некоторые зубоскалили, говоря, мол, ничего удивительного: какой нормальный человек может ужиться с инспектором Крисом Мортлоком? Только старший инспектор Ричард Болтон на следующий день после объявления о разводе вызвал подчиненного и впервые назвал его по имени.
— Кристофер, хочу сказать вам одно: в подобной ошибке нет никакого бесчестья. Не повезло раз — повезет в другой. Я намного старше и считаю вас одним из своих лучших инспекторов, а потому позволю себе посоветовать вам не предаваться бесполезным сожалениям. Немало славных девушек не останутся к вам равнодушны и с удовольствием выйдут замуж за порядочного парня… Говорю вам это, чтобы вы знали о моих дружеских чувствах. Джанет, моя жена, очень обрадуется, если в субботу вы придете к нам ужинать.
Когда Крис Мортлок ушел от Болтонов, искренне, хотя и неловко поблагодарив за прекрасный вечер, проведенный в их компании, Джанет Болтон честно высказала мужу свое мнение о госте:
— Либо этот парень круглый дурак, либо набит комплексами!
Раскуривая последнюю за вечер трубку, Ричард возразил:
— Мортлок далеко не глуп, дорогая… Просто он удивительно цельная натура. Крис способен служить лишь одной страсти, одной идее… Можно позавидовать той, кого он полюбит, если любовь окажется взаимной… И жаль того, кого он возненавидит… Под внешней невозмутимостью таится личность, способная на необыкновенные поступки, если Мортлок действительно уверует в то, за что возьмется.
Миссис Болтон питала поистине слепое доверие к суждениям супруга, а посему твердо решила отнестись к Кристоферу с большим уважением и участием. В тот момент она даже вспомнила двух-трех незамужних приятельниц по колледжу. Если представится случай… Джанет обожала соединять людей. Что до комплексов инспектора, то с ними справиться нетрудно.
Со временем Мортлок подружился с Болтонами. Общаясь с ними, он постепенно избавился от привычной замкнутости и за два года совершенно переменился. Следуя советам Джанет, Крис с большим вниманием относился к своей внешности и, совсем позабыв о неудаче со Сьюзан, начал подумывать о новом браке. Этим жена его шефа обещала заняться сама. Коллеги по Скотленд-Ярду тоже стали лучше относиться к Крису. Назначение Болтона суперинтендантом они отпраздновали втроем, устроив роскошный обед в ресторане. За десертом Ричард сообщил Мортлоку, что тот скоро унаследует его пост старшего инспектора. Для этого от Криса ждут лишь успешного завершения какого-либо дела.
Как-то апрельским днем Скотленд-Ярд взбудоражило отвратительное происшествие, одно из тех, что доводят общественность до белого каления, и жажда увидеть, как виновный понесет суровую кару, становится единодушной. В предместье Харрогит водитель, очевидно пьяный, сбил женщину с ребенком, и местная полиция, потоптавшись на месте, призвала на помощь Скотленд-Ярд.
Решив дать помощнику возможность блеснуть, Болтон направил туда Мортлока в сопровождении сержанта Хелда. Но расследование не принесло ничего, кроме разочарования. Никто ничего не видел. Мистер Шап, муж жертвы, пребывал в своего рода столбняке, из которого вопросы полицейских так и не смогли его вывести. Он был бухгалтером на местном заводе и, задержавшись на работе, лишь случайно не пошел с женой к друзьям, где они собирались отпраздновать год со дня рождения малышки Эми, погибшей вместе с матерью. Только около одиннадцати вечера соседи, сами узнав о трагедии от какого-то автомобилиста, отправились на поиски мистера Шапа, чтобы как можно осторожнее сообщить ему страшную весть. Водителя-доброхота полиция тоже расспросила о происшествии. Но парень сказал лишь, что, не окажись на дороге коляски, он мог бы, не заметив, проехать по телам матери и ребенка. Осмотрели машину этого человека, но никаких подозрительных вмятин не обнаружили. По мнению жителей Харрогита, лихач, по-видимому нездешний, при виде содеянного потерял голову и скрылся. Инспектор и сержант обошли всех владельцев гаражей в округе, разыскивая машину со следами столкновения. Увы, единственная, побывавшая в аварии за последние недели, принадлежала сыну фармацевта, который в компании приятелей, таких же юных сумасбродов, врезался в дерево, но этот случай произошел задолго до гибели миссис Шап и ее малышки. Короче, неразрешимое дело! Мортлок вернулся в Лондон раздосадованный. Еще одно преступление, когда виновник, скорее всего, так и останется безнаказанным.
Скотленд-Ярд получил предписание продолжать обычное расследование. Возбужденное общество постепенно успокоилось, а затем с живейшим интересом занялось пересудами по поводу предстоящей женитьбы Мелвина Дэвиса. Этот хорошо известный в Сохо гангстер в пятьдесят лет, из которых добрый десяток провел в тюрьмах Ее Величества, задумал жениться. Он открыл ресторан под названием «Роуг'с мач»[107] и обручился с некоей Барбарой Коукбэн. Последнюю возраст постепенно вытеснил со сцен мюзик-холла, и она все ниже и ниже спускалась по лестнице успеха. Начав танцовщицей, за десять лет Барбара дошла до положения стриптизерши в третьесортном кабачке. Мелвин знал Барбару, когда та была еще девчонкой из его квартала, и понимал, что с ней можно не опасаться каких-либо осложнений. Столь назидательный эпилог похождений гангстера порадовал добрые души в Сохо и вызвал усмешку у других. Среди последних был и Крис Мортлок.
Субботним утром, спустя несколько дней после безрезультатного расследования Мортлока в Харрогите, какая-то женщина явилась в Скотленд-Ярд и выразила желание поговорить с полицейским, ведущим дело о дорожном
происшествии, в котором погибли мать с ребенком. Сержант Хелд, занимавшийся обычно «процеживанием» попрошаек и других посетителей, отсутствовал. Болтона тоже не было на месте, и Крис согласился принять женщину, представившуюся как Джойс Гендерсон, учительница начальной школы в Уотфорде.
Посетительница с первой минуты сразила Мортлока наповал, хотя ни в ее манере держаться, ни в туалете не было ничего, что могло бы вызвать не только восхищение, но даже просто интерес. Одета она была очень скромно, как и подобает учительнице. Лицо тоже не назовешь необыкновенным. Слишком правильные черты могли бы даже показаться банальными, но их освещали глаза, которые инспектор тотчас же счел самыми прекрасными, какие только ему доводилось видеть. Свет этих огромных глаз смягчали шелковистые ресницы. Когда миссис Гендерсон смотрела на вас, невольно возникало ощущение дружеской теплоты. Крис сразу утратил свою обычную жесткость. Женщина села на стул, указанный ей инспектором, положив на колени сумочку. Больше всего она сейчас походила на благонравную воспитанницу старого монастыря.
— Чем могу вам служить, миссис Гендерсон?
— Я боюсь, — скорее прошептала, чем сказала она.
Посетительница действительно казалась сильно напуганной. Несколько удивленный Мортлок едва не ответил резкостью, но эту женщину, сидевшую перед ним, по-видимому в самом деле терзала тревога, хотя она совсем не выглядела истеричкой.
— Вы в Скотленд-Ярде, миссис Гендерсон… и, поверьте, здесь вам ничто не угрожает.
— Я боюсь не за себя, сэр, а за своего мужа…
— А! Ну тогда давайте по порядку…
Он притянул к себе стопку бумаги и ручку.
— Кто ваш муж?
— Ларри Гендерсон… Представитель фирмы «Смит и Браун», садовый инвентарь.
— Сколько ему лет?
— Пятьдесят два.
— Со здоровьем все в порядке?
— Физически — да.
— Должен ли я понять, что душевно?..
— Во время войны Ларри был ранен, затем попал в плен. Обращались с ним чудовищно… С тех пор Ларри живет замкнуто, сторонится людей. О, не надо думать, будто он обрек меня на заточение! Вовсе нет! У нас есть друзья… Иногда мы приглашаем к себе на чашку чая… Бываем и в гостях… Но Ларри избегает любых споров… Он испытывает непреодолимый страх перед любой ответственностью. Я думаю, это последствия войны. Однажды в плену немцы приказали Ларри отобрать среди своих товарищей группу для опасной работы, и ни один человек из этой группы не выжил. С тех пор он уклоняется от всякого ответственного поста. У «Смита и Брауна», где Ларри очень ценят, он мог бы достичь высоких должностей. Но всегда отказывается от предложений такого рода, предпочитая место, где бы он работал один и никем не распоряжался.
— Представляю… Ну а дома?
Губы миссис Гендерсон искривила жалкая улыбка.
— В семейной жизни это самый покладистый человек, и, хотя у нас двадцать лет разницы в возрасте, именно я все решаю… Нет, отнюдь не потому, что люблю командовать, но надо же кому-то… правда?
— Очевидно. А вы никогда не пытались… вернуть его, в конце концов, к более здравому взгляду на жизнь?
— Еще бы! И не один год, но безуспешно. Ларри очень любит меня, у меня нет оснований в этом сомневаться. Да и я сама сильно привязана к нему. Но это скорее материнское чувство, нежели супружеское. Ларри работает. Прямой, честный, чистосердечный… он, однако, избегает всего, что могло бы его связать, возложить на него любую ответственность. И при этом очень упрям. Если он вбил что-то себе в голову, переубедить его невозможно.
— Прекрасный портрет, миссис Гендерсон… ну а как внешне выглядит ваш муж?
— Его очень трудно описать… Словно внутренняя безучастность сказалась на его внешности. Никто не замечает Ларри. В окружении людей он как будто исчезает, сливается с толпой. Вы понимаете, что я имею в виду?
— Очень хорошо.
Мортлок едва не сказал посетительнице, что в этом отношении она напоминает своего мужа, если не считать глаз. Внешность миссис Гендерсон тоже не запоминалась.
— Я полагаю, вы пришли к нам не для того, чтобы описать душевный разлад мистера Гендерсона: мы в Скотленд-Ярде — не психиатры.
— Я боюсь, сэр… Я разрываюсь между желанием увидеть преступника наказанным и страхом за жизнь своего мужа.
Внезапно Крис заметил, что миссис Гендерсон плачет. Она не всхлипывала, не рыдала. Отчаяние было сдержанным, как и сама личность учительницы из Уотфорда. Сьюзан не приучила Мортлока к подобной кротости. Стоило закрыть глаза, чтобы вновь услышать ее крики, брань, угрозы. Женщины вроде миссис Гендерсон как будто излучают умиротворение. Перед этой возвышенной печалью инспектор совершенно растерялся. Может быть, ему следовало подняться и ласково похлопать миссис Гендерсон по плечу, выразив таким образом сочувствие, но он не посмел и ограничился словами:
— Ну же, миссис Гендерсон… полноте! Прошу вас, пожалуйста, миссис Гендерсон…
— Извините меня, сэр, — с видимым усилием заговорила учительница. — Это от смущения… Вообще такое — не в моих привычках. Но я дошла до крайности… и даже не сплю. Вот уже две ночи…
— Может быть, вы спокойно расскажете, что вас тревожит?
— Постараюсь… Мой муж давно работает у «Смита и Брауна» и может сам выбирать себе «охотничьи угодья» — так он называет районы, закрепляемые за торговыми агентами. Ларри родом из Лидса, поэтому и остановил свой выбор на Йоркшире и Ланкашире. Он отправляется каждый вторник утром и возвращается в пятницу или рано утром в субботу.
— Не очень веселая жизнь для вас?
Бледная улыбка промелькнула на ее губах.
— За десять лет, что мы женаты, я уже привыкла. Месяц, а может быть, недель пять назад, Ларри вернулся в субботу с большим опозданием. И его явно что-то глубоко потрясло. Обычно мы по субботам после полудня делаем покупки. На этот раз муж отказался сопровождать меня. И за время моего отсутствия выпил почти целую бутылку виски. А он практически никогда не пьет… Я ничего не стала говорить… Так уж устроен Ларри, он доверится вам, только если сам этого пожелает. Я просто ждала. Это был ужасный вечер. Как сейчас вижу Ларри в кресле с потухшей трубкой в руке. Ему то и дело приходилось ее вновь раскуривать. Несколько часов я ждала, но напрасно. Потеряв терпение, я встала, пожелала ему спокойной ночи, и тут муж взял меня за руку. Для него это не совсем обычный жест. Затем торопливо, будто спешил избавиться от тяжкого бремени, он признался, что знает, кто задавил женщину и ребенка в Харрогите.
Мортлок невольно вскрикнул. За все время службы ему еще не подворачивался такой счастливый случай. Учительница из Уотфорда давала инспектору редкий шанс отличиться.
— Это уже становится захватывающим, миссис Гендерсон, умоляю вас, продолжайте!
— В Харрогите Ларри обычно останавливается на ночлег в «Оловянной кружке». Он из тех, кто очень редко меняет привычки. Но в тот вечер мужа оставил у себя обедать один из старых клиентов, и он возвращался далеко за полночь. Недалеко от Харрогита Ларри на большой скорости обогнал «хиллмэн». Спустя несколько секунд он услыхал крик и визг тормозов. Почти тотчас вслед за этим Ларри подъехал к остановившемуся на дороге «хиллмэну». Он вышел из машины и, увидев на дороге два тела, бросился к ним, как вдруг владелец «хиллмэна» преградил дорогу. «Проклятое невезенье… — проворчал он. — Шляются ночью по шоссе с коляской и без света!» Мой муж хотел что-то сделать для этих несчастных, но мужчина удержал его за плечо, бросив: «Они мертвы, старина. Лучше садитесь в свою тачку и отправляйтесь спать, позабыв обо всем увиденном». Ларри пытался возражать, тогда этот тип вытащил револьвер: «Вы ведь не хотите умереть, не так ли? Тогда молчите… Этим двоим там… никто уже не в силах помочь. Просто несчастный случай. Тут ничего не попишешь, и точка. А теперь мотайте отсюда, мистер Гендерсон из Уотфорда…»
— Он знал вашего мужа?
— Нет, прочитал нашу фамилию и адрес на приборном щитке… Так как Ларри не хотел уходить, этот тип добавил: «Я собираюсь сматываться, приятель… Но если когда-нибудь узнаю, что ты позвонил, к примеру, в полицию, наживешь крупные, очень крупные неприятности… Усек?» Тогда Ларри сел в свою машину. Всю ночь напролет он боролся с собой — совесть не давала покоя, он корил себя за трусость, но в то же время не хотел вмешиваться в эту историю. Не думайте, сэр, мой муж не трус… Но достаточно хотя бы попытаться навязать ему мало-мальски решительное действие, и он сразу сопротивляется. В тот вечер мы поссорились. Я уговаривала Ларри заявить в полицию, но он отвечал, что будет все отрицать. Три дня мы не разговаривали. А потом, со временем, притворились, будто все забыто, но что-то в наших отношениях сломалось. Я совсем перестала верить в Ларри… и испытывала только жалость… безмерную жалость.
— Я понимаю вас… Но скажите, почему вы пришли сюда пять недель спустя?
— Позавчера Ларри увидел в газете фотографию человека из Харрогита.
— Того, что задавил?..
— Да.
— В газете? В какой рубрике?
— О бракосочетаниях.
— Кого же он видел? Миссис Гендерсон, вы должны мне это сказать!
Совсем недолго поколебавшись, она на одном дыхании произнесла:
— Мелвина Дэвиса.
Крис на минуту онемел… Мелвин Дэвис!.. Сколько долгих лет инспектор выслеживал его! Крис с досадой видел, как комфортабельно устроился этот гангстер, ведя жизнь добропорядочного буржуа, несмотря на свое грязное прошлое. Скрутить Мелвина Дэвиса в тот момент, когда бандит убежден в своей полной недосягаемости для закона, — какая сладкая мечта!
— Но, миссис Гендерсон, ваш муж видел преступника только глубокой ночью… Как же он сразу узнал парня на фотографии?
— По ночам Ларри всегда берет с собой фонарик. Еще одно следствие войны… Когда он осветил лицо Дэвиса, тот пришел в ярость.
— Послушайте, миссис Гендерсон: мы очень хотели бы отправить Дэвиса в тюрьму хотя бы на несколько лет. Многих приводит просто в бешенство, что этот тип может спокойно пользоваться награбленным. Наркотики, алкоголь, проституция — все годилось для наживы. Сотни несчастных женщин и мужчин умерли либо опустились, лишь бы Мелвин Дэвис теперь разыгрывал из себя удалившегося от дел рантье. От имени этих несчастных я заклинаю вас, миссис Гендерсон: убедите своего мужа дать показания!
Она покачала головой:
— Я бы с удовольствием вам помогла, но Ларри не уступит. Я слишком хорошо его знаю.
— Даже если я сам с ним поговорю?
— Только попусту потеряете время.
— Разрешите мне все-таки попробовать.
— Ну, что ж, попытайтесь… Мы живем в Уотфорде, Грегори-лейн, сто шестьдесят семь.
— Если мой шеф не станет возражать, я приду к вам в ближайшую субботу.
— Под каким предлогом?
Крис помолчал. Действительно, в глазах этого странного Ларри Гендерсона нужно как-то оправдать свой визит, иначе он немедленно замкнется. Джойс пришла на помощь полицейскому.
— У вас есть дети, сэр?
— Нет… Я уже довольно давно не женат… Вряд ли прежняя миссис Мортлок согласилась бы иметь ребятишек. Они могли бы нарушить ее образ жизни, ее привычки.
Учительница не ответила, не позволила себе никаких замечаний, но в ее взгляде Крис уловил сочувствие.
— Я был бы счастлив стать отцом… но… — добавил он.
— А что, если это желание поможет вам с большей ответственностью прийти поговорить о дочери… которой на самом деле не существует?
— Простите, не понял?
— Вы могли бы прийти ко мне поговорить, поскольку якобы собираетесь переехать в Уотфорд и хотите устроить свою дочку в мой класс… Это выглядело бы вполне естественно… Приходите к пяти часам — тогда я смогу пригласить вас на чашку чая и Ларри это не покажется странным.
— Договорились.
— Имейте в виду: мне придется задавать вам вопросы о школе, где училась прежде ваша малышка… кстати, как бы ее назвать?
— Ну, скажем… Кэт. Это имя моей матери.
— Согласна на Кэт. Так я жду вас к пяти часам.
— Приду, можете не сомневаться! Чтобы вновь надеть наручники на Мелвина Дэвиса, я готов приползти в Уотфорд на коленях! Ну как, страх вас больше не мучит?
— Нет. И ваш кабинет, и твердая решимость покончить с этим человеком придали мне столько сил, что я сама не заметила, как страх вдруг исчез… Все тревоги поджидают меня снаружи.
— А что еще беспокоит вас, кроме проблем с мужем?
— Я боюсь, как бы этому Дэвису не вздумалось заставить Ларри умолкнуть навсегда. Преступник ведь понимает, что пока Ларри жив, он может рано или поздно заговорить.
— Почему вы этого боитесь?
— Мне кажется, вокруг нашего дома шатаются какие-то странные типы.
— Можете вы описать их?
— Нет… Несколько раз ночью мне почудилось, будто я вижу какие-то тени… Понимаете, я ни в чем не уверена — могло ведь и показаться. Ну а если это действительно так? Как мне уберечь мужа?
— Если хотите, я мог бы установить наблюдение за вашим домом.
— Это возможно?
— Во всяком случае, ночью и в течение некоторого времени. Скажем, до тех пор, пока вы не успокоитесь.
— Не знаю, как благодарить вас. Мне так трудно было решиться прийти в Скотленд-Ярд, а теперь я рада этому. Вы проявили столько понимания…
— Если мне удастся засадить Дэвиса в тюрьму, то это я должен буду поблагодарить вас, миссис Гендерсон!
После ухода учительницы из Уотфорда мысли Криса не сразу обратились к Мелвину Дэвису и представившейся возможности прижать его как следует. Инспектор думал о Джойс Гендерсон: сведи его судьба не с легкомысленной Сьюзан, а с женщиной вроде Джойс, Крис был бы счастлив. Совсем размечтавшись, Мортлок воображал, как вечером возвращается домой миссис Мортлок, весьма напоминающая Джойс Гендерсон, встречает его, расспрашивает о том о сем, что нового на работе, а их дочь, маленькая Кэт, бежит за отцовскими шлепанцами и трубкой.
Войдя в кабинет своего подчиненного, суперинтендант Болтон пробудил его от грез.
— Ничего интересного, Крис?
— Напротив, довольно любопытная история. Случай, дающий возможность прищучить Мелвина Дэвиса.
— Черт возьми!.. Пошли ко мне!
Когда они устроились, Болтон позвонил на коммутатор и предупредил, что его ни для кого нет. Положив трубку, шеф повернулся к Мортлоку.
— Докладывайте, Крис.
Суперинтендант слушал, полузакрыв глаза. Лицо его хранило полную невозмутимость. Когда Мортлок закончил рассказ и сообщил, что намерен предпринять, Ричард Болтон наконец высказал свое мнение.
— Знаете, Крис, вы говорили главным образом об этой миссис Гендерсон. Судя по всему, она произвела на вас сильное впечатление? Вы созрели для женитьбы, мой мальчик! Эта новость приведет в восторг Джанет.
Крис покраснел, и суперинтендант расхохотался.
— Шучу, дружище, не сердитесь. Я не пожелал бы вам влюбиться в замужнюю женщину, к тому же, по-видимому, очень привязанную к супругу. Конечно, этот Гендерсон — больной человек, живущий в постоянном страхе перед бременем ответственности. Постарайтесь, насколько сумеете, уговорить его дать показания. Но я знаю подобных невротиков и сильно сомневаюсь в успехе. Вы правильно поступили, пообещав взять дом под наблюдение. Я позвоню в Уотфорд и распоряжусь на этот счет. Остается Мелвин Дэвис. Понятно, вы не питаете к нему нежных чувств, ведь именно с этим типом связаны редкие неудачи в вашей работе. Но даже на Дэвиса нельзя бросаться вслепую. В нашем деле личным чувствам не должно быть места. Конечно, если вам удастся изобличить Дэвиса в убийстве перед присяжными, сразу же отхватите чин старшего инспектора, но не принимайте желаемое за действительное. Подумайте хорошенько: уж за пять-то недель Дэвис успел привести свой автомобиль в полный порядок и устранить все следы столкновения.
— Я попытаюсь разыскать механика, выполнившего эту работу.
— Трудно. У бандитов вроде Дэвиса есть свои мастера, которым хорошо платят за молчание.
— Так что же, по-вашему, все бросить?
— Конечно нет, Крис! И не смотрите на меня так осуждающе — еще, чего доброго, дойдет до обвинений, будто я покрываю Дэвиса! Что я от вас требую, так это продвигаться шажками, осторожно. Пока у нас нет никакой возможности раздобыть что-либо весомое против Мелвина Дэвиса. Начинайте с Уотфорда. Если этот Гендерсон не захочет выполнить свой гражданский долг, мы еще подумаем и решим, какие меры принять. Но до тех пор оставьте Дэвиса в покое. Любое неосторожное движение, уж поверьте мне, только вспугнет добычу.
Крис Мортлок не узнавал себя. Что бы он ни делал, что бы ни пытался предпринять, все мысли витали вокруг Джойс Гендерсон, и, казалось, время до следующей субботы тянется бесконечно долго. Глупости, конечно, и он прекрасно сознавал это, но тем не менее никак не мог выбросить из головы учительницу с прекрасными испуганными глазами. Каждое утро Крис звонил в полицию Уотфорда. Ему неизменно отвечали, что ночь прошла спокойно и ничего подозрительного вокруг жилища Гендерсонов не замечено. Эти успокаивающие новости то радовали, то раздражали Мортлока. В глубине души ему хотелось, чтобы Джойс и ее мужу угрожала опасность. Тогда он поспешил бы им на помощь. Инспектор не смел себе в том признаться, но, убей кто-нибудь Ларри, его, Криса, это бы не слишком огорчило. После смерти Гендерсона Джойс стала бы свободной… Как человек порядочный, Мортлок стыдился подобных мыслей, но они словно нарочно лезли в голову.
В субботу в четыре часа дня Крис явился в полицию Уотфорда. Поскольку он тревожился о Гендерсонах, дежуривший в тот день сержант Бредли заверил:
— Я понимаю, инспектор, миссис Гендерсон — уж не ведаю по каким причинам — беспокоится. Такое часто бывает: люди, особенно женщины, приходят к нам и рассказывают, будто вокруг их дома шатаются какие-то неизвестные. А в итоге невозможно понять, то ли они и впрямь напуганы, то ли в восторге от такого знака внимания.
— Вы знаете Гендерсонов, сержант?
— Главным образом ее, потому как часто патрулирую рядом со школой, когда заканчиваются занятия. По-моему, очень приличная женщина, во всяком случае, я никогда не слыхал дурного слова по ее адресу. Директриса ставит ее в пример начинающим учителям, и даже самые злые языки не нашли еще тут повода позлословить. А это, уж будьте уверены, верный знак, что даму уважают.
— А он?
— Настоящий бирюк. Едва отвечает на ваше приветствие при встрече. Когда миссис Гендерсон нет дома, он даже дверь не откроет. Стучи не стучи в надежде получить вспоможение на какой-нибудь праздник или на благотворительные цели. Странный тип, если хотите знать мое мнение!
Слушая, как сержант честит Ларри Гендерсона, Мортлок испытывал в душе что-то вроде злорадства, он не сомневался, что этот тип не заслуживает такой женщины, как Джойс. Инспектор с удовольствием слушал рассказ, лишь подтверждающий его собственное мнение. Не пообещай Крис миссис Гендерсон не досаждать ее мужу, он бы не отказал себе в удовольствии выложить этому джентльмену, что думает о его поведении, недостойном гражданина Британии.
Гендерсоны жили в ничем не примечательном домике. Крис толкнул неприметную калитку из некрашеного дерева, ведущую в традиционный садик с небольшим газоном, заросшим люпином и рододендронами, поднялся по трем ступеням и позвонил в дверь. Ему открыла Джойс.
— Что вам угодно, сэр? — с хорошо разыгранным удивлением спросила она.
— Я хотел бы поговорить с миссис Гендерсон.
— Это я.
— Меня зовут Кристофер Беннет. Служу я в полиции и скоро меня переведут в Уотфорд. А так как у меня есть дочурка Кэт и я хочу отдать ее в ваш класс, с радостью поговорил бы с вами об этом, если, конечно, не помешаю.
— Прошу вас, мистер Беннет, входите, пожалуйста.
Учительница старалась держаться естественно, но чувствовалось, с каким трудом она сдерживает смех. Крис решил: эта женщина не способна скрытничать, и заметил, что от оживления ее лицо выглядит намного моложе. Гостиная, где инспектору предложили кресло, производила впечатление мещанской добропорядочности. Все здесь соответствовало британским представлениям о достатке. Не хватало лишь хотя бы малейшего намека на оригинальность.
— Мы как раз собирались пить чай, мистер Беннет. Не желаете ли присоединиться?
— С удовольствием, миссис Гендерсон, если это вас не стеснит.
— Никоим образом. Ларри!
Мистер Гендерсон, войдя в комнату, несколько удивился присутствию постороннего. Джойс представила их друг другу.
— Мой муж, Ларри Гендерсон.
— Мистер Беннет, из полиции Уотфорда.
Мистер Гендерсон явно смутился.
— Полиции?.. У нас нет никаких дел с полицией, насколько мне известно.
Он устремил встревоженный взгляд на жену, и Мортлок понял, до какой степени этот человек болен. Если хочешь что-нибудь узнать, ни в коем случае нельзя пугать Гендерсона. Крис постарался немедленно успокоить Ларри.
— Я пришел сюда отнюдь не как полицейский, мистер Гендерсон, а как отец маленькой Кэт, которой предстоит учиться в классе вашей супруги.
— А! Ладно…
Ларри, как видно, успокоился и даже счел нужным извиниться.
— Простите, что явился к чаю в столь неподобающем виде, но я люблю мастерить и субботние вечера отдаю своему хобби.
— Мне тоже нравится что-нибудь делать своими руками, заниматься всякими поделками. Это удивительно снимает напряжение.
Коснувшись столь интересной для него темы, Гендерсон увлекся и начал разглагольствовать об инструментах, дереве, железе и так далее. Когда он умолк, Крис заговорил о своей воображаемой дочке с миссис Гендерсон. Та старалась не задавать слишком конкретных вопросов. Когда проблема с Кэт была улажена, разговор перешел на служебные обязанности мнимого Беннета.
— О! Розыск преступников, слава Богу, лишь эпизод в нашей деятельности.
Джойс, великолепно игравшая свою роль, спросила:
— И чем же вы занимаетесь большую часть времени?
— Дорожными происшествиями.
Инспектор почувствовал, как напрягся Ларри Гендерсон, но старался на него не смотреть.
— Каждый или почти каждый день к нам обращаются за помощью: составление протоколов, вызов скорой помощи и так далее. Если имеешь дело со здравомыслящими людьми, это несложно уладить, но чаще видишь таких субъектов, что только с огромным трудом удается избежать драки, причем каждый уверен в своей правоте.
Хозяин дома явно нервничал и машинально мешал ложечкой в пустой чашке.
— Порой случается, что лихач, виновник несчастного случая, спасается бегством, боясь ответственности…
Резкий звон разлетевшейся вдребезги чашки прервал разговор.
— Я чем-нибудь расстроил вас, мистер Гендерсон? — спокойно осведомился Крис.
Ларри вспылил:
— А чем, по-вашему? Какое мне-то дело до всех ваших историй?
Учительница хотела вмешаться, но Мортлок знаком удержал ее. Он надеялся, что смятение побудит хозяина дома во всем признаться.
— Такое же, как всем добропорядочным гражданам, мистер Гендерсон, и я уверен, что вы сами, случайно увидев, к примеру, лихача, задавившего кого-либо…
— Замолчите!
Весь всклокоченный, мертвенно-бледный, дрожащий Гендерсон поднялся со стула:
— Вы нарочно пришли, чтобы заманить меня в ловушку, да?
— Я не понимаю вас, мистер Гендерсон.
Крис всерьез полагал, что Гендерсон сейчас выложит все, что видел на дороге, но раздался звонок в дверь. Напряжение сразу спало.
— Это Бенни, — сказала Джойс.
Полицейский проклял неизвестного Бенни, чье несвоевременное вмешательство позволило Гендерсону взять себя в руки. Внезапно успокоившись, Ларри изменил тон:
— Извините меня, мистер Беннет… я крайне раздражителен в последнее время… В… в юности я стал… свидетелем ужасной автокатастрофы и сохранил об этом жуткие воспоминания… Скажем прямо, у меня аллергия на такого рода истории.
Снова прозвенел звонок.
— Я пойду открою…
Он выскользнул из комнаты, оставив раздосадованного Мортлока с Джойс.
— Я уверен, все в порядке!
— Я тоже… однако боюсь, как бы теперь Ларри не замкнулся в себе пуще прежнего.
Послышался веселый голосок. Миссис Гендерсон улыбнулась:
— Бенни — сын наших соседей. Восьмилетний мальчуган, очень смышленый и обожает всякую механику. Каждую субботу в шесть вечера он приходит к Ларри и торчит в мастерской, пока мать не загонит его домой.
И меланхолично добавила:
— Я думаю, Ларри был бы счастлив иметь такого малыша, как Бенни. Его рождение, несомненно, полностью изменило бы нашу жизнь. Спасибо за участие, инспектор, жаль только, что побеспокоила вас попусту.
— В нашем деле это распространенное явление. Во всяком случае, если появится что-нибудь новое, звоните мне. Спросите инспектора Мортлока. А коли меня не окажется на месте, оставьте сообщение. И, будьте любезны, извинитесь за меня перед вашим мужем…
— У своего верстака Ларри забывает обо всем на свете!
Рассказывая о своей неудаче суперинтенданту Болтону, Мортлок не мог скрыть разочарования и все твердил: если б не пришел этот маленький Бенни, он, Крис, сумел бы заставить Ларри Гендерсона выложить все о происшествии в Харрогите.
— Вряд ли.
Инспектор удивился.
— Почему вы так думаете?
— Из-за вашего рассказа, Крис. Реакции этого человека просто невозможно просчитать заранее, как бы нам этого ни хотелось. Гендерсон раздавлен страхом. Похоже, у него это превращается в навязчивую идею, поскольку даже обычное упоминание о дорожном происшествии приводит его в ужас. Поверьте мне, Крис, вы теряете время. Что бы вы ни предприняли, Мелвин Дэвис, если он действительно виновен, выпутается. Поэтому нелепо предоставлять ему еще один случай посмеяться над нами.
— По-вашему, мы должны бросить этот след?
— Не вижу другого выхода.
Примиряющий тон Болтона резко контрастировал с подчеркнуто сухим Мортлока.
— Итак, вы согласны допустить, чтобы Мелвин Дэвис снова ускользнул от нас и мог безнаказанно убивать людей?
— Полноте! Полноте, Крис… Не приписывайте мне того, чего я не говорил. Так же, как и вы, хотя и по другим причинам, я был бы счастлив снова засадить Дэвиса в тюрьму. Но для этого правосудию нужны улики.
— Я их найду!
— Очень сомневаюсь, Крис, и не могу позволить вам тратить время на разработку бесперспективной версии.
— Слушаюсь!
Сдерживая гнев, Мортлок встал, холодно попрощался с начальником и направился к выходу. Он уже переступал порог, как вдруг суперинтендант сказал:
— Крис… Эта учительница слишком занимает ваши мысли. Позвольте дать вам совет…
— Не позволю, сэр!
Ричард Болтон в свою очередь почувствовал, что теряет самообладание. Но, человек хладнокровный, миролюбивый и привыкший хорошенько все обдумывать, прежде чем действовать, суперинтендант не вернул Мортлока, а лишь вздохнул. Он действительно глубоко симпатизировал Крису и тревожился, видя, как тот вступает на путь, ведущий в никуда. Болтон вновь пожалел, что его не было в Ярде в тот день, когда приходила миссис Гендерсон. Суперинтендант не позволил бы ей заморочить себе голову россказнями о муже, несомненно тяжело больном, которому следовало бы как можно скорее обратиться к психиатру, а не жить, дрожа от беспредметного страха. Что касается Дэвиса, то Мортлок знает, конечно, что множество проходимцев всякого рода ухитряются ускользнуть от полиции. Почему же он столь безумно упорствует в деле, обреченном на провал? Суперинтендант сознавал, что в этой истории Крис, подстегиваемый безотчетной нежностью к миссис Гендерсон, разыгрывал роль этакого доблестного рыцаря Круглого Стола, всегда готового на самые невероятные, опасные приключения ради Прекрасной Дамы, не помышляя об иной награде, кроме улыбки или благодарности. Кто бы мог подумать, что у хмурого Криса Мортлока такая романтическая душа?
Когда Болтон рассказал Джанет о том, что произошло между ними, она удивилась гораздо меньше мужа. Когда речь заходила о любви или даже о привязанности не столь пылкой, ее воображение тут же разыгрывалось. В данном случае оно оправдывало Мортлока и осуждало неспособность мужа — выработанную или природную — воспарить над реальностью. Ричард успокоился, полагая, что вскоре Мортлок перестанет думать об этой авантюре, не сулящей ничего в будущем.
Вернувшись в кабинет, Крис уже не так гордился собой. Но поскольку согласиться с суперинтендантом означало бы в его глазах предать Джойс, Мортлок не сожалел о своем поведении, хотя Болтон неизменно выказывал ему самую искреннюю дружбу. Однако на что он, Крис, надеялся? Почему не мог перестать думать об этой женщине, хотя видел ее всего дважды? Тут, несомненно, сыграла роль не сама личность Джойс, хотя она и волновала его, а другое: будучи замужем, молодая учительница оставалась совершенно одинокой. Это приводило инспектора в отчаяние. Он ненавидел Ларри Гендерсона, не ценившего своего счастья — жить в маленьком домике в Уотфорде рядом с безгранично преданной ему женой. Нет, Крис не покинет миссис Гендерсон. Он вернет ей покой, в котором Джойс так нуждается, — тут-то проявится его внимание к молодой женщине. Несмотря на запрет Болтона, Крис не оставит дела Мелвина Дэвиса до тех пор, пока не найдет улики, не вернет самообладание Ларри Гендерсону, не восстановит безмятежность семейного очага. Ненависть Мортлока к гангстеру из Сохо еще более усиливалась его собственной неблагодарностью в отношении Ричарда Болтона. Инспектор ощущал покалывание в сердце. При мысли о Джанет, всегда такой доброжелательной, такой дружески расположенной, у инспектора покалывало в сердце. Сумеет ли она понять?
В следующую субботу вечером Крис Мортлок, против обыкновения, не пошел к Болтонам. За всю неделю они с суперинтендантом не обменялись и словом, разве что по служебной надобности. Днем, закрывшись в комнатке, Крис непрестанно вспоминал о доме в Уотфорде.
Воскресенье прошло пусто и бесцельно. В понедельник Мортлок появился на службе в очень скверном настроении. Коллеги терялись в догадках, какая муха его укусила. Вечером инспектора вызвали к телефону. Телефонистка сообщила, что с ним хочет поговорить миссис Гендерсон. Сердце Криса неистово забилось.
— Да, да, соедините меня!
Сгорая от нетерпения, он ловил щелчки в трубке и почти сразу же услышал голос, который все никак не мог забыть.
— Алло! Мистер Мортлок?
— Это я… Как поживаете, миссис Гендерсон?
— К несчастью, у меня ничего хорошего, инспектор…
— Что случилось?
— Я получила письмо с угрозами.
Глава II
Не желая вступать в конфликт с суперинтендантом, Мортлок встретился с Джойс Гендерсон в баре на Нортумберленд-авеню, где почти не рисковал столкнуться с кем-либо из коллег. Молодая женщина обратила к полицейскому осунувшееся лицо и, не говоря ни слова, протянула письмо. На конверте стоял ее адрес, а внутри лежал листок бумаги с напечатанным текстом: «Мы знаем, что вы ходили в Скотленд-Ярд. Если это насчет Харрогита, то лучше б вам держать язык за зубами и не дергаться. Или овдоветь захотели?» Естественно, без подписи.
Итак, Мелвин Дэвис забеспокоился. Что ж, очень хорошо. Теперь, когда гангстер начал военные действия, Болтону придется отнестись к делу всерьез. Инспектор, взяв руку миссис Гендерсон, стал уговаривать ее не волноваться, поскольку к Ларри приставят охранника, и, во всяком случае в Уотфорде, ему ничто не грозит. Правда, во время поездок охранять мистера Гендерсона намного сложнее. Может быть, Джойс убедит мужа взять отпуск? Миссис Гендерсон пожала плечами.
— Обычно Ларри отдыхает одновременно со мной. Не знаю, удастся ли заставить его вдруг изменить привычкам.
— А вы по-прежнему думаете, что лучше держать мистера Гендерсона в полном неведении?
— Да. Ларри и без того сильно встревожен, а если заподозрит, что за ним наблюдают… может сойти с ума! На какие только безумства он тогда не решится!
— Но как Дэвис узнал о вашем посещении Ярда?
— Они, скорее всего, следили за домом.
— Столько времени после происшествия? Это неправдоподобно… Вы никому не говорили об этом?
— Никому.
— Не сорвался ли у вас во время разговора какой-нибудь намек, даже бессознательно?
— Да нет! И ни один из моих знакомых не имеет ничего общего с Дэвисом.
— Ладно. Мы примем необходимые меры. Спокойно возвращайтесь домой. Даю вам слово: ничего страшного с вашим мужем не случится.
Джойс улыбнулась ему, и эта доверчивая улыбка согрела Крису душу. Он сжал руку миссис Гендерсон несколько более пылко, чем приличествовало, та быстро ее отдернула, и наступило неловкое молчание.
— Миссис Гендерсон, я обещаю сделать для вашего мужа все возможное. Это письмо даже суперинтенданта заставит изменить мнение. Я уверен, он немедленно прикажет установить охрану.
— Я верю вам…
— Спасибо. Во всяком случае, предупредите меня, если случится что-нибудь новое.
— Хорошо.
— Как вы смотрите на то, чтобы вновь увидеться здесь завтра? Я бы рассказал вам, как развиваются события.
— Дело в том, что… У меня работа… и мой муж рассердится, если узнает, что я встречаюсь с кем-то в баре… Это, конечно, глупо, но мы ведь не можем рассказать Ларри об истинной причине наших встреч… и он может вообразить другую…
Позабыв свою извечную робость перед женщинами и печальный опыт с Сьюзан, Крис признался:
— Возможно, их много… этих других причин, по крайней мере у меня.
Она покраснела.
— Господин инспектор… Я порядочная женщина и совсем не из тех, кто способен нарушить супружескую верность.
От смущения Крису хотелось сквозь землю провалиться, и он забормотал какие-то жалкие извинения. Это несколько смягчило его спутницу.
— Так я могу по-прежнему рассчитывать на вашу помощь? — спросила она.
— Ну конечно! Я, возможно, неловок, миссис Гендерсон, но все же честный человек.
— Не сомневаюсь, инспектор. Если все уладится и мне больше не придется вас беспокоить, я сохраню самые добрые воспоминания о вашей любезности и… симпатии.
Суперинтендант принял Мортлока с холодностью, установившейся между ними в последние несколько дней.
— Вы хотите мне что-нибудь сообщить, инспектор?
— Да, по поводу этой истории в Уотфорде.
— Вы по-прежнему интересуетесь ею?
— Не я один.
И Крис положил на стол Болтона письмо, полученное Джойс. Суперинтендант прочел его.
— И что это означает?
— Простите, но смысл, по-моему, достаточно ясен.
— Тогда вы гораздо сообразительнее меня.
Нарочно, что ли, он это делает? Мортлок сдержался и терпеливо объяснил:
— Это письмо означает, что за Гендерсонами следят.
— Допустим. И что дальше?
— Возможно, следовало бы поговорить с Мелвином Дэвисом?
Болтон сухо прервал его:
— Почему с Мелвином Дэвисом?
— Но мне кажется, что…
— Уж слишком много вам кажется, инспектор. Не угодно ли вам подчеркнуть в этом недописанном письме то, в чем мы могли бы обвинить Мелвина Дэвиса?
— Мы знаем от миссис Гендерсон…
— И вы полагаете, слов этой дамы достаточно, чтобы уличить Дэвиса в том, что он замышляет убийство?
— Но, суперинтендант, в конце концов, это письмо…
— …вполне мог послать кто-то, захотевший сыграть злую шутку с вашей «протеже». Такого рода истории нас не касаются. Посоветуйте миссис Гендерсон обратиться в полицию Уотфорда. У вас все?
— Да.
— Тогда до свидания. У меня много работы, и более срочной, чем тревоги какой-то истерички!
Мортлок взвился:
— Вы не имеете права…
Болтон холодно взглянул на него.
— На что я не имею права, инспектор? Возвращайтесь к себе в кабинет, попробуйте остыть и поразмыслить трезво. Спросите себя, не могла ли такая женщина, как миссис Гендерсон, нервная, с богатым воображением… Не возражайте? Целую неделю за ее домом велось наблюдение, и ничего необычного агенты не заметили. Так вот, не могла ли такая женщина углядеть призраки гангстеров там, где никого нет?.. Не могла ли она поделиться своими страхами с другими людьми? Разве вы не допускаете мысли, что кто-то из них счел забавным разыграть ее? Хотите знать мое мнение? Ваша миссис Гендерсон страдает манией преследования, и, если б не ее прекрасные глаза, вы сами отправили бы ее к психиатру!
Криса трясло от сдерживаемой ярости. Подобная слепота со стороны Ричарда Болтона могла быть только намеренной.
— Значит, вы не верите в то, что случилось с ее мужем?
— Что он стал свидетелем происшествия? Верю. Но это все. Я даже не уверен, действительно ли он опознал Мелвина Дэвиса. Не забывайте, эти сведения вы получили от миссис Гендерсон, и только от нее!
— Но, ради Бога, зачем ей понадобилось ломать комедию?
— Наверное, миссис Гендерсон и не играла. Несомненно, эту женщину — а ведь она учительница, не забывайте об этом, то есть обучает морали! — возмутило поведение мужа. Будучи женой Гендерсона, она страдает от комплекса вины, принимая на себя часть ответственности за малодушие супруга. Миссис Гендерсон, вероятно, уверена, что ее муж, а следовательно, и она сама заслуживают наказания. Поскольку таковое не может исходить от правосудия, ибо полиция не имеет к тому никаких официальных оснований, миссис Гендерсон внушила себе, что их покарают другие. Те пресловутые другие, что фигурируют во всех случаях мании преследования. Этих «других» она наделила лицом Мелвина Дэвиса, случайно увиденным на страницах газеты. Единственное извинение для миссис Гендерсон — то, что она искренна и оказалась в незавидном положении. Если у вас есть какое-либо влияние на эту женщину, посоветуйте ей сходить к врачу.
— Вы забываете, что я видел ее мужа и тот показался мне еще более встревоженным!
— И по тем же причинам, очевидно. Во время войны этот человек перенес тяжелую психическую травму. И стоит ли удивляться, если жена тоже подпала под влияние навязчивых идей?
— Но письмо?
— Дурацкая шутка неизвестного, сыгравшего на мании преследования миссис Гендерсон.
— Но по какой причине?
— Мортлок… неужто вы, в вашем возрасте, до сих пор не знаете, что люди не нуждаются в причинах, дабы творить зло?
Вернувшись к себе в кабинет, Крис стал раздумывать над предположением Болтона. Оно казалось правдоподобным. Однако все в Мортлоке восставало при мысли о том, что Джойс может быть не вполне нормальной. Мания преследования выглядела удобной уловкой — лишь бы не обращать внимания на раздражающие жалобы. Будь Джойс действительно не в своем уме, болезнь проявлялась бы не только дома. Любую ненормальность, отклонение в характере и манерах мгновенно заметили бы коллеги-учителя и воспитатели! Крис снял телефонную трубку и, вызвав полицию Уотфорда, приказал сержанту Бредли аккуратно провести опрос в школе, где преподавала миссис Гендерсон: не замечали ли за ней каких-нибудь странностей? Сержант не придал большого значения этому делу, однако обещал заняться им на следующий день.
В споре с суперинтендантом Мортлоку не удалось одержать верх. Он был убежден, что Болтон ошибается, но его аргументы от этого не стали менее весомыми. Почему начальник Криса отказывается даже рассматривать вопрос о возможной виновности Мелвина Дэвиса? И внезапно инспектор вспомнил о ходивших некогда слухах, будто Дэвис пользовался безнаказанностью благодаря взяткам и подкупу кое-кого из видных полицейских. А вдруг и Болтон… Подумав об этом, инспектор устыдился. Все, что он узнал о суперинтенданте за время их совместной работы, опровергало подобные подозрения. Но чем же вызвано упорное нежелание Болтона хотя бы допросить Дэвиса по делу в Харрогите? Да пожелай он выгородить гангстера, все равно ничего лучшего не смог бы придумать!
В этот момент дежурный сообщил, что его хочет видеть Джанет Болтон. Мортлок не мог отказаться принять ее — это было бы неприличной грубостью по отношению к женщине, неизменно выказывавшей ему самые дружеские чувства. Джанет вошла с улыбкой.
— Добрый день, Крис… Я пришла повидать Ричарда, но он на совещании. Вот и воспользовалась случаем забежать к вам на минутку. К тому же вы как будто изменили нашему дому?
Инспектор очень смутился и поспешно заверил жену шефа:
— Я искренне рад вас видеть, Джанет.
— Честно?
— Честно.
— Вы сняли с моей души огромную тяжесть! Я-то воображала, будто вы сердитесь именно на меня… Значит, дело в Ричарде?
— Разве он не объяснил вам?
— Нет. Просто муж перестал говорить о вас, но… я знаю, как он страдает, поскольку глубоко к вам привязан. Может, вы объясните мне, что произошло?
Крис выполнил просьбу. Когда он умолк, Джанет сказала:
— Мне трудно судить о позиции Ричарда. Но он — человек прямой, страстный приверженец справедливости. И если поступает подобным образом — значит, есть на то серьезные причины. С другой стороны, я вас отлично понимаю. На вашем месте я бы тоже устремилась на помощь этой несчастной женщине. Просто между вами и Ричардом произошло маленькое недоразумение. Возможно, он опасается, как бы вы не влюбились в замужнюю женщину и не страдали от этого?
— Это не имеет никакого отношения ни к правосудию, ни к Мелвину Дэвису.
— Очевидно… Я не знаю этого человека, но заочно ненавижу, ведь именно из-за него между вами разгорелась ссора. Конечно, я не вправе просить вас сделать первый шаг, но не успокоюсь, пока снова не увижу вас в нашем доме.
Когда Джанет ушла, Мортлоку захотелось разыскать Болтона и предложить помириться, но его продолжали терзать дурные мысли о возможности сговора между суперинтендантом и Дэвисом, и, покуда не прояснится этот вопрос, инспектор не сможет испытывать к Ричарду прежнее доверие.
И Мортлок еще целую неделю жил затворником. Лишь донесение из Уотфорда, касавшееся миссис Гендерсон, внесло некоторое оживление в его будни. Проводившие опрос полицейские услышали только похвалы в адрес Джойс — как от соседей, так и от ее коллег. Никогда, ни единого раза преподавательница не выражала никаких навязчивых или странных идей. Короче, ничего такого, что могло бы поразить окружающих. Это лишало почвы предположения Болтона, и Мортлок остался доволен. Утром в субботу миссис Гендерсон вновь вызвала его к телефону.
— Алло? Мистер Мортлок?
Крис так обрадовался, что не сразу смог заговорить.
— Мистер Мортлок? — с тревогой повторила Джойс.
— Да. Извините меня, миссис Гендерсон… Надеюсь, ничего серьезного не произошло?
— Еще одно письмо с утренней почтой.
— О!.. Ваш муж знает?
— Нет.
— Не принесете ли вы мне это письмо в тот же бар, где мы виделись на прошлой неделе… около пяти часов?
— Это слишком рано.
Я должна дождаться Бенни… Помните? Того мальчика… Не хочу оставлять мужа одного… может быть, в шесть?
— Договорились, в шесть часов, миссис Гендерсон…
— Спасибо.
— Миссис Гендерсон…
— Да?
— Я… я очень рад… вас снова слышать.
Джойс не успела ответить — инспектор быстро повесил трубку.
Крису казалось, что эта суббота никогда не кончится. С каждым часом он нервничал все сильнее. Наконец время подошло к половине шестого, и полицейский, надев шляпу, поспешил на Нортумберленд-авеню.
Джойс Гендерсон была явно напугана по-настоящему. Ее лицо выглядело усталым и еще больше осунулось. Увидел бы Болтон ее в таком состоянии — уж, наверное, отказался бы от своего предубеждения, подумал Крис.
Молодая женщина протянула инспектору письмо. Пальцы ее заметно дрожали.
— Прошу вас… Успокойтесь… здесь вам ничто не угрожает. По крайней мере тут нет никакой опасности. Возьмите же себя в руки, прошу вас, пожалуйста…
Она машинально выпила большой глоток заказанного Крисом виски. Под действием алкоголя к лицу прилила кровь, и Джойс закашлялась. Отдышавшись, она сквозь слезы пробормотала:
— Что… что это?.. Очень крепкое!
— Вам и требовалась хорошая встряска. Ну как, полегчало немного?
— Да. Благодарю. Я веду себя как дура…
— Не сказал бы.
Полицейский прочел короткую записку: «Вас предупреждали, но вы не послушались. Пеняйте на себя. Это вы его приговорили».
Что бы ни думал суперинтендант, шутник, даже самый злонамеренный, никогда не дошел бы до такого.
Увидев в окошко посыльного, остановившегося перед домом Гендерсонов, миссис Рэмсдом удивилась, что «Гроверс энд К°» доставляет заказы в субботу вечером. Глубоко приверженная традициям, старая дама сожалела, что молодое поколение мало-помалу отходит от дедовских обычаев. В следующий раз, когда отправится за покупками в бакалейный магазин «Гроверс энд К°», она громко выскажет свое мнение на сей счет. Не говоря уж о неподобающем внешнем виде посыльного — эти рыжие усы и темные очки! Ну прилично ли посыльному носить темные очки? Миссис Рэмсдом сочла это в высшей степени неуместным, ибо, разговаривая с человеком, предпочитала видеть его глаза. И даже в том случае, когда до собеседника ей не было никакого дела… Поэтому старая дама внимательно следила за посыльным: тот в сдвинутой набекрень фирменной каскетке сошел со своего трехколесного мотороллера и толкнул калитку в сад Гендерсонов. Миссис Рэмсдом возмутилась бесцеремонностью нынешних служащих: для чего дверь, коли ее не берут в расчет? Мистер Гендерсон, надеялась она (поскольку видела, как миссис Гендерсон ушла), выскажет этому невеже все, что думает о нем. Но тут ее изумление превысило крайние пределы: странный посыльный вытащил из кармана связку ключей, выбрал один, нагло вставил его в замок, повернул и решительно вошел. Миссис Рэмсдом чуть не позвонила Ларри Гендерсону, чтобы посоветовать держаться с таким наглецом посуровее, но рассудила, что на свете немало злых языков, которые станут утверждать, будто она сует нос в чужие дела. Пожалуй, эта чума, мисс Хеллоуэй, еще начнет судачить, будто у нее, миссис Рэмсдом, нет других забот, кроме как следить за соседями. И, преисполнившись глубокого отвращения к ближним, старая дама снова вернулась в кресло и поведала своему коту Дизраэли III все, что думает о нынешнем ужасном мире.
Мортлок вертел в пальцах письмо, полученное миссис Гендерсон. Ах! Если б не ужасающее упрямство Болтона… Джойс робко спросила:
— Вы думаете… они выполнят свои угрозы?
В первую секунду Крису захотелось солгать, но он не осмелился. По мнению инспектора, миссис Гендерсон заслужила право все знать.
— Откровенно говоря, не знаю.
— Это ужасно… Если… если с Ларри что-нибудь случится, я себе этого не прощу!
— Нет, миссис Гендерсон, коли с вашим мужем и впрямь случится несчастье, это будет его, и только его вина! Ему следовало бы больше доверять полиции. Обратись он к нам официально, никто не посмел бы ничего предпринять…
— Вы, несомненно, правы…
— Разумеется! Пусть только мистер Гендерсон заговорит, и, клянусь вам, я спасу его!
Джойс, по-видимому, колебалась.
— Если б я была уверена…
— Прошу вас, миссис Гендерсон, поверьте! Это наш единственный шанс: убедите мужа потребовать помощи и защиты. Подумайте, наконец! Мы же ничего не можем предпринять для человека, который нас знать не желает!
Она поднялась, внезапно решившись.
— Хорошо. Будь что будет! Я не в силах более терпеть. Поедем к Ларри и уговорим его.
Еще издалека они заметили скопление народа перед домом Гендерсонов. Джойс побледнела как полотно.
— О Господи…
Крис тотчас же понял: они приехали слишком поздно — Ларри уже заплатил по счету. Инспектор и миссис Гендерсон пробрались сквозь толпу любопытных. Полицейский, стоявший у дверей, остановил их, но Мортлок показал свой значок. На пороге гостиной какая-то полная дама обняла Джойс.
— Бедняжка моя…
— Он мертв, да? — тихо спросила миссис Гендерсон.
Дама опустила голову.
— Я хочу его видеть, мне нужно его видеть!
Все расступились. Тело Ларри Гендерсона лежало на диване. На куске белой материи, обмотавшей голову, проступила кровь. Покойник выглядел умиротворенно и достойно. Джойс, упав на колени, взяла руку мужа в свои.
— Ларри…
И она без чувств соскользнула на пол. Молодую женщину увели в ее комнату, все та же толстуха-соседка пошла следом. Сержант Бредли подошел к Мортлоку.
— Здравствуйте, инспектор.
— Здравствуйте, сержант… итак?
— Итак, дамочка оказалась права… Мне ужасно обидно, что не принял всерьез ее истории.
— Сожаления теперь неуместны, сержант. Как все случилось?
— Миссис Джилмон позвонила нам по телефону полчаса назад… как только обнаружила труп…
— Кто эта женщина?
— Мать парнишки, который вроде бы по субботам приходил к мистеру Гендерсону.
— Пошлите за ней.
Разыскали миссис Джилмон, крупную рыжеволосую особу, глубоко потрясенную случившимся. Она жалобно причитала:
— Как тяжко видеть такие вещи! Этого не должно происходить в цивилизованном мире! Куда смотрит полиция?
— Она ожидает, что вы ей поможете, миссис…
— Джилмон… Глэдис Джилмон. Вот уже пять лет, как я овдовела, а потому знаю, что такое…
— Вашего мужа тоже убили?
— Уби… О Господи! Придумали тоже! Горас Джилмон был порядочным человеком! Это из-за легких… Они не выдержали этого проклятого тумана…
— Позвольте принести вам соболезнования, но я хотел бы знать, что случилось сегодня вечером у Гендерсонов.
— Нечто ужасное! Никогда этого не забуду!
— Я надеюсь, миссис Джилмон, ради вас самой, что время возьмет свое. Итак, я слушаю.
— Так вот, мой мальчик…
— Я знаю юного Бенни.
— Как, откуда? Где вы его встретили?
— Да здесь же…
— Вот совпадение! Каждую субботу в пять часов Бенни убегал к Гендерсонам и проводил часа два с мистером Ларри. Он такой замечательный человек!.. Вернее, был… Ах! Какое несчастье… И чем теперь заниматься Бенни по субботам!
— Даже не представляю, миссис Джилмон.
— Знай вы меня получше, вам бы и в голову не пришло, что я могу позволить мальчику шляться по улицам. Я слежу за его воспитанием. Что может быть лучше правильного подхода? На чем же я остановилась?
— Каждую субботу Бенни торопился к Ларри Гендерсону.
— Да… Сегодня, как всегда… Только около половины седьмого мой Бенни вернулся, весь дрожа. Я тут же догадалась: дело неладно… «Что ты натворил, Бенни?» — спросила я. «Это не я», — ответил он. «Не ты, Бенни? Не ты натворил?» — повторила я. «Нет, я не виноват, что мистер Гендерсон упал». Представляете, как я испугалась? Я сказала себе: Глэдис, ты должна пойти посмотреть. Может быть, мистер Гендерсон заболел или с ним что-то стряслось. Я выскочила из дому в такой спешке, что забыла надеть шляпу, и, уверена, нашлись люди, которые заметили это.
Мортлок знал, что не следует мешать подобного рода болтунам и прерывать их. Лучше от этого не станет. Вооружившись терпением, он слушал, тогда как сержант Бредли в раздражении подавал ему знаки. Крис время от времени сдерживал его нетерпение повелительным взглядом.
— Уходя, Бенни не закрыл дверь. И я вошла. А как бы вы поступили на моем месте? Естественно, прежде чем пройти в гостиную, я остановилась в прихожей и крикнула: «Мистер Гендерсон?.. Вы дома, мистер Гендерсон?» Но ему, бедняжке, было не до ответов. Только поняла я это позже. В гостиной — никого. Я спустилась в мастерскую и вот там… О! Святой Георгий! Какая страшная картина!.. Мистер Гендерсон — на полу, а все лицо у него залито кровью… Если я не упала замертво, так только потому, что у меня крепкое сердце! И, главное, я подумала, что станут болтать в квартале, если меня найдут лежащей на полу рядом с мистером Гендерсоном… Он был, конечно, мертв, бедняга, но все-таки… на свете столько вздорных людей! Я поднялась наверх и позвонила в полицию… Вот и все.
Крис Мортлок вздохнул с облегчением, а сержант Бредли вытер со лба пот.
— Благодарю вас, миссис Джилмон. Вы нам очень помогли.
— Прекрасно! Я рада за вас!
— А где сейчас Бенни?
— Дома, ему запрещено выходить, если не хочет получить взбучку. С мальчика и так достаточно впечатлений на сегодня!
— Можно мне поговорить с ним?
— С Бенни? Но я же все вам рассказала…
— Вы мне все рассказали, миссис Джилмон, о том, что произошло после смерти мистера Гендерсона… А от Бенни я надеюсь услышать, что случилось до этого…
— В таком случае я пойду вперед, ребенка надо хотя бы причесать… Мне бы не хотелось, чтобы у вас сложилось превратное впечатление…
Что бы Крис ни думал об излишней щепетильности миссис Джилмон, он позволил ей отправиться вперед и использовал эту нежданную передышку для разговора с сержантом Бредли. Тот очень гордился честью докладывать самому инспектору Скотленд-Ярда.
— Вот ведь невезуха, инспектор! Я как раз дежурил! Позвонил комиссару, а он в Ливерпуле у больной сестры, инспекторы же все в разгоне — в разных концах района. Мои люди сообщили в Скотленд-Ярд. Ребята из отдела установления личности и судебно-медицинский эксперт только что приехали. Я не стал предупреждать, что вы уже на месте… и, может быть, напрасно?
Мортлок пожал плечами. В это мгновение он думал о чем угодно, только не о строгом соблюдении субординации и предписаний, предусмотренных на такой случай. Для Криса важно было одно — он предал Джойс Гендерсон, не сумел защитить ее мужа. А вместе с угрызениями совести в груди его разгорался тяжелый гнев против глупого недоверия Ричарда Болтона. Если б суперинтендант послушал… Но упрямство Болтона ни в коей мере не оправдывает недостаток мужества и энергии у него самого. После первой же встречи с Джойс он угадывал, предчувствовал назревавшую драму и при этом сидел сложа руки, ограничиваясь советами, а нужно было действовать, и быстро! Ведь избежать преступления ничего не стоило… Мрачные размышления Криса нарушил полицейский, сообщивший, что некая миссис Рэмсдом готова дать показания насчет убийства мистера Гендерсона. Ввели пожилую даму, и она тотчас обратилась к Мортлоку.
— Вы здесь начальник?
— Пусть это вас не заботит, миссис Рэмсдом. Вы что-нибудь видели?
— Видела ли? Конечно, видела.
— Валяйте!
Она уставилась на него круглыми глазами.
— Куда же вы хотите, чтобы я валила?
— Я имел в виду: говорите. Расскажите, что вы видели, и поторопитесь, миссис Рэмсдом, я очень спешу.
— Я тоже. Я не могу надолго оставлять Дизраэли одного. Он этого не вынесет!
Просветив инспектора насчет персоны Дизраэли III, миссис Рэмсдом принялась подробно излагать, как и почему обратила внимание на посыльного «Гроверс энд К°». Она описала его внешний вид, странное поведение, недопустимую развязность и заключила, что именно этот посыльный, вне всякого сомнения, и совершил убийство!
— Я тоже так полагаю, миссис Рэмсдом. Сержант Бредли запишет ваши показания. Повторите ему все, что вы так любезно рассказали мне, и затем поставьте свою подпись.
— Мою фотографию напечатают в газете?
— Возможно, но обещать не могу.
— Если мое фото появится в газете, мисс Хеллоуэй лопнет от злости!
Мортлок оставил миссис Рэмсдом с вожделением думать о грядущей кончине мисс Хеллоуэй (что за соблазнительная перспектива!), а сам пошел к миссис Джилмон, где его ожидал маленький Бенни, аккуратно причесанный, с чисто вымытыми руками. Крис уселся в кресло и, усадив мальчугана напротив, начал расспрашивать.
— Итак, Бенни, говорят, ты очень любишь мастерить?
— Да.
— И каждую субботу вечером ходил помогать мистеру Гендерсону?
— Да.
— И сегодня тоже?
Мальчик, дрожа от возбуждения, принялся торопливо объяснять:
— Мистер Гендерсон хотел построить маленький манеж для деревянных лошадок… Он давно обещал мне его!
— А ты помогал?
— Я подавал инструменты, штифты, клей… Все было почти готово, когда вошел тот человек.
— Ты можешь вспомнить, как он выглядел?
— Как посыльный «Гроверс энд К°», но не из тех, кого я знаю. Догадался я только по фирменной каскетке…
— А его лицо?
— Пойди разгляди, когда у него темные очки и огромные рыжие усы…
— И этот тип ничего не сказал при виде тебя?
— Меня? Он меня не видел!
— Как же так?
— А я сидел под верстаком, собирал гвозди магнитом, но сам все видел; сперва я подумал, что это мамочка уже пришла за мной.
— И ты остался под верстаком?
— Да.
— А потом?
— Посыльный спросил: «Вы мистер Гендерсон?», и мистер Гендерсон ответил: «Да, это я. Что вам угодно?» Человек сказал: «У меня к вам поручение…» Мистер Гендерсон спросил: «Поручение? От кого?» И тут этот тип вдруг заорал: «От Мелвина, сволочь!» Это правда, клянусь вам, сэр, он сказал «сволочь!»
Мортлок зажмурился от радости. Итак, все в порядке! Из Бенни получился самый безупречный свидетель, о каком только можно мечтать. Такой свидетель ни у кого не вызовет ни малейших подозрений. Он отправит Мелвина Дэвиса на виселицу!
— Вы мне не верите, сэр?
— Напротив, я верю тебе, конечно, верю! Ну а дальше?
— Дальше я услышал «бах»! Мистер Гендерсон упал… его голова, вся в крови, оказалась почти у моих колен. Мне хотелось закричать, но я так испугался, что не смог!
Миссис Джилмон сочла момент подходящим, чтобы обратиться к Богу, и начала причитать:
— Благодарю Тебя, Господи, что лишил моего сына в тот момент голоса, этот презренный человек убил бы и его тоже!
— С его стороны это ужасная ошибка.
Остолбеневшая мамаша могла только пролепетать:
— Что… что… что…
— Да, оставив в живых Бенни, убийца совершил ошибку. Разумеется, с точки зрения его собственных интересов. Благодаря вашему парнишке палач затянет красивую пеньковую петлю вокруг шеи этого мерзавца!
— А! Хорошо бы… но ведь нужно сначала узнать, кто он?
— Я его знаю, миссис Джилмон.
Женщина в изумлении всплеснула руками.
— Я сразу поняла, какой вы опытный, знающий полицейский, но чтобы во всем разобраться так быстро!.. Значит, стоило малышу описать вам, как все случилось, и вы тотчас… Расскажи бы мне такое — никогда бы не поверила!
Вернувшись к Гендерсонам, Крис нос к носу столкнулся с Ричардом Болтоном.
— Сержант Бредли сообщил мне, что вы здесь, инспектор… В общем, как я узнал, вы опоздали на каких-нибудь полчаса? Ужасное невезение…
— Я полагаю, суперинтендант, теперь вы верите рассказу и опасениям миссис Гендерсон?
— Не такой уж я упрямец, Мортлок!
— Позвольте мне в таком случае выразить сожаление, что вы пришли к этому выводу с опозданием в несколько дней!
— Позвольте и мне напомнить вам, инспектор, что я ваш начальник. Если я и заслуживаю осуждения, не вам судить о моих ошибках!
— Прошу прощения, сэр.
Мужчины с неприкрытой враждебностью смотрели друг на друга, и никому из посторонних в тот момент даже в голову не пришло, что это закадычные друзья. Ричард Болтон успокоился первым и, вернувшись к официальному тону, продолжал:
— Я прочел показания миссис Джилмон и миссис Рэмсдом. Естественно, полиция Уотфорда проведет расследование и попытается разыскать мнимого посыльного «Гроверс энд К°», но, боюсь, тут просто наивно надеяться на успех. Убийца запасся фирменной каскеткой и, не привлекая внимания соседей, проник в дом Гендерсонов. К счастью, миссис Рэмсдом — из породы тех любопытных старушек, которые часто оказывают полиции неоценимую помощь. Вы, кажется, побывали и у юного Бенни?
Инспектор Мортлок описал встречу с мальчиком. Суперинтендант внимательно выслушал.
— А вы, инспектор, быть может бессознательно, не подсказали ребенку имя Мелвина?
— Я сам здорово опешил, узнав, что убийца произнес именно это имя, и нарочно попросил Бенни повторить.
— И у него не возникло никаких сомнений? Бенни не колебался между, уж не знаю там, Эневрин, Гэвин, Мелвин?
— Нет, ни малейших колебаний.
— Любопытно…
— С вашего позволения, сэр, разрешите напомнить вам, что я инспектор Скотленд-Ярда и до сих пор меня ни разу не заподозрили в должностном преступлении!
— Успокойтесь, Мортлок… Ваша честность не вызывает у меня ни тени сомнений, но вы настолько одержимы Мелвином Дэвисом, что…
— Да, есть у меня такая слабость: не люблю проходимцев, сэр, и не желаю, чтобы их покрывали!
— Мортлок!
Болтон сжал кулаки; разговор явно принимал драматический оборот, но вошел судебно-медицинский эксперт:
— Ничего особенного, джентльмены, я вам сказать не могу… Никаких затруднений… Пуля попала в голову, смерть наступила мгновенно, приблизительно час назад. Кровоподтеки, синяки на лице вызваны падением. Я проведу, как обычно, вскрытие, но, смею вас заверить, ничего нового оно не даст… Заключение вы получите в Скотленд-Ярде в понедельник днем, поскольку на воскресенье я уезжаю. Выходных у нас как будто еще не отменили… До свидания, джентльмены.
Люди из отдела установления личности и эксперт-дактилоскопист в свою очередь отправились отдыхать. Последний мог лишь подтвердить наличие множества отпечатков, принадлежащих, по-видимому, убитому и ребенку. Тело погрузили в фургон, и присутствовавшие журналисты убедились, что за час полиция узнала не больше, чем они сами. Когда суперинтендант, инспектор и сержант вновь остались одни, Болтон сказал:
— Надеюсь, теперь мы сможем допросить миссис Гендерсон?
И, не ожидая ответа, распорядился:
— Предупредите ее, сержант!
Вскоре, опираясь на руку миссис Джилмон, вошла Джойс. Ее усадили в кресло, а миссис Джилмон вежливо, но твердо попросили вернуться домой. Это ее явно раздосадовало, и, дабы соблюсти приличия, соседка с достоинством заявила, что вернется, как только джентльмены оставят помещение, ибо нельзя же бросать в полном одиночестве женщину, перенесшую столь жестокий удар!
Как только миссис Джилмон вышла, Болтон обратился к вдове:
— Миссис Гендерсон, позвольте принести вам соболезнования, а также выразить раскаяние: я не вполне поверил вашему рассказу, переданному мне инспектором Мортлоком. История казалась настолько невероятной… Но факты налицо, и теперь единственным извинением для меня служит отсутствие официальной жалобы. Без нее мы все равно не смогли бы защитить мистера Гендерсона. Увы, он жестоко поплатился за свое недоверие к ним.
— Я знаю…
— А теперь, миссис Гендерсон, не расскажете ли вы все с самого начала?
Молодая женщина говорила долго. Она рассказала, в каком смятении ее муж вернулся из Харрогита, как он несколько дней молчал, прежде чем наконец решился доверить ей причину своей тревоги.
— Вы не пробовали расспрашивать мистера Гендерсона, не старались узнать, что муж от вас скрывает?
— Нет… Как я уже объясняла мистеру Мортлоку, Ларри… не совсем здоров. Сказались последствия войны и пребывания в плену. Но я привыкла к его характеру.
— А как вы объясняете его тревогу, если, судя по всему, виновник дорожного происшествия больше не напоминал о себе вашему мужу?
— Несмотря на паралич воли, Ларри оставался порядочным человеком и полностью отдавал себе отчет, что, умолчав о происшедшем, стал соучастником преступления. Он страдал от этого, но не мог преодолеть страх.
— Но вы сами, миссис Гендерсон…
— Я сделала все возможное, пытаясь убедить Ларри выполнить гражданский долг. Напрасно. Тогда я решилась действовать без его ведома и… вот результат.
— Каким образом ваш муж узнал виновника аварии?
— Увидел его фотографию в газете.
— Фотографию?..
— Мелвина Дэвиса.
Суперинтендант какое-то время размышлял, а затем спросил:
— И что вы намерены делать, миссис Гендерсон?
— В каком смысле?
— После гибели вашего мужа.
— Отомстить, разумеется! Я не хочу, чтобы его убийца остался безнаказанным!
— Если я вас верно понял, миссис Гендерсон, вы собираетесь подать в суд на Мелвина Дэвиса?
— А разве не так я обязана поступить?
— Я вынужден обратить ваше внимание, миссис Гендерсон, на следующее: того, что вы считаете неопровержимыми доказательствами, недостаточно для присяжных. Вы не присутствовали при наезде в Харрогите и знаете о происшествии только с чужих слов. Нужны доказательства, улики иного рода — иначе осуждения не добиться. И, кроме того, если Дэвиса не признают виновным, он сможет возбудить против вас дело о возмещении ущерба, нанесенного его интересам.
Охваченный гневом, Крис думал, что Болтон снова пытается спасти Дэвиса от возмездия. Он хотел вмешаться, но суперинтендант предупредил выпад.
— Прошу вас, Мортлок!.. Я знаю, что говорю: можете спросить у сержанта, разделяет ли он мою точку зрения?
Бредли кивнул:
— Несомненно, сэр.
Не интересуясь более мнением своего помощника, Ричард вновь обратился к миссис Гендерсон:
— Закон есть закон. Советую вам подать жалобу на неизвестное лицо и таким образом предоставить нам возможность вести расследование. Даю вам слово: если виновником этого преступления окажется Мелвин Дэвис, мы в конце концов изобличим его. Но в настоящий момент разумнее всего не называть его имени, чтобы не вспугнуть.
— Я поступлю так, как вы мне советуете, сэр.
— Приезжайте в понедельник в Скотленд-Ярд и подайте жалобу. Вы давно живете в Уотфорде, миссис Гендерсон?
— Пять лет.
— А раньше?
— В Лондоне, в Ноттинг Хилле, также пять лет.
— А еще раньше?
— У себя в семье, в Донкастере. Мой отец Фицджеральд Боунинг держал магазин садового инвентаря и семян. Там я и познакомилась с Ларри.
— Насколько мне известно, вы не очень подходили друг другу по возрасту?
— Да, около двадцати лет разницы… но я так хотела уехать из Донкастера…
— Ваши родители живы?
— Нет, умерли. Ларри тоже остался совсем один.
— Благодарю вас, миссис Гендерсон, за то, что вы любезно ответили на все мои вопросы. Прошу также не сердиться на меня, если некоторые из них показались вам бесполезными или бестактными, но такова уж наша работа…
Уходя, Болтон обернулся к Джойс.
— Еще одно слово… Ваш муж застраховал свою жизнь?
— Да.
— На значительную сумму?
— Тысячу фунтов.
— В общем, в материальном плане ваше положение станет труднее, несмотря на эту сумму?
— Скажем, менее обеспеченным. Мой муж зарабатывал в среднем сто двадцать фунтов в месяц.
— Благодарю вас. Вы идете, Мортлок?
— Следую за вами, сэр.
Прощаясь с вдовой, Крис пожал ей руку. Суперинтендант и сержант скромно удалились.
— Что бы ни говорил Болтон, миссис Гендерсон, я возьму Мелвина Дэвиса!
— Я верю в вас, инспектор.
— До понедельника?
— До понедельника.
Оставив сержанта Бредли перед полицейским участком Уотфорда, Болтон сказал:
— Проведите обычную проверку, сержант, привычки, репутация, долги и т. д. Вы давно служите, и учить вас не надо. Ну а что до остального, то мы займемся этим в Скотленд-Ярде. Я вас подвезу, Мортлок?
— Если вас не затруднит…
Они долго ехали, не произнося ни слова, лишь возле Хендон Вэй Ричард проговорил:
— Если бы я запретил вам заниматься делом Гендерсона, вы бы все равно сунули туда нос, не так ли?
— Вы не ошиблись, сэр.
— В таком случае разумнее поручить вам это официально.
— Благодарю вас, сэр.
И они снова замолчали. Болтон полностью сосредоточился на оживленном в этот субботний вечер движении. Только проезжая через Сент-Джонс-Вуд, он заметил:
— Пожалуй, в понедельник утром вам следовало бы сходить к работодателям Гендерсона. Не мешает выяснить, разделяют ли они мнение об убитом его жены.
— Понятно.
— Со своей стороны, я позвоню в Донкастер и попробую собрать сведения о миссис Гендерсон. Не возмущайтесь, Мортлок, прежде чем двигаться дальше, я должен получить подтверждение, что тут все в порядке. Слишком часто жены убивают своих мужей!
— Шеф!
— Знаю, знаю. У вашей миссис Гендерсон превосходная репутация, в момент убийства она находилась с вами, не преминула сообщить вам о нависшей угрозе, страховка никак не возместит мужниного заработка, и, кроме того, ее горе кажется искренним…
— Так в чем же дело, сэр?
— В том, что — хотите верьте, хотите — нет, Мортлок, — все это меня радует. Чертовски не хотелось бы арестовать женщину, вызвавшую в вас такое участие… Расследование в Донкастере преследует двоякую цель: полностью обелить в моих глазах миссис Гендерсон и доказать, что эта женщина действительно достойна вас.
— Не понимаю, сэр.
— И однако, тут нет ничего мудреного: теперь, когда Ларри Гендерсон переселился в мир иной, место свободно, не так ли?
К своему стыду, Мортлоку пришлось признаться, что он уже думал о такой возможности, и поэтому без особой уверенности он спросил:
— Надеюсь, вы все-таки не подозреваете меня?
— Нет. Во-первых, вам повезло, у вас есть неопровержимое алиби на час преступления, а во-вторых, я же вас знаю.
Опять воцарилось молчание: каждый из двух полицейских думал о другом. Они преодолели сутолоку на Риджент-стрит и Нортумберленд-авеню, выехали на набережную Виктории и наконец остановились перед решеткой Скотленд-Ярда.
— И не забывайте все-таки, Мортлок, что в Лондоне живет не один человек по имени Мелвин, — уточнил Ричард Болтон.
Глава III
Крис провел отвратительное воскресенье. Он даже не вышел из дому ни позавтракать, ни пообедать, а ограничился тем, что нашел в холодильнике, и выпил полбутылки виски. Такое с ним редко случалось. После разговора с суперинтендантом нервы совсем расшатались. Отныне у Мортлока появилась уверенность: Болтон намеренно покрывает Дэвиса. Но почему? Что их связывает? Человек простой, не склонный к философствованию, Крис всю жизнь повиновался и никогда не нарушал приказов, а тут неожиданно оказался перед дилеммой, решения которой так и не мог найти, хотя она вымотала из него все жилы. С одной стороны, честь полицейского не позволяла смириться с тем, что преступник может избежать наказания. Более того, действуя в интересах правосудия, Мортлок одновременно поддерживал Джойс, чью жизнь тот мерзавец исковеркал, убив Ларри. С другой стороны, преследуя Мелвина Дэвиса, инспектор опасался раскопать какую-нибудь неблаговидную историю и невольно дискредитировать Ричарда Болтона. Ведь до последних дней он питал к суперинтенданту самые дружеские чувства. Что стало бы с Джанет, если б выяснилось: ее муж отнюдь не такой честный, неподкупный полицейский и не достоин ее любви и восхищения? Имел ли Крис право, стремясь отомстить за Джойс, разрушить семейный очаг Джанет? Но инспектор слишком чтил Скотленд-Ярд, чтобы смириться с существованием в его рядах продажного полицейского.
К вечеру Мортлок отвлекся от столь тягостных размышлений, и его мысли сосредоточились исключительно на Джойс. Разумеется, теперь, когда ее мужа больше нет, ничто не мешало Крису мечтать о будущем, о том, как они с Джойс вместе начнут новую жизнь. И разве может Мортлок дать более веское доказательство своей привязанности, чем наказание убийцы Гендерсона? Все англичане читали в детстве Вальтера Скотта, и Мортлок невольно уподоблял себя доблестному рыцарю, всегда готовому на любой подвиг ради дамы сердца. Полицейский больше не пытался хитрить с самим собой. Он любил Джойс, и поиски убийцы ее мужа были единственным уважительным предлогом для встреч с молодой женщиной. Почему Крис должен жертвовать своим счастьем из-за того, что Ричард Болтон, возможно, когда-то повел себя бесчестно? Суперинтендант долго и счастливо жил с Джанет. Так чего ради Крису лишать себя этого счастья? Ему всегда так не хватало тепла, а история со Сьюзан принесла одни разочарования. Быть может, впрочем, не будь Джойс, узнав о тайных делишках Ричарда, Мортлок не стал бы ничего предпринимать.
Но пожертвовать Джойс ради Ричарда? К ночи инспектор уже решил добиваться руки миссис Гендерсон даже ценой карьеры Ричарда Болтона и благополучия Джанет.
Утром в понедельник, отправляясь в Скотленд-Ярд, Мортлок думал о том, как вести себя при встрече с Болтоном. С каждым часом он все более укреплялся в подозрениях насчет порядочности суперинтенданта. Крис вспомнил, как с самого начала Ричард пытался уговорить его бросить дело Гендерсона. Оскорбительные сомнения в психической полноценности Джойс, то, с какой неохотой он согласился приказать уотфордской полиции охранять дом Гендерсонов, явное нежелание признать свою ошибку после убийства — все это выглядело очень странно, как будто Болтон даже расстроился, что убийце не удалось вместе с мужем прикончить заодно и жену. И он, помимо всего прочего, явно не скрывал недовольства, узнав о присутствии Криса на месте преступления; не случись этого, суперинтендант, несомненно, направил бы подозрения на Джойс. Инспектора снова охватила ярость, стоило ему вспомнить, как Болтон спросил Джойс о страховке. К счастью, смерть Гендерсона ничего не принесла его жене, даже наоборот, иначе суперинтендант усмотрел бы здесь хороший повод отвлечь внимание полиции от Мелвина Дэвиса. Кроме того, он не пожалел сил, пытаясь убедить Джойс не подавать в суд на гангстера, не погнушавшись даже запугиванием, а тем самым прибег к откровенному давлению! Наконец, как хитро суперинтендант напомнил инспектору, что множество людей носят имя Мелвин, надеясь удержать его от всякой инициативы… Все указывало на то, что Болтон намеренно отвлекал внимание следствия от Дэвиса.
И Крис твердо решил заняться как раз Мелвином Дэвисом, и вплотную, понравится это суперинтенданту или нет.
Придя к себе в кабинет, Мортлок сразу же потребовал принести ему досье Мелвина Дэвиса. Инспектор хотел основательно изучить человека, с котором ему предстояло сразиться и чье крушение обеспечило бы его собственное счастье. На фотографии, вклеенной в дело и сделанной несколько лет назад, Крис увидел человека лет сорока — сорока пяти, довольно красивого, но вульгарного — этакого самодовольного самца, уверенного в своей силе и неотразимости.
История Мелвина Дэвиса была типичной для бессовестных авантюристов, действующих за гранью закона, но достаточно умных или хитрых, чтобы не зарываться. Игрок, мошенник, сутенер, подпольный букмекер, контрабандист, Мелвин прошел через все, каждый раз отделываясь пустяковыми наказаниями. Лишь дважды Мелвин балансировал на краю пропасти, когда ему предъявляли обвинение в убийстве кого-то из конкурентов. Но оба раза суд не смог вынести обвинительного приговора из-за отсутствия бесспорных улик. Немалую роль сыграл в этом и Билли Мак-Намара, юрист с сомнительной репутацией. Все негодяи Лондона, достаточно богатые, чтобы оплачивать его весьма дорогие услуги, выбирали защитником именно Мак-Намару. В досье, повествующем о жизни Мелвина Дэвиса, часто повторялись одни и те же имена: Перри Сэдлер, самый старый, сумевший избежать десяти лет тюремного заключения, Свэн Лейк Валлиец (этот имел-таки в активе пять лет лишения свободы), и, наконец, последний — Джордж Фиппс, хулиган, недавно освобожденный из исправительной колонии, со списком судимостей, пестревшим приговорами по мелким делам. Милая компания проходимцев и мошенников. При мысли о том, что, убив честного человека, Мелвин Дэвис и его сообщники могут остаться безнаказанными, все в инспекторе восставало. Конечно, если он изобличит Дэвиса в случайном убийстве женщины и ее ребенка, то гангстер в его возрасте лишится свободы, почитай, до самой смерти. Если же Мортлоку удастся доказать, что убийство Ларри Гендерсона совершено по приказу Мелвина, то это приведет его на виселицу. Инспектор не сомневался: владелец «Роуг'с мач» не убивал мужа Джойс собственными руками. Для этого скорее годились Перри Сэдлер или Свэн Лейк, но, по правде говоря, оба его совершенно не интересовали. Презренная мелкая рыбешка преступного мира… Рано или поздно за ними навсегда захлопнутся ворота тюрьмы, если только однажды утром палач не накинет на них черный капюшон.
После досье Дэвиса Крис запросил дело его невесты Барбары Коукбэн. Внимательно изучив лицо Барбары, Крис невольно признал, что лет этак с десяток назад она, очевидно, была прехорошенькой. Блондинка с умным, некогда миловидным личиком. Однако возраст оставил на нем неизгладимые следы: веки отяжелели, лоб и щеки покрылись морщинами, шея заплыла жирком. Но глаза оставались по-прежнему ясными. Во внешности этой женщины инспектор не углядел ничего неприятного, напротив. Но, поскольку Барбара участвовала в последних операциях Дэвиса, в Скотленд-Ярде на нее завели досье. Уроженка Уэльса, мисс Коукбэн приехала в Лондон в 1945 году и стала танцовщицей второразрядного мюзик-холла. Девушку подозревали в том, что она приставала к мужчинам на улице, но не смогли найти достаточных доказательств. Танцовщица, певичка, платная партнерша для танцев, Барбара прошла через все наиболее темные и сомнительные стороны ночной жизни Лондона. Дважды ее штрафовали за то, что она шаталась в пьяном виде по улицам. Мелвину нетрудно было втянуть ее в свою банду. Барбаре уже стукнуло сорок лет, возраст, когда девица такого сорта окончательно опускается, а впереди ожидают еще худшие лишения, если не сумеет выкарабкаться.
Мортлок закрыл досье Барбары, когда его вызвал Болтон. Крис шел к суперинтенданту готовый к бою.
Но Ричард после смерти Гендерсона, казалось, хотел восстановить с помощником прежние отношения.
— Ну как, Крис, хорошо провел воскресенье?
— Да нет… воскресенье холостяка. Я сидел дома и размышлял на досуге об убийстве Ларри Гендерсона.
Мортлок предпочитал сразу же перейти в наступление и показать: он не позволит одурачить себя. Суперинтендант отметил выпад и спросил с иронией:
— Не слишком ли много пыла?
— Просто я стараюсь выполнить свои обязанности как можно лучше и тем надеюсь компенсировать равнодушие кое-кого из коллег, утративших интерес к работе… или думающих только о том, как избежать неприятностей, даже если это в ущерб правосудию.
— Полноте, полноте, успокойтесь, инспектор… и не клевещите на Скотленд-Ярд. Он не заслуживает столь пристрастных несправедливых обвинений. Если ваша взвинченность объясняется нетерпением узнать, что нам сообщили о миссис Гендерсон, то могу вас успокоить.
Болтон взял со стола несколько листков бумаги.
— В Донкастере все, кто ее знал как Джойс Боунинг, дружно пели ей хвалу. Сначала — примерная маленькая девочка, потом хорошая ученица. Серьезность, уравновешенность и влияние на школьных товарищей предопределили дальнейшую карьеру учительницы. Мисс Боунинг ни разу не заподозрили в каком-либо романтическом похождении. Такая сдержанность, по мнению близких, объяснялась природной добродетелью, строгим воспитанием и сентиментальным разочарованием, одной из тех маленьких драм юной девушки, о которых пишут в дешевых романах. В шестнадцать лет мисс Боунинг увлеклась своим кузеном Томом Донелли, который ухаживал за ней. Но затем молодой человек уехал в Нью-Йорк, и больше о нем никто не слышал. Мисс Боунинг страдала, набожность ее в это время удвоилась, поскольку разочарованные влюбленные часто бросаются в объятия церкви.
Мортлок питал отвращение к подобному зубоскальству. Ему казалось, Джойс публично раздевают. А Ричарда, по-видимому, приводила в восторг нахмуренная физиономия подчиненного.
— Никто в Донкастере не сомневался, что мисс Боунинг вообще не выйдет замуж и состарится подле своих родителей, весьма почтенных коммерсантов: будет ходить в кино по субботам и в церковь по воскресеньям. Но в один прекрасный день в лавке Фицджеральда Боунинга появился Ларри Гендерсон и стал бывать там все чаще и чаще. Оглашение о помолвке вызвало удивление: Гендерсон никак не походил на обольстителя. Все единодушно решили, что Джойс просто взяла то, что подвернулось под руку! Еще какое-то время она преподавала в Донкастере, а затем добилась перевода в Лондон. Директриса школы в Ноттинг Хилле, под началом которой работала миссис Гендерсон, так же хвалит ее, как сограждане в Донкастере. Надеюсь, вы довольны?
— Тем, что впервые за годы службы мы наткнулись на честного человека? Не вижу, почему бы мне действительно не радоваться?
— Согласен с вами. Теперь надо столь же тщательно выяснить все, что касается Ларри Гендерсона. Отправляйтесь к его хозяевам и постарайтесь узнать, что они думают о бывшем служащем.
— Почему я?
— А потому, мой дорогой, что, если вы, именно вы, представите благоприятный для Гендерсона рапорт, у меня не останется никаких сомнений в его полной благонадежности.
Контора Смита и Брауна находилась в Кингсвэй. Здесь так и чувствовался истинный культ традиций. Можно было спокойно биться об заклад, что продаваемые товары точно соответствуют описанию в каталоге. Для начала Крис узнал, что Смит и Браун действительно существуют, но их разделяют два поколения. Он решил переговорить сначала с мистером Смитом, старшим патроном.
Джошуа Смит, старик с викторианскими манерами, сидел в темном кабинете, обставленном тяжелой мебелью из красного дерева. Все здесь выглядело чинно и торжественно, и малейший проступок показался бы чудовищным преступлением. Джошуа Смит носил крахмальный воротничок и очки в золотой оправе. Инспектора он принял прохладно, но учтиво.
— Садитесь, инспектор. Мне нечасто случается принимать джентльменов из полиции, и я несколько удивлен вашим визитом.
— Я пришел, сэр, попросить вас рассказать мне о Ларри Гендерсоне.
— Бедняга! Какой печальный конец… Он работал у нас много лет и ничего, кроме похвал, не слышал. Превосходный представитель фирмы, весьма ценимый клиентурой. Он поступил к нам за несколько лет до войны и очень быстро продвигался, осваивая различные второстепенные должности. Мы придаем этому большое значение. Старшие сотрудники должны знать все о деятельности и службах нашей фирмы. Мы радовались возвращению Гендерсона после войны, рассчитывая, что он станет одним из руководителей предприятия, но Гендерсон держался за место коммерческого агента и, несмотря на все предложения, не захотел отказаться от своих поездок. У него была страсть колесить по дорогам, если можно так выразиться. Смерть Гендерсона — большая потеря для нас и печаль. Мы очень высоко его ценили и постараемся что-нибудь сделать для вдовы. Впрочем, к счастью, у той есть профессия, так что нужда ей не грозит.
— Если оставить в стороне достоинства мистера Гендерсона как представителя вашей фирмы, что вы думаете о нем как о человеке, сэр?
— Честно говоря, мы редко встречались. Общение с персоналом скорее входит в обязанности моего компаньона Ивлина Брауна. Он и сможет рассказать то, что вас интересует, инспектор, причем сделает это гораздо лучше меня. Я же знаю лишь, что Ларри Гендерсон пользовался превосходной репутацией, что он заключил приличный брак… А насчет остального… Во всяком случае, могу вас уверить: мы считаем убийство Гендерсона… совершенно… недопустимой вещью, и я желаю, чтобы вы как можно скорее схватили этого мерзавца!
Очевидно, Джошуа Смит воспринимал смерть от руки убийцы как поступок, недостойный истинного джентльмена. Инспектор успокоил его, обещав, что Скотленд-Ярд постарается закончить дело как можно скорее, и, выйдя от Смита, вздохнул так глубоко, словно надеялся вновь ощутить биение жизни.
Ивлин Браун ничем не напоминал своего компаньона. Этот сорокалетний элегантный мужчина, одетый по последней моде Бонд-стрит, с цветком в петлице, казалось, твердо решил относиться к прошлому с уважением, но без раболепства. Мортлок подумал, что интерьер его кабинета мог бы навести Джошуа Смита на размышления о конце света или, как минимум, привычного и любимого мира. Здесь мебель была светлых тонов, и картины на стенах принадлежали кисти художников-авангардистов. От одного их вида всех Смитов Соединенного Королевства хватил бы апоплексический удар. Браун встретил Криса радушно и сразу же предложил что-нибудь выпить, но полицейский отказался.
— Ваш компаньон сказал мне, что высоко ценил Ларри Гендерсона как представителя вашей фирмы. А от вас я с глубокой признательностью выслушал бы мнение о нем как о человеке.
— Вы знали Гендерсона?
— Я видел его всего один раз, незадолго до смерти, — меня пригласили на чашку чаю.
— Ну, тогда вы, вероятно, и сами уже составили представление о нем?
— Я хотел бы знать ваше мнение, сэр.
— Говорят, до войны Гендерсон ничем не отличался от других. В таком случае эта мясорубка сильно его изменила. Два-три раза в квартал он приходил ко мне с отчетом и никогда не единой шутки, ни тени улыбки. Словно бедняга жил в постоянной тревоге. Можно было подумать, его терзали угрызения совести или страх наказания. Он не ходил в гости ни к кому из коллег и почти не бывал на наших маленьких праздниках, разве что на Рождество, да и то без жены. Странный тип! И, знаете, его насильственная смерть меня не особенно поразила!
— Что вы хотите этим сказать, сэр?
— А то, что люди, которым уготована трагическая гибель, носят на лице какую-то особую печать, печать беды, как, к примеру, несчастный Гендерсон. У вас уже есть какие-либо предположения, кто мог его убить?
— Никаких.
— Любопытно. Просто в голове не укладывается, что кто-то ненавидел Гендерсона до такой степени и даже пошел на убийство!
— Он виделся с вами в последнее время?
— Подождите, сейчас загляну в записную книжку… Да, две недели назад…
— И вы не заметили ничего особенного?
— Право, нет, разве что, пожалуй, Гендерсон выглядел еще более хмурым и встревоженным, чем обычно.
— И он не говорил о причинах?
— Гендерсон никогда никому не изливал душу. Он говорил только о работе и ни о чем другом. Даже когда женился, сообщил об этом вскользь, торопливо, так что мы немного растерялись и не смогли преподнести подобающий в таких случаях подарок. Гендерсон не внушал симпатии, инспектор, как, впрочем и неприязни. Его присутствие немного действовало на нервы, но стоило бедняге закрыть за собой дверь — и о нем тут же забывали.
— Видать, все-таки нашелся человек более памятливый.
— Да… непостижимо… А как выглядит его жена?
— Очень хороша.
— Вот те на! Я воображал себе этакого усатого дракона, неизменно либо со скалкой в руках, либо за исправлением тетрадей.
— Вы заблуждаетесь, сэр.
И в подтверждение своих слов Мортлок быстро, но с жаром набросал портрет Джойс. Браун улыбнулся.
— Она, видно, произвела на вас сильное впечатление? Но где, черт возьми, Гендерсон ухитрился откопать такую девушку?
— В Донкастере.
Ивлин Браун вздохнул.
— Мы, лондонцы, не ведаем, какие богатства таятся в провинции! — закончил он.
Выслушав отчет Мортлока, суперинтендант коротко подвел итог:
— В общем, по-моему, миссис Гендерсон говорила нам правду. Знаю-знаю, вы с самого начала пытались меня в этом уверить, инспектор, но я предпочитаю более убедительные доказательства. Теперь они есть, и мы сможем заняться исключительно Мелвином Дэвисом.
— И вы действительно согласны? — воскликнул несколько удивленный Крис.
— А почему бы нет? Порой ваши суждения о моих действиях несколько парадоксальны, если не сказать: забавны, мой дорогой. И все потому, что я принимаю решения не так стремительно, как вы. Поверьте, пусть моя уравновешенность иногда раздражает вас, но она надежно оберегает от оплошностей. Мелвин Дэвис — хищник серьезный. На испуг нам его не взять. Нужно загнать парня в угол, чтобы он уже не мог отвертеться. Но как? Признаюсь, сейчас я понятия не имею, что тут можно сделать, но спокойно поразмыслим и…
— Пока мы будем размышлять, Дэвис может смыться!
— Куда?
— Ну…
— Парень только что наладил дело, которое влетело ему в копеечку, и к тому же объявил о помолвке. Зачем бы ему бежать?
— Дэвис не дурак. Коли почует, что мы подобрались на опасное расстояние…
— Вот именно, Мортлок, очень важно, чтобы он ничего не заметил. Мы вызовем Дэвиса сюда под каким-нибудь предлогом и постараемся разведать, что он думает, чего опасается, на что рассчитывает… Именно поэтому я счел несвоевременным советовать миссис Гендерсон подавать на Дэвиса жалобу. Мак-Намара не только быстро добился бы его оправдания, но еще и потребовал бы возмещения морального ущерба.
— Это было бы уж слишком!
— Закон есть закон. Неужто я должен напоминать вам об этом?
Разговор снова принимал острый характер, поскольку Болтон не мог скрыть легкой иронии, выводившей Криса из себя, а тот, со своей стороны, с видимым трудом сдерживал озлобление против суперинтенданта.
Неприятную беседу прервало появление миссис Гендерсон. Суперинтендант пригласил учительницу в кабинет и зарегистрировал ее жалобу на неизвестное лицо, приложив к делу полученные ею письма с угрозами. После этого Болтон отпустил вдову, сказав на прощанье:
— Миссис Гендерсон, если Мелвин Дэвис и вправду убийца вашего мужа, мы поймаем его, даю вам слово. Но, повторяю, в ваших же интересах ничего не форсировать. Я жду от вас терпения и доверия.
Не заботясь о том, что подумает Болтон, Мортлок вышел вместе с Джойс. В трауре молодая женщина казалась ему еще прекраснее. Инспектор уговорил ее выпить с ним чашку чаю. Когда они расположились за столиком друг против друга, Крис начал пылко уверять Джойс, что она может полностью рассчитывать на него.
— Я сомневаюсь, что суперинтендант искренне верит вашим обвинениям против Дэвиса. Он усматривает в этом, уж не знаю какую, экзальтацию…
— Но почему он отказывается мне верить? Разве смерть моего мужа — не достаточное доказательство?
— Пока мне не хотелось бы говорить о своих подозрениях. Удовольствуйтесь тем, что я вам верю. Клянусь, миссис Гендерсон, я изобличу Мелвина Дэвиса, даже если это будет стоить мне карьеры!
Джойс взглянула на него, и Крис прочитал в ее глазах нежность. Это потрясло инспектора.
— Как я благодарна вам за сочувствие!.. Но с какой стати вы станете ради меня рисковать своим положением?
— Во-первых, у нас с Дэвисом старые счеты, а во-вторых…
Он смущенно запнулся.
— Да?
И Крис решился открыть ей истинную причину:
— С той первой встречи я непрестанно думаю о вас. Мне нужно видеть вас, говорить с вами…
Покраснев, Джойс попыталась заставить его умолкнуть:
— Но, инспектор…
— Меня зовут Кристофер. Крис — для друзей.
— Но я всего лишь сорок восемь часов как овдовела!
— Поэтому я и прошу лишь о дружбе.
— Моей? Но она вам принадлежит, инс…
— Крис, пожалуйста!
Миссис Гендерсон улыбнулась.
— Хорошо, пусть так. При условии, что и вы будете называть меня просто Джойс.
— С радостью.
— Откровенно говоря, Крис, я не понимаю, что вас так привлекло в моей особе… Во мне нет ни красоты, ни элегантности… Обыкновенная женщина, ведущая самое заурядное существование… Что тут интересного?
— Вы — женщина, какую я всегда хотел встретить!
И Мортлок рассказал о себе. О неудачном браке со Сьюзан, о постоянно терзающей его горечи. Джойс сочувственно слушала.
— Вы, конечно, хороший человек, Крис, но не позволяйте воображению увлекать вас слишком далеко. Постарайтесь видеть вещи такими, каковы они есть. И из меня не создавайте идеала, наделяя несуществующими достоинствами. Я уже говорила вам это. При всех его слабостях я любила Ларри. Он умер не своей смертью, и эта несправедливость меня возмущает. Теперь я могу выразить преданность мужу только одним способом — добившись наказания убийцы.
— Я вам помогу!
— Знаю, поэтому и слушала вас, хотя вы немного отвлеклись от предмета разговора, не так ли? Но вы сделали это очень мило. К чему скрывать? Никто за мной никогда не ухаживал и… и это приятно. Пожалуй, сегодня вечером я внимательней погляжу в зеркало, с чуть большей верой в себя. Спасибо вам за это.
Договорились, что Крис будет постоянно держать Джойс в курсе расследования. Если потребуют того обстоятельства, они встретятся, но сейчас молодой женщине надо особенно стараться не шокировать соседей. Она ушла, и Крис поклялся остаться старым холостяком, если не сможет жениться на Джойс.
В эту ночь он заснул, мечтая о том дне, когда Джойс Гендерсон станет Джойс Мортлок.
На следующий день, в час аперитива, когда Мелвин Дэвис весело болтал со старыми друзьями, неожиданно явился агент Скотленд-Ярда и срочно вызвал его к суперинтенданту Болтону. Скрывая тревогу под жизнерадостной улыбкой, Мелвин вошел в кабинет, где его ждали Болтон и Мортлок.
— Привет, супер… привет, инспектор.
Полицейские не ответили. Дэвис протянул Болтону руку, но тот не обратил на нее внимания. Зато Крис тут же подметил тревогу на лице бывшего гангстера. В целом он выглядел уныло, красавчик Мелвин. Лицо изрезали глубокие морщины. Налитые кровью глаза выдавали больную печень закоренелого любителя выпивки. Пальцы, унизанные перстнями, слегка дрожали. От пьянства? Или от страха?
— Садитесь, Дэвис, — сухо предложил Ричард.
Посетитель повиновался, беспокойно поглядывая то на одного, то на другого полицейского.
— Что это вы затеваете против меня, шеф?
— У нас нет обыкновения затевать, как вы выразились, что бы то ни было.
— Тогда зачем меня вызвали?
— Потому что уже давненько не слышал о вас.
— Ну что, это вроде неплохо.
— В определенном смысле, пожалуй… Чем вы сейчас занимаетесь, Дэвис?
— Только не говорите, будто вы не в курсе! О моем ресторане на Бик-стрит достаточно разговоров! Кстати, вы всегда будете там желанными гостями…
— Ну, это совсем другая песня…
— Жаль, что вы не верите, шеф!
— А вас это удивляет?
— Шеф, вы меня обижаете!
— Ах, как грустно… А что это за история с женитьбой, объявленной с такой помпой?
— Разве я не имею права жениться?
— Никак не представляю вас в роли отца семейства.
Дэвис захохотал:
— Шутите, шеф… Мне уже стукнуло пятьдесят, а Барбаре — сорок семь. О том, чтоб в наши годы заводить детей, и речи быть не может!
— Тогда зачем?
— Да просто захотелось остепениться, шеф… Барбара — славная баба, а меня потянуло на старости лет иметь кого-нибудь под боком. Думаю, примерно так бывает у всех, а?
— Какая у вас машина?
Несколько сбитый с толку неожиданным вопросом Дэвис, казалось, колебался.
— Какая у меня… «хиллмэн»… А в чем дело?
— Здесь задаю вопросы я.
— Хорошо, у меня «хиллмэн», ну и что дальше?
— Вы часто на нем ездите?
— Не очень. Это чертова парковка…
— А вы случайно не катались в последнее время в северном направлении?
— В северном? Не припомню…
Мортлок, не спускавший с Дэвиса глаз, был уверен, что тот лжет.
— В сторону Харрогита, например?
При этих словах гангстер потерял самообладание.
— Почему именно Харрогит? К чему вы клоните?
— Вы не ответили, Дэвис.
— Нет, я и не думал ездить в Харрогит! Нечего мне там делать!
— Любопытно…
— А?
— Да… потому что свидетели утверждают, что заметили там вашу машину примерно три недели назад.
— Выдумки!
— Почему?
— Как — почему?
— Зачем людям говорить, будто они видели вашу машину, если это не так?
— Откуда я знаю? Полоумные найдутся повсюду!
— Верно, но чтобы все они оказались в одном месте и стали жертвой одной и той же галлюцинации? Согласитесь, это уж большая редкость!
— Ну, и кроме того, у меня немало врагов!
— Не может быть!
— Вы прекрасно знаете, что по дороге я кое-кому пребольно наступил на ногу.
— Тогда осмелюсь предположить, что именно эти ноги…
— Черт возьми!
Болтон внезапно изменил тон.
— И по какой же причине они решили досадить вам, сообщив о прогулке в Харрогит?
— Понятия не имею.
— Вы что, принимаете меня за дурака, Дэвис?
— Конечно нет, шеф…
— Тогда перестаньте так себя вести!
— Но, в конце концов, в чем вы меня обвиняете?
— Ни в чем.
— Ни в чем? Тогда что все это…
— Просто случай поболтать, возобновить знакомство, тем более мы так редко стали видеться…
— Ну, у меня об этом голова не болит… Простите, шеф, но от Скотленд-Ярда я предпочитаю держаться подальше…
— Вы же знаете, что в жизни не всегда делаешь то, что хочется… До свидания, Дэвис.
— Я могу… идти?
— А что, вы не прочь остаться?
— Нет-нет! Прощайте, джентльмены!
— Дэвис!
— Да, шеф?
— Я вам говорю до свидания, а не прощайте. Не забывайте об этом.
Когда они снова остались одни, Болтон заметил:
— Этого малого не так-то легко будет уличить… Но все же не стоит терять надежды. Главное — не давать ему ни минуты покоя… но не грубо: если он пожалуется, нам придется изложить причины, которых… у нас нет. Не следует забывать, что в настоящее время Дэвис, уплатив прежние долги обществу, такой же гражданин, как и другие, и пользуется теми же правами, основное из которых — на спокойную жизнь. Вы согласны с этим, Мортлок?
— Гм…
— Прошу прощения, инспектор, но как прикажете понимать ваш ответ?
— Как вам угодно, сэр.
Суперинтендант мог понять многое, но никогда не допускал, чтобы ему выказывали неуважение или вели себя развязно. Однако на сей раз Болтон сдержался — в последнее время Крис слишком легко доводил его до бешенства — и сухо бросил:
— Объяснитесь! Это приказ!
— Хорошо, сэр.
Мортлок встал и, опираясь обеими руками о стол шефа, дрожащим от ярости голосом отчеканил:
— Для меня виновность Мелвина Дэвиса очевидна и, поскольку я имею честь принадлежать к Скотленд-Ярду, не позволю преступнику избежать заслуженного наказания. Я добьюсь, чтобы Дэвиса повесили, сэр.
— Инспектор, вы вносите в это дело ожесточение, несовместимое с вашими обязанностями!
— Если вы называете ожесточением то, что я хочу как можно лучше выполнить порученное мне дело, тогда я и вправду действую с ожесточением. Зато оно восполняет чрезмерную снисходительность некоторых других.
— Поостерегитесь, Мортлок! Только воспоминания о нашей прежней дружбе мешают мне применить к вам дисциплинарные меры. Меж тем, вас следовало бы наказать!
— Я тоже, сэр, вынужден напоминать себе о нашей дружбе и лишь из-за этого занимать выжидательную позицию, которая облегчает игру Мелвина Дэвиса.
Ричард Болтон в свою очередь встал.
— А теперь выслушайте меня внимательно, Мортлок, так как я не стану повторять это предостережение: если вы позволите себе малейший самостоятельный шаг против Дэвиса, я временно отстраню вас от должности!
— Прекрасно! И тем заслужите вечную благодарность Мелвина Дэвиса!
И не ожидая, пока начальник отпустит его, Крис вышел из кабинета. Уже от себя он позвонил Джойс Гендерсон и попросил встретиться вечером — инспектору не терпелось рассказать ей последние новости.
Ричард Болтон, как всегда, пришел домой на ленч. Выражение лица мужа сразу встревожило Джанет.
— Что случилось, Дик?
— Оставь меня…
— Я приготовила тебе жареные почки под…
— Я не голоден.
Слишком хорошо зная мужа, миссис Болтон понимала: не нужно отставать от него — Ричард лишь притворяется, будто не хочет ничего рассказывать. Она подошла поближе.
— Ты болен?
— Да нет же!
— Тогда что с тобой?
— Неприятности…
— На работе?
— А где же еще?
— Что, расследование идет не так, как ты надеялся?
— Ну, можно сказать и так…
Джанет в душе улыбнулась. Ага, механизм запущен: теперь Дик выложит все, и она его утешит, как делала все эти годы. Джанет опустилась в кресло напротив мужа.
— Расскажи мне, Дик?
— Этот дурак Мортлок…
— Крис? Что с ним?
— Да просто рехнулся!
— Рехнулся? Не может быть. Люди не свихиваются ни с того ни с сего, да еще так, чтобы никто этого не заметил. И почему вдруг Крис… должен сойти с ума?
— Потому что влюблен!
Джанет звонко рассмеялась:
— Ну, коли дело только в этом, опасность невелика. Скоро пройдет! И прежде всего, ты ведь тоже, Дик, слегка смахивал на тронутого, когда ухаживал за мной? Не говори «нет» — ты обидишь меня!
Но суперинтендант даже не улыбнулся.
— Тут нет ничего смешного, Джанет, уверяю тебя. Крис сейчас как раз собирается наделать таких глупостей, словно бы и впрямь обезумел.
— Так что это за история?
— Все та же! Мортлок обиделся на меня, потому что я не обратил должного внимания на слова миссис Гендерсон, в которую он влюблен. Честно говоря, тут Крис не ошибся. Убийство мистера Гендерсона меня поразило и… обеспокоило. Но не мог же я защищать этого человека против его воли?
— Конечно.
— А кроме того, Крис злится, что я не разделяю его восторгов по поводу Джойс Гендерсон, и ведет себя вызывающе.
— Она тебе действительно не нравится?
— Напротив! Это хорошо воспитанная женщина, приятная, хотя нельзя сказать, чтоб очень красивая. Более того, я убежден: если миссис Гендерсон согласился выйти замуж за Мортлока, Крис будет с ней очень счастлив.
— Тогда почему ты не сказал ему об этом?
— Что именно?
— То, что ты сейчас сказал мне. Я уверена, Крис бы ужасно обрадовался, и от вашей маленькой ссоры не осталось бы и следа!
— Не мне же извиняться перед подчиненным!
— Дик, это на тебя не похоже!
— Ладно. Только зря ты его защищаешь…
— Я просто стараюсь быть справедливой. Но наверняка произошло что-то еще… иначе у тебя не было бы такого расстроенного вида.
Болтон рассказал о дерзостях, которых наговорил ему Мортлок, о его упрямом нежелании уважать устав и предписания. Крису, видите ли, не терпелось арестовать Мелвина Дэвиса!
— Этот дурень не понимает одного: если он превысит свои полномочия, Дэвис не упустит возможности дать ему по рукам, и я даже не смогу защитить его.
— Ну а ты, Дик? Ты тоже думаешь, что виновен именно Дэвис?
— Пока не знаю.
— И все-таки у тебя есть на сей счет какие-то соображения?
— Ты рассуждаешь, как Крис, Джанет. Пойми, в нашей профессии совершенно неважно, кто что думает. Значение имеют только улики, и пока у нас нет доказательств, Дэвис для меня — невиновен.
— И что, по-твоему, попытается сделать Мортлок?
— Понятия не имею. Но наверняка — чудовищную глупость! И, что хуже всего, не вижу никакого средства помешать ему.
— Есть одно, Дик…
— В самом деле? Какое?
— Ты уверял, будто Крис ведет себя так странно только из желания понравиться этой Джойс Гендерсон, верно?
— Да, и что дальше?
— Поговори с миссис Гендерсон. Пусть она использует свое влияние на Криса и образумит его!
— Я? Да ты с ума сошла, честное слово!
И Джанет поняла: ее муж отвергает шаг, несовместимый с его достоинством, но не возражал бы, возьми она переговоры на себя.
Около шести вечера Крис нашел Джойс в «их» баре. Сначала молодая женщина держалась очень сдержанно.
— Надеюсь, вы не злоупотребляете моим доверием и действительно хотите сообщить что-то важное. Меня бы глубоко огорчило, будь это лишь уловкой, чтобы… просто увидеться…
— Прошу вас, Джойс… Я достаточно взрослый человек, и, если бы дело обстояло именно так, не стал бы искать предлога.
Она, казалось, вздохнула с облегчением.
— Мне это больше нравится, Крис… Впрочем, все, что хотя бы отдаленно напоминает ложь, обман, внушает мне почти болезненный страх. В чем же дело?
Мортлок коротко рассказал о том, как Мелвина Дэвиса вызвали в Скотленд-Ярд и о сцене, разыгравшейся потом между ним, Мортлоком, и суперинтендантом. Джойс встревожилась.
— Простите, Крис, но вы неосторожны.
— Осторожен или неосторожен, мне все равно, я хочу отомстить за вашего мужа!
— Теперь уже мне придется спросить вас: откуда такое ожесточение?
— Я думаю, что, отомстив за мистера Гендерсона, уплачу ему свой долг.
— Долг?
— Да… вы знаете о моих чувствах к вам… Мне кажется, что… что тогда я избавился бы от ощущения… будто краду вас у него.
— Крис, вы уже не юноша, — строго возразила Джойс. — И меня удивляет, как в вашем возрасте можно настолько поддаться увлечению… в общем… ни на чем не основанному. Наверное, я вам нравлюсь, но строить планы и думать о будущем, особенно на следующий день после смерти Ларри… в этом есть что-то… неподобающее и слишком наивное. Я убеждена в вашей искренности, поэтому не разорвала немедленно всех отношений с вами, но вы должны вести себя осторожнее. Сознаюсь, ваше расположение мне приятно, но воображать, будто я уже превратилась в миссис Мортлок… Извините, если я позволила себе отчитать вас, но жизнь гораздо серьезнее и сложнее, Крис. Во всяком случае, я не допущу, чтобы вы ссорились с шефом и ставили под угрозу свою карьеру ради… ради того, что пока еще просто химера!
Мортлок покачал головой.
— Вы меня совершенно не поняли, Джойс. Да, я хочу, чтобы Мелвина Дэвиса повесили за убийство вашего мужа, но, кроме того, не могу смириться с мыслью, что служащий Скотленд-Ярда тесно связан с бандитом!
— Но у вас нет никаких оснований полагать, будто суперинтендант…
— Никаких? Он без конца советует мне не досаждать Дэвису и, вызвав гангстера, не нашел ничего лучше, чем разглагольствовать о его «хиллмэне» и о Харрогита! Подумайте, ведь теперь Дэвис, если и оставил там следы, поспешит их уничтожить! Более того, совершенно ясно, что гангстера встревожило упоминание о его машине, и еще больше — о Харрогите. Это бросилось бы в глаза даже детективу-новичку, а Болтон и ухом не повел. Я считаю, что он должен был стремительным нападением окончательно загнать Дэвиса в угол. Вместо этого Болтон отпустил его, пробормотав скрытую угрозу, причем рассчитанную больше на меня, чем на Дэвиса…
— Но, в конце-то концов, с чего бы вашему шефу так себя вести?
— Не знаю. Предполагаю лишь, что в тот или иной момент своей карьеры Болтон взял у Дэвиса деньга и с тех пор уже не может преследовать его, не рискуя погубить вместе с бандитом и себя.
— Ваши обвинения настолько серьезны…
— Знаю, и поверьте, это ужасно мучает меня… Я очень люблю и Ричарда, и Джанет, его жену. Они были моими единственными друзьями…
— Вот именно. Хорошенько подумайте, прежде чем идти напролом!
— Нет. Некоторые вопросы не допускают ни раздумий, ни колебаний — например те, что затрагивают честь. Я очень рано осиротел и лишился тепла, Джойс. Я надеялся обрести это человеческое тепло, которого мне так не хватало, рядом со Сьюзан, моей женой; что из этого вышло, вы уже знаете. Тогда я целиком ушел в работу. У меня нет другой семьи, кроме Скотленд-Ярда. Как же я могу позволить кому-то из членов этой семьи вести себя недостойно? Я уже принял решение и отправлю Мелвина Дэвиса на виселицу, даже если это доконает Ричарда Болтона, даже если сам я буду в отчаянии…
Прежде чем ответить, Джойс долго смотрела на Мортлока.
— Насколько я понимаю, ничто не заставит вас передумать, верно, Крис?
— Ничто.
Если откровения Мортлока стали для миссис Гендерсон неожиданностью, то на следующий день ее ждал еще один сюрприз. Выйдя из школы, она увидела красивую молодую женщину.
— Вы миссис Гендерсон? — спросила та, приблизившись.
— Да, миссис?..
— Миссис Болтон, Джанет Болтон.
Джойс не смогла скрыть удивление.
— Жена?..
— …суперинтенданта Скотленд-Ярда. Вы не могли бы уделить мне несколько минут, миссис Гендерсон?
— Охотно. Мой дом в двух шагах отсюда. Если вы не возражаете, давайте вместе попьем чаю.
— С удовольствием.
Они замолчали, слегка смешавшись, и так, не проронив ни слова, прошли от школы до дома миссис Гендерсон.
В гостиной обе, словно по обоюдному согласию, не сразу заговорили о том, что привело сюда миссис Болтон. Джойс приготовила чай, и только когда они расположились за столом с чашками в руках, Джанет решилась начать:
— Я не знала вашего мужа, миссис Гендерсон, но понимаю, как велико ваше горе…
— Благодарю вас.
— То, о чем мне необходимо побеседовать с вами, — деликатная тема, и заранее прошу извинить меня, если вам покажется, будто я вмешиваюсь в чужую жизнь…
— Я вас охотно прощаю, миссис Болтон. Вы не похожи на любительницу перемывать косточки ближних.
— Спасибо, вы облегчаете мою задачу, миссис Гендерсон. Речь пойдет о Крисе Мортлоке. Позвольте мне говорить откровенно: он любит вас.
Джойс сделала резкое движение.
— Знаю-знаю, вы считаете неприличным говорить о любви, когда ваш муж… Но поверьте, моя бестактность — вынужденная… Беда в том, миссис Гендерсон, что из-за любви к вам Крис может наделать глупостей.
— Не представляю, на каком основании я…
— Позвольте мне договорить до конца, иначе я просто больше не смогу этого сделать. Крис — на редкость невезучий парень. Трудное детство, неудачная женитьба… короче, мы с мужем привязались к нему как к родному, и для меня Крис почти как брат. Но в тот день, когда встретил вас, Крис вдруг резко порвал с нами.
— Поверьте, миссис Болтон, это не моя вина!
— Не сомневаюсь, иначе я не пришла бы сюда. Парень влюбился в вас с первого взгляда и словно обезумел. Мой муж всячески пытался предостеречь его, успокоить, но потерпел неудачу. Крис поссорился с Ричардом — моим мужем, — вообразив, будто тот без должного рвения защищает ваши интересы. Мортлоку втемяшилось непременно отомстить за мистера Гендерсона, чтобы… не знаю, как бы поточнее выразиться… чтобы быть достойным вас. Крис кажется замкнутым и даже хмурым, но в душе он — настоящий романтик. У меня такое впечатление, будто Мортлок чисто по-рыцарски стремится завоевать вас и для этого как можно быстрее поразить врага — того, кого считает виновником ваших несчастий: Мелвина Дэвиса.
— А убийца и в самом деле — Дэвис?
— Не знаю, миссис Гендерсон, да и мой муж тоже. По-видимому, Дэвис — человек хитрый и очень ловкий. Поэтому без особых предосторожностей с ним не справиться. Ричард предпочитает нанести удар только наверняка, имея на руках все улики, доказывающие его виновность. Однако у Мортлока на сей счет другое мнение. Он хочет действовать стремительно, не слушая ничьих советов. Меж тем Ричард уверен: поступая так, он не только потерпит поражение в профессиональном плане, но поставит под удар и себя лично. Мой муж не сможет до бесконечности закрывать глаза на нарушения дисциплины, а Крис все больше выходит из повиновения — боюсь, его выходки того и гляди получат огласку.
— Понятно. Но чего вы ждете от меня, миссис Болтон?
— Крис ведет себя так из любви к вам. Может, вы согласились бы использовать свое влияние и немного успокоить его? Я так хочу уберечь Криса от него самого, миссис Гендерсон! Но меня он не послушает. Так что вся надежда только на вас.
— Боюсь, вы приписываете мне власть, которой я не обладаю. Конечно, Крис Мортлок, не раздумывая, признался мне в чувствах, которые я в нем пробудила. В ответ я напомнила, что овдовела совсем недавно, что любила мужа и вовсе не помышляю искать ему замену, и, наконец, недостаточно полюбить, чтобы тут же добиться взаимности. Уж не помню, выразилась ли я именно так, но смысл сказанного, бесспорно, передаю вам точно. Я даже особенно подчеркнула, что меня удивляет подобный пыл со стороны человека его возраста.
— И как Крис воспринял ваши слова?
— Честно говоря, мне показалось, что он их даже не слышал.
— Мы не можем позволить ему загубить свою карьеру!
— Ради вас, миссис Болтон, и, кроме того, поскольку я уже взяла на себя определенную ответственность, попробую еще раз воззвать к разуму инспектора, но успеха не обещаю.
— Я уверена, он услышит вас.
— Хотелось бы надеяться.
Прощаясь, миссис Болтон заверила хозяйку дома, что знакомство доставило ей большое удовольствие и теперь она понимает восторги Криса.
После ухода Джанет миссис Гендерсон долго размышляла о причинах странного визита. Миссис Болтон, похоже, говорила искренне и, судя по всему, действительно привязана к Мортлоку. Но Джойс не могла забыть предупреждений инспектора. «Зачем приходила сюда миссис Болтон? Чтобы спасти Мортлока или прикрыть Дэвиса?» — спрашивала она себя.
Глава IV
В Ярде Мортлоку передали, что звонила некая миссис Гендерсон, и его охватило глубокое волнение. Полностью находясь во власти своих мечтаний, инспектор ни секунды не сомневался: Джойс просто хотела увидеться, посидеть рядом, в надежде, что любовь Криса скрасит ее одиночество.
Как ни парадоксально, страсть настолько поглотила все существо Мортлока, что он совершенно утратил ощущение реальности. Крис не замечал ни сдержанности молодой женщины, ни равнодушия ко всем его излияниям. Все затмевала любовь, и, даже рассуждая правильно, Крис исходил из ложных посылок.
Джойс предупреждала, что свяжется с ним сама, но полицейский, не выдержав, позвонил в школу. «Миссис Гендерсон не может прервать урок и позвонит сама в обеденный перерыв», — ответили ему. Мортлок проклял школьное расписание и, чтобы успокоить нервы, погрузился в изучение отчетов о несчастном случае в Харрогите. Впрочем, безрезультатно.
В час раздался звонок. Джойс сухо попросила инспектора не названивать в школу и не компрометировать ее. Учительнице необходимо беречь свою репутацию. Крис рассыпался в извинениях и обещал больше не допускать подобных оплошностей. Собеседница, сменив гнев на милость, предложила увидеться сегодня же вечером — ей хотелось рассказать об одном довольно неожиданном посещении, но по телефону этой темы лучше не касаться. Мортлок попытался узнать больше, но Джойс лишь уверила его, что никакой непосредственной угрозы нет, а посетитель, по крайней мере формально, не связан с окружением Мелвина Дэвиса.
Миссис Болтон подробно рассказала мужу о встрече с Джойс. Молодая женщина ей очень понравилась, и, по мнению Джанет, вполне сможет укротить служебное рвение Криса. Ричарду передалась убежденность жены, и он подумал: чем черт не шутит, может, удастся спасти их пошатнувшуюся дружбу? В таком настроении Болтон и вызвал к себе инспектора.
— Как жизнь, Крис?
— Спасибо, все в порядке, а у вас, сэр?
Вежливая сдержанность ответа на секунду смутила суперинтенданта. Мортлок явно не собирался уступать. Ну что ж, если ему нравится продолжать свою идиотскую игру, можно ответить тем же. И голос Болтона стал официальным:
— Ставлю вас в известность, что Хэдден и Стайлс провели детальное расследование в районе Бик-стрит. Их окончательный вывод таков: Дэвис ведет себя как честный коммерсант.
— Мне казалось, сэр, что вести это дело вы доверили мне.
— Я изменил решение.
— Можно узнать почему?
— Нет.
— Что ж, это не важно, причины мне известны.
— Тогда зачем же спрашивать?
— Просто хотелось проверить кое-какие подозрения.
— Считайте, что вам это удалось.
— В избытке откровенности вас не упрекнешь, сэр. Я могу идти?
— Нет еще. Дело Мелвина Дэвиса поручено Хэддену и Стайлсу, и никому другому. Вы меня хорошо поняли?
— Превосходно, сэр.
— Надеюсь, вам не придется об этом напоминать. А теперь можете идти, инспектор.
Цинизм Болтона удивил Криса, хотя он и не подал виду. Инспектор хорошо знал своих коллег Хэддена и Стайлса. Не слишком умные, честные ребята, всячески избегающие самостоятельных и ответственных заданий… С такими можно не сомневаться: ничего лишнего они не сделают и будут строго выполнять инструкции. Но если суперинтендант думает, что, сделав подобный выбор, можно спасти Дэвиса, то ошибается, и жестоко.
В половине седьмого Мортлок встретился с Джойс в заведении, которое уже стало «их баром». Так что официант, причислив эту парочку к завсегдатаям, обращался с ними с почтительной фамильярностью и приносил заказ, не дожидаясь, пока его об этом попросят. Хотя Мортлоку и не терпелось поскорее выслушать Джойс, сначала он попросил прощения за утреннюю бестактность:
— Прошу вас, не сердитесь на меня, Джойс, вы ведь знаете, почему я…
— Не надо об этом, Крис, иначе мне придется уйти.
— Ладно… Так зачем вы меня позвали?
Джойс рассказала ему о визите миссис Болтон и добавила:
— Это очень милая дама, но я не привыкла откровенничать с теми, кто, как говорится, мягко стелет. Не поделись вы со мной подозрениями насчет суперинтенданта, я бы поверила ей без колебаний. Похоже, миссис Болтон очень к вам расположена, или же она великолепная актриса. Крис, я немного зла на вас — вы заронили в мою душу сомнения. Теперь я просто не знаю, как расценивать поступок миссис Болтон.
Мортлок усмехнулся:
— Ну, понять его нетрудно. Для Болтона сейчас любые средства хороши. Якобы заботясь о моих интересах, на самом деле он пытается меня нейтрализовать. Не далее как час назад суперинтендант сообщил, что отстраняет меня от дела Дэвиса и передает его двум другим инспекторам. Поскольку оба они — воплощенная посредственность, он полагает, что может спать спокойно. Поверьте мне, Джойс, Ричард Болтон не за меня боится, а за себя.
— Вы думаете, миссис Болтон приходила…
— Наверняка муж ей намекнул, что стоило бы потолковать с вами, а то и приказал. Я уверен, Джанет совершенно ни в чем не виновата, но она безумно любит Ричарда и слепо ему верит.
— Однако мне вовсе не хочется, чтобы из-за меня вы нарывались на неприятности.
— Не волнуйтесь, Джойс. Теперь это мое личное дело. И я не бросил бы его, несмотря ни на какие ваши уговоры. Повторяю: я во что бы то ни стало добьюсь, чтобы Мелвина Дэвиса повесили.
Миссис Гендерсон упросила Криса сделать вид, будто он не знает о визите жены Болтона.
— Честно говоря, Крис, вы поколебали мое мнение о суперинтенданте. Я думала, подобного рода низость существует только в романах. И, по правде сказать, мне все еще не верится, что государственный служащий…
Эти слова тронули Мортлока. Он устало пожал плечами:
— Раньше это было бы немыслимо, но теперь… Одни предают интересы Короны, исповедуя какую-нибудь более или менее лживую идеологию, другие изменяют из-за денег. Я жалею первых, порой они заблуждаются вполне искренне, и презираю вторых — ими-то движет исключительно корысть.
Он поднялся, как боксер, которого считали побежденным, а он нашел в себе силы продолжать бой.
— Теперь вы понимаете, почему наказание Дэвиса для меня так важно независимо даже от чувства к вам. Нужно исцелить эту гноящуюся язву, и, раз уж я один в курсе, мне и надлежит ее прижечь. И действовать без колебаний, не заботясь ни о каких дружеских отношениях, ибо сказано: «Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее. И враги человеку домашние его». А мой дом — это Скотленд-Ярд, Джойс.
Миссис Гендерсон не позволила ее проводить, и Крис вернулся домой. Забыв об обеде, он устроился в кресле, чтобы еще раз прочувствовать блаженные мгновения, проведенные с любимой женщиной. Перед ним открывался новый мир, королевой которого стала Джойс Гендерсон. Но этому миру противостоял другой — мир Дэвиса и ему подобных: скопище бандитов, подонков, взяточников и продажных полицейских. Однако наступит день — Крис в этом не сомневался, — когда силы света и порядка вычистят и выметут всю эту гниль, накапливавшуюся веками в человеческом обществе, как речной поток смывает грязь. Один у себя в комнатушке в заурядном квартале Хаммерсмита, инспектор все более распалялся праведным гневом. Пуританское воспитание толкало его на борьбу со Злом. Около десяти вечера, уже собираясь ложиться спать, Мортлок вдруг подумал, что, покуда он, человек долга и чести, страдает в одиночестве, Ричард Болтон нежится в объятиях жены, а Мелвин Дэвис щеголяет перед посетителями своего вертепа, — и Криса охватило негодование. В его лице, как ему казалось, попрана сама Справедливость. Не в силах этого вынести, он оделся и вышел из дому.
Мортлок ненавидел район Сохо, представлявшийся ему средоточием порока. На Бик-стрит он почувствовал себя крестоносцем, побивающим неверных. Неоновая вывеска «Роуг'с мач» пронизывала ночную тьму разноцветными огнями. У входа Крис поколебался с минуту, но быстро отбросил сомнения и вошел. Нельзя откладывать начало сражения, иначе Болтон отнимет у него все силы, опутав липкой сетью административных ограничений и служебных инструкций.
Одна из тех девиц, которых прическа, румяна и одежды делают похожими на сошедшие с конвейера манекены, взяла у него пальто. В метрдотеле, встретившем его на пороге зала, полицейский узнал Свэна Лейка по кличке Валлиец. Тот тоже узнал его, но постарался принять как обычного клиента.
— Вы один, сэр?
Крис посмотрел на него с улыбкой.
— Ваши манеры, как я вижу, изменились к лучшему, Лейк.
Тот чуть покраснел:
— Не понимаю вас, сэр.
— Ну, ведь не в тюрьме же вы научились так разговаривать.
— Что вам, собственно, надо?
— Вот так-то лучше, да и привычнее, наверное.
— Убирайтесь вон!
— Э, полегче! Забыл, как надо разговаривать с инспектором Скотленд-Ярда?
— Я пытаюсь начать все сначала и жить по закону. Вам это не нравится?
— Ну как же, конечно, нравится. Если только вы не врете.
— Это вы к чему?
— К тому, что я вам не верю. Шпана шпаной останется. По правде сказать, я успокоюсь только тогда, когда за вами захлопнутся ворота уютной тюрьмы Ее Величества.
— Сука!
— Осторожней, молодой человек! Иначе вы рискуете сразу же отведать прелести одиночки!
Лейк промолчал, но по выступившей на его лбу испарине Крис понял: будь у этого человека возможность прикончить его безнаказанно, он бы ее не упустил.
Лейк усадил его за самый неудобный столик, но Крис плевал на подобные мелочи. Оглядевшись по сторонам, он не заметил ни одного знакомого лица. Вышло бы неловко, если бы его увидели в таком месте. А не заглядывает ли сюда время от времени Болтон? Просто выпить рюмочку… За счет заведения, конечно. С другой стороны, ничего не скажешь, обстановка скорее приятная: мягкая, теплых тонов обивка стен, неяркий свет — уютно, комфортабельно.
— Добрый день, инспектор!
Крис не заметил, как к столику подошла женщина и склонилась над ним. Ну до чего же все они вежливые стали! Мортлок почти сразу узнал Барбару Коукбэн. Лейк предупредил хозяйку, и она явилась разнюхивать.
— Добрый вечер, мисс.
— Вы позволите подсесть к вам на минутку?
— Пожалуйста.
— Вы в первый раз удостаиваете нас чести…
— В первый.
— И… Вам здесь нравится?
— Очень.
— Приятно слышать. По этому поводу — не разрешите ли заведению вас угостить?
— Прошу прощения, но свои счета я привык оплачивать сам.
Наверное, слова полицейского прозвучали слишком желчно — Барбара взглянула на него с беспокойством, но постаралась ответить непринужденно:
— Знаете, вы всполошили беднягу Лейка.
— И прекрасно. Терпеть не могу таких типов, иначе пришлось бы менять профессию.
— Но Лейк в глубине души вовсе не плох.
— Наверное, мы по-разному смотрим на вещи, мисс…
— Как знать?
Оба замолчали, не зная, что еще сказать, как вдруг Мортлок заметил около оркестра знакомую фигуру.
— Постойте! Да неужели это Перри Сэдлер, вон там?
— Да, он присматривает за порядком в зале.
— Надо думать, у Перри это неплохо получается — он ведь сам долго сидел под надзором. Но коли Сэдлер тут, то, вероятно, и Джордж Фиппс где-нибудь неподалеку?
Барбара потупилась.
— Он служит у Мелвина шофером, — ответила она.
Полицейский засмеялся:
— Короче, вся банда в сборе. И все дружно перевоспитались? Трудно поверить.
Насмешка задела Барбару:
— Трудно — не трудно, но это так.
— Ну, вы-то уж, очевидно, поверили, раз собираетесь стать миссис Дэвис.
— Помимо того, что касается службы, вы, по-моему, плохо разбираетесь в жизни, инспектор. Я хочу сказать, вас мало что интересует. А мы с Мелвином слишком долго шли по скользкой дорожке, главным образом Мелвин. Так стоит ли удивляться, если мы поддерживаем друг, друга, стараясь изменить жизнь?
— Вообще-то, покаяние начинают с того, что освобождаются от нечестно нажитого. А Мелвин, судя по всему купается в уюте и роскоши.
Она резко поднялась.
— Зачем вы пришли, инспектор?
— Малость поболтать с Мелвином Дэвисом.
— Это непросто.
— Ну, для него же лучше постараться найти время.
— Почему?
— Да потому, мисс Коукбэн, что Дэвису не стоит принимать меня за идиота, и, когда я хочу с ним поговорить, пусть поторапливается.
Она повернулась и, ничего не ответив, ушла. Довольный, Крис вытянул ноги под столиком. Здорово он разворошил осиное гнездо! Они не сомневались в собственной безнаказанности, а теперь задергаются, не понимая, что бы все это значило. Знал бы Ричард, спящий рядом с Джанет, что затеял его подчиненный, живо вскочил бы!
Певичка надтреснутым голосом тянула песенку о горькой любви к моряку, который то отчаливает, то причаливает, то снова отчаливает. Крис спросил себя, что почувствовала бы Джойс, приведи ее кто-нибудь в подобное место. Наверняка вся эта вульгарная роскошь, бесстыдно выставляемая напоказ и столь далекая от ее школы в Уотфорде, глубоко шокировала бы молодую женщину. Инспектор мысленно сравнил Джойс с Барбарой — безусловно в пользу первой. Криса всегда удивляло, что люди получают удовольствие, убивая время в заведениях такого рода. Да женись он на Джойс, думал Мортлок, для него самой большой радостью стали бы долгие дни и часы рядом с женой в маленьком уютном домике.
Девицу, плачущую по моряку, сменил певец-негр, а потом какой-то лысый тип рассказывал скабрезные анекдоты, смешившие всех, кроме Мортлока. Полицейскому так претило это нагло заявившее о себе бесстыдство, что он мысленно клеймил как сообщника преступления каждого, кто смеялся. Около полуночи Лейк подошел к Крису, сказал, что мистер Дэвис вернулся и, узнав о присутствии инспектора, согласился принять его в своем кабинете. В слово «согласился» валлиец вложил все презрение, на какое только был способен. Мортлок принял вызов.
— Твой хозяин, мой мальчик, не волен соглашаться или не соглашаться. Я хочу его видеть, и точка.
— Он у себя.
— Может, и не надолго. Ну-ка, живо, показывай дорогу!
Кабинет Мелвина Дэвиса походил на все кабинеты деловых людей города: элегантный, обставленный дорогой мебелью, глубокими креслами, с вазой цветов на камине. Дэвис встретил Мортлока, разыгрывая радушие:
— Вот уж не ждал! И подумать не мог, что вы так быстро откликнетесь на мое приглашение! Простите, не сразу вас принял — только что вернулся из поездки в провинцию.
— Из Харрогита?
Мелвин побледнел.
— Почему вы мне говорите о Харрогите?
— А почему бы и нет?
Тон Дэвиса изменился.
— Лейк сказал мне, как вы с ним обошлись. Барбара тоже — вы ведь разговаривали с ней не слишком любезно. Так зачем вы пришли ко мне, инспектор?
— Повидаться.
— Я перед вами. Что дальше?
— Вы знакомы с миссис Гендерсон?
— Какой еще Гендерсон?
— Она живет в Уотфорде.
— В Уотфорде? Никогда там не бывал, разве что проездом.
— Вам не нравится это место?
— Не особенно.
— И с каких же пор?
— Не понял.
— Поясняю: вам не нравится Уотфорд, с тех пор как вы убили там Ларри Гендерсона.
Мелвин разинул рот, и его сигара покатилась на пол. Инспектору пришлось признать про себя, что разыграл удивление Дэвис превосходно, однако он счел своим долгом подчеркнуть, как мало значения придает всяким дешевым трюкам:
— Осторожнее, Дэвис… поднимите сигару, ваш прекрасный ковер загорится.
Но Дэвису было наплевать и на сигару, и на ковер, и на все на свете. Опершись обеими руками на стол, он медленно поднялся и пробормотал:
— Я что-то не врубился. Ну-ка, повторите!
— Я спросил вас: вам не нравится Уотфорд, с тех пор как вы организовали там убийство Ларри Гендерсона?
Хозяин «Роуг'с мач» глубоко вздохнул.
— Понятно, — глухо заметил он. — Вы обвиняете меня в убийстве какого-то типа, о котором я слыхом не слыхивал?
— Именно.
— Если хотите знать мое мнение, инспектор, так вы — последний негодяй. Убирайтесь отсюда немедленно, иначе получите по заслугам.
— Это было бы признанием…
— Да в чем?
— Ну как же, в совершенном преступлении.
Мелвин сжал кулаки, зажмурился и пробормотал: «Я как будто не пил сегодня больше обычного», — но, не выдержав, все же взорвался:
— Что за чепуха! Один из нас спятил, что ли? И какого типа я, по-вашему, пришил?
— Свидетеля.
— Свидетеля чего?
— Того, что вы задавили на улице женщину с ребенком и смылись.
Человек искушенный, Крис не мог не воздать должное необычайной ловкости, с какой Мелвин изображал порядочного человека, возмущенного ложными обвинениями. Последний смотрел на полицейского с не меньшим любопытством, чем, скажем, палеонтолог, встретивший на Пикадилли динозавра.
— Короче говоря, по-вашему, я своего рода Гитлер и развлекаюсь тем, что уничтожаю соотечественников? А мои охотничьи угодья — Харрогит и Уотфорд? Либо вы насмехаетесь надо мной (хотя и не похожи на любителя розыгрышей), либо действительно так думаете. Тогда объяснение одно — вы в доску пьяны! Нет, не в доску — в стельку, вусмерть!
— Ошибаетесь, Дэвис, я не шутник и не пьяница.
— Да не можете же вы на трезвую голову нести такую чушь?
— Знай вы меня получше, Мелвин Дэвис, сразу бы поняли: ваша система защиты — просто ребячество. Я так же упрям, как вы прогнили. А этим немало сказано!
— Теперь вы меня оскорбляете!
— Трудно оскорбить такого, как вы!
Как ни хотел хозяин «Роуг'с мач» избежать скандала, всему есть предел.
— Я вас вышвырну отсюда, как последнего пьянчужку, приятель.
— Я не ваш приятель, Дэвис, а полицейский, и решил заставить вас заплатить наконец за все преступления!
— Опять за свое!
— Опять, и надолго. — Крис встал. — Вас ждет веревка, Дэвис.
— Ладно, приятель, ладно. А пока вам не худо бы вздремнуть.
— Нечего мне приказывать!
— Я здесь у себя дома, не забывайте об этом.
— Вы уйдете из него в наручниках!
— Хорошо, хорошо, но вы явно хватили через край, приятель.
В ответ доведенный до крайности Мортлок ударил его. Удар получился резким, и на секунду оглушил Мелвина. Инспектор прекрасно понимал — он совершил ошибку, но при всем желании не мог вызвать в душе и тени сожалений. Мортлоку казалось, что таким образом он хотя бы чуть-чуть отомстил не только за Гендерсона, но и за Джойс.
Вытирая окровавленные губы шелковым платком, Дэвис нажал на кнопку звонка, и Перри Сэдлер со Свэном Лейком тут же возникли в дверях.
— Вышвырните вон этого пьянчугу, и без церемоний!
Оба бросились на Криса и огрели его дубинкой. На время инспектор лишился способности сопротивляться. По служебной лестнице его выволокли на задний двор и жестоко избили. Прежде чем выбросить на улицу бесчувственное тело, Лейк сбегал за бутылкой виски и хорошенько обрызгал рубашку Криса, чтобы у полицейских, которые его подберут, не возникало лишних вопросов.
Прием сработал, и первое замечание «бобби», наткнувшегося на Криса среди мусорных ящиков, доставило бы удовольствие Дэвису и его сообщникам:
— Похоже, в хлам накачался, а, Джек?
— Пусть протрезвеет в отделении.
Нагнувшись, они увидели, на что похоже лицо Криса. Джек присвистнул:
— Наверное, повздорил с приятелями, кому платить за выпивку.
— Ну что, забираем?
— Да, но лучше в больницу.
В приемном покое установили, что имеют дело с офицером Скотленд-Ярда, и срочно отправили его в полицейский госпиталь.
Еще ни разу на памяти сотрудников Скотленд-Ярда всегда корректный суперинтендант Болтон не ругался так свирепо, как в тот день, когда прочел рапорт о Кристофере Мортлоке, обнаруженном в Сохо без сознания. Он немедленно отдал приказ во что бы то ни стало найти и привести к нему Дэвиса и позвонил в госпиталь узнать о состоянии инспектора. Там ему сказали, что Мортлока выпишут вечером. Успокоившись на этот счет, Ричард перезвонил жене.
— Джанет, Крис опять выкинул фортель.
— Не может быть!
— Очень даже может, — он торопливо рассказал ей все, что знал. — По-моему, Мортлок сам сунулся к Дэвису. Когда Мелвина привезут, я постараюсь найти причину для ареста — и ему, и Крису будет спокойнее.
— Значит, миссис Гендерсон не сумела…
— Выходит, так…
Не успел суперинтендант повесить трубку, как в кабинет вошел Дэвис в пальто, накинутом поверх пижамы.
— Простите за мой наряд, шеф, но ваш посланец не дал мне времени одеться.
— Садитесь. Предупреждаю, Дэвис, я ищу повод вас арестовать, поэтому внимательнее следите за каждым словом.
— Да что вы все на меня набросились?
— Вы имеете в виду инспектора Мортлока?
— Именно. Он устроил у меня скандал сегодня ночью, грозил виселицей и напоследок ударил. Поглядите на мой рот!
— Он ударил вас первым?
— Честное слово, шеф…
— Дэвис, давайте серьезно. Расскажите мне, что произошло.
И Мелвин рассказал. Сначала о том, как полицейский вел себя с официантами, потом о встрече в кабинете, когда Мортлок обвинил его сначала в убийстве некоего Гендерсона из Уотфорда, а потом и матери с ребенком в Харрогите.
— По правде говоря, шеф, я решил, что парень пьян. От него разило виски.
— Хватит, Дэвис, номер с виски мне известен.
— Так или этак, но я заявил, что, по-моему, он явно перебрал, да и как иначе? Разве нормально явиться в дом к человеку и сказать, что собираетесь его повесить?!
— А Мортлок что ответил?
— Да вы взгляните на мой рот, шеф! Сукин сын! Я думал, он мне все зубы вышиб! Позвал Лейка и Сэдлера, и те его выставили.
— И как следует помяли при этом.
— Что вы, шеф! Только успокоили. Ребята по-тихому убрали его из бара, а дальше им было плевать.
— Так почему же инспектора нашли около вашего заведения в таком состоянии, что пришлось срочно везти в больницу?
— Чего не знаю, того не знаю. Но он так озверел, что мог полезть к кому угодно. Вот и получил по заслугам.
— И вы готовы присягнуть, будто не имеете к этому отношения?
— Совершенно точно, шеф.
— Не слишком ли вы уверены в себе, Дэвис?
— Так уверен, что подам жалобу на инспектора Мортлока за превышение полномочий.
— Это ваше право, но не советую.
— Не могу ж я допустить, чтобы он вваливался ко мне и устраивал погромы?
— Мортлок больше к вам не придет.
— Обещаете, шеф?
— В той мере, в какой инспектор мне подчиняется.
— Тогда я не стану подавать никаких жалоб. Но только ради вас, шеф.
— Не рассчитывайте таким образом добиться снисхождения, Дэвис. Мы эту историю раскопаем, и не дай вам Бог оказаться в нее замешанным.
Мортлок не сомневался: его похождения не могли не возыметь каких-либо последствий, и, проходя в ворота Скотленд-Ярда, надеялся, что Болтон уже ушел. В коридорах коллеги вежливо справлялись о его здоровье, но участия в их голосах не слышалось. После нескольких таких встреч ощущение неловкости сменилось у Криса едва сдерживаемой злобой. Поэтому, когда суперинтендант вызвал его к себе, Мортлок отправился туда, вовсе не чувствуя себя виноватым.
— Как ваше здоровье, Мортлок?
— Спасибо, все в порядке, сэр.
— Садитесь. Послушайте, Мортлок, зная ваше служебное рвение, я подумал, что вы явитесь сюда прямо из больницы, и задержался в надежде узнать, как было дело.
— Слушаюсь, сэр.
Крис изложил события, происшедшие у Дэвиса и закончившиеся ударом по голове.
— Едва узнав о несчастном случае с вами, я послал за Дэвисом, и он рассказал мне примерно то же. Естественно, Дэвис отрицает факт избиения и настаивает, что вы, должно быть, с кем-то подрались на улице, учитывая степень вашего озлобления.
— Он врет.
— Конечно, врет. Но вы можете это доказать?
— Нет.
— К тому же он хотел подать на вас жалобу.
— Чего-чего, а наглости у Дэвиса хватает.
— Вы прекрасно знаете, Мортлок, что у него есть такое право, и жалобу обязаны принять и рассмотреть. Вам не поручали идти к Дэвису.
— Я знаю.
— В таком случае мне хотелось бы услышать от вас извинения.
— Нет.
— Мортлок, не злоупотребляйте моей добротой.
— Я не прошу ни о каком снисхождении, сэр.
Немного помолчав, Болтон сдавленным голосом спросил:
— Что с вами, Мортлок?
— Просто я прозрел, сэр.
— То есть?
— Несколько лет честно прослужив правосудию, я понял, что такового не существует. Все тонет в море инструкций, правил, указаний, которые позволяют умному и ловкому преступнику безнаказанно насмехаться над законом. Причем с благословения или по меньшей мере при бессовестном попустительстве многих из тех, на кого общество возложило именно защиту правосудия.
— Вы с ума сошли, инспектор!
— Нет, у меня всего-навсего открылись глаза, сэр!
— И вы уверовали, будто способны лучше защищать закон, чем вся полиция Соединенного Королевства?
— Да.
— А что вам дает основания так считать?
— То, что я — честный человек, и Дэвису с компанией нечего надеяться подкупить меня.
— Черт возьми, Мортлок, на что вы намекаете?
— Я ни на что не намекаю, сэр, а утверждаю, что Дэвис и ему подобные не достигли бы столь блестящих и скандальных успехов, оскорбительных для чести общества, если бы не пользовались поддержкой полиции.
— В таком случае чего же вы ждете? Подавайте в отставку!
— Предпочту, чтобы меня уволили.
— Хотите сыграть роль мученика?
— Только послужить примером.
Они помолчали.
— С сегодняшнего дня, Мортлок, вы мне больше не друг. Я не могу дружить с человеком, способным облить грязью всю администрацию Скотленд-Ярда, а следовательно, и меня самого. Я испробовал все способы направить вас на путь истинный, но, как показывают ваши ночные похождения, потерпел неудачу. А теперь я категорически запрещаю вам вмешиваться в дело Мелвина Дэвиса, в чем бы это вмешательство ни выражалось и какой бы предлог вы ни использовали. Если же вы проигнорируете и этот приказ, я сам потребую вашего немедленного увольнения. Прощайте.
— Прощайте, сэр. И благодарю за подтверждение моей правоты.
— Полагаю, это очередная дерзость, но предпочитаю пропустить ее мимо ушей.
Покидая Ярд, суперинтендант выпил двойную порцию виски. На душе у него скребли кошки.
В день свадьбы Джанет Болтон поклялась себе восхищаться мужем при любых обстоятельствах. Тем не менее она не разделяла почти религиозного преклонения Ричарда перед администрацией Ее Величества. Джанет отказывалась верить в приоритет высших государственных интересов. Болтон обычно не посвящал жену в служебные заботы, опасаясь, как бы она не предложила ему решение, больше отвечающее здравому смыслу, нежели служебным инструкциям. Джанет не могла уразуметь, почему работник полиции не имеет права толковать законы, а должен лишь соблюдать их и обязывать к тому других. Для нее полицейский — такой же человек, как прочие, и не может не понимать их. Миссис Болтон вовсе не считала, что в печальном конфликте между Ричардом и Крисом вина целиком лежит на инспекторе. Во-первых, она думала, будто хорошо знает Криса, во-вторых, строгость мужа в вопросах дисциплины тоже не была для нее тайной, и, наконец, любовь Мортлока к Джойс, женщине с большими грустными глазами, трогала чувствительное сердце миссис Болтон.
Ссора с подчиненным настолько взволновала Ричарда, что он не стал дожидаться расспросов жены, а рассказал ей о невероятной выходке Мортлока, прежде исполнявшего приказы и чтившего субординацию. Болтон поклялся и пальцем не шевельнуть, чтобы спасти Криса, если тот еще раз позволит себе нечто подобное. Пусть даже ему, суперинтенданту, это решение причинит немалую боль.
— Мортлок просто спятил. Другого объяснения не вижу. Черт возьми, можно влюбиться и при этом сохранить мозги! Джойс Гендерсон, если она и впрямь достойна привязанности Криса, не должна толкать его на идиотские подвиги, иначе он станет всеобщим посмешищем! — под конец буркнул Ричард.
— Она обещала мне сделать все, чтобы успокоить его.
— Ну так у вашей Джойс ничего не вышло! Во всяком случае, я не желаю больше слышать об этом дураке! Хочет поломать свою карьеру и жизнь — пожалуйста, в конце концов, это его личное дело.
— Дик, ты все знаешь лучше меня… Но нашел ли ты правильный подход к Крису?
— Что значит «правильный подход»? Я отдал приказ, он должен его исполнять, и точка.
— У Криса слишком цельная натура. Вспомни, ты сам сказал однажды: «Можно позавидовать той, кого он полюбит… и жаль того, кого он возненавидит!»
— Ну и что?
— Я думаю, с такой сложной личностью… нельзя обращаться, как со всеми.
— Почему ты думаешь, будто я обращался с ним, как со всеми? Я и не подозревал, что у меня столько терпения! А Мортлок в благодарность нарушил мой приказ, скомпрометировал Скотленд-Ярд, да еще позволил себе разговаривать со мной в недопустимом тоне! Инспектор стал просто маньяком, рабом навязчивой идеи отправить Дэвиса на виселицу!
— Возможно, тот ничего другого не заслуживает.
— Так это ж надо доказать! Послушай, Джанет, разве можно правосудие начинать с угрозы смертной казнью? И кому? Всего-навсего подозреваемому! Прошу тебя, оставим в покое Мортлока и постараемся забыть, что когда-то он был нашим другом.
Но Джанет не могла так легко распрощаться со старой дружбой. Кроме того, практичный, чисто женский разум, не привыкший анализировать тонкости юриспруденции, всегда поддерживал Мортлоков против Дэвисов.
Ричард Болтон не понимал поведения Криса Мортлока, но и последний в равной мере не мог понять суперинтенданта. Как ни странно, инспектор куда больше сердился на собственного шефа, нежели на Дэвиса, несмотря на побои. То, что случилось в баре, он воспринимал лишь как один из эпизодов борьбы, которая окончится для убийцы Ларри Гендерсона веревкой. Но мысль о продажности начальника, подкупленного гангстером (а это теперь уже не вызывало сомнений), доводила Криса до исступления. Конечно, Ричард попытается любым способом помешать расследованию, но Крис решил бороться до конца. Жутковатый вид физиономии, где ссадины чередовались с пятнами йода, удерживал Мортлока от встречи с Джойс, хотя ему не терпелось рассказать ей о схватке с Дэвисом и о ее печальном финале. Пытаясь справиться с нетерпением, Крис долгие часы составлял у себя в кабинете планы, как вынудить Дэвиса к признаю.
Около половины седьмого раздался звонок. Уотфордская полиция сообщила, что на миссис Гендерсон совершено нападение. Мортлок, никого не предупредив, бросился в Уотфорд. У постели Джойс он застал врача, который только что ввел ей снотворное. Он успокоил Криса, объяснив, что миссис Гендерсон нуждается только в покое и все скоро пройдет, возможно, останутся лишь незначительные следы на шее. Мортлок подошел к сержанту Бредли.
— Очень похоже, инспектор, что действовал тот же тип в очках и с рыжими усами. Видели, как он торопливо выходил из дома. Это насторожило миссис Миллер, подругу миссис Гендерсон. Она-то и нашла дверь незапертой, а миссис Гендерсон на полу.
— Какие-нибудь улики есть?
— Нет, ничего.
— Ладно, оставайтесь с миссис Гендерсон. Скажите ей, что я навещу ее завтра утром около одиннадцати.
Уходя, Мортлок заметил в прихожей, где преступник пытался убить Джойс, как у самой двери что-то блеснуло. Он подобрал металлическую пуговицу с изображением лисицы сунул ее в карман.
В Скотленд-Ярде инспектор доложил о нападении суперинтенданту. Тот с нескрываемым изумлением посмотрел на Мортлока.
— В котором часу это случилось?
— Около шести.
— Ну и ну! Кстати, почему сержант Бредли позвонил именно вам?
— Извините, я его не просил. И вообще в тот момент меня больше волновало совсем другое.
— Мортлок, повторяю, вам запрещено заниматься этим делом. За него отвечаю теперь я один!
— Разумеется.
— Что означает ваше «разумеется»?
— Ничего. Просто размышления вслух.
— Так держите свои мысли при себе.
Ричард вызвал коммутатор. Он хотел знать, почему позвонили именно Крису. Телефонистка ответила, что пыталась с ним связаться, но не застала на месте, поэтому сержант Бредли и обратился к инспектору Мортлоку.
— В будущем всех абонентов из Уотфорда соединяйте со мной, в мое отсутствие — с инспекторами Хэдденом и Стайлсом. И чтоб мне больше не пришлось это повторять!
Потрясения последних дней совершенно измотали Мортлока и морально и физически, а потому, несмотря на тревогу за Джойс, он спал в эту ночь хорошо. В воскресенье утром инспектор проснулся отдохнувшим и тщательно привел себя в порядок. Лишь бритье было для него истинным мучением. В половине десятого, когда Крис завязывал галстук, раздался стук в дверь. Это пришла Джанет. Мортлок тут же замкнулся в себе. Не то чтобы он стал испытывать к миссис Болтон такую же неприязнь, как к ее супругу, но опасался новых хитростей суперинтенданта.
— Доброе утро, Крис. Как вы себя чувствуете? Лицо, я вижу, крепко пострадало…
— Пустяки. Но чему я обязан…
— Я сказала Дику, что иду в церковь. Это, наверное, моя первая ложь за все время нашей супружеской жизни. А виноваты вы. Будь вы оба чуть-чуть потерпимее, посговорчивее, мне не пришлось бы приходить сюда тайком. И что за характеры!
— Садитесь, Джанет.
Она опустилась в чиппендейловское кресло — главное украшение маленькой гостиной инспектора.
— Крис, я здесь не для того, чтобы защищать Дика. Я не всегда разделяю его преклонение перед администрацией, но хочу знать, что вдруг встало между вами. Я поболтала немного с миссис Гендерсон — она очаровательна. И я уверена, что, если вы сумеете уговорить Джойс выйти за вас замуж, из нее получится прекрасная спутница жизни. Я надеялась, она поможет мне помирить вас с Диком. К сожалению, ничего не вышло. Так доверьтесь мне, Крис! Из-за чего вы повздорили с моим мужем? Прошу во имя нашей дружбы! Я не хочу ее терять, не попытавшись защитить.
Смущенный и растроганный Мортлок подумал, что Джанет — самая замечательная женщина из всех, кого, он встречал. Совсем в ином стиле, нежели Джойс, но, несомненно, столь же надежна, столь же преданна.
— Лучше мне не отвечать вам, Джанет.
— Почему?
— Потому что мы поссоримся.
— Это невозможно. Я считаю вас, Крис, человеком, не способным на подлость, и готова выслушать что угодно. Как и любой другой, вы можете ошибаться, но заведомо клеветать не станете точно. Так что вы имеете против Дика?
Поколебавшись, он рассказал все. В том числе и о причинах своей уверенности в сговоре между Болтоном и Дэвисом. Джанет слушала, слегка вытаращив глаза и приоткрыв рот.
— Дик — сообщник этого гангстера?! Но, Бог ты мой, почему?
— Может быть, получил взятку?
— Крис! Вы вправду считаете Дика продажным?
— Мне самому больно от этого, но теперь отпали последние колебания.
— Послушайте, я бы все-таки заметила…
— А вы никогда не обращали внимание на неожиданные денежные поступления?
— Ни разу! Мы едва сводим концы с концами, — голос Джанет неожиданно дрогнул. Она вспомнила о свалившемся на них как будто с неба наследстве ирландской тетки мужа, о существовании которой до той поры не подозревали. Не может быть… Ее смущение не ускользнуло от Криса.
— Вы что-то вспомнили, Джанет?
— Да… Не знаю… Крис, мне будет трудно простить вам эти сомнения, даже если они рассеятся. Но я уверена — вы ошибаетесь, вы наверняка ошибаетесь.
— А если все-таки?..
— Я не хочу даже думать об этом. По крайней мере сейчас. Это… это было бы ужасно.
Крис взял руки Джанет в свои.
— Вы понимаете теперь: мне нужно отомстить за Ларри Гендерсона, за эту женщину с ребенком и, может быть, даже за Ричарда, вот почему я так добиваюсь, чтобы Мелвина Дэвиса повесили.
Уходя, Джанет заметила пуговицу, подобранную Мортлоком накануне в доме миссис Гендерсон. Машинально она взяла ее и спросила:
— А как к вам попала пуговица от пальто Дика?
Глава V
Вопрос настолько поразил Мортлока, что он отреагировал не сразу. Лишь когда Джанет уже переступала порог, Крис бросился следом, закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Ошеломленная миссис Болтон пробормотала:
— Да что с вами, Крис?
— Погодите, Джанет, дайте мне успокоиться. Это так невероятно. И так ужасно…
Удивление молодой женщины сменилось беспокойством:
— Послушайте, Крис, скажите мне…
— Молю вас, Джанет, только не спешите с ответом… Подумайте хорошенько.
— Да о чем?
— Вы абсолютно уверены, что это пуговица Ричарда?
Она еще раз внимательно оглядела металлический кругляшок.
— Таких совпадений просто не бывает. Она из набора в шесть охотничьих пуговиц. Я сама купила его у антиквара на Флит-стрит для дорожного пальто Дика. Но скажите наконец…
— Знаете, где я нашел эту пуговицу?
— На работе, наверное?
— Нет, я нашел ее вчера в доме миссис Гендерсон.
Оба замолчали. Совпадение выглядело маловероятным, практически невозможным. Итак, втайне от жены и от Мортлока Болтон приходил к Джойс… Инспектор усмотрел здесь новое наглядное доказательство подозрений о сотрудничестве суперинтенданта с Дэвисом. А для Джанет стало ясно: Мортлок не лгал, сомневаясь в честности ее мужа.
У обоих мелькнула одна и та же мысль: а вдруг Ричард и человек в темных очках — одно и то же лицо? Но тогда убийство Ларри Гендерсона…
Внезапно постаревшая Джанет упала на стул и расплакалась. Крис неловко пытался утешить несчастную, но она ничего не хотела слушать.
— Воображаешь, будто ты счастливая, и вдруг все, все рушится. И ничего больше нет, пустота. Счастье, казавшееся таким прочным, исполненным доверия… И все это обернулось ложью, ложью, ложью…
Джанет с трудом выпрямилась.
— Я больше никогда не смогу смотреть на Дика прежними глазами… так, как всего несколько минут назад… Даже если он оправдается, и все объяснится. Я не прощу себе, что усомнилась в нем. Раз сомневаешься — значит, не так уж любишь. А если вы лишь напрасно разбередили мне душу, то лучше б вообще не родились на свет… по крайней мере для меня, Крис…
Ричард Болтон с трубкой в зубах читал газету. Жену он встретил шуткой:
— Ну, если ты все это время молилась в церкви, то стала просто ангелом во плоти!
Джанет с трудом заставила себя улыбнуться. Суперинтендант вновь погрузился в чтение, а жена наблюдала за его таким привычным для нее лицом. Да возможно ли так долго жить вместе, бок о бок, и оставаться чужими? Ричард знал вкусы, желания, пристрастия, привычки, каждую мелочь о прошлом жены и был посвящен во все ее надежды на их совместное будущее. Но он? А вдруг в иной обстановке каким-то людям открывается совсем другое его лицо, о котором Джанет никогда не подозревала?
— Дик…
— Да?
— Дик… я ночью видела настолько кошмарный сон… до сих пор не могу опомниться…
Он поднял глаза от газеты.
— Как, Джанет, ты? Такая уравновешенная женщина…
— Мне снилось, будто наследство, которые мы получили несколько лет назад…
— А, от тети Молли О'Рурк?
— …бессовестный обман.
— Не понимаю…
— В моем сне выходило так, будто ты сказал мне, что получил тысячу фунтов в наследство, а на самом деле заработал нечестным путем…
— Вот это да! Ну и сны тебе снятся! В общем, суперинтендант-грабитель, если я правильно понял? Тебе надо писать сценарии для кино, дорогая, это могло бы поправить наши дела.
Болтон рассмеялся, и настороженное ухо Джанет не уловило в его веселье ни тени фальши.
— Боюсь, поверенного в делах тетки почтенного Освальда Таккера, узнай он, что не менее почтенная миссис Болтон сомневается в его существовании, от удивления хватил бы удар.
Джанет вздохнула с облегчением. Если Дик назвал фамилию адвоката — значит, не опасается проверки, но тут же вспомнила о пуговице и опять встревожилась.
— Ты даже не рассказал мне, какое впечатление произвело твое новое пальто, а ведь вчера надел его впервые…
— Ну знаешь ли, в Скотленд-Ярде за модой не особенно следят. Единственный, кто мог бы мне что-либо сказать, это Мортлок, но при наших нынешних отношениях подобные замечания стали просто невозможны. Да, кстати… я должен повиниться перед тобой. Не хотелось бы тебя огорчать, да что поделаешь… Я посеял одну из твоих замечательных пуговиц. Прости, дорогая, мне и самому обидно… Надеюсь, ты не очень сердишься?
— Нет, потому что нашла твою пуговицу. Вот она.
Ричард изумленно посмотрел на жену.
— И где же?
— Там, где ты ее потерял.
— Великолепное умозаключение! А точнее нельзя?
— У миссис Гендерсон.
— Ты ездила к ней?
— Нет.
— Но тогда как же…
— Мортлок был у нее, и не таясь…
— Я и вправду поступил неразумно, настолько, что даже тебе не хотел говорить, ни слова… Наверное, это слабость с моей стороны, но, понимаешь, мне как-то не по себе из-за того, что мы с Крисом вот-вот рассоримся окончательно. Ведь, по сути дела, эта история не имеет к нам никакого отношения. Я всеми силами старался втолковать парню, что к чему. Видела б ты, как его обработали подручные Дэвиса! И сделать ничего нельзя! Короче, я поехал просить миссис Гендерсон, коль скоро она одна имеет влияние на Мортлока, еще раз попробовать его урезонить. Рассказал ей, что стряслось с Крисом. Миссис Гендерсон страшно расстроилась и, более того, посчитала себя в какой-то мере виновной. Видимо, уходя от нее, я и потерял пуговицу. Эх, не хотелось бы, чтобы кто-нибудь узнал о моей глупости, это ж просто смешно! Но ради дружбы иногда приходится переступать через многое… во всяком случае, по-моему…
Джанет бросилась на шею мужу.
— О Дик, я так счастлива!
— Потому что нашла мою пуговицу?
— Нет, тебе ни за что не угадать!
— Как и множества других вещей… например, каким образом эта пуговица оказалась у тебя.
Пришлось и Джанет признаться, что ездила она не в церковь, а к Мортлоку. Досадуя на Криса, заставившего ее усомниться в муже, Джанет рассказала и о подозрениях инспектора, которые теперь, после этого идиотского приключения с пуговицей, стали уверенностью.
— Значит, этот дурень не только считает меня продажной шкурой, не только вообразил, будто я на побегушках у Дэвиса, но и готов обвинить в убийстве? Ох, Джанет, у меня руки чешутся пойти и набить ему морду, — с горечью подвел итог Ричард.
— Нет, Дик, даже не думай. Во-первых, Мортлока не переделать, во-вторых, это не прибавит тебе чести. Представляешь, какой шум поднимется вокруг потасовки между суперинтендантом полиции и его подчиненным?! На твоей карьере можно будет поставить крест.
— Ты права, дорогая. Но на сей раз Мортлок хватил через край. Я потребую его перевода в другой отдел. Не могу работать с человеком, которому не доверяю. Прошу тебя, Джанет, никогда больше не упоминай имени этого субъекта и прости, что привел его в наш дом.
— Мы оба ошиблись в Крисе Мортлоке, Дик. Постараемся забыть о нем.
Сидя у постели Джойс, лежавшей с обмотанной компрессами шеей, Мортлок пытался узнать хоть что-нибудь о человеке, напавшем на его возлюбленную, но напрасно.
— Открыв дверь и увидев мужчину в темных очках и с огромными светлыми усами, я не сразу поняла. Только когда этот тип, грубо оттолкнув меня, вошел в дом, я хотела закричать, но он зажал мне рот рукой, втолкнул в гостиную и прошипел: «Попробуйте пикнуть, миссис Гендерсон — и я прикончу вас на месте, а будете сидеть тихо — ничего худого не случится».
— И за все это время вы не рассмотрели его хорошенько, не заметили ни единой характерной подробности?
— Я слишком перепугалась. Потом он сказал мне: «Сделайте так, чтобы полицейские ищейки перестали рыскать вокруг нас, миссис Гендерсон, иначе шеф займется вами всерьез. Инспектора мы разок уже проучили: нечего ему так усердствовать, разыскивая убийцу вашего мужа. Так что он сам нарвался. Шефу ничего не стоит устроить вам то же самое, но он согласен малость погодить. А вы пораскиньте мозгами, что вас ждет, если не уговорите Мортлока заняться другими делами. Ясно?» У меня перехватило дыхание, я не могла издать ни звука. Мерзкий тип встал, и я, как завороженная, пошла за ним в холл. Он замер, повернулся и, пробормотав: «Уж извините, миссис Гендерсон, но я не хочу, чтобы вы всполошили весь квартал», — сжал своими ужасными лапищами мне горло и стал давить, давить… Потом ничего не помню. Должно быть, теряя сознание, я все-таки крикнула, потому что очнулась на коленях миссис Миллер.
— Ну, попадись он мне только… Вам не очень больно?
— Да нет, это все скорее от страха. Но вы-то сами, Крис?
— Чепуха, профессиональный риск.
— Крис, вы должны бросить расследование!
— Никогда в жизни!
— Если вы и вправду испытываете ко мне… некоторую привязанность, то, умоляю вас, оставьте это дело. Я чувствую, ни к чему это не приведет, и не хочу отвечать за то, что может с вами случиться.
— Если я выполню вашу просьбу, Джойс, через несколько месяцев дело закроют.
— Ну и пусть! Ни ваша гибель, ни увечье все равно не воскресят моего мужа. Я любила Ларри, и, думаю, он платил мне взаимностью, но никто не имеет права думать о мертвых больше, чем о живых.
— Вы изменились, Джойс.
— Может быть… Я не отдавала себе отчета, в какую безумную авантюру ввязываюсь сама и втягиваю вас. Я уже потеряла Ларри и не хочу потерять вас. Вы — мой единственный друг, Крис, друг, которому я могу все рассказать, перед кем мне не стыдно быть слабой и трусихой.
Мортлок взял ее руку и поцеловал.
— Знаете, Джойс, благодаря вашим словам сегодня у меня один из самых счастливых дней. Я никогда не забуду его и сохраню в душе вечную признательность…
— Хорошо, хорошо, Крис, но только не начинайте снова фантазировать!
— Ладно, поговорим о другом. Вы же знаете, я готов вас слушать всегда и во всем.
— Это правда?
— И вы еще сомневаетесь?
— Тогда я запрещаю вам вмешиваться в расследование убийства Ларри!
— Повторяю вам, суперинтендант ни о чем другом так не мечтает. Не пройдет и нескольких недель, как он закроет дело и сдаст в архив.
— А мне теперь именно этого и хочется, и, я уверена, Ларри согласился бы со мной. Он сам слишком боялся ответственности и не стал бы толкать других, а уж тем более меня, на смертельный риск ради мести. Послушайте меня, Крис, не превращайте эту историю в дело чести. Я знаю, это из-за меня, из-за меня одной вы обрушились на Мелвина Дэвиса. Так ведь?
— В какой-то мере.
— Нет, Крис, не в какой-то, а только из-за меня. Но, честное слово, если вы отправите этого человека на виселицу, в моих глазах вас это не возвысит. И не надо совершать никаких подвигов — я и так бесконечно вас уважаю.
— Дайте мне еще две недели.
— Погибнуть можно и гораздо быстрее…
— Умоляю вас!
— Хорошо. Но через две недели, к чему бы это ни привело, вы оставите расследование.
— Даю вам слово.
— Спасибо.
— А теперь постарайтесь вспомнить того типа… На нем было широкое, удобное пальто?
— Нет, плащ.
Ответ разочаровал Криса, но он еще не терял надежды.
— Вы в этом абсолютно уверены?
— Крис, вы меня удивляете: ну разве может женщина ошибиться в том, что касается одежды? На том типе был самый обыкновенный плащ, какие носят все. То, что вы называете «удобным пальто», носит суперинтендант.
— Суперинтендант? Он к вам приходил?
— Ах, проговорилась! А ведь обещала ничего вам не рассказывать…
Мортлок совсем растерялся.
— Но зачем он приезжал сюда? Почему не вызвал вас в Скотленд-Ярд?
— Потому что ваш шеф явился ко мне как частное лицо.
— Что вы имеете в виду?
— Его привела сюда дружба.
— Вот как? Суперинтендант уверял вас в дружеских чувствах?
— Нет, Крис, речь шла не обо мне, а о вас. Суперинтендант рассказал, как с вами обошлись у Дэвиса, признался, что не в силах заставить вас вести себя благоразумно и что опасается за вашу жизнь. Поэтому он просил меня попытаться…
— У вас это замечательно получилось!
— Хотите верьте, хотите — нет, Крис, но я и без его просьбы обратилась бы к вам с тем же.
— Так или иначе, но Болтоны уже второй раз…
— Замолчите, Крис! Вы несправедливы! Суперинтендант, безусловно, привязан к вам, тут и сомневаться нечего. И, кроме того, мне бы это не понравилось — терпеть не могу неблагодарных людей!
Возвращаясь в Лондон, Мортлок, несмотря на горечь и разочарование, честно признался себе, что, пожалуй, не во всем прав. Поведение Болтона могло объясняться и иными, более благородными причинами. Раз начавши, он быстро пришел к выводу, что в общем вел себя с Болтонами, своими единственными друзьями, как последний дурак. Можно подумать, на Криса нашло какое-то затмение. Конечно же, Ричард, которого он так давно знал, никак не мог оказаться продажным полицейским. Криса терзали угрызения совести, и в понедельник утром, явившись в Скотленд-Ярд, он как человек, всегда готовый признать ошибку, решил немедленно поговорить с суперинтендантом и во всем повиниться.
Но, как ни хотел Крис оправдаться и заслужить прощение, с первых же слов он наткнулся на глухую стену.
— Ричард, я ездил в Уотфорд.
— Нарушив мои указания.
— Простите, но я…
— Нет. Вы — инспектор Скотленд-Ярда, Мортлок, и, как все остальные, обязаны неукоснительно выполнять распоряжения начальства.
Крис сделал последнюю попытку:
— Я хотел повидать миссис Гендерсон, думая…
— Знаю и благодарю вас за столь своеобразное доверие ко мне. Ни многолетняя дружба, ни бесконечные доказательства искреннего расположения не помешали вам заподозрить во мне сообщника гангстера и даже соучастника убийства…
— Но…
— Из-за вас, Мортлок, жена впервые усомнилась во мне и тем уронила себя в моих глазах. Вы лишили нас прежнего несокрушимого доверия друг к другу. И этого я вам никогда не прощу. Отныне вы для меня — лишь один из сотрудников Ярда, причем сотрудник, с которым, надеюсь, у нас больше не возникнет никаких отношений, даже служебных. Я добился вашего перевода под начало суперинтенданта Хьюга Боуэна. Инспектор Дэнис Кейер через час займет ваш кабинет, а вы переберетесь на его место. Прощайте.
Выйдя от суперинтенданта, Мортлок сразу отправился собирать вещи. Потрясение было тяжелым. Он любил свой отдел и привык работать в одной упряжке с другими. Мортлок не сомневался, что по собственной вине потерял единственного и, помимо всего прочего, настоящего друга, сгорал со стыда — за теплое отношение Болтонов он заплатил черной неблагодарностью, нарушив их согласие. Все это, вместе взятое, делало инспектора Кристофера Мортлока самым несчастным человеком на свете.
Только Джойс Гендерсон сумела утешить Криса, посоветовав ему положиться на время, которое, как известно, лечит все. Постепенно инспектор привык приезжать к уотфордской вдове каждую субботу. После третьего визита он заметил, что Джойс всегда приглашала в такие вечера кого-нибудь еще, обычно соседку, и это задело его самолюбие. Но Джойс с улыбкой объяснила, что дело вовсе не в недоверии, просто ее репутация пострадала бы от регулярных встреч наедине, а поведение учительницы всегда привлекает особенно пристальное внимание. Мортлок смирился, однако с большим нетерпением ждал дня, когда правила и условности позволят ему заговорить о женитьбе; ведь он любил Джойс и мысленно уже называл спутницей жизни.
Прошло две недели после ухода Криса из отдела Болтона, а его расследование дела Дэвиса не продвинулись ни на йоту. Впрочем, Мортлок и не мог почти ничего сделать — суперинтендант Боуэн, наверняка получив соответствующие указания от Болтона, постоянно за ним приглядывал. Верный данному Джойс слову, Крис перестал интересоваться Дэвисом и убийством Ларри Гендерсона. Теперь он погрузился в новые заботы и обязанности.
Так, месяц за месяцем, шла тусклая жизнь, скрашенная лишь крепнущей дружбой с Джойс. Она поверяла ему все мелочи учительских будней, рассказывала об учениках, говорила о путешествиях, которые ей хотелось бы совершить. Крис в свою очередь тоже рассказывал о работе. Иногда ему казалось, что они давно женаты.
В ноябре газеты в разделе светской хроники сообщили о свадьбе Мелвина Дэвиса и Барбары Коукбэн. Примерно в то же время Крис узнал от инспектора Кейера, что дело Гендерсона практически закрыли и вот-вот сдадут в архив. Эта новость пробудила в Крисе прежнее раздражение. Мысль о том, что Дэвис, несмотря на все совершенные им преступления, спокойно вкушает радости семейной жизни, приводила инспектора в бешенство. Но когда Мортлок сказал об этом Джойс, та спокойно ответила:
— Теперь Ларри действительно умер… Одно утешение — мы сделали все, что смогли. Ну а результат зависел отнюдь не от нас…
Крис очень весело встретил Рождество вместе с Джойс, миссис Джилмон и ее сыном Бенни. На несколько часов он как будто обрел семейный очаг. Инспектор принес возлюбленной подарок, забыв про мальчика и его мать.
Теперь, как ждущий демобилизации солдат, Мортлок считал дни, оставшиеся до годовщины смерти Ларри Гендерсона, намереваясь попросить руки Джойс на следующей же неделе.
Однажды скверным февральским вечером Крис Мортлок, расследуя дело какого-то подозрительного грека, вероятно убийцы, задержался в Сохо. Проходя по Бик-стрит, он вдруг увидел вывеску кабаре Дэвиса. Сам не зная зачем, повинуясь неосознанному порыву, полицейский вошел. Увидев его, Свэн Лейк нерешительно спросил:
— Вы пришли как друг или как враг, инспектор?
— Для начала как клиент.
Лейк усадил его за столик. Почти сразу же появилась и новоиспеченная миссис Дэвис.
— Может, хоть сегодня, инспектор, вы согласитесь принять стаканчик виски от заведения?
— Нет.
Она натянуто улыбнулась.
— Что, все никак не можете простить?
— Я никогда ничего не забываю, миссис Дэвис.
— Сказать Мелвину, что вы здесь?
— Как угодно, хотя в прошлый раз ничего хорошего из этого не вышло.
— Мне так хочется, чтобы вы с Мелвином помирились…
— Вряд ли это возможно, миссис Дэвис.
Через несколько минут Перри Сэдлер подошел к столику и сообщил, что хозяин будет счастлив принять Криса у себя в кабинете.
— Собирается обслужить меня, как при последней встрече?
— Я только служащий, господин инспектор. Но, если боитесь…
— Не будь мы в общественном месте, я заставил бы вас проглотить эти слова.
— Чем доставили бы мне массу удовольствия, инспектор.
Эта короткая перепалка вывела полицейского из равновесия. В кабинет Дэвиса он вошел, кипя от с трудом сдерживаемой ярости, — к закоренелой вражде с хозяином заведения теперь добавилась оскорбительная выходка Сэдлера. Мелвин встретил его с притворной доброжелательностью:
— С чем вы пришли, инспектор, с миром или с войной?
— Ни с тем, ни с другим. Зашел просто так.
— Значит, можем чокнуться?
— Нет.
Помрачнев, Дэвис поставил на место бутылку, которую успел вынуть из бара.
— Послушайте, инспектор, надо нам, видимо, объясниться раз и навсегда. Что вы имеете против меня?
— То же, что против всех, кто пользуется нечестно нажитым добром, чье благоденствие — пощечина порядочным людям.
— Бросьте, инспектор, можно подумать, я один во всем Лондоне выбился в люди не самым честным путем. С чего вы взъелись именно на меня?
— Никак не могу примириться с тем, что вы не ответили за преступления.
— Ну а по-моему, я свое отсидел, и с лихвой.
— Я не о тюрьме думаю.
— А о чем? Опять о виселице? Да скажите, ради Бога, почему вы так жаждете отправить меня туда?
— Потому что не могу забыть о той молодой женщине, которую вы раздавили в Харрогите.
И снова, как тогда, в кабинете Болтона, Мортлок заметил, что у его собеседника дрогнули брови при слове Харрогит. Но Дэвис попытался свести все в шутку.
— Право слово, это у вас навязчивая мысль.
— И еще потому, что я не забыл об убийстве Ларри Гендерсона.
Мелвин вздохнул:
— В конце концов, всяк забавляется на свой лад. Вам нравится фантазировать — валяйте. Тут я ничего не могу поделать.
— А я так уверен в обратном. Больше мы не увидимся, Мелвин Дэвис, вплоть до того дня в суде, когда председатель наденет черную шапочку.
— Убирайтесь вон!
— Хорошо, я ухожу. Но предупреждаю: что бы вы ни делали, какой бы поддержкой ни пользовались, я своего добьюсь, и вас повесят, Дэвис!
Мортлок и в самом деле верил, что рано или поздно сдержит обещание, хотя совершенно не представлял, каким образом.
Когда полицейский снова вышел на Бик-стрит, погода уже не казалась ему такой отвратной, и даже густой туман не мог заставить его запахнуть пальто. Уверенность в победе над Мелвином Дэвисом крепла. Благодаря ему, Мортлоку, правосудие обретет, по крайней мере в этом случае, тот достойный и суровый облик, который должно иметь всегда. Крис думал о совершенно незнакомой ему женщине, погибшей под колесами вместе со своим ребенком, и его охватило странное ощущение родства с жертвой. Да, и эта исчезнувшая тень наконец будет отомщена. И как бы ни внушала ему Джойс, что хочет забыть о гибели мужа, ее сердце тоже радостно забьется, когда палач откроет люк под ногами Мелвина Дэвиса.
Довольный собой, Мортлок решил отметить событие хорошим ужином в итальянском ресторане на Дин-стрит и с наслаждением выпил кьянти. Сначала он хотел было позвонить Джойс и поделиться вновь обретенной верой, но побоялся, как бы молодая женщина не напомнила ему про обещание, которое Крис решил не выполнять. За ужином инспектор наметил план сражения. На помощь Скотленд-Ярда рассчитывать нечего. Суперинтендант Боуэн отошлет его к Болтону, на том дело и кончится. Крис очень кстати вспомнил, что уже несколько лет не брал отпуска. Вот и возможность поработать самостоятельно. Он за собственный счет отправится в Харрогит и там проведет расследование. Разгадку надо искать у самых истоков драмы. Достаточно вспомнить, как нервировало Дэвиса каждое упоминание этого городка.
В Скотленд-Ярде Крису охотно дали месячный отпуск. Накануне отъезда он не без удивления узнал, что его хочет видеть Барбара Дэвис. Возможно, Мелвин забеспокоился и отправил бывшую танцовщицу попытаться если и не заключить мир, то по крайней мере добиться от Мортлока некоего нейтралитета. Впрочем, по суровому лицу Барбары инспектор сразу понял, что соблазнять его она не собирается. Миссис Дэвис не стала ходить вокруг да около и с порога объяснила, зачем пришла.
— Инспектор, Мелвин рассказал мне о вашем разговоре.
— Ну и что?
— Почему вы ополчились против нас?
— Только против него.
— Мы женаты. Все, что касается Мелвина, затрагивает и меня.
— Сочувствую вам, но следовало бы семь раз подумать, прежде чем связывать
будущее с таким типом.
— Вы говорите о моем муже!
— Мне это все равно.
— Не может быть, чтобы вы так упорно старались нам навредить просто из любви к искусству! Тут наверняка есть какая-то причина…
— Я объяснял все Дэвису несколько раз: не могу и не хочу мириться с тем, что преступник пользуется нечестно нажитыми благами.
— Слушайте, инспектор, это замужество — мой последний шанс. Мне больше сорока, и у меня нет ни гроша. Без Мелвина я не знаю, чем бы стала, вернее, оба мы слишком хорошо знаем. Мелвин не дал мне скатиться на дно. Прошу вас, пощадите и оставьте нас в покое. Мы ведем себя как подобает, и, даю вам слово, ничего незаконного не сделаем. Разве у нас нет права на маленький кусочек счастья?
— Нет.
Она беззвучно заплакала:
— Вы-то счастливы…
— Вас это не касается, и потом, у меня срочные дела, так что извините…
— Инспектор, ради всего святого!
— До свиданья, миссис Дэвис.
Она встала, понимая, что ничего не добилась, но перед уходом негромко заметила:
— Если вы так ли, сяк ли прижмете Дэвиса, у меня не останется в жизни ничего… ничего, кроме мщения, инспектор.
Он засмеялся:
— Угрожаете? Знакомая песня.
— Может быть. Но, клянусь, если из-за вас потеряю мужа, то убью вас, инспектор.
И Барбара закрыла за собой дверь прежде, чем он успел ответить.
В Харрогите Крис устроился в скромном отеле на Четсвортс. В это время года городок словно спал вечным сном, как всякий морской курорт зимой. Полицейского радовало, что он может заниматься своим делом без помех, но, с другой стороны, отсутствие на улицах толпы отдыхающих требовало повышенной осторожности. Поиски и расспросы могли привлечь внимание местной полиции, а Мортлок не хотел с ней связываться ни в коем случае. В гостинице он зарегистрировался под своим именем, но профессию указал другую. Разделив город на квадраты, он обходил гаражи и ремонтные мастерские, спрашивая о машине Мелвина Дэвиса, номер которой, естественно, запомнил. Во всех гаражах случалось ремонтировать «хиллмэны», но либо не записали номера, либо он не совпадал. За три недели поисков Мортлок ничего не добился. Конец отпуска приближался как неминуемое поражение. И Крис с горечью спрашивал себя, неужели он попусту потерял дружбу Ричарда и Джанет Болтон.
Однажды утром, когда Мортлок уже почти без надежды мотался по отдаленным кварталам Ред Кэт Хилла, он забрел на Сент-Джон с Гроув и не поверил своим глазам: в переулке стояла та самая машина, которую он напрасно искал почти месяц. От такой неожиданной удачи сердце Криса отчаянно забилось, и он замер как вкопанный. Спрятаться на этой почти деревенской улочке было невозможно. Мортлок решил рискнуть и постучался в дверь домика напротив. Предъявив значок инспектора сыскной полиции, он попросил и получил разрешение понаблюдать за владельцем машины. Хозяин дома не скрывал удивления:
— Так вы мистера Дэвиса подкарауливаете?
Полицейского охватила радость.
— Разве это его машина?
— Конечно!
— Тогда я ошибся, и наблюдение теряет смысл. Мы хорошо знакомы с мистером Дэвисом, но не знали, что у него есть дом в Харрогите.
— Точнее сказать, не у самого мистера Дэвиса, а у его сестры, миссис Сноу. Несчастная вдова не в своем уме, и только благодаря брату ее не упрятали в сумасшедший дом. Правда, она совсем безобидна. Живет здесь со старушкой — та при ней вроде медсестры. Мистер Дэвис несет тяжкий крест. Очень достойный человек, инспектор.
Тут Крис заметил, как Мелвин вышел из дома, сел в машину и уехал.
— Да уж, достойнее некуда. В наше время редко встретишь такую братскую привязанность. И часто он навещает сестру?
— Да, не реже раза в неделю.
— Поутру?
— Обычно да, но иногда и переночует.
Мортлок распрощался со словоохотливым соседом и, перейдя улицу, позвонил в калитку дома, где Дэвис прятал свою безумную сестру. Появившаяся на пороге пожилая женщина крикнула, даже не выходя в сад:
— Чего еще? Мы ничего не покупаем!
Оглянувшись, Крис убедился, что улица пуста и за ними никто не следит.
— Меня послала мэрия.
Старуха приблизилась к Мортлоку.
— Странно, я вас не знаю. Бумаги есть?
Инспектор показал значок.
— Полиция? Но почему? Зачем? — пробормотала она.
— Впустите меня, и я вам все объясню.
— Мистер Мелвин категорически запретил…
— Скотленд-Ярду ничего нельзя запретить, и вы это прекрасно знаете.
Старуха, тяжело вздохнув, открыла калитку. Едва Крис оказался в саду, она с тревогой спросила:
— Что вы ищете? У меня на руках больная…
— Ее-то я и хочу видеть.
— Это невозможно!
— Возможно, очень даже возможно.
И, не обращая больше внимания на старуху, Мортлок поднялся на крыльцо и вошел в дом. Послышался дребезжащий голосок:
— Маргарет, это вы?
Старушка ответила:
— Пришел какой-то джентльмен, он хочет с вами поговорить, — ответила старушка.
— Он от Мелвина?
В прихожую вышла женщина лет пятидесяти с удивительно бледным лицом, одетая в длинное, сильно пожелтевшее от времени подвенечное платье. Ошеломленный Крис, тут же вспомнив роман Диккенса «Большие ожидания», решил, что видит некое подобие мисс Хэвишем. Не успел он и слова сказать, как больная принялась расспрашивать:
— Вас прислал Мелвин? Почему он так опаздывает на нашу свадьбу? Все гости разъехались, не знаю, как мы их теперь снова соберем. Но, может, все они ждут нас в церкви?
— Кто это? — растерянно спросил Мортлок сиделку.
— Это миссис… миссис Сноу, сестра мистера Дэвиса.
— Почему она так странно одета?
Старуха пожала плечами:
— Знаете, ее фантазии…
По-видимому, больная не слышала ни слова из того, что говорилось в ее присутствии. С самым светским видом она пригласила инспектора в дом. Сиделка пыталась возражать, но так неловко, что только еще больше разожгла любопытство Мортлока, и он, отстранив старуху, пошел за миссис Сноу. Первое, что бросилось в глаза инспектору, — большая фотография, на которой молодой, улыбающийся Мелвин Дэвис был запечатлен в смокинге, под руку с миссис Сноу, облаченной в тот же свадебный наряд, но не пожелтевший, а сверкающий безупречной белизной.
За спиной Криса всхлипывала сиделка. Он сразу все понял и почувствовал, что достиг цели: теперь посадить Дэвиса не составит труда. Оставив больную наедине с ее мечтаниями, он увлек старуху в прихожую:
— А теперь объясните мне все, да поживее. Иначе вас ждут крупные неприятности. Ее зовут совсем не миссис Сноу, так?
— Да.
— Это миссис Дэвис?
— Да, миссис Эдит Дэвис.
— Она — законная жена Мелвина?
— Да.
— Когда они поженились?
— Лет двадцать назад.
— А с каких пор она не в себе?
— Уже восемь лет.
— Вам известно, что Мелвин женился снова? Что он — двоеженец?
— Да… но не мог же он навеки приковать себя к этой несчастной? Эдит неизлечима, а отдавать ее в клинику Мелвин не хотел. Ну я и приехала…
— А вы-то кто?
— Мисс Кейт Шарп, кормилица Эдит.
Мортлок пошел в полицию Харрогита, представился и подробно изложил все дело. В тот же вечер Мелвина Дэвиса арестовали по обвинению в двоеженстве и представлении ложных сведений о гражданском состоянии. Крис еще на несколько дней задержался в Харрогите, пытаясь найти доказательства, что Мелвин причастен к гибели женщины с ребенком, но безрезультатно. Он вернулся в Лондон несколько разочарованный неполной победой, но радуясь, что хоть отчасти сумел восстановить справедливость.
Вопреки мрачным прогнозам жителей Лондона, первые дни марта выдались солнечными, и в воздухе запахло весной. Мортлок вернулся в Скотленд-Ярд в отличном настроении. Но не успел он войти, как его вызвали к суперинтенданту Боуэну.
— Я в курсе ваших подвигов в Харрогите, Мортлок.
— Я выполнял свой долг, сэр.
— Не стану осуждать вас за это. И все же, по-моему, вы преследуете Дэвиса с рвением, безусловно превышающим ваши прямые обязанности.
— Вы порицаете меня за разоблачение двоеженца, сэр?
— Ни в коей мере. Моя обязанность — требовать соблюдения законов, даже если они абсурдны. Я не знаю Дэвиса, но он оказался пожизненно связан с невменяемой, и его двоеженство — совсем не то, что у брачного афериста. Кроме того, как мне сообщили из Харрогита, Дэвис обеспечил этой несчастной великолепный уход.
— Но преступление все-таки остается преступлением.
— Да, конечно. Но у меня возникло весьма двойственное чувство: с одной стороны, в профессиональном плане, нельзя не отдать вам должное, однако чисто по-человечески я предпочел бы не пожимать вам руки. Это все, инспектор.
Крис влетел к себе в кабинет страшно злой. Вероятно, это Болтон накачал Боуэна, и вдвоем они постараются сжить его со свету. Но он упорен, он выстоит против их сговора. Правда, замечание Боуэна задело Криса, и он впервые задумался, действительно ли вел себя безупречно. Только уверенность, что, отправляя Дэвиса в тюрьму, он мстил за Ларри Гендерсона, вернула Мортлоку душевное равновесие. Теперь он сможет просить руки Джойс.
Вечером, не желая сталкиваться с сослуживцами, многие из которых стали держаться с ним заметно прохладнее, Крис подождал, покуда Ярд опустеет. Чтобы как-то привести в порядок нервы, он решил поужинать в хорошем ресторане западного Кенсингтона и вернулся домой пешком уже в темноте. Когда Мортлок нащупывал замочную скважину, к нему приблизились две тени и кто-то прошептал в самое ухо:
— Спокойно, инспектор. Идите с нами, и ничего дурного не случится, во всяком случае, сегодня…
Мортлок почувствовал, как в ребра уперлось острие ножа.
— За убийство полицейского, Сэдлер, в нашей стране расплачиваются самой дорогой ценой.
— Знаю, знаю, инспектор. Но все-таки убью вас, коли начнете брыкаться. Возьми его за руку, Лейк.
Они действовали в открытую, и эта спокойная решимость поколебала сопротивление Криса. Не будь на свете Джойс, он, может, и предпринял бы что-нибудь. Но с той поры, как задумал жениться, Мортлок больше дорожил жизнью. А кроме того, он ясно понимал: если не послушается, эта парочка зарежет его, чем бы ни грозило убийство.
— Ладно, я пойду с вами.
Мортлок вместе с похитителями сел в машину. За рулем сидел Фиппс. Полицейский усмехнулся:
— Вся команда в сборе…
— Да, вся команда. И лучше б вам подумать об этом раньше, прежде чем цепляться к Мелвину.
Ехали они недолго и остановились в Челси. Полное отсутствие каких бы то ни было предосторожностей, этакая война с открытым забралом подействовали на Криса. Эти люди либо считали себя очень сильными, либо решились на все.
Они поднялись по лестнице и вошли в комнату. Полицейский увидел Барбару Дэвис. Перекошенное лицо бывшей танцовщицы не предвещало ничего доброго. Она смерила Мортлока долгим взглядом:
— Довольны собой, инспектор?
— А вам что за дело?
— Хочу знать, что думает подлец.
Она подошла и плюнула Крису в лицо. Он медленно вытер плевок.
— Вы мне за это заплатите, Барбара Коукбэн.
Она невесело усмехнулась:
— Я всю жизнь только и делаю, что плачу. А теперь с меня взятки гладки. И угораздило ж вас сунуть свой грязный нос в Харрогит!
— Так вы были в курсе?
— Не верите? Да, Мелвин мне все рассказал! А вам хотелось, чтоб я последними годами пожертвовала ради чокнутой, сумасшедшей, которая ничего не понимает? С какой стати? В нашем возрасте детей не заводят. Кому же это мешало?
— Закону.
— Закону? Так он всегда был против меня и никогда — за. Он помогает одним богатым. Мелвин, Сэдлер, Лейк, Фиппс и я, мы это поняли. Ну и решили смирно жить в Сохо. Все вместе, как раньше, но по закону. Тут ни с того ни с сего появляетесь вы и подсекаете Мелвина и нас вместе с ним. Думаете, вам это сойдет с рук, мистер Мортлок?
Крис нисколько не опасался угроз, скорее испытывал что-то вроде неловкости. Больше всего его удивляла каменная неподвижность мужчин — в комнате не слышалось даже их дыхания.
— Мелвина судят через две недели, — продолжала Барбара. — Мы подождем до суда. Если мой муж получит больше года, я убью вас, инспектор.
Крис пожал плечами:
— Задумай вы и вправду нечто подобное — не предупреждали бы заранее.
Барбара растерянно взглянула на своих.
— Он не понял, ничего не понял. Объясни ему ты, Сэдлер, если сможешь.
— Чего уж тут объяснять? Подведя под монастырь Мелвина, вы все наше дело угробили, инспектор. Что осталось, пойдет на уплату штрафа и на адвоката. Если парня упрячут надолго, мы все сели в лужу, все. А коли так, терять нечего. И мы вас прикончим. Вот так-то. Ну, пошли, мы отвезем вас обратно.
Однако прежде чем они успели закрыть за собой дверь, Барбара крикнула вдогонку:
— Хотите дожить до пенсии, инспектор, так подумайте, что говорить в суде!
Мортлок усмехнулся. Еще и шантаж! Кого они из себя корчат, идиоты?
Фиппс остановил машину прямо у его дома, а Сэдлер отворил дверцу:
— Не вздумайте подстраивать ловушку в Челси. Мы не новички и этой ночью сматываемся. До суда над Мелвином вы о нас не услышите, инспектор.
Мортлок не стал рассказывать коллегам о ночном приключении. Такая мелкая сошка, как Барбара и ее сообщники, не интересовали полицейского, понадобятся — он их всегда найдет. Сейчас все его помыслы занимало предстоящее выступление в суде. Уж тогда Крис покажет всей этой шушере, что инспектор Скотленд-Ярда угроз не боится.
Глава VI
Когда Мортлок вошел в знакомый домик в Уотфорде, Джойс протянула навстречу руки:
— Я все знаю, Крис. Спасибо!
Этот субботний вечер вознаградил Мортлока за все невзгоды, избавил от горечи и мелких угрызений совести. Крис с радостью отметил, что сегодня миссис Гендерсон больше никого не пригласила, они были вдвоем. Но уместно ли сразу заговорить о… Может, она нарочно все так подготовила, чтобы услышать от Криса признание? Скоро год, как умер Ларри, Джойс прекрасно знает и о чувствах, и о намерениях инспектора… только… арест Дэвиса — еще не наказание, а Мортлок поклялся себе не говорить на эту тему до осуждения бандита. И он решил подождать.
В тот чудесный вечер Мортлок рассказал Джойс о своих приключениях в Харрогите, о том, как ему было тоскливо без субботних поездок в Уотфорд. Джойс с улыбкой призналась, что тоже без него грустила. Полицейский растаял от счастья. Лишь усилием воли он заставил себя выполнить обещание и не выступать в роли официального жениха немедленно. У миссис Гендерсон хватило вкуса и здравого смысла не говорить банальностей вроде: «Там, где Ларри сейчас, он, конечно, благодарит вас за отмщение». Она ограничилась коротким замечанием: «Теперь, когда Дэвиса посадят на несколько лет, смерть Ларри гнетет меня меньше. Я знаю, его покарают не за это преступление, но постараюсь внушить себе, что хотя бы отчасти и за него тоже».
— Кто знает? Возможно, на суде я сумею разделаться с ним окончательно…
— Каким образом?
— Разумеется, у меня нет достаточных доказательств, но, по-моему, ваш рассказ произведет определенное впечатление на присяжных, и на процессе сложится неблагоприятная для Дэвиса атмосфера. С судейской точки зрения этого достаточно, чтобы увеличить срок.
Мортлок не понимал, что, произнося эти слова, изменяет делу, которому сам же хотел так жертвенно служить. В его порыве смешивались и давнее омерзение к преступникам, и стремление к нелицеприятному правосудию, и жажда мщения, и любовь. И Крис забыл, что полицейский обязан свидетельствовать без ненависти и без предубеждений.
Казалось, Джойс тоже утрачивает связь с реальностью. Смерть и насилие, внезапно проникшие в спокойную жизнь провинциальной учительницы, словно преобразили ее. Никому не известная обывательница Уотфорда превращалась в средневековую даму, вдохновенно преследующую подлого убийцу. Отрешившись от всего, что не имело отношения к общим стремлениям, оба готовились к процессу Мелвина Дэвиса. Так некогда доблестный рыцарь и та, чьи цвета он носил, страстно ждали турнира, где должен был победить Божий суд.
В день открытия процесса Мелвина Дэвиса, обвиняемого в двоеженстве, во Дворце Правосудия собралась далеко не изысканная публика. Пришел в основном мелкий люд из Сохо поглазеть на одного из своих главарей. Из-за столь сомнительных историй сливки общества не беспокоятся. Крис нашел удобное место для миссис Гендерсон, а сам отправился в комнату для свидетелей. По дороге Мортлок заметил в зале суперинтенданта Болтона и инспектора Хэддена, но это его не удивило.
Слушания начались точно в назначенный срок. Председателем суда был Бенджамин Морган, Кларенс Мей — прокурором, а Малькольм Мак-Намара представлял защиту.
В среде юристов хорошо знали Мак-Намару — это воплощенное сочетание ловкости и прекрасного знания законов. Коллеги искренне сожалели, что подобными достоинствами обладал человек абсолютно бессовестный. Для Малькольма годились все средства, лишь бы служили его подзащитному. По общему мнению, Мак-Намара не был джентльменом, и ни один приличный клуб не согласился бы принять его в свою среду. Но адвокат плевал на это. Он охотно жил в Сохо и там же открыл «лавочку», как шутливо называли его контору. Не раз Мак-Намара оказывался на грани изгнания из коллегии адвокатов и хорошо знал: сколько-нибудь заметной ошибки ему не простят. Этот пятидесятилетний здоровяк с запоминающейся внешностью, сильным голосом и сочной, образной речью производил сильное впечатление на присяжных. Никто не мог равняться с адвокатом в умении высмеять свидетелей противной стороны, и публика знала: раз в суде выступает Мак-Намара, скучно не будет.
Прокурор Кларенс Мей был прямой его противоположностью. Он казался живым олицетворением идеального образа британского адвоката — подтянутого и элегантного. В красноречии Мея чувствовалось что-то ледяное, сухое, почти математическое. Без малейших эмоций в голосе он выстраивал безупречный ряд аргументов и, возможно, несколько утомлял, но убеждал несомненно. Присяжные ощущали себя школьниками, но каждое слово доходило до сознания, и с ним невозможно было не согласиться. И, естественно, никто не жаждал иметь такого противника.
Судья Бенджамин Морган слыл человеком суровым. Под защитой стен Дворца правосудия он жил, казалось, в давно прошедшей эпохе. Все, и Мак-Намара в первую очередь, отлично понимали, что к двоеженству Бенджамин Морган не проявит ни малейшего снисхождения: в его глазах это преступление своей низостью превосходило все прочие. В общем, ловкачи из Сохо заключали пари, ставя на оправдательный приговор пятьдесят против одного, на приговор меньше десяти лет — два против одного и на приговор меньше двух лет — двадцать против одного.
Когда Дэвис прошел к скамье подсудимых, знавшие его отметили, что за несколько дней он сильно постарел. Под глазами набухли мешки, щеки обвисли — Мелвин как будто заранее сдался. Мак-Намара что-то шепнул клиенту, и тот попробовал взбодриться, но было ясно: это не надолго, и очень скоро Дэвис снова превратился в усталого старика.
Как того требовал протокол, сначала установили личность обвиняемого, потом зачитали обвинительное заключение. Сэр Бенджамин Морган спросил, признает ли подсудимый себя виновным. Мак-Намара громко ответил, что да, признает. Вслед за этим судья назвал первого свидетеля — инспектора Кристофера Мортлока. Проходя через зал, полицейский нашел глазами Джойс и улыбнулся. Она ответила такой же улыбкой, и Крис почувствовал такой прилив сил, что уже ничто не могло его поколебать, даже осуждающий вид суперинтенданта Болтона, не отрывавшего от него пристального взгляда. Уточнив свои имя и должность, Мортлок рассказал, как обнаружил подлинную миссис Дэвис. Сэр Бенджамин Морган по достоинству оценил сравнение с мисс Хэвишем, поскольку сожалел об упадке культуры у молодого поколения. Прокурор задал несколько незначительных вопросов и предоставил Мортлока в распоряжение защиты. Все присутствующие с нетерпением ждали, что предпримет Мак-Намара. Подорвать доверие к столь четко и сжато высказанным показаниям, суть которых ни обвиняемый, ни защита не сочли нужным опротестовать, было нелегко.
— Вы, инспектор, ездили в Харрогит по служебным делам?
— Нет.
— А нельзя ли узнать, что именно привело вас в этот город?
— Я там отдыхал.
— Позвольте заметить, у вас странные представления об отдыхе. Мне-то казалось, что на каникулах полицейские стараются забыть о работе, а не продолжают ее на, так сказать, добровольных началах.
— Ваша честь, — вмешался прокурор, — мнение моего уважаемого коллеги относительно манеры свидетеля проводить отпуск интересует лишь его самого. Вероятно, мой уважаемый коллега не понимает, как можно настолько увлекаться работой и не забывать о ней никогда. Но, позволю себе заметить, нас это не касается. И, с вашего позволения, сэр, добавлю: сколь бы это ни казалось удивительным моему уважаемому коллеге (у Кларенса Мея, к большому удовольствию публики, была на редкость оскорбительная манера произносить слово «уважаемый»), некоторые люди любят свою профессию не только из-за денег, которые она им приносит.
Чувствовалось, что прокурор нанес ощутимый удар Мак-Намаре, а тот парировал не слишком удачно:
— Я никогда не сомневался, что почтеннейший прокурор бросится защищать все добродетели, в том числе и мнимые… Впрочем, последние к тому же намного легче присвоить.
Ответ звучал откровенно жалко, и презрительная улыбка Кларенса Мея отметила еще одно очко в пользу обвинения. Сэр Бенджамин Морган призвал как защиту, так и обвинение прекратить перепалку, не имеющую непосредственного отношения к процессу.
— Не соблаговолит ли защита объяснить суду слишком пристальный интерес к тому, каким образом свидетель предпочитает проводить свой отпуск, интерес, который, по-моему, отнюдь не оправдан задачами данного судебного разбирательства?
— Ваша честь, может, свидетель скажет нам, ездил ли он в Харрогит просто отдохнуть или с твердым намерением найти что-либо компрометирующее моего клиента?
— Я не совсем понимаю вас, мэтр. Намерения свидетеля и факты, вменяемые в вину подсудимому, — не одно и… Ну да ладно… Вы слышали, вопрос, инспектор?
— Я поехал в Харрогит с твердым намерением найти улики против Дэвиса.
Мак-Намару заявление Мортлока заметно обрадовало:
— И при этом никаких указаний или приказа от начальства вы не получали?
— Нет, не получал.
— Тогда не объясните ли вы суду причины столь откровенной ненависти к моему клиенту?
Кларенс Мей счел необходимым прийти на помощь Мортлоку:
— Ваша честь, если я правильно понимаю моего уважаемого коллегу, он удивлен, что полицейский может испытывать чисто профессиональную неприязнь к тому, кого преследует. Помилуй Бог, но мы все на нее надеемся, и в любом случае предпочитаем, чтобы это было именно так, нежели наоборот и полицейские установили самые дружеские отношения с преступным миром!
Сэр Бенджамин Морган согласился:
— Это очевидно, и я все менее понимаю цель, которую преследует защита.
Мак-Намара занервничал:
— Она очень проста, ваша честь. Собираясь в Харрогит, инспектор ничего не знал о тех фактах, которые сегодня вменяются в вину моему подзащитному. Тем не менее он их разыскивал, стремясь передать мистера Дэвиса в руки правосудия. Хотелось бы услышать объяснение этой враждебности — не той, очень общей и естественной, о которой говорил прокурор, а чисто личной. По-моему, она плохо вяжется с объективностью и беспристрастием, которых требует от полицейского расследование.
Судья тоже начал проявлять признаки нетерпения:
— Инспектор, вы не обязаны отвечать на этот вопрос. Ваши чувства к Дэвису не касаются никого, кроме вас. Но если вы согласны ответить, ответьте, чтобы покончить с этим и без того затянувшимся эпизодом.
Крис подумал, что Мак-Намара, сам о том не подозревая, предоставил ему случай настроить присяжных на самый суровый лад. Усмехнувшись, он заметил:
— Я хотел бы подчеркнуть, ваша честь, что только после настойчивой просьбы защиты излагаю причины, побудившие меня искать доказательств виновности Дэвиса.
— Суд уполномочивает вас на это, инспектор.
Внутренне посмеиваясь, Мортлок рассказал историю Гендерсонов, а также о своих подозрениях, что Дэвис, скорее всего, и есть тот, кто раздавил женщину с ребенком и организовал убийство Ларри Гендерсона. Это заявление вызвало такой ажиотаж, что сэру Бенджамину пришлось долго стучать молоточком, восстанавливая порядок. Когда наконец наступила тишина, раздался звонкий голос Кларенса Мея:
— Ваша честь, мне кажется, защитник упустил прекрасную возможность промолчать.
— Это клевета! — закричал Мак-Намара. — Мы возбудим дело против инспектора Мортлока!
— Уважаемый адвокат, очевидно, забыл, что именно он настоятельно просил свидетеля изложить свое мнение о подсудимом.
Судья Морган, добившись спокойствия, первым делом заявил, что, если публика еще раз позволит себе столь неприличное поведение, он прикажет очистить зал заседаний.
— Прокурор прав, — продолжал он, — свидетель выступил не по своей инициативе, а лишь по требованию защиты. Следовательно, в намерении повредить подсудимому его никак не упрекнешь. Не инспектор упомянул о фактах, прямого отношения к процессу не имеющих, а вы сами, господин защитник. Однако сказанное столь важно, что я считаю своим долгом уделить некоторое время истории с дорожным происшествием и убийством. Необходимо прервать заседание и пригласить на следующее слушание миссис Гендерсон.
— Она здесь, в зале, ваша честь, — ответил Кларенс Мей.
— Ваша честь, вы же видите, это заранее подстроено! — воскликнул Мак-Намара.
— В таком случае вы, безусловно, соучастник, — отчеканил прокурор. — Никто не мог рассчитывать, что вы заставите свидетеля выступить против вашего подзащитного!
Сэр Бенджамин вновь стукнул молотком:
— Прекратите перепалку, она не интересует присяжных! Суд считает необходимым выслушать миссис Гендерсон. Я прошу ее подойти сюда. Присягу можно не приносить, и я предупреждаю присяжных, что ее сообщение обсуждаться не будет, поскольку не об этом деле нам предстоит вынести решение. Прошу вас, миссис Гендерсон!
Несмотря на глубокий траур, Джойс казалась почти прекрасной, настолько всех покоряла красота ее глаз. С четкостью учительницы, привыкшей объяснять сложные понятия, она рассказала о нервозности своего мужа после возвращения из Харрогита, о его угрызениях совести, страхах и о том, как он узнал на фотографии в газете человека, сбившего женщину с ребенком и угрожавшего ему. Миссис Гендерсон призналась, что, не сумев уговорить мужа, сама обратилась в Скотленд-Ярд. Рассказала она и о письмах с угрозами, об убийстве мужа и, наконец, о покушении на нее. В зале стояла полная тишина. Когда вдова умолкла, сэр Бенджамин Морган спросил:
— Что касается возможной виновности Мелвина Дэвиса, то вы основываетесь лишь на словах своего мужа и на том, что тот опознал его на фотографии в газете?
— Да, и еще на свидетельстве Бенни Джилмона.
— Кто это?
— Ребенок. Он видел, как погиб мой муж.
Тишина в зале, и так гробовая, словно еще больше сгустилась. Ее нарушил Мак-Намара.
— И совершенно случайно юный Джилмон тоже находится в зале? — воскликнул адвокат.
— Нет, господин защитник…
Мак-Намара сел, ворча себе под нос.
Совершенно сбитый с толку, сэр Бенджамин явно не знал, что делать в подобной ситуации. Наконец он все же принял решение.
— Новые факты, несомненно, существенны, но не нам их обсуждать. Если все сказанное верно, я не сомневаюсь, что полиция Ее Величества ведет расследование и… Вы просите слово, мистер Болтон?
Суперинтендант встал:
— Если позволите, ваша честь… По поводу расследования, о котором вы сейчас упомянули…
— Защита не возражает?
Мак-Намара только пожал плечами.
— В таком случае суд готов вас выслушать, мистер Болтон.
Суперинтендант бросил взгляд в сторону Мортлока.
— Вы правы, ваша честь, — спокойно начал он, — по делу об убийстве Ларри Гендерсона ведется расследование. Я возглавляю группу. Свидетельства миссис Гендерсон и юного Бенни Джилмона приняты во внимание, однако до сих пор никаких серьезных доказательств участия и вины Мелвина Дэвиса мы не получили. Расследование еще не закончено.
— Значит, вы не разделяете уверенности инспектора Мортлока?
— Конечно, нет.
Мак-Намара впервые вздохнул с облегчением.
— Ну, наконец!
Болтон поспешил добавить:
— Я много лет знаю инспектора Мортлока и уверен в его искренности. Однако в нашей работе искренней убежденности не достаточно.
Защитник поблагодарил Болтона и попросил включить его слова в протокол. Судья подвел итог:
— Мы будем ждать результатов расследования. А пока я просил бы присяжных забыть все, что здесь говорилось об убийстве Гендерсона. Вы хотели что-то добавить, инспектор Мортлок? Нет? Суд благодарит вас.
Крис отправился на место. Несмотря на вмешательство Болтона, его выступление наверняка повлияло на присяжных. Сэр Бенджамин объявил о возобновлении слушанья дела, от существа которого, подчеркнул он, по вине защиты отошли слишком далеко. После этого судья вызвал Барбару Коукбэн.
Ее распухшее от слез лицо выглядело особенно вульгарным в сравнении с личиком миссис Гендерсон. И брезгливая гримаса судьи не оставляла сомнений, что как раз таких женщин он на дух не выносит. Допрашивал Барбару сэр Бенджамин очень сухо.
— Вы знали, что Мелвин Дэвис женат?
— Да, ваша честь.
— И, несмотря на это, согласились участвовать в постыдной комедии, в этой профанации самых чтимых, самых священных обязательств, на которых зиждется наше общество?
— Это не было комедией, ваша честь.
— А чем же, по-вашему?
— Мы с Мелвином любим друг друга! Но закон не позволял ему освободиться от сумасшедшей, от женщины безнадежно больной психически.
— Значит ли это, что свидетельница — врач? — вкрадчиво спросил прокурор. — Мисс Коукбэн хорошо разбирается в психиатрии?
Барбара вытаращила глаза:
— Конечно, нет!
Кларенс Мей не удостоил ее еще одним вопросом и обратился к судье:
— Что же в таком случае позволяет свидетельнице столь уверенно говорить о полной неизлечимости миссис Дэвис?
Мак-Намара как бы про себя, но все же достаточно громко хмыкнул:
— Хитро, ничего не скажешь!
— Не знаю, хитро ли это, как считает мой почтенный коллега, но вопрос напрашивается сам собой.
— Так что же, по-вашему, нужно иметь диплом, чтобы правильно реагировать на элементарные вещи? Если на кого-то набросились на улице и пострадавший обратился в полицию, неужели там должны требовать у него диплом юриста? Мисс Коукбэн лишь повторила мнение лечащего врача, известного и почитаемого психиатра доктора Кэмпбела.
Желая прекратить спор, судья заметил, что обсуждать состояние здоровья миссис Дэвис — не дело суда.
— Итак, мисс Коукбэн, из ваших слов я понял, что вы вполне сознательно заключили незаконный брак, обманывая служащих мэрии и тем самым Британскую корону, а заодно и церковь.
— Мелвин и я, мы хотели жить по-честному!
Кларенс Мей встал, исполненный достоинства.
— Некоторые слова, мисс Коукбэн, должны бы обжигать вам рот! Зная ваше прошлое, можно либо удивляться, либо смеяться, слыша от вас рассуждения о честности и порядочности. Чем вы только не занимались, в том числе делами самыми недостойными!
— Пощадите, молю вас!
— Что же до вашего сообщника, то Дэвис столько лет провел в тюрьме, что строить иллюзии о его раскаянии и внезапной любви к добродетели просто забавно.
— Мерзавец!
Эта реплика Мелвина Дэвиса снова вызвала шум в зале, но судья решительно стукнул молотком.
— Дэвис, немедленно возьмите свои слова обратно!
Но прокурор примирительно махнул рукой.
— Не тревожьтесь, ваша честь. Цена оскорбления зависит от того, кто его произносит. Высказывания Мелвина Дэвиса в мой адрес мне совершенно безразличны, а то и льстят!
— Отдаю должное вашему долготерпению, мэтр Мей! Инцидент исчерпан. Предупреждаю вас, Дэвис, еще одна подобная выходка — и вас будут судить заочно.
Когда в зале воцарилась тишина, слово взял Мак-Намара.
— Я сожалею о несдержанности моего подзащитного. Увы, в отличие от господина прокурора он не обучался в Оксфорде. Тем не менее я хотел бы уточнить, что возмущение мистера Дэвиса, высказанное слишком грубо, понятно и даже оправданно. Какой смысл исправляться, если всегда и везде вас продолжают попрекать прошлым? Поженившись и открыв свое дело, Дэвис и мисс Коукбэн доказали, что хотят начать новую жизнь…
— И эту новую жизнь, — перебил Кларенс Мей, — они начали с брачной аферы. Прошу вас, дорогой коллега, давайте говорить серьезно!
— Дело не в серьезности, а в том, чтобы быть человечным! Не знаю, объясняют ли смысл этого слова в Оксфорде…
— Смею вас уверить, безусловно, а кроме того, там усваивают и хорошее воспитание, что, могу заметить, встречается не везде.
После свидетельских показаний Мортлока и Барбары Коукбэн интерес публики к процессу заметно угас. Все заранее знали, что скажет в своей речи Кларенс Мей. Мак-Намаре же, при всей его изворотливости, оставалось лишь взывать к человеколюбию. Прокурор и адвокат разыграли эту сцену как по нотам. Недолго посовещавшись, суд приговорил Мелвина Дэвиса к десяти годам тюремного заключения и уплате крупного штрафа. По общему мнению, приговор был чересчур суров, особенно если учесть такие смягчающие обстоятельства, как сумасшествие миссис Дэвис и прекрасный уход, которым ее окружил Мелвин. Говорили, что тут сыграло роль не только прошлое Дэвиса, но в первую очередь разоблачения Мортлока, которые потрясли присяжных.
У выхода из зала суда Мортлок столкнулся с Барбарой Коукбэн.
— Для меня все кончено, инспектор. Я сдержу обещание.
Крис пожал плечами. К Джойс он не стал подходить из-за журналистов. Вернувшись в Ярд, Мортлок с удивлением обнаружил у себя в кабинете суперинтенданта Болтона.
— Простите меня, инспектор, за вторжение, но мне хотелось бы узнать приговор. Я не смог остаться до конца заседания.
— Десять лет и пять тысяч фунтов штрафа.
Ричард присвистнул:
— Первое сокрушительное поражение Мак-Намары за многие годы. Что вы думаете по этому поводу?
— Ничего.
— Вы не умеете лгать, инспектор. Достаточно взглянуть на ваше сияющее лицо, и…
— А если и так?
— Что ж… Я сказал бы, что страстный поборник справедливости радуется ее очевидному попранию. Вы ведь не хуже меня знаете, что приговор чрезмерно суров.
— Не для Мелвина Дэвиса.
— Вы считаете, что для Дэвиса — одни законы, а для прочих британских граждан — другие?
— Он наказан не только за двоеженство, но и за другое преступление.
— Оно не доказано.
— Это вы так считаете.
— Именно. Как раз тут-то вы и не правы. В нашем деле нельзя быть пристрастным. В чем уверены вы или другой полицейский, никого не касается. Правосудие слепо, вы это, должно быть, забыли.
— Я высказал свое личное мнение только по настоянию адвоката.
— Это доказывает, что Дэвис не предупредил Мак-Намару о ваших подозрениях на его счет.
— Из вполне понятных побуждений.
— Не уверен. А впрочем, это дело и вашей совести. Всего доброго, инспектор.
В то субботнее мартовское утро Крис встал с постели в настроении генерала, готового к сражению и уверенного в победе. Даже пасмурная погода не могла омрачить его радостного настроения. Мортлок с удовольствием отправился в Скотленд-Ярд пешком, и его блаженная улыбка, наверное, раздражала кутавшихся в пальто прохожих. Но полицейский не чувствовал холода, сердце его радостно билось. Вечером Джойс должна была стать — по крайней мере теоретически — миссис Мортлок. С долгими одинокими вечерами, с ужинами из остатков забытой в холодильнике вчерашней еды, с беспробудной тоской — со всем этим сегодня вечером Крис распрощается навеки. Отныне рядом с ним всегда будет та, кому можно поверять все свои мысли и чувства. Об опасности со стороны Барбары и ее сообщников Крис вовсе не думал. Скорее всего, танцовщица уже нашла утешителя, а прочая шпана — какой-нибудь «бизнес», но рано или поздно все они окажутся на скамье подсудимых и предстанут перед судом Соединенного Королевства.
В полдень, оказавшись в Стренде, инспектор зашел в ресторан, заказал хороший обед и выпил полбутылки бордо, отчего окончательно воспарил над землей. В ознаменование счастливого события Мортлок решил вечером пригласить Джойс в театр и стал просматривать театральные афиши, выбирая спектакль. Водевили показались ему не подходящими к случаю, и, как всякий англичанин в подобную минуту, не зная, на чем остановить выбор, Крис бросился к спасительному Шекспиру. По счастью, в театре Олд Вик давали «Все хорошо, что хорошо кончается».
Появляться в Уотфорде слишком рано Крису не хотелось, а от назначенного Джойс времени его отделяло целых три часа. Некоторое время Мортлок бродил как неприкаянный, а потом пошел в Уотфорд пешком — через Черинг-кросс, Оксфорд-стрит, Эдвард-роу и Килберн-роу. Около четырех часов, утомившись, он взял такси. У дома учительницы Крис вдруг заволновался, как школьник перед первым свиданием. Дрожащей рукой он нажал кнопку звонка, воображая, будто изо всех окон наблюдают любопытные соседи.
Дверь открыла такая свежая и улыбающаяся Джойс, что Крис с удовольствием отдал бы все на свете, лишь бы обнять ее. Но в гостиной инспектора ждал неприятный сюрприз — миссис Джилмон и Бенни. Мортлоку немалых трудов стоило скрыть досаду. Впрочем, разговор в основном вращался вокруг суда над Мелвином Дэвисом. Миссис Джилмон задавала вопросы и сама же отвечала, что, в общем, всех устраивало. Она тараторила без умолку и весьма гордилась тем, что благодаря сыну, этому юному Айвенго, тоже сыграла в процессе важную роль. Миссис Джилмон уже грезилось, что они с Джойс Мортлок составили некий клан мстителей, сумевших расстроить все хитросплетения планов убийцы.
Наконец гости доели кекс, приготовленный хозяйкой дома, и выпили чай. Мортлок с возрастающим нетерпением ждал, когда же миссис Джилмон уйдет. Но та поглядела на часы лишь около семи.
— Господи! Как время летит! — полусмущенно-полувстревоженно воскликнула она. — У вас не соскучишься, дорогая миссис Гендерсон, и я совсем забыла об ужине для Бенни. А если этого ребенка не покормить вовремя, он плохо спит и, того гляди, заработает расстройство желудка.
Миссис Джилмон еще несколько минут распространялась о том, как тесно связаны физиологические трудности ее сына с железным распорядком дня, но Крис все же дождался вожделенного часа: после изъявлений благодарности и дружеской привязанности, а заодно и поздравлений с общей победой назойливая гостья ушла и забрала с собой Бенни.
В тишине, наступившей после ее ухода, ощущалась легкая неловкость.
— Крис, вы совсем не заботитесь о моей репутации, — с улыбкой заметила Джойс. — Что подумает миссис Джилмон, увидев, как вы остались здесь?
— Во-первых, миссис Джилмон не думает…
— Ошибаетесь, о таких вещах она думает, и очень много! Я бы сказала даже, это основная тема ее размышлений.
— Ну и пусть, теперь вам нечего опасаться, потому что… Прошу вас, выслушайте меня. Если я остался, несмотря на сплетни и пересуды, то потому, что мне необходимо поговорить с вами об очень важном деле.
— Сейчас уже так поздно… Может, лучше отложим до…
— Нет, Джойс, я и без того уже слишком долго жду!
— Мне так не хочется никаких серьезных разговоров…
— Это необходимо!
— Ну что ж… Только мне… очень жаль…
Крис уже много дней повторял про себя все, что скажет Джойс, и теперь ему казалось, будто он произносит выученную наизусть роль.
— Я полюбил вас, Джойс, с того дня, как впервые увидел тогда, в Ярде. Никогда не думал, что способен на такое, но, едва вы вошли в мой кабинет, я забыл и тоску, и одиночество, и утраты. Вы еще не успели и рта открыть, а я уже знал: вы не похожи на других и ревновал к вашему мужу, хотя и слыхом о нем не слыхивал. Бог свидетель, я никогда не желал смерти Ларри Гендерсона, но во мне крепла уверенность, что когда-нибудь мы, Джойс, будем принадлежать друг другу. Я чувствовал, что рядом с вами обрету радость, которой меня так обделила судьба. А потом с Ларри случилось несчастье. И я углядел в этом перст судьбы, но терпеливо ждал, пока время смягчит ваше горе. И вот наконец, по-моему, настал момент открыто сказать: я люблю вас… Даже потеря друзей и житейские передряги казались менее тягостными, потому что давали возможность посвятить себя вам одной. Вы знаете и где я служу, и сколько зарабатываю… Ну, Джойс, согласны ли вы стать моей женой?
Она ответила не сразу, но Крис подумал, что это от волнения. Когда же Джойс наконец решилась заговорить, в голосе ее слышались слезы.
— Крис, мне не случайно хотелось, чтобы вы ничего не говорили…
— И что это означает?
— Вы были моим лучшим другом, моим исповедником, тем, кому я могла доверить решительно все…
— Так что же?
— Простите меня, Крис, но я вас не люблю…
— Вы меня не любите… вы меня не любите… — несколько раз повторил ошеломленный Мортлок, словно смысл сказанного не доходил до его сознания.
— Во всяком случае, не так, как вам хотелось бы.
— Но, Джойс, вы же не могли не догадываться…
— Да, и должна была сразу предостеречь вас, посоветовать не слишком увлекаться, ибо не разделяю ваших чувств. Вспомните, сколько раз я пыталась намекнуть на это, но вы не слушали. А кроме того…
— Что?
— Знаю, я поступала подло, боялась, что вы меня покинете, а я так не хотела бы вас потерять, Крис!
Он грустно улыбнулся.
— Теперь это вряд ли возможно. Я никогда не представлял, что мы останемся только друзьями.
Мортлок огляделся по сторонам. Так приговоренный к смерти, прежде чем подняться на эшафот, жадно смотрит вокруг, стараясь напоследок запомнить каждую мелочь.
— Мне нравилось здесь…
Джойс чуть не плакала.
— Но вы мне по-прежнему друг, правда, Крис? — спросила она, накрыв ладонью руку инспектора.
— Конечно, конечно, — с трудом выдавил из себя Мортлок. — Мне пора уходить, но я еще не совсем опомнился от всего этого. И потом, я сегодня долго шел к вам пешком. Тогда казалось, могу до края света дойти и не почувствую усталости… А вот теперь она на меня навалилась…
— Бедный Крис…
— Я настолько не сомневался, что и вы… Думал повести вас сегодня в театр… В Олд Вик. На «Все хорошо, что хорошо кончается». Смешно, правда?
— Не будьте желчным, Крис.
— Простите, но у меня нет сил шутить.
— Я никогда не смогу быть счастливой, зная, что вы несчастны из-за меня…
— Тут ни вы, ни я ничего не можем поделать… Да, субботние вечера теперь покажутся мне очень долгими, — Крис усмехнулся. — Как странно все это. До знакомства с вами я очень плохо знал Уотфорд, потом он стал для меня самым прекрасным местом на свете, а теперь снова как будто исчезнет. Разные места — они как люди. Появляются и исчезают, и никто не знает почему.
— Крис… Я уезжаю из Уотфорда. На будущей неделе.
— Почему? Вы меня не предупредили…
— Я не смела.
— Каким же идиотом вы меня считали!
— Не говорите так! Я всегда думала о вас, как о самом лучшем человеке, какого встретила на своем пути в трудную минуту. Вы, конечно, меня забудете, и поделом, но я буду всегда помнить о вас, Крис.
— Даже если это неправда, спасибо. А можно узнать, куда вы едете?
— Я возвращаюсь к себе, в Донкастер.
— Мне казалось, у вас там никого нет.
Джойс покраснела.
— До последнего времени так и было, но недавно…
— Не понимаю.
— Я боюсь причинить вам новые страдания…
— Их уже столько, что…
— По-моему, я вам рассказывала, что в молодости была влюблена в своего кузена Тома Донелли.
— А он отправился гулять по свету, если не ошибаюсь?
— Том вернулся, снова живет в Донкастере и, кажется, хорошо устроился.
— Так это к нему вы возвращаетесь?
— Да. Узнав о смерти моего мужа, он написал, что не забыл меня и глубоко сочувствует, а потом предложил, если я не слишком злопамятна… В общем…
— Вы поженитесь?
— Да.
— Что ж… После этой радостной новости мне остается только пожелать вам счастья, миссис Гендерсон.
— Вы больше не зовете меня Джойс?
— Боюсь, мистер Донелли не поймет такой фамильярности.
— Крис, вы не представляете, как мне больно за вас! Ваши мучения лягут тяжелым камнем на мою будущую жизнь.
— Не стоит преувеличивать, — он встал. — Спасибо за светлые мгновения, которые я здесь пережил. Несмотря ни на что, я сохраню о них добрую память.
Джойс проводила Мортлока до двери и, когда он взялся за ручку, спросила:
— Крис… Вы не хотите меня поцеловать на прощание?
— Пожалуй, лучше не надо, миссис Гендерсон. Прощайте.
— Прощайте, Крис, и спасибо за все.
Выйдя из метро на станции Кенсингтон Олимпия, Крис долго шел по улицам Хэммерсмита. Он брел, сунув руки в карманы и ни на что не обращая внимания. От прежних мечтаний не осталось и следа. Инспектор отверг предложенную Джойс дружбу, но не смог по-настоящему рассердиться на нее. Да и за что? Может, зря держалась с ним так любезно и следовало бы вести себя еще более сдержанно и отстраненно? Но, честно говоря, Джойс никогда не пыталась делать вид, будто разделяет его любовь. Крис сам заморочил себе голову. Просто он принимал желаемое за действительное и толковал дружелюбие молодой женщины в свою пользу.
Мортлок с содроганием подумал, как посмеются над ним Болтон и компания. Джойс Гендерсон его не любит. Ну и что? Все равно это ни в коей мере не снимает вины с Мелвина Дэвиса.
Раз суперинтендант Болтон объявил на процессе, что расследование убийства Ларри Гендерсона продолжается, он непременно узнает и об отъезде Джойс, и о предстоящей женитьбе. Боясь сочувственных или насмешливых взглядов, Крис решил опередить события. Ричард принял Мортлока по первой же просьбе.
— Вы хотите сообщить мне что-нибудь важное, инспектор?
— С вашего позволения, сэр.
— Это касается службы?
— В известном смысле.
— Слушаю вас.
— Миссис Гендерсон навсегда уезжает из Уотфорда.
— И куда же она собралась?
— На родину, в Донкастер.
— Но мне казалось, что вы…
— Ее любил? Вы правы, сэр. Я любил ее, но мне не отвечали взаимностью.
— И как давно это выяснилось?
— Вчера вечером, когда я попросил ее руки.
Тронутый отчаянием, прорывавшимся в голосе Криса, несмотря на внешнее спокойствие, Болтон вспомнил о былой дружбе. Он не знал, что сказать, и не решался закончить разговор сухим служебным замечанием.
— Но… А как же ее работа в школе?
— Миссис Гендерсон не рассказала мне всех подробностей, сэр. Наверное, она вообще оставит работу, поскольку собирается замуж за кузена, которого любила в юности. Тогда он уехал бродяжничать, но теперь вернулся и, похоже, разбогател. Узнав о смерти Ларри Гендерсона, он послал вдове предложение вспомнить об их прежних планах и получил согласие.
— Как зовут этого человека?
— Том Донелли, сэр.
Суперинтендант, забыв обо всех обидах, невольно сказал:
— Очень сочувствую вам, Крис…
— Я сам во всем виноват. Насочинял сказок, да еще в них же и уверовал. Но, видно, сказки любят в любом возрасте… — И, не желая впадать в сентиментальность, он добавил: — Впрочем, это не изменило моих представлений об убийстве Ларри Гендерсона. Я по-прежнему считаю виновным Мелвина Дэвиса и надеюсь, что вам удастся представить суду необходимые доказательства.
— Положитесь на меня, инспектор. Я сделаю все, чтобы убийца Ларри Гендерсона не остался безнаказанным.
Дома Ричард рассказал жене о любовной драме Криса, даже не успев снять пальто и шляпу. Но Джанет восприняла новость совсем иначе, чем ее муж:
— Мортлока, конечно, жаль, но, зная его теперь достаточно хорошо, я рада за миссис Гендерсон. Она права. Выходить за такого человека замуж не стоит.
Переобуваясь в домашние туфли, Ричард подумал, что женщины — зовут ли их Джойс Гендерсон или Джанет Болтон — гораздо безжалостней мужчин.
Глава VII
Прошла весна. В начале лета Мортлок получил из Донкастера открытку с приглашением на свадьбу в первых числах сентября. Джойс писала, что ждет Криса, но сохранит о нем теплое чувство независимо от того, приедет он или нет. Инспектор пожал плечами и сунул приглашение в бумажник, твердо решив не отвечать. Крис даже немного сердился на Джойс — открытка лишь разбередила печаль, которую он так старательно глушил. Мортлок работал как одержимый, надеясь, что однообразие повседневной рутины, тысячи полезных, но не сулящих славы мелких дел помогут ему забыть о прошлом. А помимо службы инспектор попробовал увлечься крикетом и внимательно следил за соревнованиями, но полностью обмануть себя ему не удавалось.
Дэвис сидел в тюрьме, ресторан его закрыли, потом продали. О Барбаре — ни слуху ни духу. Что ж… Женщины болтливы и непоследовательны.
Солнечным утром двадцать восьмого июля, едва Крис вошел к себе в кабинет, зазвонил телефон. Полицейский снял трубку.
— Инспектор Мортлок слушает.
— Это Болтон. Вы можете ко мне зайти, инспектор?
— Сейчас?
— Да, и чем скорее, тем лучше.
— Иду.
После разрыва с Джойс ему ни разу не случалось разговаривать с суперинтендантом.
— Садитесь, Мортлок… У меня для вас интересная новость.
— О чем, сэр?
— О дорожном происшествии в Харрогите.
— Нашли виновника?
— Нет, пока только машину. Один владелец гаража сообщил полиции, что приобрел подержанный зеленый «хиллмэн». Приводя его в порядок, он обнаружил, что крыло и рулевые тяги погнулись, как от сильного удара, и наскоро починены. Под радиатором он нашел несколько светлых волос, зацепившихся за болт. В лаборатории установили, что это волосы молодой женщины. Вспомнив, что мы искали «хиллмэн», прядь отправили в Ярд. Я связался с мистером Шапом, мужем и отцом погибших. К счастью, он хранит локон жены и согласился на время передать нам эту реликвию. Эксперты высказались однозначно: волосы из радиатора принадлежат миссис Шап. Это заключение я получил вчера вечером, перед уходом с работы. Памятуя о том, как близко к сердцу вы принимали расследование, я решил поставить вас в известность.
— Благодарю вас, сэр. А чья это машина?
— Скоро узнаем. Я предупредил Боуэна, что вы едете со мной в Эйлсбери к владельцу гаража.
Из Лондона до отстоящего от него всего на сорок одну милю Эйлсбери они добирались час с лишним, через Харроу, Рокмансвортс и Вендовер, поскольку даже для суперинтенданта из Скотленд-Ярда соблюдение правил дорожного движения обязательно. Владелец гаража охотно показал им недавно приобретенный «хиллмэн» и даже место, где обнаружил прядь волос. Машину он приобрел у некоего Джефа Худа, торгового агента из Ньюпорта, в Бедфордшире, в восьмидесяти милях от Эйлсбери. Болтон и Мортлок застали Худа дома, и тот объяснил, что сменил «хиллмэн» на более вместительную машину, в которой легче перевозить образцы рекламируемой им продукции. «Хиллмэн» же Худ купил по случаю в гараже Брюса и Кэмпбела, в Ноттингеме.
Хороший охотник никогда не оставит горячий след. Преодолев еще семьдесят три мили, суперинтендант и инспектор добрались до главного города Ноттингемшира. Кэмпбела они нашли в баре «Колченогий моряк», где он по обыкновению пил пиво. Полицейские представились, заказали еще пива и скоро выяснили, что Кэмпбел хорошо помнит зеленый «хиллмэн», но забыл фамилию человека, у которого его приобрел. Пришлось ехать в гараж и искать квитанцию. В ней Кэмпбел нашел наконец имя, которое интересовало полицейских: Ларри Гендерсон, из Уотфорда.
Болтон и Мортлок, стараясь скрыть изумление, поблагодарили и отправились обедать. Оба долго не решались заговорить, но за кофе Ричард наконец не выдержал:
— Ну, что вы думаете по этому поводу, Мортлок?
— Боюсь, ровным счетом ничего, сэр. Я в полной растерянности.
— А по-моему, нас всех обманули.
— Всех?
— Миссис Гендерсон, вас и меня, не говоря о сержанте Бредли из Уотфорда и вообще всех, кто имел отношение к этой истории.
— Но кто обманул?
— Ларри Гендерсон. Когда Кэмпбел назвал его имя, я, признаться, на мгновение остолбенел. Что угодно готов был услышать, только не это… Я думаю, события разворачивались следующим образом: Гендерсон возвращается из поездки и, вероятно, спешит. Теперь уже не важно, по чьей вине это получилось, но он сбивает женщину с ребенком. Гендерсон — в шоке. Вспомните, по словам жены, больше всего на свете он боялся ответственности. А тут — на тебе!.. Гендерсон теряет голову и мчится прочь, петляя по дорогам, за городом тщательно моет машину, потом где-то чинит крыло и руль — может быть, в районе Кембриджа, где угодно, лишь бы подальше от Харроигита и Уотфорда. Этим и объясняется необычное опоздание, о котором упоминала его жена. Ларри не подлец, а скорее больной человек. Это невольное убийство его угнетает, он становится все угрюмее. Не выносит даже упоминаний о несчастных случаях на дорогах. Познакомившись с Гендерсоном, вы приписали его нервозность страху перед Дэвисом, а на самом деле Ларри боялся, как бы вы не заподозрили его. Ему теперь страшно водить машину — орудие и символ преступления. Наверное, садясь за руль, Гендерсон каждый раз видит распростертых на асфальте женщину и ребенка. Он продает машину, и тем дело, наверное, и кончилось бы, но миссис Гендерсон начинает расспрашивать, стремясь понять причину беспокойства мужа. Да и то, что Ларри продал машину, могло ее смутить. Без машины сложнее объезжать клиентов, по железной дороге это не так просто, короче, зарабатывать намного труднее. Ларри, возможно сославшись на драму в Харрогите, объясняет, что водить машину — дело опасное. Она пытается урезонить мужа, говорит, что несчастные случаи, конечно, происходят, но он достаточно хороший водитель, а без машины его работа станет утомительней и так далее, и тому подобное.
— Предположим, все это так. Но тогда откуда взялся Мелвин Дэвис?
— Ниоткуда он не взялся, по крайней мере во плоти. И только Ларри Гендерсон мог бы рассказать нам, почему ему пришла в голову мысль рассказать жене о Дэвисе.
— Почему именно о Дэвисе?
— Случайность… Конечно, можно только строить предположения, но, думаю, в целом мы недалеки от истины. Ларри нечего возразить супруге, и тогда он, стремясь избавиться от неприятных вопросов, придумывает, будто подъехал к месту аварии в Харрогите, прежде чем виновник успел удрать. Джойс просит уточнений, подробностей и настаивает, чтобы он отправился в полицию и описал преступника. Опять бедный Ларри в неловком положении. Тогда он сочиняет историю с угрозами. Сначала миссис Гендерсон соглашается, но, поразмыслив, замечает, что преступник его не знает, как и Гендерсон не знает преступника, следовательно, угрозы нечего принимать всерьез, и опять постоянно советует сходить в полицию. В этот день газета, которую получают Гендерсоны, печатает большую фотографию Мелвина Дэвиса. Ларри, загнанный в угол собственной ложью, притворяется, будто узнал угрожавшего ему человека. Тут впадает в панику Джойс: она считает Дэвиса куда опаснее, нежели он есть на самом деле, и отправляется в Скотленд-Ярд. Остальное мы знаем.
— Допустим, вы правы, сэр. Но тогда почему убили Ларри Гендерсона и зачем Дэвису понадобилось это убийство?
— Это самое темное место во всей истории. Пока я просто не представляю, в какой момент между Дэвисом и Гендерсоном устанавливается некая связь. Вряд ли Дэвис пошел бы на убийство только потому, что жена Гендерсона побежала в Скотленд-Ярд со вздорным обвинением. Теперь-то мы знаем, что мать с ребенком задавил Ларри.
— Простите, сэр, но нельзя ли переставить исходные данные?
— Что вы имеете в виду?
— Гендерсон не производил впечатление человека с богатым воображением. Допустим, в его рассказе о Харрогите все верно, кроме…
— Кроме чего?
— Одной мелочи. Он изменил роли. На самом деле сбил женщину он, а Дэвис хотел получить деньги за молчание.
— И отсюда — шантаж?
— Именно. Фото Дэвиса в газете побуждает Ларри рассказать жене часть правды. Это объяснило бы и «случайное совпадение» публикации фотографии с разговором о Дэвисе.
— Превосходно, Мортлок! Я почти уверен, что вы правы, и к тому же ваше рассуждение позволяет нам разобраться в причинах убийства Гендерсона. Ведь Джойс обратилась не в местную полицию, а сразу в Скотленд-Ярд. Проследив за ней, Дэвис и его подручные вообразили, что миссис Гендерсон хочет разоблачить шантаж. Такое обвинение пахнет очень долгим тюремным заключением, особенно для Мелвина. Он это знает и начинает нервничать. Отсюда и трагедия. Я думаю, мы подошли к разгадке, инспектор, и, как вы того хотели, Дэвиса все же повесят.
— Меня смущает одно — почему Гендерсон боялся? Хотя… Какой же я дурак! Жена наверняка не рассказала Ларри ни о том, что ходила в полицию, ни о письмах с угрозами.
— А Дэвис думал: муж и жена действуют заодно, в полном согласии, и Гендерсон, вняв уговорам, предпочел во всем признаться.
— Почему?
— Очевидно, требования Дэвиса превосходили сумму штрафа! К тому же Ларри был застрахован.
— Но суд отправил бы его в тюрьму!
— Не забывайте, Ларри побывал в плену и не так уж страшится тюрьмы — в конце концов, там требуют только послушания. Судья учел бы прошлое Гендерсона и объяснил бы его панику психическими отклонениями. Я, конечно, пытаюсь стать на точку зрения Дэвиса, поскольку Ларри ничего не знал ни о решении жены, ни о намерениях гангстера.
Они допили холодный кофе. Поднимаясь из-за стола, Болтон заметил:
— Подумать только, Мортлок, как грустно! Джойс Гендерсон, стремясь выполнить гражданский долг, невольно подставила мужа под пулю!
— Я как раз подумал об этом. Не дай Бог ей когда-нибудь узнать!
— Положитесь на меня. А теперь, если у вас хватит решимости увидеть миссис Гендерсон, мы отправимся в Донкастер.
— А не могли бы вы избавить меня от этой встречи, сэр?
— Хорошо, подождите меня где-нибудь, пока я поговорю с Джойс Гендерсон.
В полиции Донкастера суперинтенданту тут же дали адрес миссис Гендерсон. Вдова жила в унаследованном от родителей доме на Фирбек-роу, рядом с Элмфилдским парком. Суперинтендант оставил Мортлока в парке, а сам направился к Джойс.
Дверь открыла она сама, но полицейский узнал ее не сразу.
— Суперинтендант Болтон из Скотленд-Ярда.
— Ах да, простите… но я настолько не ожидала…
— Еще бы, конечно! Не могли бы вы уделить мне несколько минут?
— Разумеется.
Джойс отвела суперинтенданта в маленькую уютную гостиную, и Ричард, не теряя времени, приступил к делу.
— Миссис Гендерсон, мы нашли виновника дорожного происшествия в Харрогите…
— Прекрасно.
— Но им оказался совсем не Мелвин Дэвис, как мы полагали, а ваш муж.
— Что вы говорите?!
— Увы, это так. Несчастную женщину с ребенком сбила машина Ларри Гендерсона.
— Но… Это невозможно! Немыслимо! Уж мне-то Ларри сказал бы правду и не стал бы выдумывать нелепую историю с угрозами и прочим…
— Он не совсем солгал.
— То есть?
— Вероятно, муж верно описал вам происшествие, но поменялся ролями с Дэвисом. Сбил женщину он, а Дэвис все видел и, скорее всего, начал его шантажировать.
— Вы хотите сказать, он заставлял Ларри платить за молчание?
— Да.
— Так вот в чем дело…
— Позвольте спросить, что вы имеете в виду?
— Вернувшись домой, муж против обыкновения не отдал мне заработанных денег, а лишь смущенно пробормотал, что поездки идут все хуже и хуже. Да и потом…
— Не это ли заставило его продать машину?
— Теперь, после вашего рассказа, я думаю, да.
— Что ж, вы только подтвердили наши предположения. Дэвис испугался, что ваш супруг предпочтет сознаться во всем полиции, чем уступить шантажу, и…
— Я уверена, Ларри платил бы всю жизнь…
Джойс умолкла, как будто ее вдруг осенила неожиданная мысль.
— Погодите… Значит, не пойди я в Скотленд-Ярд, Дэвис не подумал бы… и Ларри…
— Не мучайте себя понапрасну, миссис Гендерсон. Рано или поздно это все равно случилось бы. У шантажистов неуемный аппетит, и очень скоро ваш муж просто не смог бы выполнить очередное требование Дэвиса.
Но вдова больше не слушала его и как во сне повторяла: «Ларри умер из-за меня… Ларри умер из-за меня…» Болтон почувствовал себя крайне неловко, но тут в комнату вошел высокий стройный мужчина в пальто и шляпе.
— Ах, простите, Джойс, я не знал, что у вас гость.
Молодая женщина, рыдая, бросилась ему на грудь.
— О Том, Том! Это ужасно!
Суперинтендант отметил, что вошедший, очевидно жених миссис Гендерсон, вынул из кармана жилета темные очки и, опасаясь, как бы его невеста их ненароком не раздавила, положил на стол. Том погладил волосы Джойс:
— Ну, ну… Успокойтесь. Но, Боже мой, что здесь происходит?
— Ах, Том, это я убила Ларри!
— Да вы с ума сошли!
Миссис Гендерсон повернулась к полицейскому.
— Прошу вас, расскажите ему… У меня нет сил… Том, это суперинтендант Болтон из Скотленд-Ярда. А это Том Донелли, мой жених…
Полицейский изложил Донелли новую версию происшествия в Харрогите и убийства Ларри Гендерсона. Объяснил он и почему, с его точки зрения, все должно было случиться именно так, а не иначе. Том внимательно выслушал рассказ и согласился с выводом. Он снова погладил Джойс по голове.
— Правда, дорогая, вы тут совершенно ни при чем, и нечего себя казнить. Ларри сам виноват, и, как сказал суперинтендант, когда-нибудь вам пришлось бы или смириться с полным разорением, или рискнуть. Но скажите, сэр, по закону Джойс не заставят расплачиваться за мужа?
— Вряд ли. Страховая компания уже оплатила полис мистера Шапа. Что же до уголовного преследования, то судебное дело прекращается со смертью виновного.
Донелли облегченно вздохнул.
— Во всяком случае, я надеюсь, сэр, что Скотленд-Ярд предъявит Дэвису обвинение…
— Его, безусловно, ждет веревка, мистер Донелли. Даже если Дэвис не совершал убийства своими руками, ему могут дать высшую меру за организацию и соучастие. Так что Дэвису очень крупно повезет, коли отделается пожизненным заключением. Благодарю вас, миссис Гендерсон.
Она проводила полицейского до дверей. Машинально он взял лежавшие на столе очки. Миссис Гендерсон улыбнулась.
— Это мои, суперинтендант, а ваши торчат у вас из кармана.
— Правда! Представляете, суперинтендант из Ярда — и вдруг клептоман!
И он вышел, смеясь над собственной шуткой.
В машине Болтон рассказал Крису о встрече с миссис Гендерсон и подвел итог:
— Теперь остается только проверить банковский счет Ларри Гендерсона и выяснить, какие суммы он снимал оттуда. Я поручу это Хэддену — вот уж непревзойденный мастер ковыряться в цифрах!
Через несколько дней Крис столкнулся в коридоре с инспектором Хэдденом. Пэт Хэдден принадлежал к категории старых служак, преданных, храбрых, великолепно знающих полицейскую рутину, но неспособных ни на оригинальную мысль, ни на смелые решения, не предусмотренные регламентом. Он один из немногих ценил трудолюбие Мортлока и жалел о его переводе из отдела Болтона.
— Хэлло, Крис!
— Хэлло, Пэт! Ты еще не в отпуске?
— Мы с Марджори едем сегодня вечером, а дети присоединятся через пару недель. И целый месяц будем бездельничать на берегу моря.
— А я-то думал, вы уже превратились в крабов где-нибудь на пляже в Альдбор.
— Да, я и впрямь сильно подзадержался. Марджори ворчит, но Болтон приказал перекопать кучу банковских счетов. Вы, конечно, помните убийство Ларри Гендерсона?
— Само собой. И что там? Нашли следы выплат шантажисту?
— Нет.
— Как — нет?
— Ни намека! Прекрасный счет с регулярным приходом и расходом по определенным числам, с уравновешенным сальдо. Эх, Мортлок, — вздохнул Пэт, — счет в банке — лучшее зеркало души, и правдивее всех прочих, честное слово. Стоит только какое-то время последить за банковским счетом мужчины или женщины — и я готов нарисовать их безошибочный психологический портрет.
— Но где ж тогда Гендерсон брал деньги, чтобы платить Дэвису?
— Понятия не имею, старина, и, по правде говоря, плевать хотел на обоих. Меня это не касается. Цифры — другое дело. И, кстати, всегда нарываешься на сюрпризы. Конечно, у миссис Гендерсон такой же скромный счет, с регулярными поступлениями ее жалкой учительской зарплаты. Так вот, представьте, в конце мая этот счет вдруг многократно вырос, а еще через две недели ровно на столько же уменьшился. Как будто миссис Гендерсон получила и почти сразу вернула заклад.
— А крупная сумма?
— Несколько тысяч фунтов!
— Ну и ну! И что говорит Болтон?
Хэдден склонился к Мортлоку.
— Как ни смешно, старина, но, похоже, на море еду я, а на мель сел наш супер! — шепнул он.
Инспектор Хэдден ошибался: зайдя через несколько минут к Мортлоку в кабинет, он с горечью сообщил:
— Сегодняшний отъезд на море отменяется из-за этой треклятой истории с банковским счетом. Болтон тащит меня сперва в Уотфорд, а оттуда — в Донкастер. Разве это жизнь?
Крис удивился, что суперинтендант ничего не сказал ему о новом повороте дела. От тревожных размышлений на эту тему его оторвал телефонный звонок.
— Инспектор Мортлок? — спросил женский голос.
— Он самый.
— Это Барбара Дэвис.
— Вы хотите сказать, Барбара Коукбэн?
— Нет, инспектор, Барбара Дэвис, и как таковая сдержу слово. Если вы до сих пор живы, то исключительно потому, что меня свалила нервная депрессия. Но теперь я в Лондоне и собираюсь убить вас, инспектор.
— Все та же песня?
— Все та же.
— Ну, если вам так хочется окончить жизнь в тюрьме или в петле — дело ваше.
— Вот именно, инспектор. До скорого.
Раздался щелчок — Барбара повесила трубку. Мортлок пожал плечами. Тот, кто задумал убийство, не трезвонит об этом на каждом углу. Может, она хотела его напугать? Идиотка…
В Уотфорде суперинтендант вместе с Хэдденом и директором банка внимательно пересмотрел интриговавшие его счета. Гендерсон действительно не снимал со счета денег, которые, по идее, должен был бы выплачивать Дэвису. Но тогда зачем он уверял жену, что его дела идут все хуже? Почему Ларри вдруг перестал отдавать ей деньги? Увы, вразумительно ответить на эти вопросы мог бы только сам Гендерсон. Кроме того, Болтон удостоверился, что в мае Джойс внесла на свой счет пять тысяч двести фунтов и вскоре сняла с него ровно столько же. Между тем, сумма немалая… Откуда эти деньги и куда исчезли? Суперинтендант решил, что проще всего еще раз съездить в Донкастер и спросить у миссис Гендерсон.
Хэдден, возмущенный тем, что его заставили снова отложить отъезд, всю дорогу не открывал рта. Инспектор проворчал лишь, что забыл темные очки и от яркого солнца у него болит голова. Слово «очки» напомнило суперинтенданту последнюю встречу с миссис Гендерсон. Почему она назвала очки своими, хотя Болтон прекрасно видел, что на стол их положил Донелли? И неожиданно суперинтендант подумал: может быть, ключ к загадке вовсе не там, где они с Мортлоком искали его целый год? Болтон дружески хлопнул инспектора по плечу:
— Знаете, Пэт, вы чертовски хороший полицейский!
Хэдден не понял, чему обязан столь лестным замечанием, и промолчал. Немного оживился он только уже в Донкастере.
— Куда мы теперь пойдем, сэр?
— Обследовать банки.
— Как, все?
— Надеюсь, нет.
Но только в четвертом, на Вуд-стрит, они нашли то, что искали: счет Тома Донелли. Хэддену не понадобилось много времени, чтобы установить: ровно через сорок восемь часов после того, как миссис Гендерсон сняла со счета пять тысяч сто девяносто девять фунтов, точно такая же сумма появилась на счету Донелли. Таким образом, вопреки утверждениям Джойс, в мае тысяча девятьсот шестьдесят первого года ее кузен был в Англии, а не в Америке. Зачем она лгала? Может, потому что Том уже вернулся домой к тому времени, когда Гендерсон раздавил женщину с ребенком? Развивая эту мысль, Болтон стал прикидывать, уж не Том ли Донелли шантажировал Ларри. То, что Джойс, в память о былой любви, не захотела выдавать его полиции, вполне естественно. Но что заставило ее бежать в Ярд и возводить напраслину на Дэвиса? Суперинтендант опять вспомнил о странной неувязке с очками. А что, если… Внезапно он решил сыграть ва-банк. Узнав адрес Донелли, он взял Хэддена под руку.
— Я тут задумал одну комбинацию… Чертовски рискованная игра, но что бы я ни говорил, не удивляйтесь и не спорьте. Даже если вам покажется, будто я совсем спятил, держите это при себе. Договорились?
— Идет!
Они зашли в управление. Там суперинтендант попросил, чтобы ему дали еще одного помощника — в форме, и на Сомерсет-роу, где жил Донелли, они пришли уже втроем.
Увидев полицейского в форме, Том Донелли ошарашенно замер на пороге. Не в силах выдавить из себя ни звука, он не спрашивал, что привело их сюда, и не приглашал в дом.
— Вы позволите нам войти, мистер Донелли? — начал Болтон.
— Да, конечно… да… но не понимаю…
Суперинтендант улыбнулся.
— Я как раз собираюсь вам все объяснить.
Проводив полицейских в комнату, Том попытался взять себя в руки.
— Может, прежде чем затевать разговоры, выпьете чего-нибудь? — с напускной небрежностью спросил он.
— К несчастью, мы на службе.
— А… Ладно, присаживайтесь.
— Нет, мистер Донелли, мы только хотим задать вам несколько вопросов. Я думаю, вам удобнее ответить на них здесь, а не в участке, верно?
— Конечно… Но что за вопросы?
— Как давно вы вернулись из Америки, мистер Донелли?
По глазам Тома суперинтендант понял, что он на правильном пути.
— Да вот уже несколько месяцев…
— Не могли бы вы уточнить?
— Скажем, год.
— И что же, разбогатели у наших американских дядюшек?
— Да нет, какое там…
— Тогда на что вы живете?
Том возмутился:
— Не понимаю, к чему все эти расспросы!
— Не важно. Достаточно того, что для меня они существенны. Но вы не ответили.
— Подрабатываю то тут, то там.
— Целый год?
— Я занял кое-что у друзей, пока не подвернется работа.
— В общем, можно сказать, что вы — безработный?
— А хотя бы и так!
— Вы не поверите, мистер Донелли, как я рад с вами встретиться!
— С чего бы это?
— Да потому что до сих пор мне еще ни разу не случалось видеть безработного с пятью тысячами фунтов на счету. Вы — первый!
— А по какому праву вы лезете в мои дела и в мои банковские счета?
— Когда полиция расследует убийство, это не только право, но и обязанность. Не могли бы вы объяснить, откуда взялась столь внушительная сумма?
— Это не мои деньги. Они положены на хранение, и я не могу тронуть ни цента.
— По крайней мере в ближайшие несколько дней.
— На что это вы намекаете?
— Ну как же, мистер Донелли, разве вы не женитесь на миссис Гендерсон в конце будущей недели?
— Ну и что?
— Так ведь у супругов общая собственность, а деньги дала вам миссис Гендерсон. Во всяком случае, так она нам сказала.
— Допустим. Значит, Джойс доверяет мне.
— О, конечно! И это тем более впечатляет, что вы вполне могли бы сбежать с такой суммой. И пожаловаться невозможно — вы сами положили деньги в банк.
— Джойс меня достаточно хорошо знает! Ей и в голову не пришло бы…
— От женщины легкомысленной такой беспечности еще можно ожидать, но миссис Гендерсон по характеру своему — нечто противоположное безрассудству.
— К чему вы клоните?
— А вот к чему. Невеста передала вам эти деньги только потому, что твердо знала: вы при всем желании никогда не посмели бы их прикарманить.
— Это еще почему?
— А потому, что она держит вас очень крепко, мистер Донелли.
— Не понимаю…
— Вы все прекрасно понимаете, мистер Донелли. Попробуй вы улизнуть с пятью тысячами фунтов — и миссис Гендерсон мигом донесла бы на вас как на убийцу ее мужа. Что, между прочим, и произошло, когда мы сообщили ей о вашем бегстве.
Лоб Тома Донелли покрылся испариной.
— И Джойс попалась на удочку? — пробормотал он.
— К несчастью для вас, да. И даже показала нам накладные усы и револьвер, из которого вы стреляли. И то, и другое она сберегла как раз для такого случая. Стоит женщине поверить, что ее обманули, — и она действует, не задумываясь о последствиях!
— Стерва! А сама клялась, что все уничтожила!
Голос суперинтенданта вдруг резко изменился.
— Именем Ее Величества я арестую вас, Том Донелли, по обвинению в убийстве Ларри Гендерсона!
Том не шелохнулся, даже когда Хэдден защелкнул на его запястьях наручники. Казалось, он впал в глубокое оцепенение. Парень вздрогнул, лишь когда суперинтендант похлопал его по плечу.
— На выход, Донелли!
У порога арестованный обернулся.
— А она? Она ведь не отвертится просто так?
— Не тревожься. Скорее всего, вы взойдете на эшафот вместе.
Потрясенный, раздавленный, едва сдерживая слезы, слушал Крис Мортлок, как суперинтендант разрушает все иллюзии и мечты, которыми он так долго жил. Ричард говорил тихо, словно у постели тяжелобольного.
— С самого начала я почуял в этой истории что-то подозрительное, потому-то и старался вас сдержать. Но в конце концов ваша убежденность передалась и мне. Да и Джойс Гендерсон производила очень приятное впечатление. Если б вы не напугали тогда мою жену и не вбили бы себе в голову, будто я защищаю Дэвиса, я, наверное, не стал бы копать глубже и после осуждения Дэвиса просто похоронил дело. Но вы своим упрямством задели меня за живое. К тому же я не мог не возмущаться тем, что вы с миссис Гендерсон, пустив в ход запрещенный прием, добились-таки непомерно жестокого приговора Дэвису. Во-первых, сказал я себе, все наши сведения исходят от одной только миссис Гендерсон. Ну, а если она лжет? Признаюсь, это предположение не привело ни к чему. Материально смерть мужа не приносила ей никакой выгоды, мотив любви на стороне тоже отпадал — ведь с вами Джойс Гендерсон встретилась только потому, что я был в отлучке. Более того, на первый взгляд, исчезновение Ларри лишь отягчало жизнь вдове. Да и будь она замешана в убийстве — разве сунулась бы в Ярд? Все это оставалось необъяснимым. Кроме того, Джойс никогда не поощряла ваших ухаживаний и старалась предотвратить нашу с вами ссору. Зная теперь всю правду, я должен признать, что миссис Гендерсон очень умная женщина, а актриса — так просто непревзойденная.
Том Донелли был всего-навсего исполнителем, голова — это она. Какая великолепная работа! Для начала Джойс подготовила почву, придя к нам и заявив, что ее муж боится Дэвиса. Кстати, имя миссис Гендерсон выбрала наобум, и это единственная случайность в ее планах. Потом вы при Ларри упомянули о дорожных авариях. Он не мог скрыть волнения, но не потому что боялся Дэвиса, а потому что двойное убийство в Харрогите мучило его и не давало покоя. Мы считали, что Ларри живет в постоянном страхе — и нисколько не ошиблись. Но вот причины этого страха истолковали неверно. Ну а дальше — письма с угрозами, телефонные звонки. Бредли и его сотрудники не заметили поблизости никаких подозрительных личностей просто потому, что за домом в Уотфорде не следил никто, кроме них самих. Оцените ловкость Джойс: она заранее обезопасила себя от любых ваших попыток выпытать у ее мужа правду. Как преданная жена, она, дескать, ничего не сказала Ларри, боясь усилить его тревоги. С того момента нас всех просто водили за нос. Мы не сомневались, что дело затеяно Дэвисом, а тот никак не мог взять в толк, из-за чего вы на него набросились. Мы считали его продувной бестией, а парень недоумевал совершенно искренне.
Теперь, расставив пешки, Джойс перешла ко второй части плана: убийству мужа. Какая дьявольская хитрость — использовать такого безупречного свидетеля, как маленький Джилмон! Во время ее свидания с вами — эх, Мортлок, насколько же ваша слепая любовь облегчала ей задачу! — Том Донелли, в темных очках и с наклеенными усами, переодетый работником магазина, убил Ларри на глазах у мальчишки и при этом четко произнес имя «Мелвин». Заметьте, только имя, а не фамилию! Очень тонко продумано: ничего не говоря прямо, нас лишь направили на след. А мы и проглотили наживку!
Дальше дело несколько осложнило ваше стремление изображать доблестного рыцаря, тогда как Джойс предпочла бы, чтобы дело поскорее закрыли. Ей наплевать на Дэвиса. Миссис Гендерсон хотела одного — чтобы ее оставили в покое. Но вы заставили ее выступить на суде. После приговора Джойс облегченно перевела дух, не сомневаясь, что расследование закончено. Теперь она могла признаться, что не любит вас. Миссис Гендерсон чувствовала себя в полной безопасности и даже сообщила вам о помолвке с внезапно вернувшимся из Америки родственником.
Все шло по ее плану, и Джойс так и осталась бы безнаказанной, не вмешайся опять в дело случай. Нашлась машина, раздавившая женщину с ребенком в Харрогите. Но к тому времени нас так опутали чары миссис Гендерсон, что мы сами дали ей возможность спастись от правосудия еще раз. Мы оба, не отдавая себе в том отчета, стремились оградить ее. Может, отчасти еще и потому, что подсознательно не желали признаться в такой серьезной ошибке. В результате мы придумали великолепную историю и преподнесли Джойс, а ей оставалось только согласиться. Ох, видели б вы, как она стонала, рыдала и надрывалась, обвиняя себя в смерти «дорогого Ларри»! Изумительная актриса, Мортлок!
И миссис Гендерсон вновь ускользнула бы от нас, если б не история с темными очками. Чего ради она назвала очки Донелли своими? Я долго ломал голову, в чем тут дело, а Джойс безотчетно старалась скрыть малейшую связь между темными очками и Томом — и это была ее единственная ошибка. Никто, кроме миссис Гендерсон, не знал, что именно в этих очках Донелли ездил в Уотфорд. Но и я все понял, Мортлок, только когда Хэдден обнаружил перевод крупной суммы денег, когда сам убедился, что миссис Гендерсон наврала нам, сказав, будто ее муж вдруг перестал приносить домой заработок. Ларри никому ничего не платил. Ложь насторожила меня, а потом, в дороге, Хэдден случайно напомнил мне об очках. В банке на Вуд-стрит я уличил Джойс еще в одной лжи — насчет времени возвращения Донелли в Англию, и рискнул — обманув убийцу, заставил его сознаться в преступлении. Кстати, мы уже свозили его в Уотфорд и в очках и с усами представили маленькому Джилмону: тот чуть в обморок не упал. Тогда-то Донелли полностью раскололся и выложил всю историю.
Не хочется вам об этом говорить, Мортлок, но миссис Гендерсон проделала все это не от большой любви, а из самых низменных побуждений: ради денег. Джойс никогда никого не любила, но, похоже, Том Донелли устраивал ее больше других. Когда он, бросив кузину, укатил в Америку, у нее было что-то вроде нервной депрессии. Джойс вышла замуж за Гендерсона, чтобы жить в Лондоне, но прежде всего ей хотелось уехать из Донкастера. Безразличие к мужу сменилось ненавистью, когда тот увез ее в Уотфорд. Но что она могла сделать? Джойс привыкла к обеспеченному существованию. Меж тем, юность ее давно миновала, да и профессия учительницы — не Бог весть что. Наверное, она изменяла мужу с Томом, когда тот вернулся. На том все и кончилось бы, но тут удача улыбнулась Гендерсонам: Ларри выиграл крупную сумму на скачках в Ливерпуле. Несчастный случай в Харрогите был прямым следствием вечеринки: Гендерсон обмывал это событие с коллегами. Впрочем, он не признался, что именно они празднуют. Ну а подвыпив, сел за руль и в темноте не заметил женщину с ребенком. Ларри тут же во всем признался жене. Джойс убедила мужа помалкивать, особенно о пяти тысячах фунтов: если его найдут, то заберут эти деньги как штраф или в возмещение убытков. К несчастью для себя, Ларри согласился и доверил деньги жене. В тот день он подписал свой смертный приговор. Джойс разработала план, позволявший убить сразу двух зайцев: избавиться от мужа и сохранить деньги.
Тома Донелли она знала с детства. Он привык болтаться без дела и во всем слушался кузину. Джойс предложила ему участвовать в заговоре. По словам Донелли, сначала он ужаснулся, но потом… Возможность потратить пять тысяч фунтов в компании все еще очень привлекательной женщины… Короче, он не стал возражать. Не хочу раздумывать, что стало бы с этой парочкой в будущем — в Англии или в других краях. Но такая женщина, как Джойс, нашла бы способ избавиться и от Донелли. Теперь их обоих, наверное, повесят, и это только справедливо. Фокус в том, что миссис Гендерсон всегда говорила полуправду и тем легче нас обманывала. Донелли разыграл нападение на Джойс в Уотфорде и, поверьте, лишь по ее же приказу слегка сдавил ей горло. Описывая нам эту сцену, миссис Гендерсон не врала, а просто рассказала не всю правду.
И, как ни огорчительно это для вас, Мортлок, должен подчеркнуть, что в своем ослеплении вы все еще больше запутали. Вы не только с начала до конца ошибались, вы и нас чуть не ввели в заблуждение, то и дело подсовывая ложные данные. Конечно, вы делали это без злого умысла. Это простительно для новичка, но не для вас. Послушайся вы меня, не угодили бы так быстро в сети Джойс Гендерсон, и — кто знает? — возможно, она все-таки не решилась бы прикончить мужа.
Убийство Ларри Гендерсона, крах нашей дружбы, несправедливый приговор Мелвину Дэвису, конец всем надеждам на возрождение Барбары Коукбэн, печальная судьба несчастной жены Дэвиса (она наверняка закончит дни свои в сумасшедшем доме) — вот итог вашего ослепления. Ну и наломали вы дров, инспектор Мортлок!
Над спящим Лондоном колокол Биг Бен пробил первый час нового дня. Крис Мортлок все еще сидел у себя в кабинете. Давно ушел домой Болтон, и, кроме бригады дежурных, в Скотленд-Ярде никого не осталось. Разговор, точнее, рассказ суперинтенданта глубоко потряс инспектора. Как боксер после особенно сильного удара, он не мог собраться с мыслями. Похоронным звоном, заглушающим все остальные соображения, звучала в его мозгу последняя фраза Болтона: «Ну и наломали вы дров, инспектор! Ну и наломали дров…»
Джойс… Джойс… Ее нежный, трогательный взгляд… И Мортлок попался как мальчишка! Стоило всю жизнь бороться с преступниками! Смешно. С какой точки зрения ни взгляни — с человеческой ли, с профессиональной — он смешон и жалок. Завтра весь Скотленд-Ярд начнет потешаться над «несчастным Мортлоком, который»… А потом придется еще выступать свидетелем на процессе Джойс Гендерсон. Крис заранее знал, что не выдержит такого испытания. Он не мог представить, как будет публично рассказывать о своих обманутых чувствах и растоптанных надеждах. Мортлок так и слышал злорадное хихиканье в зале. Полицейский в роли обманутого влюбленного. Да еще кем и как! И каждое его слово только подтолкнет Джойс к эшафоту. Крис презирал себя за то, что не может отделаться от нежного чувства к несуществующей женщине. Но сколько бы он ни прожил на свете, всегда будет привязан к этой тени, рожденной его воображением.
И вправду, наломал дров. Джанет никогда его не простит, Болтон больше не заговорит с прежним доверием. Барбара и в смертный час не перестанет проклинать. Дэвис, осужденный на десять лет заключения, наверное, все еще ломает голову, не понимая, чем заслужил такую ненависть Мортлока, а бедная больная, вырванная из привычного мирка, умрет в не знающей жалости атмосфере безвестного сумасшедшего дома. И Джойс, когда на нее перед казнью накинут черный капюшон, с ненавистью вспомнит о Мортлоке, обвиняя во всех своих несчастьях его. На что теперь надеяться? Ничего больше не осталось, кроме одиночества. Совсем недавно Крис верил, что избавится от него, а сам еще пуще запутался в липкой паутине. Наломал дров…
Он вышел из Ярда в половине второго. Только изнеможение могло победить терзавшую его боль. Махнув рукой на расстояние, отделявшее его от Хэммерсмит, полицейский отправился домой пешком.
Через Бердкейдж и Конститьюшн Хилл он дошел до Найт-бриджа, миновал Гайд-парк и Кенсингтон-сквер и свернул на бесконечную Кенсингтон-Хай-стрит.
Погруженный в беспросветные мысли, Крис шагал как автомат и не заметил медленно ехавшей следом машины. Только услышав скрип тормозов, он обернулся.
— Инспектор Мортлок?
Полицейский сразу понял, что это Барбара Коукбэн, и так же быстро сообразил, что сейчас умрет. Но охватившее его чувство больше всего походило на облегчение.
— Инспектор Мортлок?
— Добрый вечер, Барбара, — спокойно ответил он.
Танцовщица явно колебалась, и голос ее звучал не слишком уверенно.
— Я убью вас, Мортлок.
Крис подумал, что насмешка, быть может, подхлестнет Барбару.
— Кишка тонка!
Прикрыв глаза и думая о Джойс, какой хотел бы ее запомнить, Мортлок двинулся навстречу автомобилю.
Проходившие мимо Олимпии патрульные полицейские Герберт Моридж и Джон Стерджес вздрогнули,
услыхав выстрелы.
ЕЕ ВСЕ ЛЮБИЛИ

Глава I
Жан смотрел на Элен. Он был не в силах оторвать взгляд от ее лица, которое смерть сделала вдруг чужим. Он уже не узнавал ни линии носа, ни пугающие тени щек, ни глаза, пустые зрачки которых смотрели в потолок… Ничто не напоминало прежнюю Элен.
Жан снял трубку телефона. Телефонистка долго не отвечала. Было около двух часов ночи. Он назвал номер, его быстро соединили, тем не менее пришлось переждать несколько длинных гудков, пока в трубке не послышался сонный и раздраженный голос:
— В чем дело?
— Это Арсизак.
— В такое время? Что стряслось, дружище?
— Я только что вернулся домой и…
— …И?..
— …И нашел свою жену убитой.
— Боже мой!
— Поскольку, дорогой Бесси, вы старейшина среди наших судебных следователей, я решил вас первым поставить в известность о случившемся. Ваши молодые коллеги могут испытывать определенную неловкость, так как речь идет об Элен. Поэтому я поручаю это дело вам.
— Да, разумеется… Я понимаю. Мой бедный друг, я не нахожу слов, чтобы выразить мое… Такая замечательная женщина…
— Спасибо. Извините, мне необходимо сообщить в полицию.
— Конечно. До скорого и… мужайтесь!
Положив трубку, следователь Бесси вернулся в спальню, где его ждала разбуженная неожиданным звонком жена, которой не терпелось узнать, в чем дело. Перед тем как лечь под одеяло, он сообщил ей:
— Это прокурор Арсизак.
— В такой ранний час? И что же ему не терпелось тебе сообщить?
— Убили его жену.
— Боже мой!
— Да, история…
— Господи! У кого же могла подняться рука на такую милую женщину?
— Именно это мне и придется установить.
Офицер полиции Трише был дежурным по комиссариату административного центра и дремал в кресле. Комиссариат находился рядом с железнодорожной линией, и если проходящие поезда время от времени вырывали Трише из сонливого состояния, то этот звонок заставил его прямо-таки подскочить. Он услышал голос дневального:
— Не кладите трубку, мсье прокурор, я сейчас позову дежурного офицера полиции Трише.
Прокурор? Трише взглянул на часы, в то время как сидящий на телефоне полицейский сообщал ему о том, какая важная птица звонит. Два часа! Что могло случиться?
— Алло, Трише?
— Он самый, мсье прокурор.
— Произошло нечто ужасное, Трише. Думаю, вам придется разбудить комиссара.
— Конечно, мсье прокурор, однако мне будет необходимо ему…
Арсизак перебил:
— Убили мою жену. Я рассчитываю на вас, Трише. До скорого.
Офицер полиции слышал, как на другом конце уже кладут трубку, но подавленно молчал, не в силах найти нужные в подобных ситуациях слова. Ему, вероятно, следовало бы выразить соболезнование, однако он был настолько потрясен услышанным, что не мог вымолвить ни слова. Мадам Арсизак!.. Та, которую пресса называла не иначе как «добрая фея Перигё». Убита… Ну и шум сейчас поднимется…
— Морат!
В кабинет вошел капрал.
— Морат, приготовьтесь… Я звоню комиссару. Придется отправиться на бульвар Везон к прокурору республики.
Капрал недоверчиво покосился.
— К прокурору рес…
— Убита его жена.
— Уби… О черт?
Полицейский еще не успел выйти, чтобы оповестить свое отделение, а Трише уже звонил на улицу Боден комиссару Сези.
— Патрон? Это Трише…
— Вы не спятили?.. В такой час… будить…
— Патрон, дело премерзкое.
Голос в трубке тотчас окреп.
— Что случилось?
— Мне только что позвонил прокурор республики. Убили его жену.
— Господи! Он у себя?
— Да, и ждет нас.
— Выезжаю. Постарайтесь быть там раньше меня, предварительно поставив в известность судебно-медицинского эксперта, фотографов, в общем, всю команду. Надеюсь, вы понимаете, что малейшая оплошность с нашей стороны непростительна, не тот момент, а, Трише?
— Можете на меня положиться, патрон.
Из спальни донесся неизбежный вопрос мадам Сези:
— Что с тобой, Гастон? Ты одеваешься? Ты что, уходишь?
— Надеюсь, ты не думаешь, что мне взбрело в голову снова улечься в постель уже в ботинках? Лечу к прокурору.
— Сейчас? В это время?
— Что меньше всего волнует преступников, так это время.
— Его…
— Нет, жену.
Мадам Сези издала жалобный стон.
— Да, конечно… — попытался успокоить ее муж. — Но что ты хочешь, убийцу не особо заботят личные качества будущей жертвы.
— И все-таки это ужасно! Кто, кто, а Элен Арсизак не заслужила такой смерти. Это же была сама доброта… Нам будет не хватать ее, и если все, кто любил ее и восхищался ею, пойдут на похороны, большинство домов Перигё опустеет!
На мирно спавшем бульваре Везон автомобили, стараясь производить как можно меньше шума, выстраивались один за другим вдоль тротуара перед роскошным особняком семьи Арсизак. Трише ожидал патрона у входной двери, которая была чуть приоткрыта. Завидев комиссара, он тут же устремился навстречу.
— Крупное дело, не так ли, патрон?
— Возможно, чересчур крупное для нас, Трише. Посмотрим. Эти господа уже там?
— Все, включая ворчащего лекаря. Он только-только принял снотворное, а тут я ему звоню.
Арсизак сидел в кресле и курил сигарету за сигаретой, но сразу встал, услышав, как они поднимаются по лестнице, ведущей на второй этаж. Он встретил их в вестибюле.
— Пожалуйста, сюда, мсье.
Комиссар и врач выразили свое соболезнование перед тем, как отправиться осматривать труп. Оставив врача, фотографов и специалиста по отпечаткам заниматься своими делами под руководством Трише, Сези попросил прокурора проводить его в какую-нибудь комнату, где бы они смогли спокойно побеседовать.
Жан Арсизак представлял собой тип мужчины, которого обычно называют красавцем. Ростом около метра восьмидесяти, он относился к тем завершающим четвертый десяток мужчинам, которые, благодаря спорту, сохраняют юношеский облик. У него были светлые волосы и серые глаза, под взглядом которых окружающие чувствовали себя не всегда уютно. Его побаивались во Дворце правосудия. Всем были известны его законные амбиции. Он страстно желал быть назначенным на пост заместителя прокурора Бордо. Никого это не задевало, более того, в достаточно осведомленных кругах уже поговаривали, что назначение — дело нескольких недель.
— Да! Пока не забыл, мсье комиссар. Я предупредил Бесси, который будет вести дело.
— Отлично… А сейчас, мсье прокурор, я вынужден просить вас вернуться вновь к этим ужасным минутам…
— Чувствую, что мне придется возвращаться к ним еще не раз в течение многих часов и дней. Так вот. Когда я пришел домой, меня сначала удивило, что входная дверь не была заперта на ключ. Впрочем, Элен была весьма рассеянна, и я, по правде сказать, не придал этому в тот момент особого значения. Однако когда я зажег свет в холле и увидел, что дверь, ведущая в мой кабинет, приоткрыта, я забеспокоился. Но после того как я заметил, что дверца сейфа, в котором я храню бумаги и деньги, открыта, меня просто охватил страх.
— Что украдено?
— Тридцать тысяч новых франков приблизительно… Деньги от продажи участка земли, которые я получил у мэтра Рено накануне днем.
— Так, и что же вы предприняли?
— Не буду от вас скрывать, мсье комиссар, я испугался… испугался настолько, что не решился сразу подняться на этаж, где расположены спальни. Паническое состояние длилось какие-то секунды, надеюсь, вы понимаете… В моей спальне я не обнаружил ничего необычного, а вот в спальне моей жены…
— У вас были разные спальни?
— И уже давно… Полагаю, нет смысла притворяться, мсье комиссар, поскольку все — по крайней мере в суде и полицейском управлении — давно были в курсе. На протяжении многих лет мы с Элен не понимали друг друга. Мне известно, что Перигё восхищался самой Элен, ее милосердием и готовностью жертвовать собой ради других. В некоторых кварталах о ней говорят вообще как о святой. И вы, конечно, понимаете, что каждодневное общение со святой — дело, так сказать, не совсем легкое, необходимо обладать соответствующими качествами, которых у меня нет.
Комиссар смутился. Добросовестный служащий, верный супруг, мелкий буржуа со скромным кругозором, он привык к строго определенному образу жизни, где все оставалось прежним и через день, и через месяц, и через год, не считая прибавления массивности в теле и седины в волосах. Откровенные признания прокурора, что он и его жена были чужими друг другу людьми, не укладывались у него в голове и вызывали тягостное чувство. Это подрывало принципы, которые были основой его собственного существования. Арсизак почувствовал, что его откровения привели в некоторое замешательство собеседника.
— Вас это шокирует, мсье комиссар?
— Нет, нет, что вы… У каждого своя жизнь.
Неуверенность в тоне полицейского едва не вызвала улыбку на лице Арсизака.
— Прислуги в доме нет?
— Только две приходящие на день женщины. Их рабочий день заканчивается самое позднее в шесть вечера.
— У них есть ключи?
— Да, у обеих.
— Вам известны их фамилии, местожительство?
— Право… Я знаю их имена — Маргарита и Жанна, а вот где живут…
— Вам придется, мсье прокурор, поискать их фамилии и адреса в бумагах мадам Арсизак, чтобы мы могли навести о них справки.
— И та и другая — славные женщины…
— Вне всякого сомнения, мсье прокурор, вне всякого сомнения, однако у них могут быть не совсем достойные родственники, наконец, знакомые, знавшие, что у них были ключи от вашего дома… Учитывая все это, у вас нет никаких предположений относительно того, что толкнуло грабителя — а я убежден, что убийство не входило в его планы и что он был застигнут мадам Арсизак в тот самый момент, когда колдовал над сейфом, — действовать именно этой ночью?
— Признаться… Маргарита и Жанна были в курсе, что Элен поедет, как она это делала каждый месяц, на три-четыре дня в Бордо, чтобы побыть рядом со своей матерью.
— Вот это становится уже интересным… И на сей раз мадам Арсизак не уехала?
— Нет, почему же, однако она неожиданно вернулась раньше.
— Неожиданно? Тем самым вы хотите сказать, что не были предупреждены заранее о ее возвращении?
— Именно это я и хочу сказать.
— Вот как… И конечно, вам неизвестны причины, заставившие мадам Арсизак внезапно изменить свои планы?
— Вовсе нет, здесь нетрудно догадаться… Элен знала, что у меня есть любовница, и наверняка ей хотелось поймать меня с поличным, то есть убедиться в моем отсутствии ночью.
Тон, которым откровенничал прокурор, был глубоко неприятен комиссару, в душе которого все буквально кипело от такого цинизма. Обычно, черт возьми, подобные делишки стараются не выставлять напоказ, тем более когда речь идет о прокуроре республики!
Сези предпочел сменить тему разговора.
— Мне необходимо осмотреть сейф. Вы не могли бы сказать, каким образом он был вскрыт?
— Самым простым из всех способов — путем подбора нужного шифра.
— В таком случае мы имеем дело либо с заезжим гастролером — чему я, признаться, не особо верю, поскольку эти «артисты» обычно не снимаются с места из-за тридцати тысяч франков, — либо с тем, кому был известен код замка вашего сейфа. Кто знал об установленной вами шифровой комбинации?
— Моя жена.
— Только?
— И я.
— Не могла ли она сама открыть сейф под угрозой расправы?
— Мне трудно что-либо сказать на этот счет, следствие поручено вести вам, а не мне.
Появившийся судебно-медицинский эксперт прервал их разговор, сообщив, что Элен Арсизак была задушена тонкой веревкой, а полное отсутствие кровоподтеков свидетельствует о том, что она, вероятно, не пыталась оказать абсолютно никакого сопротивления. Еще он сообщил, что к вскрытию приступит завтра утром и, как всегда и как того требует устав, составит рапорт на имя судебного следователя. После чего он попрощался с Арсизаком, пожелал Сези приятного бодрствования и удалился, брюзжа себе что-то под нос не столько со зла, сколько для поддержания репутации ворчуна. Когда они снова остались одни, комиссар спросил у вдовца:
— Мсье прокурор, не считаете ли вы, что убийцу следует искать среди тех, для кого вы добились в свое время строгого приговора, или их приятелей?
— Возможно, но не думаю.
Любой другой ответ разочаровал бы полицейского, поскольку он мог бы быть расценен как желание ухватиться за соломинку.
— Может быть, у вас есть враги, которые вас ненавидят настолько, чтобы…
— …чтобы убить мою жену? Разумеется, нет. Но если такие и есть, то они глубоко заблуждались на наш счет.
— Мсье прокурор, мы оставляем вас, отдыхайте… Увидимся завтра… в присутствии судебного следователя.
— Договорились… Спокойной ночи, мсье комиссар, и спасибо за то, что не сообщили журналистам.
— Не за что, к тому же они все равно не успели бы дать материал в первых утренних номерах. Кстати, мсье прокурор, мне не хотелось бы задавать вам этот вопрос, но…
— …вы вынуждены это сделать, не так ли?
— Именно так.
— Поверьте, друг мой, я ждал этого вопроса и был бы удивлен, если бы вы ушли, так и не задав его.
— Стало быть, вы… догадались, о чем я хочу вас спросить?
— Послушайте, мсье комиссар, вы забываете, кем я работаю. Вы хотите меня спросить, где я провел ночь или, другими словами, где я находился в тот момент, когда убивали мою жену. Так?
— Именно так, мсье прокурор.
— Так вот, я ужинал у мадемуазель Арлетты Танс, проживающей на улице Кляртэ, и ушел от нее где-то около двух ночи. После этого я отправился прямо к себе, где меня ожидал весь этот ужас.
— А эта мадемуазель?..
— Работает секретаршей у моего лучшего друга — доктора Музеролля — на улице Гинемера.
— Благодарю вас, мсье прокурор.
— Мсье комиссар…
— Да, мсье прокурор?
— Чтобы избавить вас от скучного для вас и тягостного для нее дознания, я предпочитаю заявить официально: мадемуазель Танс является моей любовницей в течение вот уже двух лет. Впрочем, это вам и так известно.
Комиссар вышел, ничего не ответив.
Утреннее известие о происшедшей ночью драме взбудоражило весь Перигё. Ужасная смерть мадам Арсизак была предметом каждого разговора и вызывала страстные комментарии. Трудно было найти лавку, мастерскую или контору, где бы не рождалась своя версия того, каким образом преступнику удалось убить жену прокурора. Телефоны были раскалены докрасна звонками тех, кто жаждал подробностей, и тех, кому не терпелось ими поделиться. Однако центром всеобщего оживления был дворец правосудия. Прокуратура нервничала, в то время как судьи явно приуныли. Одни — и их было немало — испытывали жалость к мужу Элен, тогда как другие ехидно усмехались, намекая тем самым на вновь обретенную мужем свободу и на то, что он не будет особенно оттягивать момент, когда сможет оказаться под крылышком некой молодой особы из старого города. Велись горячие беседы, споры, дело доходило даже до ссор. Впрочем, если судьба Арсизака не очень волновала всех этих мсье, то, напротив, они глубоко скорбели о несчастной жертве, в которую собирались влюбиться все те, кто еще не был в нее влюблен. И их можно было понять, поскольку эта стройная брюнетка с темными бездонными глазами, которая была скорее красива, нежели мила, отличалась утонченной элегантностью и добротой выше всяческих похвал, оставляя в душе каждого неизгладимое впечатление.
Несмотря на то что следователь Бесси оставался спокоен, в отличие от остальных горожан, которые не могли скрыть возбуждения, но и он испытывал немалые сомнения, которыми поделился с комиссаром, зашедшим к нему по поводу убийства Элен Арсизак.
— Видите ли, Сези, есть вещи, которые мне совершенно не нравятся в этой истории. Чувствую, не с одним подводным камнем нам придется столкнуться.
— Это очевидно, как и то, что ищем мы не совсем обычного убийцу…
— …который проникает в дом без фомки, знает шифр сейфа и спокойно душит хозяйку, не оказывающую абсолютно никакого сопротивления.
— Если преступник не испытывал необходимости прибегнуть к взлому, чтобы проникнуть в дом, значит, у него был ключ, которым он и открыл дверь.
— Если убийце удалось без труда завладеть тридцатью тысячами франков, стало быть, ему известен был код сейфа.
— Или кто-то ему его сообщил.
— А если мадам Арсизак позволяет кому-то так запросто себя убить, то это говорит о том, что она не испытывала ни малейшего чувства опасности.
— А не испытывать этого чувства она могла лишь в том случае, если полностью доверяла тому, кто находился рядом с ней в тот момент.
— То есть один из ее близких…
— …которому она позволила войти в свою спальню без малейшего на то сомнения.
— И очевидно, существует кто-то, кому больше всего подошла бы эта роль… Кто-то, у кого лежал в кармане ключ от входной двери, знал шифр сейфа и имел все основания свободно и в любой час дня и ночи входить в спальню мадам Арсизак…
— …кто-то, кому присутствие мадам Арсизак путало все карты и перед которым открывается отныне новая жизнь.
Они обменялись долгим понимающим взглядом, затем следователь заключил:
— Пакостная история, друг мой, очень пакостная история, и она принимает дурной оборот для нас.
— Что же мне в таком случае делать?
— Выполнять, как обычно, свой долг. Однако у меня есть ощущение, что придется передать это дело другим… Даю вам еще сутки, после чего докладываю в Бордо.
Уходя от следователя, комиссар подумал, что многое отдал бы за то, чтобы эти сутки поскорее пролетели.
Вдова Веркен и ее дочь Амелия держали лавку по продаже живых и искусственных цветов у входа на Северное кладбище. Женщины любили свое дело. Они знали весь Перигё, который то малыми, то большими порциями проходил перед их глазами во время похоронных процессий. Каждое известие о роскошных похоронах наполняло их предпраздничной радостью. Они принаряжались и, выходя в нужную минуту на крыльцо, приветствовали важного покойника, отмечая при этом всех присутствующих. Благодаря богатому опыту обе обладали цепким орлиным взглядом. Никто не смог бы с ними сравниться в умении схватывать на лету не соответствующую моменту улыбку, несвоевременное перешептывание или неуместное восклицание. После церемонии они приступали к обсуждению выразительности чувств родных и близких, искренности друзей, не забывая при этом о скандально отсутствующих и бесцеремонно присутствующих. Смерть мадам Арсизак воодушевляла обеих Веркен ввиду особого блеска, которым несомненно будут отличаться предстоящие похороны. Следует заметить, что Амелия довольно часто выбиралась в город и, стало быть, была в курсе многих происходящих вокруг вещей, о которых ее мамаша и не подозревала, да и не могла подозревать, так как практически не оставляла свой магазин.
Похороны были, как они и ожидали, по-настоящему красивы. Мадам Веркен, проинформированная дочерью о двойной жизни, которую вел прокурор, сверлила его зорким и безжалостным взглядом, однако с горечью в сердце должна была признать, что вдовец держался молодцом. Следом за Жаном Арсизаком, возглавлявшим траурную процессию и находившимся в окружении незнакомых городу женщин — вероятно, дальних родственниц, — шли великолепно и обильно представленные магистратура и коллегия адвокатов. Затем следовали делегации всех благотворительных организаций, которым безвременно ушедшая оказывала свою поддержку. Все сливки перигёского общества пожелали присутствовать на похоронах, Амелия указала матери на тучного коротышку, известного в городе ученостью и веселым нравом, а также тем, что был закадычным другом прокурора, — доктора Франсуа Музеролля. Рядом с ним шагал высокий и худой мужчина с широкими плечами и бритой головой — преподаватель физики и химии в лицее по имени Ренэ Лоби, колючего взгляда которого не могли скрыть даже очки. Позади них шел мэтр Марк Катенуа, адвокат, на которого коллеги наводили скуку и которому бездари не могли простить блестящих успехов. Их считали незаслуженными, поскольку Катенуа, обладавший огромной работоспособностью, отдавал не меньше времени развлечениям, чем изучению дел своих клиентов. Он был настолько обаятелен, что никому из тех, кто оказывался рядом с ним, и в голову не приходило задаваться вопросом, красив он или нет. В данный момент он беседовал со своим спутником, аптекарем с площади Клотр, довольно молодым человеком по имени Андрэ Сонзай, напоминавшим своей статью римлянина времен Петрония. Глядя на его умное волевое лицо, нетрудно было догадаться, что он твердо определил свое место в жизни. Наконец, последним мадам Веркен был указан дородный мужчина в летах, слегка волочащий ногу и опирающийся на трость, — нотариус Димешо, представляющий интересы семьи Арсизак.
Были произнесены достойные речи, дети спели несколько гимнов, заверяя присутствующих, что мадам Арсизак снова на небесах, которые ей вообще не следовало бы покидать. Каждый испытал удовлетворение от исполненного долга и радость от того, что сам еще, слава Богу, остается в этом мире.
Неутихающие споры во Дворце правосудия велись об одном — образе жизни прокурора, в чьем поведении не чувствовалось скорби, которую заслуживала усопшая. Его часто видели с «этой особой», и все находили, что она гораздо менее привлекательна, нежели почившая супруга. Самые горячие поклонники — они же самые молодые — не понимали, как можно продолжать жить, потеряв такую восхитительную женщину, какой была мадам Арсизак, и не замечали, как проходящий порой мимо какой-нибудь старый магистрат усмехался иллюзиям пылких ораторов.
На следующий день после похорон комиссар Сези с удовлетворением отметил про себя, что осталось всего несколько часов до того момента, когда надо будет ставить в известность Бордо. Однако вскоре после обеда ему доложили, что из Бордо, Брива и Ангулема на имя Арсизака были отправлены почтовые переводы на сумму десять тысяч франков каждый. Комиссар поспешил поделиться этой неожиданной новостью со следователем, который, выслушав Сези, заключил:
— Получается, что к Арсизаку вернулись украденные из его сейфа тридцать тысяч.
— Тогда все, что мы видели, — вскрытый сейф, незапертая входная дверь, — не что иное, как пыль в глаза, спектакль! Преступник убивает мадам Арсизак и возвращает деньги, взятые им в долг. Вот только с последним он явно поторопился…
— В вашем докладе, комиссар, есть нечто, что не может не радовать.
— Могу я узнать, что же именно, мсье следователь?
— Эти переводы, отправленные на имя Арсизака из трех разных городов, снимают с него все подозрения. Если бы убийцей был он, абсолютно незачем было бы отправлять себе же деньги, которые и так уже были у него в кармане.
— А возможные сообщники?..
— Видите ли, комиссар, когда замышляют избавиться от жены таким ужасным способом, никто не будет кого-то посвящать в свои планы или привлекать в сообщники, если не хочет столкнуться с почти неизбежным в таких случаях шантажом.
— Значит, все сначала?
— Теперь уже не вам, дружище, а Бордо.
Когда дивизионный комиссар регионального управления криминальной полиции Бордо узнал, что ему передают расследование убийства мадам Арсизак, он скорчил недовольную гримасу. Он прекрасно понимал, что это одно из тех гиблых дел, из-за которых рискуешь нажить себе не только самые крупные неприятности, но и солидных врагов. Даже в случае успеха никто не скажет тебе спасибо, как бы ты ни старался. Убийство в подобных кругах всегда вызывало скандал, в котором ты же еще и виноват, который тебе никогда не простят и который может испортить всю твою карьеру. Вот почему дивизионный комиссар потратил все утро, ломая голову над тем, кого послать в Перигё. В конце концов он остановился на комиссаре Гремилли, неприметном и рассудительном человеке, противнике жестких мер, не доверяющем первым впечатлениям, особенно, возможно, не блещущем, но зато надежном и упорном. К тому же он перешагнул пятидесятилетний рубеж и ни к чему особенному уже не стремился, не считая желания дослужить оставшееся время в спокойной обстановке и уйти на пенсию в полном здравии. Ничто не удерживало Гремилли в Бордо. Жена его бросила пять лет назад, удрав в Париж крутить любовь то ли с бразильцем, то ли с португальцем и прихватив с собой все семейные сбережения, что позволило Гремилли добиться развода быстро и без лишнего шума. После этого происшествия комиссар не замкнулся в себе, а, напротив, стал еще более внимательным к несчастьям других. Он выслушивал семейные истории своих молодых коллег и давал необходимые советы. Одним словом, никто так не подходил для поездки в Перигё, как Гремилли. Когда он вошел в кабинет дивизионного комиссара, тот предложил ему стул.
— Гремилли, я нахожусь в чертовски трудном положении.
Гремилли улыбнулся.
— Вы хотите сказать, что и меня это ожидает в самом ближайшем будущем?
— Попали в точку. Скверная история в Перигё. По крайней мере, если исходить из того, что мне сообщил судебный следователь.
И он пересказал подчиненному все, что ему удалось узнать о личности мадам Арсизак и об обстоятельствах ее трагической смерти.
— Перигё — это все-таки не Париж, Гремилли. Все друг друга знают, и то, о чем шепчутся на одном конце города, тут же становится известным на другом. Похоже, подозрение падает на мужа, он же прокурор республики, что только осложняет дело. Правда, насколько я понял, ветер уже подул в другую сторону. Я подумал о вас прежде всего потому, что ценю вас, к тому же вы осмотрительны и не шагнете опрометчиво в ту сторону, куда не следовало бы. Одним словом, проявляйте осторожность, гибкость, будьте максимально неприметны, чтобы не нагнать страху на чересчур восприимчивых. Хотелось бы еще добавить, что, по имеющимся данным, вышеназванный муж может быть назначен в скором времени заместителем прокурора Бордо.
— Одним словом, патрон, есть все условия свернуть себе шею?
— Пожалуй, лучше не скажешь.
Гремилли вернулся к себе и попросил свою экономку, мадам Сюзон, помочь собрать ему чемодан, намекнув, что командировка может затянуться на неделю и даже больше. Мадам Сюзон была вдовой полицейского, убитого при исполнении служебных обязанностей около сорока лет тому назад. Оставшись верной памяти мужа, она решила навсегда связать свою жизнь с тем миром, в котором он жил.
— Опять будете бегать за каким-нибудь бандитом, мсье Альбер?
— А что, если я буду бегать за какой-нибудь колдуньей?
— Увы… И что на сей раз натворил этот субчик?
— Похоже, то, на что у меня самого не хватило духу… Избавился от жены.
Подобная болтовня всегда приводила старушку в ярость, Гремилли это знал, но продолжал подначивать.
— Как вам не совестно говорить такое! Если вам не повезло со своей, то это не значит, что все жены плохие! Я убеждена, что, если бы мой Антуан остался тогда жив, мы бы были с ним замечательной парой!
Гремилли прибыл в Перигё во второй половине дня. Он взял такси при выходе из вокзала и сразу отправился в административный центр, чтобы встретиться с комиссаром Сези. Комиссар принял своего коллегу с нескрываемым вздохом облегчения, в чем откровенно и признался:
— Вы себе представить не можете, как я счастлив, что вы приехали!
— Почему же, могу, для этого достаточно на вас посмотреть!
— Словно занозу у меня из пятки вытащили! Знаете, для любого местного полицейского нет ничего хуже, чем дела, в которых замешаны именитые граждане. С одной стороны, следят за каждым вашим шагом, чтобы, не дай Бог, вы не поддались влиянию подозреваемого авторитета, с другой — сами на каждом шагу ставят вам палки в колеса.
— Знакомая история. Вы не могли бы мне в общих чертах описать суть дела?
— Хорошо. Ну, в общем, так. Дверь открыта; сейф — тоже, причем без малейшей царапины; жертва не оказывает никакого сопротивления убийце. Все свидетельствует о том, что мадам Арсизак была убита человеком, которого она хорошо знала и, судя по всему, не имела никаких оснований опасаться.
— Разумеется, у вас есть кто-то на подозрении?
— Я предпочел бы, чтобы на этот вопрос вам ответил судебный следователь.
Оба полицейских отправились во дворец правосудия, где были тотчас же приняты следователем. Бесси чрезвычайно любезно встретил гостя из Бордо и рассказал ему вкратце об обстоятельствах, при которых произошло убийство. После того как следователь замолчал, Гремилли задал ему вопрос, на который его коллега предпочел не отвечать:
— Кого-нибудь подозревают, мсье следователь?
— Вот послушайте, как обстоят дела. С одной стороны, весьма очаровательная женщина, в которую влюблен весь город за ее красоту, добродетель, неиссякаемое милосердие к несчастным. С другой стороны, молодой, умный и очень честолюбивый — заслуженно, впрочем, — прокурор, который, так сказать, без должного почтения, в отличие от общественности, относится к своей супруге и к тому же имеет любовницу, некую довольно неприметную девицу, самостоятельно зарабатывающую себе на жизнь и не обязанную перед кем бы то ни было отчитываться. В момент убийства мадам Арсизак ее муж как раз находился у этой молодой женщины по имени Арлетта Танс. Добавлю еще, что накануне убийства жертва вроде бы ездила в Бордо навестить свою немощную мать.
— Неожиданное возвращение с целью застать врасплох своего ветреного супруга?
— Возможно, однако точно на этот вопрос могла бы нам ответить только сама мадам Арсизак.
— У меня такое впечатление, мсье следователь, что общественное мнение играет в этой истории не последнюю роль.
— Положение мадам Арсизак в обществе оправдывает всеобщее возбуждение и объясняет упорство, с которым люди высказывают свое отношение к покойной.
— И разумеется, большинство настроено против мужа, которого отныне считают убийцей?
— Я бы так не сказал. Тем не менее должен признать, что в основной массе — и это касается всех слоев нашего общества — люди относятся к прокурору республики достаточно сурово.
— А вы лично как настроены, мсье следователь?
— Не буду от вас скрывать, что обстоятельства, при которых было совершено преступление, и существование любовницы, к которой питают сильное чувство, вынуждали меня думать, что Арсизак мог быть тем убийцей, которого мы ищем и обязаны арестовать. Однако со вчерашнего дня мое мнение изменилось, или, по крайней мере, у меня не стало прежней убежденности.
— Могу ли я вас спросить почему?
— Потому что кто-то отправил из Бордо, Брива и Ангулема в один и тот же день и на одно и то же имя — мсье Арсизака — три почтовых перевода по десять тысяч франков каждый. Это как раз составляет ту сумму, которая была похищена у жертвы. Мне трудно понять, зачем мужу — если допустить, что преступником является именно он, — посылать по почте на свое имя деньги, которые он мог бы и не красть, а просто взять и спрятать.
Гремилли пожал плечами.
— Какие-то ребяческие штучки… И уж настолько здесь все шито белыми нитками, что мне с трудом верится, будто их автором может быть ваш подозреваемый. Не будем слишком серьезно относиться к этим переводам. Да и не хотелось бы отвлекаться на такие мелкие уловки.
— В таком случае, не считаете ли вы, что эти денежные переводы оправдывают того, кого большинство подозревает в преступлении?
— Никоим образом.
— Тогда, комиссар, мне трудно сообщить вам что-либо еще. Мы вас пригласили именно потому, что нам слишком явно подставляют того, на кого падает подозрение. А в таких случаях трудно надеяться на успешное завершение поисков.
— Я прибыл, чтобы сменить вас. В Перигё меня никто не знает. Я постараюсь как можно меньше привлекать к себе внимание вплоть до самого конца моего пребывания здесь. Я попробую забыть все, что вы мне сообщили, мсье следователь, относительно ваших подозрений, чтобы иметь возможность посмотреть на эту историю свежим взглядом. Для начала мне хотелось бы узнать о благотворительной деятельности — как официальной, так и полуофициальной, — которую вела убитая.
Комиссар Сези проинформировал его на этот счет.
— Отлично. Вы, конечно, допросили мужа?
— Вы найдете копию протокола допроса и мой рапорт в деле, которое я вам пришлю в гостиницу. Кроме того, там будут протоколы допроса приходящей прислуги — Маргариты Тришей и Жанны Грени, которые мне рассказали много хорошего о своей хозяйке. Они испытывают даже гордость, прислуживая в таком доме. В общем, поют все то же, что и большинство их сограждан. Хотя, согласитесь, кто как не они могли знать лучше других, что собой представляла мадам Арсизак? Одна, Маргарита, приходила на бульвар Везон каждое утро, а другая, Жанна, — два раза в неделю, но на весь день.
— И последнее, о чем я хотел бы вас попросить. Не могли бы вы мне назвать самых близких друзей мсье Арсизака?
— Ну, это нетрудно. Нотариус Димешо, учитель Ренэ Лоби, аптекарь Андрэ Сонзай, адвокат Катенуа и врач Франсуа Музеролль. Если вы сочтете необходимым, я могу прислать записку с адресами всех тех, кто тесно или косвенно связан с мсье Арсизаком, а также резюме их, так сказать, curriculum vitae[108].
— Я буду вам очень признателен, вот только я еще не выбрал себе гостиницу.
Бесси посоветовал:
— Остановитесь в «Домино». Вам там будет неплохо, да и стол там приличный.
— Вот это как раз то, что мне надо, спасибо, мсье следователь, я обязательно воспользуюсь вашим советом. В остальном я предпочел бы действовать по своей собственной методике. Я плохо знаю Перигё. Хотелось бы изучить ваш город, и, если мне удастся его понять, это поможет, я надеюсь, выйти на убийцу.
Следователь поклонился, с трудом скрывая раздражение.
— Не судите меня строго, мсье комиссар, но я отношу себя к другой школе, более научной, чем романтической… Единственно, о чем я вас прошу, так это о том, чтобы вы как можно скорее пришли ко мне за ордером на арест убийцы, поднимая при этом как можно меньше шума.
Как только дверь за гостем закрылась, Бесси не смог сдержаться и поделился своими впечатлениями с комиссаром Сези:
— Не нравится мне этот полицейский. Начитался Сименона и строит из себя Мегрэ. Ладно, подождем.
Не успев как следует устроиться в гостинице, которую ему порекомендовали, Гремилли решил осмотреть Перигё. Еще не пробило четырех часов пополудни, а солнечные лучи, характерные лишь для начала октября, сказочно преображали все, к чему прикасались. Полицейский любил бродить по улицам незнакомого города. Каждый шаг представлял собой открытие, каждый новый поворот таил в себе загадку. Ему нравилось сбиваться с пути, чтобы вновь отыскивать нужную дорогу, не прибегая к любезности прохожих. С первых же минут он оказался полностью во власти этого удивительного города. Пройдя по улице Тайфера, о чем он и не подозревал, он попал в старый город, осознав это лишь тогда, когда оказался на площади Клотр. Он полюбовался собором и с наслаждением углубился в лабиринты средневековых улочек. Он вернулся на площадь Кодерк, прошел по восхитительной улице Сажес, свернул на Ламмари, вышел к Нотр-Дам, спустился по Барбекан, чтобы снова повернуть, и, пройдя по л'Абревуар, оказался наконец на берегу реки Иль. Немного запыхавшийся Гремилли подумал, что с удовольствием жил бы в этом древнем перигёском уголке, где все, казалось, застыло на века. Ему стало ясно, что городок, с такой преданностью и гордостью относящийся к своему прошлому, к своим традициям, с трудом переживает преступление, попахивающее к тому же скандалом. Полицейский снова поднялся в старую часть города, исследовал основательно все ее кварталы и разбитый, но счастливый вернулся в гостиницу. Едва зайдя в свой номер, он позвонил Сези:
— Мсье комиссар? Это Гремилли… Нет, ничего особенного я вам пока сообщить не могу. Хотел только поблагодарить вас за то, что вы так быстро подготовили для меня обещанные сведения, которые мне только что передали, и еще сказать, что я по-настоящему влюбился в ваш город. Чувствую, мы с ним поладим, что сильно облегчит мою задачу. Всего доброго, дорогой комиссар, и до скорой встречи.
Сези положил трубку, так и не поняв, то ли Гремилли захотелось покичиться своими способностями, то ли, скорее всего, просто посмеяться над ним.
Полицейский из Бордо прилег на кровать отдохнуть. Ему абсолютно не хотелось думать о том, что рассказали ему Сези и следователь. Он начисто отвергал любые готовые идеи. Он ждал случая, который направил бы его на нужный путь. Около семи вечера, сверившись со списком, который прислал ему коллега, он позвонил Арсизаку.
— Мсье прокурор республики?
— Он самый.
— С вами говорит комиссар Гремилли из регионального управления криминальной полиции Бордо. Мне поручено попытаться прояснить все неясности, которые связаны со смертью мадам Арсизак.
— Да, и что вы хотите?
— Я хотел бы переговорить с вами, мсье прокурор, если вы не возражаете.
— Совершенно не возражаю. Приходите когда вам удобно. Хоть сегодня вечером.
— С удовольствием. Но я предпочел бы появиться у вас попозже, чтобы не привлекать чьего-либо внимания и, следовательно, не чувствовать себя впоследствии скованно в своих действиях.
— В таком случае, в десять вас устроит?
— Договорились, в десять, мсье прокурор. Благодарю вас.
— Ну что вы, не за что.
Голос был приятным, но не слишком ли раскованным? Притворяется этаким циником, желая показать полное безразличие к тому, что о нем могут подумать? Но такая манера поведения не очень-то вяжется с его профессиональным честолюбием. Магистратура скандалов не любит. Гремилли отложил на потом выяснение своего отношения к прокурору и велел принести ужин — луковый суп с яичным желтком и гуся в яблоках. Затем он погрузился в состояние, близкое к блаженству, особенно после того как, смакуя, осушил бутылку кагора.
Раскрыв план города, полицейский обнаружил, что гостиница находится недалеко от дома Жана Арсизака. Без десяти десять он вышел и, обогнув площадь Франшвилль, тихим шагом добрался до бульвара Везон, на другом конце которого — там, где начинался другой бульвар, носящий имя Бертрана де Борна, — стоял особняк прокурора.
Дверь открыл сам Арсизак.
— Служанки ушли, а постоянную прислугу если и раньше трудно было найти, то уж теперь, как вы сами прекрасно понимаете, и подавно: кто захочет жить в доме, где произошло убийство, а в самом хозяине можно видеть убийцу?
Гремилли промолчал. Почему этот человек заставляет себя играть эту роль? Пусть он не испытывает никаких чувств, но почему даже не притворяется скорбящим, что устроило бы всех? Почему он старается вести себя так, чтобы окружающие испытывали неловкость и даже раздражение?
Пройдя в сопровождении хозяина дома в просторную гостиную, полицейский отметил ее чрезмерную роскошь. Однако из вежливости он счел необходимым сказать:
— А у вас тут уютно.
На что Арсизак, устроившись напротив, заметил:
— Я здесь редко бываю… У меня свой кабинет, он намного проще, и там я себя чувствую в своей тарелке… А от этой кричащей роскоши мне самому иногда не по себе. Но тут уж ничего не поделаешь, таков вкус моей жены. Что вам предложить? По-моему, в такое время капля виски нам будет в самый раз.
— Полностью разделяю ваше мнение, мсье прокурор.
— Позвольте мне надеяться, что вы будете разделять его и тогда, когда приступите к делу.
— Как бы вам ни показалось это странным, я желаю того же.
И это было действительно так. Гремилли испытал вдруг необъяснимую симпатию к этому южанину с манерами викинга. После того как мужчины выпили по глотку, прокурор сказал:
— Я к вашим услугам, мсье комиссар.
— Мсье прокурор, я нахожусь здесь, поскольку наверху расценили данный случай как особый. Считают, что местным силам он не по зубам, не хватает, так сказать, опыта, но еще и потому — и это главное, — что расследование придется вести в закрытой среде. Решено привлечь людей, которые бы ничего в данной ситуации не боялись и ничего от нее не ждали. Вот истинные причины моего присутствия в Перигё.
— Я о них догадывался.
— Мне хотелось бы, мсье прокурор, заранее просить вас простить меня за прямолинейность вопросов, но не мне вам говорить, что преступление — это не салонные развлечения.
— Что ж, приступайте…
— У меня сложилось впечатление, что буквально все считали жертву если не самой красивой, то одной из самых красивых женщин Перигё.
— Верно.
— То же сходство во мнениях я обнаружил и насчет благотворительной деятельности мадам Арсизак.
— Точно.
— Мсье прокурор, ваша жена… вас любила?
— Думаю, что да.
— А вы?
— Не знаю.
— Эта неуверенность — тоже в общем-то ответ.
— Если вам угодно.
— Я позволил себе подслушать шушуканье о том, что у вас есть… любовь на стороне.
— Это правда.
— Мне обязательно придется допросить эту женщину. Вам не трудно будет назвать мне ее имя и адрес?
— Совершенно нетрудно. Мадемуазель Арлетта Танс, проживает в старом городе, улица Кляртэ, сто шестьдесят три.
— Благодарю.
Пока Гремилли отмечал в записной книжке все, что ему сообщил его собеседник, тот спросил:
— Вы хотите проверить мое алиби?
— К большому для вас сожалению, мсье прокурор, показания мадемуазель Танс, скорее всего, не будут приняты во внимание вследствие ваших близких отношений. Поэтому очень важно, чтобы вы смогли доказать, что вернулись домой после половины первого ночи, то есть после того момента, когда, по приблизительным расчетам судебно-медицинского эксперта, произошла смерть мадам Арсизак.
— Я понимаю… Боюсь, что мне трудно будет это доказать.
— Я тоже этого боюсь.
— Вы не допускаете, что преступление мог совершить какой-нибудь бродяга?
— А вы?
— Ну…
— Послушайте, мсье прокурор, давайте серьезно. Бродяга, у которого есть ключ от вашего дома, который знает шифр замка вашего сейфа и которому мадам Арсизак позволяет беспрепятственно проникнуть к себе в спальню?..
— Да… конечно.
— А потом эти деньги, отправленные из трех разных мест?.. Вы полагаете, что так мог действовать бродяга? Нет, мсье прокурор, кто-то хотел убить мадам Арсизак, а все остальное — жалкий спектакль, поставленный любителем, которого чуешь за версту. Так вот, почему кому-то понадобилось убивать уважаемую всеми женщину? Вопрос именно в этом.
— Потому, вероятно, что был кто-то, кто Элен и не любил, и не уважал, и не восхищался ею.
— Причина, надо сказать, недостаточная,
чтобы убить человека.
— Пожалуй.
— Мадам Арсизак вам изменяла?
— Не думаю. Почему вы спрашиваете?
— Потому что я постоянно прихожу к этому очевидному выводу: убийца находился в спальне вашей раздетой супруги, а та, согласно данным экспертизы, не проявляет ни малейшего беспокойства. Однако, когда такая женщина, как мадам Арсизак, впускает мужчину к себе в спальню, приходится думать, что он был либо любовником, либо…
— …либо ее мужем.
— Меня больше устраивает, что это говорите вы, а не я.
— Заметьте, что таким мужчиной мог бы быть также ее врач.
— Не думаю, что ваш врач — будь он даже семейным врачом — имел ключ от вашего дома и знал код вашего сейфа.
— Разумеется, нет. Мое предположение было глупым. То есть, если я вас правильно понял, мсье комиссар, в случае доказательства того, что моя жена была мне верна, я становлюсь подозреваемым номер один?
— Вы уже им являетесь, мсье прокурор.
— Вот как!
— Пока что вы остаетесь единственным, кто мог желать смерти мадам Арсизак, чтобы обрести свободу. И потом, ваше вызывающее безразличие к тому, что о вас говорят, труднообъяснимо.
— Оно объяснимо приведенными вами доказательствами. Меня не любили по причине, обратной той, за что питали расположение к моей жене. Мне не прощали, что я не стремлюсь подтверждать каждочасно свою любовь к ней, а отсюда вывод простой: раз муж настолько испорчен, что готов променять такое чудо на какую-то простушку, значит, он вполне способен стать и убийцей.
— А это не так?
— Нет, смею вас разочаровать.
После некоторого обоюдного молчания Гремилли спросил:
— Мадам Арсизак часто ездила в Бордо или ее отсутствие было исключением?
— Каждую первую неделю месяца она ездила в Бордо и проводила там два-три дня. Объяснением служила необходимость навещать мать, живущую в кодеранском приюте для престарелых.
— Она останавливалась в гостинице?
— Да, в «Терминюсе». Накануне отъезда она по телефону заказывала себе номер.
— Во сколько она уехала?
— Как всегда, поездом, отходящим в семь сорок девять.
— И для того, чтобы оказаться здесь в полночь, ей необходимо было сесть в поезд, отбывающий из Бордо в двадцать два ноль шесть.
— Если только она не задумала устроить скандал, застав меня врасплох, и не приехала еще раньше.
— Думаю, что это мы сможем узнать от водителей такси. Я попрошу комиссара Сези взять на себя эти поиски. Кроме того, я попрошу его связаться с Бордо и выяснить, заказывала ли ваша жена себе номер в гостинице.
Полицейский поднялся.
— Спасибо, мсье прокурор, за виски и за ваше желание помочь нам.
— Так вы что, не думаете надевать на меня наручники?
— Мсье прокурор, в данном деле, как ни в каком другом, я не могу себе позволить совершить даже малейший промах. Если мне и придется вас арестовать, то я это сделаю только тогда, когда буду абсолютно уверен в вашей виновности.
— Следует ли мне понимать, что такой уверенности у вас пока нет?
— Пока нет. До свидания, мсье прокурор. И вот еще что. Постарайтесь к очередной нашей встрече найти ответ на следующие два вопроса. Если мадам Арсизак вернулась из Бордо неожиданно с целью застать вас у любовницы, то почему она не направилась прямо к ней? Если вы не догадывались о внезапном возвращении супруги, то почему не захотели воспользоваться случаем и остаться у мадемуазель Танс на всю ночь? Два часа ночи, мсье прокурор, это либо слишком рано, либо слишком поздно…
Арсизак ответил не сразу. Когда он заговорил, в его голосе почувствовалось даже некоторое уважение к собеседнику:
— А вы совсем непросты, мсье комиссар. Хотите верьте, хотите нет, но мне это нравится.
— Уж не о дуэли ли между нами вы говорите?
— Вовсе нет. Просто вы мне придаете уверенности. Ваш визит меня обнадежил.
— Почему?
— Потому что я невиновен, мсье комиссар.
Выйдя в прохладную и удивительно звездную ночь, Гремилли попытался подвести итог встречи с Арсизаком. Был ли он искренним? Не врал ли? Или кто-то без причины запутывает дело, а может, сам прокурор — тот еще ловкач? Полицейский испытывал неприятное чувство, что окунается в совершенно непонятный для него мир. Тем не менее он прекрасно отдавал себе отчет в том, что сделать из вдовца подозреваемого номер один — дело нехитрое, если не безошибочное. Все было против Арсизака, и все-таки вдруг это не он?..
Гремилли абсолютно не хотелось спать. Его шаги звонким эхом разносились по безлюдным улицам уснувшего города. Он миновал свою гостиницу, даже не остановившись. Ему необходимо было пройтись и все обдумать. Он редко мог позволить себе подобную прогулку днем, когда улицы отданы во власть пешеходов. Поэтому он решил, воспользовавшись моментом, сделать это сейчас и вновь направился в сторону старого города, желая увидеть, как он выглядит в ночные часы. Стоя перед собором, он ясно осознал, что больше всего затрудняло его поиски: он ровным счетом ничего не знал о самой жертве. Ему был известен лишь стереотипный образ Элен Арсизак, перед которым благоговели ее поклонники. Ну а на самом деле — что представляла собой эта красивая женщина? Знала ли она о неверности своего супруга? Пыталась ли забыть свою боль, полностью отдавая себя несчастным? Ему крайне необходимо было встретить кого-то, кто бы смог рассказать ему о ней не как о святой, а просто как о человеке. Зачем ей понадобилось устраивать спектакль с этим отъездом в Бордо? Может быть, ее кто-то предупредил о предательстве мужа, о чем она, хотя в это трудно поверить, не догадывалась? Или она нашла свою смерть в результате жестокой ссоры между ней и мужем, который вернулся домой гораздо раньше, но потом об этом умолчал? И кем была эта соперница, которой удалось, несмотря на свое скромное положение, взять верх над блистательной Элен Арсизак?
В этот момент Гремилли обнаружил, что, повторяя свой послеобеденный маршрут, он оказался на улице Кляртэ. Он вспомнил, что здесь живет Арлетта Танс, «на первом этаже», как уточнил Сези. Ему недолго пришлось искать нужный дом — довольно старое строение, в котором солнечные лучи, вероятно, были нечастыми гостями, но которое, вместе с тем, дышало благородством и покоем, особенно подчеркиваемым окнами с массивным переплетом. Живущего в таком доме нельзя было не уважать. Впрочем, полицейский достаточно трезво смотрел на вещи, чтобы не относиться к подобной дедукции серьезно. Сквозь закрытые ставни окон просачивался свет. Набравшись храбрости, комиссар постучал. Спустя несколько секунд он услышал звук открывающегося окна и мягкий голос:
— Это ты?
— Увы, мадемуазель, нет, но я иду от него.
Какое-то время никто не отвечал, потом взволнованно спросили:
— Что вы хотите?
— Поговорить с вами.
— Зачем?
— Потому что я — комиссар полиции из Бордо Гремилли, и рано или поздно нам все равно пришлось бы встретиться.
— Но… уже слишком поздно.
— Да, конечно… Хотя время тихое, к тому же, если вам не спится…
— Подождите.
До него донесся звук закрывающегося окна. Он бросил взгляд на верхний этаж. Все тихо. Кажется, ничьего внимания его присутствие здесь не привлекло. Входная дверь бесшумно приоткрылась. Полицейский проскользнул внутрь. Кто-то взял его за руку и шепнул:
— Пойдемте… Осторожно, ступенька.
Вскоре Гремилли очутился в тесной прихожей, стены которой были увешаны старыми гравюрами. Наконец он смог рассмотреть своего проводника. Молодая женщина среднего роста, с темно-русыми волосами. Она была прекрасно сложена, хотя несколько пышновата. Она смотрела на него взволнованными необыкновенными глазами. Комиссар не удивился бы, узнав, что именно эти глаза заставили Арсизака влюбиться.
Мадемуазель Танс провела гостя в обставленный со вкусом салон.
Гремилли сразу почувствовал себя уютно.
— Мадемуазель, я был направлен в Перигё в связи с известными вам событиями.
Она жестом пригласила его сесть, будучи не в состоянии произнести даже слово.
— Вы… Вы от Жана?
— Я только что от него.
— Он знает, что вы решили зайти ко мне?
— Нет. По правде сказать, я и сам этого не предполагал, но, прогуливаясь неподалеку, я случайно оказался на вашей улице, увидел свет в окне и вот…
— С ним… все в порядке?
— По-моему, он в полной форме.
— Вот и хорошо!
— Мадемуазель Танс, в ту ночь, когда мадам Арсизак была найдена мертвой, в котором часу ее муж ушел от вас?
— Около двух часов.
— Откуда вам это известно?
— Пробило половину, когда он уходил, а в момент, когда я уже ложилась, часы показывали два.
— Почему он ушел от вас так рано или… так поздно?
— Я не знаю. Жан независимый человек. Он поступает так, как считает нужным. Я никогда его ни о чем не спрашиваю.
— В тот вечер вы говорили о мадам Арсизак?
— Мы никогда не затрагиваем эту тему.
— Тем не менее вам было известно о ее отъезде в Бордо?
— Да.
— Тогда почему же он не остался у вас до утра?
— Я не знаю.
Он посмотрел на нее долгим и внимательным взглядом, и ему показалось, что она говорит вполне искренне.
— Вам известно, что на вашего друга падают серьезные подозрения?
Он чуть было не сказал «любовника», но в последний момент сдержал себя, настолько это пошлое слово не подходило ни к этой мягкой женщине, ни к по-настоящему домашней обстановке, казалось, больше созданной для законной нежности, чем для любовных авантюр.
— Догадываюсь… Люди такие недобрые.
— А вы не допускаете, что у них могут быть какие-то основания считать мсье Арсизака виновным? Я полагаю, он любит вас?
— Я в этом уверена.
Произнося эти слова, она так приятно улыбнулась, что это только подтвердило ее убежденность.
— Разве не естественны подозрения людей, считающих, что он мог избавиться от своей жены ради того, чтобы связать свою судьбу с вами?
— Те, кто так думает, его совсем не знают.
Гремилли чувствовал, что натыкается на непоколебимую веру, которой не страшны никакие ловушки.
— Где вы с ним познакомились?
— В доме доктора Музеролля, у которого я уже пять лет работаю секретаршей.
— И вы в него тут же влюбились, несмотря на то что он женат?
— Я знаю, что вы хотите сказать… Я боролась… Но это оказалось сильнее меня. И я так счастлива, что не испытываю ни сожаления, ни угрызений совести.
— Даже сейчас?
— Даже сейчас.
— А он? За что он вас полюбил?
— Потому что он был несчастен.
— Из-за чего?
— Он не ладил со своей женой.
— Почему?
— Я не знаю.
— Вы не были знакомы с мадам Арсизак?
— Нет, только понаслышке.
— Вы к ней питали отвращение?
— Напротив, я ею восхищалась.
— А он? Он ее ненавидел?
— Не думаю. Скорее он ею тоже восхищался.
Возвращаясь в гостиницу, Гремилли должен был признать, что все выходило не так, как он предполагал. Эта несовременная Арлетта… Этот муж, обожающий свою жену и, возможно, удушивший ее… А если он невиновен? Где искать тогда настоящего убийцу?
Остановившись посреди площади Либерасьон, полицейский обвел взглядом вокруг себя. Если Арсизак непричастен к убийству Элен, то кто же сейчас не спит в городе, опасаясь, что нападут на его след?
Глава II
Вопреки своим надеждам, Гремилли очень плохо спал. Ему не удалось, хотя бы на время, забыть о том, что мучило его. По мере того как часы отсчитывали минуты, чутье старого полицейского подсказывало, что ему, вероятно, придется столкнуться с самым трудным из всех препятствий, которые он когда-либо встречал на своем пути. Ему казалось, что в этом деле все, к чему бы он ни протянул руку, просачивалось у него сквозь пальцы. Поначалу он смотрел на то, что предстояло ему решить, как на детскую головоломку. Однако потом все оказалось настолько сложным, что он впервые сильно засомневался в успехе.
Еще там, в Бордо, Гремилли не слишком серьезно отнесся к словам дивизионного комиссара. Он думал, что от него требовались лишь чувство меры и такт, чтобы решить загадку, доступную каждому, но с которой местная полиция не могла справиться успешно, не рискуя навлечь на себя непреходящий гнев. Комиссар убедил себя в том, что от него ожидали скорого и изящного решения, а также незаметного возвращения в Бордо сразу же вслед за арестом преступника. Теперь он понимал, что дело совсем в другом. Не столько вероятность и так уже зародившегося скандала заставила местную полицию обратиться в Бордо, сколько очевидная беспомощность перед изобретательным преступником. Гремилли больше не сомневался в том, что угодил в осиное гнездо, из которого ему, несмотря на знания и опыт, легко выбраться не удастся.
Все, с кем приходилось сталкиваться Гремилли, производили впечатление добрейших людей: перигеский комиссар проявляет необыкновенную любезность и редкую самоотверженность, следователь проводит доверительную беседу, а главный подозреваемый так и вовсе симпатяга… Вдобавок ко всему полицейский не мог не испытывать даже какую-то нежность к той, которую общественность с уверенностью обвиняла в том, что именно из-за нее Жан Арсизак разделался со своей женой. Наконец, все без исключения пели дифирамбы покойнице, включая и того, в ком видели убийцу, и ту, которая в глазах окружающих была не чем иным, как злой вдохновительницей. Гремилли замечал с горечью, что сам готов позволить затянуть себя в эту липкую патоку, где царили самые высокие чувства. В этом тихом и благовоспитанном городке все любили друг друга, забывая о жестоко убитой здесь женщине и о том, что где-то поблизости находится наверняка уважаемый и ценимый всеми человек, который ведет свою партию в этом хоре мягких голосов и почтенных идей, и он-то именно задушил одну из очаровательнейших представительниц общества.
Гремилли необходимо было срочно встряхнуться, чтоб окончательно не засосало. Он должен подавить в себе любые непроизвольно возникшие симпатии. Отныне ко всем, с кем ему придется сталкиваться, он будет относиться как врач, исследующий больного, в котором видит потенциального разносчика опасной заразы. Сохранить трезвость ума и ясный взгляд — вот то первое, что приказал себе Гремилли и чем он, к его стыду, до этого пренебрегал.
Услышав, как часы пробили шесть раз, и понимая, что больше не уснет, полицейский встал, включил воду в ванной, распахнул окно, из которого дохнуло свежим воздухом начинающегося дня, и выполнил несколько физических упражнений, сделавших его мышцы более эластичными, а сознание более ясным. Судя по всему, погода обещала быть прекрасной, и это его радовало.
Гремилли предстояло начать все с самого начала и не быть на сей раз наивным, хватаясь за первое, что вызывает подозрение, но может еще более запутать следы убийцы. До сих пор все, что связано с убийством, казалось абсолютно непонятным, если считать слова Арсизака и его любовницы искренними. И напротив, все в корне менялось, если заявления их воспринимать как изначально ложные. В таком случае прокурор, вернувшись домой задолго до того часа, который он называет, неожиданно сталкивается там со своей женой, которая, как он считал, должна находиться в Бордо. Разыгрывается страшная сцена, Арсизак распаляется и в приступе гнева убивает свою жену. Получив соответствующее внушение, Арлетта Танс подтверждает, что ее любовник ушел от нее около двух ночи, то есть гораздо позже того часа, когда произошло убийство. Убийца же, потеряв голову, устраивает комедию с открытыми без взлома дверьми, в которую могут поверить лишь полные идиоты. Вот только почему он не оставил следов на трупе, не изорвал одежду и не перевернул мебель, чтобы создать видимость того, что вор был застигнут врасплох во время своей работы? Да потому, что Арсизак не был профессионалом и, стоя над трупом своей жены, просто очумел. И повел себя так, как это сделала бы на его месте любая посредственность. А эта наивность с отправкой якобы украденных денег? Однако здесь глупость переходила уже все границы, и Гремилли забеспокоился. Неужели прокурор мог хоть на секунду допустить, что полиция поверит в версию о раскаявшемся убийце?
Что больше всего смущало Гремилли, так это именно нелепость, с которой совершил свое преступление этот парень, чей острый ум — и это отмечали все, кто о нем говорил, — был оценен полицейским с первых же минут его пребывания в особняке на бульваре Везон. Комиссар ходил по кругу. Стоило ему подумать, что объяснение найдено, как практически тут же возникало опровержение. Все свидетельствовало о том, что Арсизак убил свою жену, все, кроме того, что речь шла о человеке, обладавшем тонким и проницательным умом. Страх, ужас от содеянного могли заставить такого человека, как прокурор, броситься сломя голову куда глаза глядят, вскочить в любой неизвестно куда идущий поезд, но только не вести себя так глупо. К тому же по роду своих занятий прокурор знал, как работает полиция, и не мог рассчитывать на то, что кто-то серьезно отнесется к этим жалким выходкам.
Заканчивая туалет, Гремилли почувствовал, что нервы его на пределе. В какую бы сторону он ни пошел, он все время оказывался там, откуда начинал движение.
В половине восьмого он спустился позавтракать, купив заодно местное издание солидной ежедневной газеты, выходящей в Бордо. Комментируя события, связанные с убийством, журналисты терялись в догадках и, как обычно, мстили за нехватку информации, злословя что-то по поводу неповоротливости следствия. Гремилли с удовлетворением отметил, что его фамилия нигде не фигурировала. Таким образом, тайна его пребывания здесь была сохранена, что, надо признать, его удивило и обрадовало.
Полицейский из Бордо отвлекся от своих забот, стоило ему только окунуться в пестрый мир старого города. Он любил эту почти деревенскую атмосферу, где витали запахи полей. Вот гора домашней птицы, разложенной на лотках, где жирные гуси поражали своей белизной. Осторожные покупательницы с богатым опытом, идущим еще от прадедов, что-то щупали, нюхали, пробовали на язык и взвешивали на руке, не торопясь с решением. Но ни та, ни другая сторона не проявляли ни малейшего нетерпения и, считая спешку лишней в таком деле, не хотели лишать себя удовольствия, которое они испытывали от беседы. Здесь до сих пор еще чтили традиции рынка с его шумной неразберихой и беззлобными спорами, говорившими о прочных связях между городом и деревней. Забыв, что он недавно поел, Гремилли жадным взглядом обводил эти несметные съестные богатства. За рядами белого мяса он увидел зажаренные в печи туши с золотистой и хрустящей корочкой и сочащимся по ней жиром, который передаст свой неповторимый аромат фасоли, томящейся вот уже несколько часов в глиняных чанах. Гастрономия — единственная отрада, которая остается мужчине, когда одни радости жизни оставили его, а от других самому пришлось отказаться.
К сожалению, комиссар прибыл в Перигё не в качестве туриста. Основной его заботой был убийца, которого необходимо было найти и, по возможности, арестовать. Вздохнув, он бросил последний взгляд на этот красочный мир и, пройдя по улице Сажес, затем по Эгийри, направился в сторону дворца правосудия, расположенного на бульваре Монтеня. Он заявил, что ему необходимо поговорить с мсье Бесси. Он умышленно не показал удостоверение и не назвал должность, указав лишь свою фамилию на бланке, который ему протянул служащий. Гремилли старался сохранить свое инкогнито как можно дольше.
Следователь встретил его в высшей степени любезно.
— Итак, мсье комиссар, удалось ли вам пообщаться с нашим городом, как вы того желали?
— Конечно же, мсье следователь, и я в восторге. Более того, я просто влюбился в Перигё.
— Любовь с первого взгляда, надо полагать?
— Именно.
— Позволю себе спросить, поможет ли это вдруг родившееся чувство решению задачи, которая на вас возложена?
— Надеюсь, при условии, что я буду опасаться.
— Опасаться чего?
— Всего.
— То есть?
— Прежде всего, вашего города, мсье следователь. Он может заворожить настолько, что одна только мысль о возможности существования здесь убийцы покажется нелепой. Затем, вашего неба, под которым лучше мечтается, чем работается. Наконец, приветливости горожан, которая может задурманить моментально, если не быть постоянно начеку. Ваши сограждане, мсье следователь, опасны тем, что от первой же улыбки теряешь всякую осторожность и начинаешь верить в их природную искренность.
— И на чем основываются ваши наблюдения?
— Я встречался с мсье Арсизаком и мадемуазель Танс.
— Да? Ваши впечатления?
— Я только что о них и рассказывал вам, мсье следователь. Оба симпатичны, милы, производят впечатление искренних людей, однако…
— Однако?..
— Однако один из них, возможно, убил свою жену при посредничестве другого.
— Ну вот, наконец-то! Таким образом, теперь и вы верите в виновность Арсизака?
— Я не знаю.
— Но послушайте, мсье комиссар, давайте рассуждать трезво.
— Это как раз и есть самое трудное.
— И все-таки попытаемся… Весь город любит или, по крайней мере, уважает Элен Арсизак — олицетворение доброты. Молодежь восхищается ее красотой, а большинство из тех, кто постарше, завидуют прокурору республики, что у него такая жена.
— И именно поэтому ему не прощают его связь с мадемуазель Танс.
— И это верно. Все возмущены, но не тем, что у Арсизака есть любовница — мы не пуритане, — а тем, что он мог обманывать женщину таких высоких качеств, как мадам Арсизак. У всех ощущение, что они стали свидетелями некоего, так сказать, кощунства.
— И в то же время большинство из тех, кто критикует прокурора, при первой возможности охотно изменили бы ему с Элен Арсизак.
— Вне всякого сомнения. Не станем же мы переделывать человеческую натуру, не так ли?
— Разумеется! Вот только меня смущает, не объявляют ли прокурора убийцей жены скорее вследствие скрытой ревности, чем глубокой убежденности?
— Возможно. Ведь со смертью Элен Арсизак женщины Перигё вдруг почувствовали, что потеряли ближайшую подругу, а мужчины — что им просто наставили рога.
— И все втайне согласны мстить мужу.
— Не будем заходить так далеко, мсье комиссар. Я только хотел вам показать, что с трудом представляю себе кого-то в Перигё, кто ненавидел бы Элен Арсизак до такой степени, чтобы ее удушить, кроме…
— Кроме?..
— …кроме тех, кого бы исчезновение жены прокурора вполне устраивало, то есть самого прокурора и его любовницы.
— Из чего можно заключить, что вы не рассматриваете связь Арсизака с мадемуазель Танс как мимолетное увлечение?
— После всего, что я услышал, я так не думаю.
— Мне приятно отметить, что ваше мнение совпадает с моим. После разговора с мадемуазель Танс я пришел к выводу, что это серьезно.
— Это лишь осложняет дело. Будучи католичкой из очень верующей семьи, мадам Арсизак никогда бы не пошла на развод.
— А отсюда убийство, которое было единственным выходом?
— Я вам этого не говорил!
Гремилли улыбнулся.
— Ну, скажем, слегка намекнули.
— Мне бы не хотелось, мсье комиссар, чтобы вы думали, будто я питаю какую-то антипатию к Арсизаку. Напротив, я всегда считал его своим другом и был бы просто счастлив, если бы вам удалось найти доказательства его невиновности, поскольку я с ужасом представляю себе тот день, когда мне придется выдвинуть против него обвинение в предумышленном убийстве.
— Ну, до этого еще далеко.
— Вы в этом уверены? Вы сами признали, что нас пытались убедить в том, будто речь идет о «гастролере», которого, к его несчастью, застукали на месте преступления. Вы сами заявили, что возврат по почте так называемых украденных денег — детские уловки. Наконец, не вызывает сомнения и то, что мадам Арсизак знала убийцу и совершенно его не опасалась. И после всего именно муж — естественно, случайно — обнаруживает труп своей жены…
— Вполне естественная ситуация, вы не находите?
— Возможно… Во всяком случае, мне кажется, мы не можем долго затягивать с обвинением.
— Боюсь, мсье следователь, что все может оказаться гораздо, гораздо сложнее, чем вы полагаете. Я признаю, что все говорит не в пользу Арсизака, но одновременно это «все» служит ему и оправданием.
Следователь хотел возразить, однако Гремилли его опередил:
— Любовная связь Арсизака, его хрупкое алиби, неуклюжая хитрость с этим грабежом и возвратом денег, вскрытый без взлома сейф, очевидная безмятежность жертвы — все буквально кричит о том, что убийцу следует искать среди близких к дому людей. А зная о целомудрии мадам Арсизак, нетрудно предположить, что таким человеком может быть только ее муж.
— Вот видите!
— Однако кажется очень странным, что такой умный и сведущий в криминальных делах человек, как прокурор, не приготовил себе какое-нибудь убедительное алиби и устроил этот спектакль, несерьезность которого он не мог не видеть.
— В этом, дорогой мой, вы основываетесь на предположениях, а я предпочитаю доверять фактам.
— И я тоже, мсье следователь. Почему мадам Арсизак симулировала свой отъезд в Бордо? И если ей захотелось уличить своего супруга в измене, то почему она не поехала непосредственно на улицу Кляртэ? Что помешало прокурору, если ему было неизвестно о приезде жены, не возвращаться домой до утра? К тому же, если считать, что он виновен, элементарное чувство осторожности должно было заставить его после содеянного вернуться к любовнице и «обнаружить» труп своей жены, к примеру, в семь утра.
— Да, не знаю…
— А нельзя ли допустить, что поездка в Бордо вовсе не ловушка для мужа и она была вынуждена ее неожиданно прервать по каким-то другим причинам, которые нам пока неизвестны?
— Я хочу вам сказать, что, согласно данным из Бордо, мать Элен Арсизак, живущая в доме престарелых для состоятельных особ, не видела свою дочь и сама уже встревожена ее отсутствием. Она пока ничего не знает.
— Ну вот, все, как нарочно, усложняется.
Телефонный звонок прервал беседу. Следователь выслушал и сказал коротко:
— Жду вас.
Положив трубку, он сообщил:
— Мне что-то хочет сказать Арсизак. Сейчас он придет.
Гремилли поднялся.
— В таком случае…
— Нет, нет, останьтесь. Если речь идет о том деле, которое нас интересует, вы не должны помешать прокурору.
Вскоре Арсизак, такой же непринужденный и уверенный в себе, вошел в кабинет. Может, это просто притворство? Полицейский много бы отдал, чтобы узнать правду. Арсизак поздоровался со следователем:
— Спасибо, что согласились меня принять так быстро, дружище.
Гремилли обратил внимание на то, что Арсизак при этом не подал руку Бесси.
— Здравствуйте, мсье комиссар.
— Здравствуйте, мсье прокурор.
В разговор вступил следователь:
— Если вы пришли поговорить о том, что нас всех сейчас занимает, то, надеюсь, мсье комиссар нам не помешает?
— Ну конечно… Впрочем, я ненадолго, дружище. Мне известно — и мсье комиссар это может подтвердить, — что на мне висят серьезные подозрения. Поэтому, доверяя правосудию, я хочу сказать, что можете со мной не нянчиться. Относитесь ко мне как к любому другому подозреваемому. Я хотел было попросить отпуск, но подумал, что это может смахивать на какой-то маневр или даже признание. Я не намерен бежать куда бы то ни было и от кого бы то ни было.
Следователь откашлялся, прежде чем ответить:
— Арсизак, я питал самые теплые чувства и огромное уважение к вашей жене. Поэтому я считаю своим долгом — прежде всего как магистрат, потом как друг — не пренебрегать ничем в поисках ее убийцы. Не буду скрывать от вас — и говорю вам это с тяжелым сердцем, — что в настоящий момент на вас падают самые что ни на есть серьезные подозрения. Тем не менее мсье комиссар не до конца верит в вашу виновность.
— А вы?
— Мне хотелось бы разделять чувства комиссара.
— Надеюсь, что вы по крайней мере…
— Не буду лукавить. Все говорит не в вашу пользу. Я знаю вас как блестящего и честного магистрата, но, мой бедный друг, вы не первый, кто теряет голову от любви. Поэтому, Арсизак, если убили вы, то признайтесь в этом прямо и… и я дам вам несколько часов, чтобы… ну, в общем, чтобы вы привели свои дела в порядок.
— Мсье следователь, я признателен вам за то, что вы так защищаете честь магистратуры, но, представьте себе, у меня нет ни малейшего желания покончить с собой, тем более теперь, когда я свободен и могу начать новую жизнь.
— А это, мсье прокурор, как раз то замечание, которое может сыграть роковую для вас роль в ходе следствия.
— Неужели вы меня считаете таким идиотом, что, будь я виновен, стал бы говорить подобное? Я не прощаюсь с вами, мсье, ибо нам предстоит часто встречаться в эти дни. Кстати, мсье комиссар, я забыл вам сообщить вчера во время нашей встречи, что накануне убийства, около одиннадцати — одиннадцати тридцати вечера, к мадемуазель Танс заходил доктор Музеролль и мы оставались втроем до часу ночи. Я ушел от мадемуазель Танс вскоре после моего друга.
Комиссар осведомился с иронией в голосе:
— По сути дела, вы забыли свое алиби?
— Обстоятельства, разумеется, объясняют этот провал памяти.
— Позвольте мне, мсье прокурор, сказать вам откровенно, о чем я сейчас подумал.
— Прошу вас.
— Не надумали ли вы над нами посмеяться?
— Да уж, для меня сейчас самое время паясничать.
С этими словами Арсизак вышел. Следователь растерянно пробормотал:
— Если Музеролль подтвердит свой визит…
— Он его подтвердит, мсье следователь, будьте уверены.
— Откуда такая уверенность?
— Мадемуазель Танс работает у него секретаршей.
— Этого врача я знаю давно, мсье комиссар. Это не тот человек, который способен пойти на лжесвидетельство, даже если речь идет о спасении друга.
— Мне хотелось бы в это верить, мсье следователь.
Доктор Музеролль жил за Дворцом правосудия в роскошной квартире, где все, казалось, было предназначено услаждать взгляд и говорило о том, что здесь обитает истинный сибарит. Старые предметы из олова, амурные гравюры восемнадцатого века, тонкий фарфор и старинные духовые инструменты украшали салон для гостей. Сюда Гремилли провела молоденькая симпатичная служанка. Ее талию элегантно опоясывал фартук, кружева которого гармонично перекликались с кружевной лентой в волосах. Несомненно, врач старался окружить себя не только изящными вещами, но и очаровательными людьми. И полицейский его прекрасно понимал.
К Гремилли вышла мадемуазель Танс.
— Здравствуйте, мсье комиссар.
— Здравствуйте, мадемуазель.
— Вы пришли к доктору?
— Да. Служанка, видимо, меня неправильно поняла.
— Нет, правильно. Просто я подумала, что вы пришли из-за меня.
— Если мне будет необходимо вас увидеть, мадемуазель, у меня есть ваш адрес.
— В таком случае прошу вас следовать за мной.
Доктор Музеролль, оказавшийся низкорослым толстяком, принял полицейского весьма любезно:
— Если не ошибаюсь, мсье комиссар, я раньше не имел чести быть с вами знаком?
— Я из регионального управления криминальной полиции Бордо.
— Должен ли я понимать, что вы пришли ко мне не в качестве клиента, а…
— Нет, доктор, в качестве полицейского.
— Вот как… В таком случае, мадемуазель, будет лучше, если вы нас оставите.
Славная комедия, подумал Гремилли, которого начинала бесить эта подчеркнутая любезность, все больше смахивающая на издевку.
— Слушаю вас, мсье комиссар.
— Я пришел к вам, доктор, в связи с убийством мадам Арсизак.
— Бедняжка… Какой ужасный конец!
Врач вздохнул.
— Доктор, в ночь, когда произошло убийство, вы выходили из дома около одиннадцати часов?
— Надо подумать. Погодите… Да, я решил пропустить стаканчик у мадемуазель Танс… Спешу заметить, что она была не одна.
— У нее был мсье Арсизак.
— Ах, так вам это уже известно?
Комиссар готов был схватить этого человека за лацканы пиджака и встряхнуть как следует, чтобы отбить у него охоту кривляться, да еще с таким цинизмом.
— Мне действительно это уже известно. Вы не находите, что время для визита несколько необычно?
— Понимаете ли, мне приходится работать допоздна, и, перед тем как лечь в постель, я обычно позволяю себе небольшую прогулку по старому городу, который я просто обожаю. И вот в эту самую ночь случаю было угодно направить мои стопы на улицу Кляртэ, и, когда я проходил мимо дома мадемуазель Танс, я увидел у нее свет и постучал в ставни.
Гремилли чуть не взорвался от негодования. Узнав все от мадемуазель Танс, доктор нагло воспользовался его же историей. Таким образом, он увиливал от любого обвинения, и становилось бессмысленным даже ставить под сомнение его слова. Они все заодно, как воры на ярмарке.
— Арлетта мне открыла, и мне было приятно увидеть там и Арсизака. Он познакомился с Арлеттой у меня, и я, старый холостяк, чувствую себя с ними словно в семейном кругу, по крайней мере до тех пор, пока у них хватает сил меня терпеть.
— В котором часу вы ушли от них?
— Мне, видимо, будет трудно точно ответить на ваш вопрос. Во всяком случае, уже перевалило за час, так как, вспоминаю, я что-то заметил Арлетте насчет боя ее настенных часов, который мне показался каким-то чудным. Тогда как раз пробило один час.
— Тем самым вы подтверждаете алиби мсье Арсизака?
— А что, ему надо какое-то алиби?
— Послушайте, доктор, хватит ломать комедию. Вам прекрасно известно, что мсье Арсизак подозревается в убийстве своей жены!
— Неужели есть такие болваны, которые могут его в этом подозревать?
— Позвольте мне не отвечать на этот вопрос.
— Пусть будет так, но, если бы меня об этом спросили, не думаю, чтобы мой ответ вам очень понравился.
— Хочу вам напомнить, что я — полицейский.
— Зачем напоминать, это и так видно.
Врач чувствовал свою неуязвимость. На сей раз Гремилли не выдержал:
— Мне кажется, мы плохо начали.
— Мне тоже так кажется.
— Тогда, может быть, попробуем по-другому?
— Я к вашим услугам.
— Не могли ли бы вы рассказать мне что-нибудь о мадам Арсизак?
— Элен? Восхитительная женщина…
— …которую обманывал муж.
— Возможно, жить рядом с восхитительной женщиной не всегда самое великое счастье.
— А вы сами бывали у нее?
— Редко.
— И на то были причины?
— Она на меня тоску нагоняла. Я допускаю, конечно, что святость — дело серьезное… В общем, что-то в этом роде я имел неосторожность ей однажды сказать. Она на меня с тех пор обиделась, и одно мое присутствие, вероятно, оскорбляло ее чувства.
— Знала ли она о своей беде?
— Скажем, догадывалась.
— Вам неизвестно, кто будет ее наследником?
— Думаю, ее муж, но поскольку она ничего за душой не имела… Она вышла из семьи мелких аркашонских коммерсантов. Работала в бакалейной лавке родителей. Однажды туда вошел Жан, и она… она вошла в его жизнь.
— Женитьба по любви?
— Эх… Я вам уже говорил, что она была очень красива… Жан — натура романтическая, для которой видеть, как такая прелестная девушка губит свою молодость среди консервов и картошки… Одним словом, вечная история пастушки и принца. Подозреваю, что он женился на ней в порыве благородства, ну и потом, конечно, вследствие естественного влечения, которое она не могла не вызывать.
— А она?
— Думаю, она любила своего мужа… и, право же, ей пошло это только на пользу. Она не то что не оскорбила своим присутствием высшее общество Перигё, но, напротив, стала одним из лучших его украшений.
— У меня сложилось впечатление, что она принимала участие во всех благотворительных мероприятиях.
— По крайней мере во многих. Ее благотворительность была даже агрессивной. Стоило ей только встретить кого-нибудь, она тут же принималась доводить его до измора своими сиротами, одинокими матерями и т. д.
— Мне кажется, все скорбят о ней.
— Все, кроме одного.
— Кого же?
— Того, кто ее задушил.
— У вас нет — пусть даже смутных — представлений о личности убийцы?
Врач спокойно ответил:
— Полицейским работаете вы.
— Давайте поговорим о мадемуазель Танс.
— Очень славная девушка. Жан — первое в ее жизни увлечение, хотя ей уже тридцать, но я не сомневаюсь, что оно и последнее.
— Потому что?..
— Потому что они поженятся сразу же, как только это станет возможным.
— Слушая ваши рассказы, доктор, о тех, кто вас окружает, я начинаю сомневаться, не напрасно ли я приехал в Перигё и не сам ли я выдумал всю эту историю с убийством.
— Действительно?
— Да, доктор, слушая вас, у меня появляется ощущение, что я грубо ворвался в мир, где живут лишь святые и ангелы.
— Не правда ли, мило?
— Это было бы так, если бы сразу при входе в ваш сказочный уголок я не наткнулся на задушенную женщину, а это уже не романтика… Так что уж не обессудьте, доктор, если мне придется пощипать крылышки ваших ангелов и посбивать ореолы с некоторых ваших святош.
Войдя в кабинет судебного следователя Бесси, Гремилли заявил:
— Сейчас перед нами одна простая дилемма: либо доктор Музеролль говорит правду и Арсизак не виновен либо он этой правды не говорит и Арсизак не кто иной, как убийца своей жены.
— Повторяю вам, мсье комиссар, доктор — почтеннейший человек, пользующийся всеобщим уважением.
— Как бы там ни было, мсье следователь, но хочу вам заметить, что он просто издевался надо мной от начала и до конца всей нашей встречи. Строил из себя святую наивность и рассказывал мне все, что ему взбредет в голову… Однако я нахожу его слишком умным — еще один мудрец! — чтобы врать относительно того, что легко проверяется.
— Алиби Арсизака?
— Как раз и нет! Даже если бы мне очень захотелось, я никогда не смогу уличить во лжи Арсизака, Арлетту Танс и доктора Музеролля. Вы бы только послушали его!
— Неужели он вас оскорбил?
— Разумеется, нет! Но его умение преподносить все, что действительно происходило, в искаженном виде меня просто поражает. Послушать его, так находишься не в Перигё, а в каком-то Эдеме, где все милы, нежны и искренни, где преступление вполне может сойти за развлечение славной компании!
— А вы не преувеличиваете?
— Едва ли! Впрочем, мне с самого начала следствия стало казаться, что я имею дело с одними лишь сказочниками. Я даже не имею четкого представления о самой жертве. Она очаровательна, изящна, сострадательна… Только из этого скорее можно слепить статую, а не живое существо. Мне необходимо знать, какой была эта женщина не тогда, когда она находилась в центре всеобщего внимания, а тогда, когда на нее не смотрели как на какое-то официальное лицо.
— Я не совсем четко себе представляю, чего, в сущности, вы добиваетесь?
— Все просто: если мне ничего не удается добиться с одной стороны, необходимо подойти с другой. До сих пор я не смог не то что преодолеть, но даже заглянуть за ту преграду, которую каждый раз воздвигали передо мной прокурор и его приятели. Поэтому я должен попытаться по-настоящему понять, кем была мадам Арсизак, что она думала, страдала ли от измен мужа и так далее. С кем-то она все-таки должна была делиться своими заботами, мечтами, планами. Мсье следователь, не могли бы вы назвать мне имя самой близкой подруги мадам Арсизак?
— Мой дорогой комиссар, я намного старше прокурора и тем более его жены. Наши отношения основывались на принципах добрососедства и мирских правилах. Впрочем, мадам Бесси, полагаю, сможет лучше просветить вас на этот счет. Так что заходите, выпьем по чашечке кофе. Я живу на площади Плюманси, семьдесят, это в нескольких минутах ходьбы отсюда. Например, в два часа дня.
— Договорились, мсье следователь, в два часа дня.
Пробило полдень, когда Гремилли, выйдя через неприметную дверь Дворца правосудия, очутился на площади Генерала Леклерка, совсем недалеко от кабинета доктора Музеролля. Полицейский еще не отошел от приема, который ему оказал этот практикующий врач. Он жаждал реванша, но пока смутно себе представлял, каким образом его добиться. Этот человек был не так прост. Комиссар повернул на улицу Гинемера и тут обратил внимание на силуэт идущей впереди женщины, который показался ему знакомым. Арлетта Танс! Она шла с работы, но направлялась не в сторону улицы Кляртэ. Может, ее ждала встреча с Арсизаком? Гремилли пошел за ней, надеясь на случай, который, возможно, подскажет ему — хоть намеком, хоть знаком! — каким образом нужно действовать, чтобы пробить брешь в крепостной стене и проникнуть в столь неведомый для него мир. Однако его ждало разочарование: Арлетта просто решила сделать покупки, которые она укладывала в сетку, извлеченную из сумочки. Гремилли поджидал ее сначала у мясной лавки, затем у кондитерской, представлявшей последнюю точку на ее пути в сторону северо-запада, после чего он развернулся вместе с ней на сто восемьдесят градусов, чтобы направиться в старый город, где она купила хлеб и фрукты. Полицейский перехватил ее в тот момент, когда она пересекала Муниципальную площадь.
— Добрый день, мадемуазель Танс. Вы знали, что я шел за вами следом?
— Я вас узнала, когда выходила из кондитерской.
— Почему же тогда делали вид, что меня не замечаете?
Глаза Арлетты насмешливо сверкнули.
— Не хотела доставлять вам лишние хлопоты. Думаю, вы бы почувствовали себя сильно уязвленным, если бы я помахала вам ручкой в знак приветствия, разве не так?
Уж не надумала ли теперь и она посмеяться над ним? Эх, скорее бы ему снова оказаться в своем вульгарном мире мошенников, там, где улицы по-настоящему освещены, а проблемы не так сложны, поскольку люди живут по простым принципам и, стало быть, сами просты и понятны. Они признают или отрицают, спасаются бегством или вступают в бой. По крайней мере, каждый прекрасно знает, с кем имеет дело и на что идет.
Голос Гремилли стал более сухим.
— Мадемуазель, мне хотелось бы поговорить с вами.
— Но у меня не так много времени. Кабинет доктора открывается в час тридцать.
— В нашем распоряжении более часа.
Она запротестовала:
— Но мне надо еще пообедать!
— Мне тоже, уверяю вас! Не будем терять драгоценные минуты. Обещаю, я вас долго не задержу. Давайте зайдем в это кафе.
Они сели за столик погруженного в полумрак маленького заведения, знавшего истинное оживление лишь по базарным дням. Комиссар заказал что-то из прохладительных напитков и, как только их обслужили, приступил к делу:
— Вам хорошо известно, какие тяжелые подозрения висят над человеком, которого вы любите. Я знаю, что вы рассчитываете стать его женой. Думаю, не
ошибусь, если предположу, что вы должны быть очень заинтересованы в том, чтобы он публично и как можно быстрее был признан невиновным, если он действительно невиновен.
— О да! Если б я могла что-нибудь сделать…
— Вы это можете, мадемуазель. Вам достаточно сотрудничать с теми, кто стремится только к одному — найти правду, и вы должны мне сами рассказать эту правду.
— Но я вас не обманывала!
— Надеюсь на это ради вас и ради него. Вы говорили своему патрону о моем визите к вам вчерашним вечером?
— Да.
— Почему?
— Потому что доктор для меня нечто иное, чем патрон.
— Да?
Ей понадобилось некоторое время, чтобы понять истинный смысл этого «Да?», после чего она покраснела и принялась живо протестовать:
— Это вовсе не то, что вы думаете! Доктор Музеролль очень хороший человек! Я до сих пор не могу понять, почему он так и не женился… Говорить на подобные темы у нас строго запрещено. Могу лишь догадываться, что причина его одиночества кроется в каком-то сильном разочаровании, с чем он теперь уже примирился и чему, как мне кажется, даже рад. Он питает ко мне глубокую привязанность, и я плачу ему тем же. К тому же он очень привязан к Жану, то есть к мсье Арсизаку. Ко мне он относится в некоторой степени как к жене своего друга, видя во мне почти невестку. Он часто заходит ко мне, чтобы просто поболтать, когда ему тоскливо, или чтобы повидать Жана.
— Почему вы мне ничего не сказали о том, что он был у вас в ту ночь, когда произошло убийство?
— Бог мой, он так часто бывает у меня, что я на это уже и внимания не обращаю. Вы знаете, он же неисправимый «лунатик». Он только ночью и чувствует себя человеком. Вы себе не представляете, сколько он отмеряет километров в течение года, пока весь Периге спит.
— В котором часу он пришел?
— Ровно в двадцать три.
— Как вам удалось это запомнить с такой точностью?
— Так ведь он сам мне сказал, что зайдет именно в это время!
— Значит, он вас предупредил заранее о своем визите?
— Естественно! В противном случае мне пришлось бы просыпаться чересчур часто! А я-то ведь не «лунатик»!
— И долго он у вас оставался?
— Приблизительно два часа. Я специально для него напекла блинов, он их обожает.
— А мсье Арсизак был?
— Разумеется.
— Благодарю вас, мадемуазель. Вот видите, я вас не сильно задержал, и, думаю, у вас еще есть время до обеда. До свидания, мадемуазель.
— До свидания, мсье комиссар.
Глядя на удаляющуюся женщину, комиссар подумал, что у нее ничего не было общего с теми, кого обычно называют сексуальными вампиршами, напротив, она оставляла после себя ощущение доброты и трогательной нежности. Женщина-отрада, рядом с которой мужчины типа Арсизака и Музеролля чувствуют себя, вероятно, уютно. Везет же кому-то, подумал полицейский. Ему не удавалось забыть свою собственную историю, так что страдания его продолжались. При каждом соприкосновении с чужим счастьем у него комок подкатывал к горлу.
Перед тем как отправиться в гости к судебному следователю, Гремилли зашел в гостиницу, чтобы пообедать на скорую руку. Внизу его ждала записка от комиссара Сези. В ответ на просьбу об уточнении некоторых деталей, с которой Гремилли обратился к нему утром по телефону, он сообщал, что мадам Арсизак не заказывала номер в отеле «Терминюс» и что шофер такси — некий Шарль Дюран — признал в убитой женщину, которая села к нему вечером накануне преступления на вокзале, сразу по прибытии двадцатичасового поезда.
Тот факт, что мадам Арсизак не заказала, как она это делала обычно, номер в «Терминюсе», красноречиво говорил о том, что она заранее планировала вернуться тайком. Но тогда почему в полночь она оставалась еще у себя?
Поднимаясь к площади Плюманси, Гремилли испытывал чувство досады, которое вызвал в нем доктор Музеролль. Своими ответами Арлетта, сама того не подозревая, подтвердила то, в чем он уже не сомневался: рассказывая, каким образом он оказался в ночь убийства в доме своей секретарши, доктор просто морочил ему голову.
Уязвленное самолюбие полицейского не давало ему покоя с тех пор, как он понял, что сомневаться уже не в чем. Ловкость этих людей, говоривших правду в целом, но лгавших по мелочам, объяснялась тем, что это их «озорство» не могло быть наказуемым. И нужно быть на месте полицейского, чтобы понять, насколько это запутывало следствие.
Бесси встретил комиссара с той приветливостью старшего чина к младшему, когда хотят показать свое уважение, но одновременно подчеркнуть существующую между ними дистанцию, определяемую разницей в их социальном положении. В гостиной Гремилли был представлен мадам Бесси — женщине внушительных размеров, но вместе с тем удивительно изящной. После выпитого кофе и поданных ликеров (в доме судебного следователя не изменяли старым традициям) хозяйка обратилась к гостю:
— Мсье комиссар, мой муж мне рассказывал о том, чего вы от меня ждете. Боюсь, правда, что вы будете разочарованы, равно как и я сама…
— Прошу прощения, мадам, но я не улавливаю…
— О, здесь все просто! Узнав от мужа, что вас интересует имя ближайшей подруги — или, лучше, ближайших подруг — мадам Арсизак, я мысленно перебрала всех дам в Перигё, которые больше других подходили бы на эту роль. И, вы знаете, только тут я поняла, что ничего не могу сказать о том, с кем по-настоящему была близка несчастная Элен. Признаюсь вам, придя к такому заключению, я сама оказалась в растерянности. Нет, действительно, несмотря на все мои усилия, ни одно имя не пришло мне на ум, и я вдруг задумалась, а были ли на самом деле у Элен, не считая ее официальных отношений, настоящие, близкие подруги.
— Вот уж действительно, мсье следователь, нельзя не признать, что, куда ни повернись, проблемы только разбухают.
— Я был не меньше вашего удивлен, когда услышал это от жены. Впрочем, я, кажется, начинаю понимать. Я не знаю, известна ли вам история Элен до того, как она стала мадам Арсизак?
— Доктор Музеролль меня просветил на этот счет. Простая семья из Аркашона, если не ошибаюсь.
— Совершенно верно. Мне думается, прошлое мадам Арсизак было для нее неким, что ли, грузом… Разумеется, все это ерунда, ибо всем своим видом, своими манерами она доказала, что, каким бы ни был ее кошелек, она достойна показаться в самом изысканном обществе. И все-таки… Не считала ли себя мадам Арсизак еще недостаточно готовой к тому, чтобы видеть в перигёских дамах своих подруг? Может, по этой причине она старалась держаться пока на почтенном расстоянии от них? Мне кажется, с годами она изменила бы свое мнение и позицию.
Гремилли в очередной раз подумалось, что убитая действительно была олицетворением добропорядочности и скромности и что слова следователя были тем трогательным мазком, который завершал ее и без того лестный портрет. Он не смог сдержать себя, чтобы не выразить свои сомнения:
— И тем не менее мне кажется странным, что никто не стремился к дружбе с женщиной, чьи заслуги признаются всеми, которой каждый восхищен и которую весь город буквально обожает за те или иные ее достоинства.
— Ну, вы знаете… У людей свои взгляды на вещи… Взгляды, так сказать, унаследованные от предков и устраивающие всех, даже если порой кажутся абсурдными.
Комиссар обратился к мадам Бесси:
— Мадам, вы лично питали ли какие-либо чувства к мадам Арсизак?
— «Питать чувства» — это, пожалуй, слишком громко… Я испытывала глубокое уважение скорее за готовность пожертвовать собой ради несчастных и обездоленных, чем к ней самой. Она мне, по сути дела, была довольно безразлична. Мы принадлежали к разным поколениям, вы меня понимаете?
— Вполне, мадам. Вы случайно не знаете ее поставщиков?
— Что вы имеете в виду, мсье комиссар?
— У кого она покупала себе платья, шляпки, туфли, в какую кондитерскую ходила и так далее?
— Я уверена, вы будете смеяться надо мной, но, по правде сказать, я больше в курсе ее привычек, чем ее добродетелей. Она одевалась на улице Четвертого Сентября у мадемуазель Вертюзай, шляпки приобретала на проспекте Монтеня у мадемуазель Линар, обувалась на улице Республики у мсье Сели, а пирожные покупала в кондитерской мадам Домейрат, что на улице Тайфера.
Бесси улыбнулся.
— Фанни, ты не перестаешь меня удивлять! Ты могла бы стать прекрасным полицейским, не правда ли, мсье комиссар?
— Действительно, мсье следователь.
Еще не было трех часов, когда Гремилли, покинув площадь Плюманси с теми же церемониями, что и в начале визита, отправился на улицу Четвертого Сентября, где находился магазин мадемуазель Вертюзай.
Это был небольшой магазинчик, изысканность которого не сразу бросалась в глаза. Витрина с выставленными в ней платьями и тканями говорила о хорошем вкусе хозяйки и высоких ценах. Было очевидно, что только наивная особа могла зайти сюда в надежде приобрести себе что-нибудь подешевле. Стоило лишь полицейскому толкнуть входную дверь, как он тотчас же окунулся в интимно-утонченную атмосферу, подчеркиваемую обитыми атласом стенами, мягким светом, изящными букетами цветов и отсутствием малейшего шума. Глядя, как элегантно одетая служащая с расчетливой медлительностью перемещалась в пространстве и что-то тихим голосом говорила своим невидимым собеседникам, Гремилли ощутил себя в аквариуме.
— Что мсье угодно?
— Повидаться с мадемуазель Вертюзай, если это возможно.
— По какому делу, простите?
— По личному. Хочу добавить, что у меня нет ни товара, ни предложений.
Бросив на него веселый взгляд, девушка попросила:
— Минутку, пожалуйста.
Жестом она указала комиссару на хрупкий стул с гнутыми ножками, на который он ни за что на свете не осмелился бы сесть. Так же тихо, как и при встрече, девушка удалилась. Она не шла, а буквально плыла. Вскоре она вновь появилась, пригласив полицейского следовать за собой. Его провели в роскошный будуар. Гид удалился, оставив Гремилли наедине с некой особой со светлыми волосами, одетой в английский костюм стального цвета, с повязанным вокруг шеи шарфиком неброских тонов. Сидя за письменным столом в отеле Наполеона Третьего с инкрустацией из перламутра, она пристально смотрела на незваного гостя сквозь огромные роговые очки.
— Вы хотели со мной говорить, мсье?
— Комиссар Гремилли, из Бордо.
Тон мадемуазель Вертюзай вдруг изменился:
— Что же вы стоите, комиссар, садитесь.
Он с недоверием покосился на показавшееся ему крошечным обитое шелком кресло. Видя его нерешительность, владелица магазина модного платья улыбнулась:
— Не пугайтесь, оно вполне вас выдержит.
— Надеюсь.
Пока Гремилли, соблюдая все меры предосторожности, устраивался в кресле, она поинтересовалась:
— Итак, какие дела у меня могут быть с полицией?
— Ей необходимо получить от вас маленькую информацию — и только.
— По поводу чего?
— По поводу мадам Арсизак.
— Мадам Арсизак… Бедный ангел! Я до сих пор не могу поверить в ее ужасную смерть… Такая скромная, такая утонченная!.. Всегда любезна, покладиста… Ничто не может утешить… Для меня она была больше, чем клиентка, мсье комиссар. Подруга, настоящая подруга… Мы так ее оплакивали… И еще долго будем оплакивать.
И как бы в подтверждение своих слов мадемуазель Вертюзай извлекла из левого рукава прелестный платочек из тончайшего батиста и с величайшей осторожностью принялась промокать им накрашенные ресницы.
— Вы сами, мадемуазель, занимались мадам Арсизак, когда она приходила к вам как клиентка?
Резкое движение корпуса назад выразило ее крайнее удивление.
— Мсье комиссар! Я выхожу к своим клиенткам исключительно для того, чтобы дать совет по выбору материала или модели, окинуть взглядом во время примерки… И лишь на секунду, мсье комиссар, мимоходом!
Пристыженный, Гремилли смутился так, как если бы он спросил у маркизы де Монтеспан, не она ли подметает Зеркальную галерею Версальского дворца?
— Прошу простить мое невежество, мадемуазель. Я слабо разбираюсь в секретах ателье мод.
Мадемуазель Вертюзай сделала небрежный и одновременно снисходительный жест рукой, показывая тем самым, что инцидент исчерпан.
— Если вы хотели спросить меня, мсье комиссар, имя служащей, которая чаще других обслуживала мадам Арсизак, то я могу вам его назвать: мадемуазель Симона.
— Она сегодня здесь?
— Это как раз та девушка, которая вас встретила.
— Вы не против, если я поговорю с ней наедине?
— О мадам Арсизак?
— Да. Я стараюсь составить собственное мнение об этой женщине, так трагически погибшей, о которой все говорят только самое лестное.
— И по справедливости, мсье комиссар, и по справедливости!
— Я в этом и не сомневался, мадемуазель, однако мне хотелось бы узнать о ней больше, и мне кажется, что клиентки таких престижных магазинов, как ваш, должны немножко открываться тем, кто их одевает.
Мадемуазель Вертюзай ответила с некоторой язвительностью в голосе:
— Конечно, мсье комиссар, конечно, хотя мне трудно себе представить, что бы такого могла вам поведать мадемуазель Симона, чего не могла бы сделать я. В конце концов…
Она поднялась.
— Пожалуйста, сидите. Я вам сейчас пришлю мадемуазель Симону. Надеюсь, правда, что это ненадолго?
— Можете не сомневаться, мадемуазель, что я приложу все свои силы, чтобы внести как можно меньше беспорядка в отлаженную работу вашего магазина.
Она поблагодарила его кивком головы и удалилась. Через несколько секунд на пороге появилась мадемуазель Симона.
— Мадемуазель мне сказала, что вы…
— Присядьте… Так вот, мне хотелось бы услышать ваше мнение о мадам Арсизак.
— Бог мой… Это была очень-очень порядочная женщина. С большим вкусом одевалась. Прямо-таки с иголочки! Всегда в прекрасном настроении, к тому же с каким пониманием относилась к персоналу!
Полицейский подумал, что ему вот-вот станет дурно. Прямо наизусть все выучила!
— Скажите, мадемуазель, вы давно здесь работаете?
— Шесть месяцев.
— Шесть месяцев? В таком случае, кто занимался мадам Арсизак до вас?
— Мадемуазель Агата.
— А почему ее ко мне не послали?
— Она… она уехала.
Гремилли почувствовал, что от него что-то скрывают.
— И давно?
— Шесть месяцев.
— По сути дела, вы ее заменили?
— Да, это так.
— А в связи с чем она уехала, эта мадемуазель Агата?
— Я… я не знаю.
Комиссар принялся ее журить прямо-таки по-родственному:
— Вы что, не знаете, что обманывать полицию — это очень нехорошо и опасно?
Симона заколебалась, затем вдруг решилась:
— Вы обещаете мне, что ничего не скажете мадемуазель Вертюзай?
— Я вам это обещаю.
— Агату выгнали.
— За что?
— Это мадам Арсизак потребовала ее увольнения.
А вот и первый сучок, и первая задоринка! Наконец-то Гремилли встретил того, кто не пел дифирамбы Элен Арсизак! Полицейский облегченно вздохнул. Он почувствовал, что приближается к убитой, что недосягаемая Элен возвращается на землю, приобретая человеческий облик.
— Вам ничего не известно о мотивах этого требования?
— Нет… или плохо. Лучше, если вы поговорите с Агатой.
— А где она сейчас?
— Мне кажется, она нашла работу, только я не знаю, где именно. Впрочем, мне известен ее адрес: улица л'Абревуар, сто восемьдесят один.
— Так как, вы говорите, ее зовут?
— Агата Роделль. У нее муж водопроводчик.
Когда Гремилли пересекал магазин, собираясь уйти, он столкнулся с поджидающей его мадемуазель Вертюзай.
— Ну и как, мсье комиссар, удалось узнать что-нибудь интересное?
— У меня такое впечатление, мадемуазель, что я только зря потратил свое и ваше время. Прошу прощения.
Мадемуазель Линар, модистка с проспекта Монтеня, была гораздо более молода и гораздо менее надменна, чем мадемуазель Вертюзай. Она встретила комиссара с веселым любопытством, которое значительно возросло, когда она узнала, кем был Гремилли.
— Уж не шпионку ли вы решили отыскать среди моих малышек, мсье комиссар?
— Ну что вы, мадемуазель, мне просто хотелось бы поговорить с вами о мадам Арсизак.
Лицо модистки неожиданно изменилось.
— Мадам Арсизак…
— Вы не могли бы мне сказать, что у нее был за характер?
— Все, что я вам скажу, останется между нами?
— Вне всякого сомнения.
— Тяжелый характер, очень тяжелый.
— То есть?
— Ей никогда ничем нельзя было угодить, всем вечно недовольна. Она буквально наслаждалась своими мелкими уколами по поводу наших моделей, от которых, по ее словам, за версту несло провинцией. Клянусь вам, что, если бы она не вращалась в таких знатных кругах Перигё, я бы давно ее выставила за дверь. Так что, когда она появлялась, среди девочек начинался настоящий переполох.
Обувной магазин, который держал на улице Республики Сели, полнокровный мужчина с седеющей шерстью на груди и очками в металлической оправе на носу, встретил Гремилли уже знакомым звоном колокольчика. Хозяин пригласил полицейского пройти в ателье и, узнав о цели визита, не стал ходить вокруг да около:
— Мадам Арсизак? Та, которую удушили? Зануда! Можно было подумать, что она испытывала садистское удовлетворение, выматывая вам все нервы. То там ей переделать, то там подправить… И все это, как вы понимаете, с такими обидными комментариями! Иногда, когда я был уже на пределе и готов был дать ей пинка под зад, она шипела на меня: «Вам, думаю, будет не очень приятно, мсье Сели, если я расскажу всем своим подругам, что вы не в состоянии сшить пару туфель, которые хорошо сидели бы на ноге, а гоните вместо этого какие-то ботинки, способные вызвать смех даже у деревенского сапожника». Я еле сдерживался, чтобы не выплюнуть ей прямо в лицо все, что я о ней думаю. Настоящая скотина! Не хотелось бы мне оказаться на месте ее мужа, и если это он провернул это дело — я, конечно же, ничего не утверждаю, — то я его понимаю.
Мадам Домейрат, пирожница с улица Тайфера, рассыпалась в похвалах в адрес погибшей. Гремилли пришлось выслушать в очередной раз песню, содержание которой ему было прекрасно известно с самого приезда в Перигё. Мсье Домейрат, молча наблюдавший за женой, вдруг вступил в разговор:
— Послушаешь тебя, так прямо бальзам на душу!
Жена встревоженно посмотрела в его сторону.
— Не обращайте на Антуана внимания, мсье комиссар, много он знает! Стоит ему только отойти от печи, и его ничто не интересует. Конечно, не следует все видеть в радужном свете, в жизни не всегда получается так, как того хочется.
Муж не выдержал:
— А кто виноват? Ты, Дельфина, привыкла сама себе морочить голову, а теперь принялась еще за мсье комиссара! Мсье, — повернулся он к Гремилли, — я вам расскажу сейчас все как есть: эта Арсизак была настоящей выдрой!
Дельфина простонала:
— О Боже!..
Но тот уже не мог остановиться:
— Она понимала, что ее не рискнут послать подальше, и пользовалась этим. Мне жалко было смотреть на Дельфину. Судите сами. Как-то в воскресенье она специально выждала момент, когда в магазине скопилось много народу, и заявила таким слащавым голоском: «Кстати, мадам Домейрат, то пирожное с кремом, которое вы мне продали в прошлый вторник, было не очень. Вы кладете только свежие яйца?» Или: «Мадам Домейрат, я убеждена, что вашей вины здесь нет, но двое из наших гостей почувствовали себя неважно после вашего кулича… Да и у меня самой был какой-то привкус…» И попробуй скажи ей что-нибудь! Приходилось извиняться, терпеть эти оскорбления. Одно слово — ведьма!
Решив отложить свой визит к Агате Роделль до вечера, Гремилли вернулся в гостиницу, поднялся к себе в номер, растянулся на кровати и принялся размышлять о том, что сегодня услышал. Единодушие опрошенных коммерсантов делило город на две части — цвет общества, где высоко почитали мадам Арсизак, и мир розничной торговли, отношение которого к ней было совершенно другим. Комиссару начало казаться, что он, вероятно, сможет нащупать тропинку в этой темной истории. Поиски заняли менее двух часов, и перед ним было уже другое лицо умершей, его теневая часть, которую, скорее всего, не могли видеть те, кого она посещала или принимала у себя на бульваре Везон. Полицейский готов был позвонить следователю и посоветовать ему не слишком доверяться ни своим информаторам, ни сословным предрассудкам.
Около семи вечера Гремилли вышел из гостиницы и, предвкушая новые для себя открытия, не спеша спустился по бульвару Фенелона, свернул на бульвар Жорж-Соманд и вышел на улицу л'Абревуар, бегущую вверх по одному из склонов старого города. Семья Агаты Роделль занимала приземистый домик с толстыми стенами, непрезентабельный вид которого не могло смягчить даже настоящее изобилие цветов в горшках, подвешенных где только было возможно. Входную дверь зеленого цвета украшал симпатичный старинный молоточек. Нетрудно было догадаться, что обитатели домика были не лишены вкуса. Гремилли постучал. Почти тотчас же дверь отворилась, и он увидел стоящую на пороге молодую женщину. На ней был фартук, а в руках она держала шумовку. При виде гостя она покраснела.
— Ой, извините меня, я думала, это муж, он ключ забыл.
— Нет, мадам, придется вас разочаровать. Я — комиссар полиции и пришел просить вас оказать мне небольшую услугу.
Затворив дверь, она прислонилась к ней спиной.
— Меня?
— То есть рассказать мне, из-за чего мадам Арсизак настояла, чтобы мадемуазель Вертюзай уволила вас с работы?
— Ах, вот вы о чем… Извините, я только переоденусь и сниму кастрюлю с плиты.
— Нет-нет, что вы! Мне бы очень не хотелось, чтобы по моей вине мсье Роделль остался без ужина. С вашего разрешения, я войду с вами.
Она засмеялась и направилась на кухню. Гремилли шел за ней, удовлетворенный тем, что удалось добиться ее расположения. Продолжая помешивать овощной суп, Агата заявила:
— Мадам Арсизак была сущей злодейкой… Поначалу между нами все складывалось хорошо. Когда я была беременна, она меня прямо-таки завалила подарками для будущего ребеночка, потом приходила смотреть малыша… И вот однажды, в одну из примерок, она стала мне говорить, что слышала, будто у моего мужа появилась какая-то пассия… Мой Жозеф, мсье комиссар, водопроводчик. Сейчас он работает управляющим на складе, но не гнушается при случае подработать и часто ходит к клиентам на дом. Теперь вы понимаете, на что она намекала?
— И как вы отреагировали на это?
— Я ей ответила, что полностью доверяю своему мужу и что те, кто разносит подобные сплетни, просто лгуны. В тот раз она мне больше ничего не сказала, но потом, стоило ей прийти, как она начинала вздыхать, глядя при этом на меня жалостливыми глазами. Я думала, она отцепится от меня, видя мою реакцию, однако полгода назад я узнала от Жозефа, который при этом устроил мне грандиозный скандал, что она пригласила его к себе якобы что-то починить, а на самом деле чтобы наговорить обо мне кучу гадостей. Оказывается, я, разнося платья по домам, якобы часок-другой проводила с мужьями некоторых из наших клиенток. Она, видите ли, посчитала своим долгом поставить в известность об этом Жозефа, который был, оказывается, бесконечно симпатичен, к тому же она не выносила, по ее словам, малейшую ложь и лицемерие. Она даже намекнула, что, мол, наш сын больше похож на какого-то ее знакомого адвоката, чем на родного отца. Если бы мы с Жозефом не любили друг друга, то все могло полететь в тартарары. Однако после того, как я рассказала Жозефу, что она о нем наплела, он готов был броситься на бульвар Везон, чтобы задать ей как следует. Вы себе представить не можете, каких трудов мне стоило его удержать. Я решила, что сама выскажу ей все, что мы с мужем о ней думаем. Разумеется, мадемуазель стала на сторону своей дорогой клиентки и вышвырнула меня на улицу.
— Как вы думаете, мадам, что заставило мадам Арсизак вести себя таким образом?
— Так ведь это была настоящая стерва! Она не выносила, если кто-то рядом с ней был счастлив. Ей обязательно надо было все изгадить! Так что тот, кто ее придушил, сослужил славную службу городу!
— А это случайно был не ваш муж?
— Жозеф! Этот бедолага? Что вы, он на такое абсолютно не способен. Возможно, тогда, полгода назад, в порыве гнева он и мог задать ей хорошую трепку, а сейчас мы вообще об этой Арсизак и не вспоминаем.
Гремилли, словно напавший на след охотничий пес, находился в состоянии сильного возбуждения. Он не скрывал, что испытывал удовольствие, разрушая так спешно воздвигнутый в честь Элен Арсизак памятник. Он наконец почувствовал, что теперь ничто не сможет помешать ему вытравить из логова убийцу, кем бы тот ни оказался.
Проверив свои записи, полицейский решил нанести визит Маргарите Тришей, приходящей каждое утро на бульвар Везон. Он сомневался, что она была до конца искренна с его коллегой Сези.
Маргарита Тришей жила на улице Сент-Клер. Ему открыла девочка лет двенадцати, которая, выслушав просьбу комиссара, повернулась и прокричала куда-то внутрь помещения:
— Ма! Тут какой-то мсье к тебе пришел!
Мадам Тришей, полная, усталая, преждевременно постаревшая женщина, вынырнула из темноты.
— Что вам угодно?
— Я — комиссар полиции и занимаюсь расследованием обстоятельств смерти мадам Арсизак.
— Я уже отвечала.
— Мне это известно, мадам, но я приехал из Бордо и хотел бы лично вас послушать.
Она угрюмо проворчала:
— А что толку-то?
— Позвольте мне это самому решать.
Она пропустила гостя в комнату, которая была, вероятно, детской, если судить по царившему в ней беспорядку и разбросанным по полу игрушкам.
— Давайте, мсье, я слушаю вас.
— Нет, это я вас слушаю. Расскажите мне о мадам Арсизак.
Гремилли невозмутимо прослушал еще раз хвалебную оду усопшей. Когда его собеседница умолкла, он сказал:
— Все это, конечно, мило, но теперь мне хочется узнать ваше личное мнение о мадам Арсизак.
— Но…
— Давайте, давайте, мадам Тришей. И не думайте, что перед вами сидит ничего не понимающий пень. Мне известно, что ваша экс-патронесса была не столь замечательна, как вы ее здесь расписали. Мне нужна от вас только правда, вы понимаете?
Толстуху одолевали сомнения, поэтому она еле слышно пробормотала:
— В моем положении у меня могут быть неприятности.
— То, о чем вы мне поведаете, дальше меня не пойдет.
Она еще немного посомневалась, после чего решительно выдохнула:
— С ней не было никакого спасу! Мы с Жанной всегда были козлами отпущения. Постоянно только и слышишь, то там не так, то здесь не этак. Ни минуты покоя. Еще немного — и мы бы чокнулись. Подумайте сами. Если ей случалось что-нибудь сломать, так она обязательно заявит, что это одна из нас, чтобы потом вычесть из жалованья.
— В таком случае, почему вы от нее не уходили?
— Она нам угрожала, что если мы уйдем, то она позаботится о нашей репутации и устроит все так, чтобы ни в одном порядочном доме нас и на порог не пускали. У меня четверо детей и муж — тот еще работник.
— А какие у нее были отношения с мужем?
— Они либо не разговаривали вообще, либо ругались. Однажды я услышала, как она его пилила — не для ваших ушей будь сказано: «Ты у меня еще попляшешь со своей потаскухой!»
Короче, подумал Гремилли, толстуха описала не мадам Арсизак, а какого-то потенциального убийцу. Загвоздка только в том, что она — жертва.
Жанна Грени жила на другом конце города, на улице Пот-о-Ле. Она занимала небольшую комнатку, которую ей сдавала вдова, встретившая полицейского недоверчиво.
— Что вам от Жанны нужно?
— Ну, это наше с ней дело.
— Скажите пожалуйста! А повежливей нельзя?
— Вот что, любезная, я вам советую считаться с моим временем, а то я вынужден буду вас забрать за то, что вы препятствуете ведению следствия.
— Что вы такое говорите?
— Я — комиссар полиции.
При виде удостоверения, которое ей показал Гремилли, ее передернуло.
— Вы ее оставите, в конце концов, в покое или нет? Она уже свое заплатила!
— Я не понимаю, о чем вы говорите.
— А вы разве пришли не потому, что она сидела в колонии?
Чтобы со всем покончить, Гремилли терпеливо разъяснил:
— Я пришел, чтобы узнать у мадемуазель ее мнение о мадам Арсизак.
— О той, которую убили?
— Совершенно верно.
— А-а, тогда другое дело!
Но вдруг ее лицо снова омрачилось, и она уже взволнованно спросила:
— Вы, по крайней мере, не думаете, что это ее рук дело?
— Разумеется, нет.
— Тогда идите за мной.
Жанна Грени, худая и высокая девица неопределенного возраста, растерялась, когда узнала, кто к ней пришел. Гремилли с большим трудом удалось ее успокоить. Выпроводив вдову, он по-простому заметил:
— Мне сказали, мадемуазель, что у вас были неприятности с правосудием.
— Я провела два года в колонии.
— Вы не могли бы мне сказать, за что?
— Кража… тысячу старых франков у моих хозяев-булочников в одной дыре, под Мюсиданом.
— Забудем этот нерадостный для вас период, мадемуазель Грени. А теперь послушайте меня. Мне известно, что думают и говорят о мадам Арсизак в Перигё. Это меня не интересует. А вот ответьте мне вы: она вам нравилась?
Застигнутая врасплох этим неожиданным для нее вопросом, она не успела ничего придумать, кроме как ответить:
— Нет.
— Вы можете назвать причины?
— Она была злая.
— Вот как? Объясните поподробнее, чтобы я мог понять. Клянусь вам, что о вашей откровенности никто, кроме следователя, не узнает. Таким образом, вам бояться нечего. Вы мне окажете тем самым большую услугу.
— Однажды она разговаривала по телефону… Я была в коридоре… И все слышала. Она говорила кому-то: «Да, я отлично понимаю… И тем не менее вы сделаете то, о чем я вас прошу, в противном случае сами знаете что будет, не так ли? Да плевала я на вашу жену!» Повернувшись, она увидела меня. Лицо ее стало пунцовым. Она набросилась на меня, словно хотела избить, крича при этом: «Мразь! Ты что, шпионить за мной вздумала, а? Если ты хоть слово скажешь кому-нибудь о том, что слышала, я сдам тебя полиции, обвинив в воровстве, и ты снова очутишься в тюрьме!» Я запротестовала, говоря, что это неправда, что я ничего не украла, но она стала хохотать, а затем сказала: «Какое это имеет значение. Поверят-то мне, а не тебе».
По лицу Жанны потекли слезы.
Идя бодрым шагом по вечернему и затихшему Перигё, комиссар Гремилли напевал на манер марша:
Все-е ее лю-би-ли,
Все ее лю-би-ли,
Все
ее
любили!
Глава III
Гремилли сам не понимал, почему утром следующего дня он вдруг решил вскочить в автобус номер два, идущий до Северного кладбища, где покоилась Элен Арсизак. Сторож указал ему нужное направление, и он без труда отыскал могилу, надгробная плита которой все еще была скрыта под венками и букетами цветов. На лентах можно было прочесть названия благотворительных обществ, отдавших последние почести усопшей. Комиссар наклонился, чтобы разглядеть сквозь листву венков то, что было написано на камне: «Элен Коломбье, в замуж. Арсизак. 1934–1968. Мы все скорбим».
А все ли скорбят? Гремилли очень в этом сомневался. Более того, он был совершенно уверен в обратном. С того момента, как лицо жертвы стало вырисовываться в истинном свете, поле поисков убийцы начало расширяться с неимоверной скоростью.
Вернувшись в город, комиссар хотел было отправиться прямо в управление благотворительных обществ, где бы ему быстро удалось узнать названия тех из них, которым мадам Арсизак отдавала много времени и сил. Однако он отказался от этой затеи, разумно полагая, что столкнется там с хором панегиристов, от чего у него уже болели уши. Поэтому он предпочел поехать в административный центр, чтобы выразить свое почтение коллеге Сези. Последний встретил Гремилли с чуть заметной иронией:
— Ну как там наши поиски?
— Не очень.
— Я вас предупреждал. Увернуться в таком деле от столкновения с какой-нибудь шишкой весьма проблематично.
— Дело не в этом. Чувствую, что мне не увернуться от столкновения с легендой.
— Я что-то не понимаю.
— Просто, как мне кажется, жертва, вопреки распространенному на этот счет общественному мнению Периге, вовсе не была образцом добродетели.
— Боюсь, что вы ступаете на ложный путь, на который вас подталкивают, наверняка, те, кому это выгодно. Я не знаю, что вам наговорили или сколько ушатов грязи вылили на женщину, которая не может опровергнуть всю эту клевету, потому что ее уже нет среди нас. Но хочу вам сказать, что вы не найдете ни одного человека в городе, который осмелился бы утверждать, что мадам Арсизак не была для него идеалом.
Гремилли не стал его переубеждать по двум причинам: во-первых, Сези, как и все почтенные граждане Периге, верил в мирскую святость супруги прокурора самым искренним образом; во-вторых, исходя из первого, дело это было абсолютно безнадежным.
Тем временем перигеский комиссар продолжал:
— У меня нет вашего опыта, уважаемый коллега, но я тем не менее убежден, что искать убийцу на стороне, а не среди близких мадам Арсизак — напрасная трата времени.
— Другими словами, вы убеждены в виновности ее мужа?
— Лично у меня на этот счет нет ни тени сомнения.
— К сожалению, мы не имеем доказательств, а любое бездоказательное утверждение…
— Я знаю. Он не так прост.
— И вы не испытываете никаких сомнений, приписывая наивную инсценировку в доме и этот идиотский трюк с денежными переводами такому интеллектуально развитому человеку, как прокурор?
— А это, дорогой мой коллега, хитрость, имеющая целью заставить вас по меньшей мере думать так, как вы думаете.
— Возможно. Только у Арсизака имеется алиби: он оставался у своей любовницы до половины второго ночи.
— А вы так и поверили ей? Да врет она все, чтобы выгородить его.
— И доктор Музеролль тоже?
— А он-то какое отношение имеет ко всему?
— Он утверждает, что находился в компании Арсизака и Арлетты Танс с одиннадцати вечера до часу ночи, а убийство было совершено, по заключению судебно-медицинского эксперта, самое позднее в ноль тридцать.
— Значит, и он врет.
— А вот это уже совсем опрометчивое утверждение с вашей стороны, поскольку, по словам судебного следователя, это в высшей степени уважаемый человек, малейшее подозрение против которого просто неуместно.
— Согласен, но он является членом клуба!
— Какого клуба?
— Это они так называют, хотя на самом деле это никакой не клуб, а, скорее, объединение друзей, не допускающих в свой круг никого из посторонних.
— А вы не могли бы мне рассказать об этом подробнее?
— Лет двадцать пять назад пятеро лицеистов клянутся, так сказать, в вечной дружбе. Все они приблизительно одного возраста. И вот однажды они решают основать «Клуб бесстрашных». Ребячество, но тем не менее это говорит о сильной взаимной привязанности, которую испытывали юноши. Само собой, клуб не носит уже того пышного названия, от которого веет стариной, однако он выжил в том смысле, что старые друзья по лицею, несмотря на годы, так и остались неразлучными друзьями. Над ними подтрунивают, но в глубине души завидуют им.
— И кто же эти друзья?
— Прокурор, адвокат Катенуа, преподаватель лицея, в котором сам когда-то учился, Ренэ Лоби, аптекарь Андрэ Сонзай и, наконец, врач Франсуа Музеролль. Поэтому, как и раньше, я не сомневаюсь в том, что они готовы пойти на все ради спасения кого-то из своих.
— Мне кажется, что их имена и адреса я встречал в вашей записке?
— Совершенно верно.
— В таком случае, вы забыли упомянуть еще об одном — нотариусе Димешо.
— А он как раз президент клуба. У него-то все и собираются.
— Мне это известно. Однако во всем этом есть кое-что, что меня смущает. Нотариус, по полученным мною данным, намного старше остальных, не так ли?
— Да, лет на пятнадцать.
— Тогда в какой роли он выступает в клубе?
— В то время Димешо был воспитателем в лицее, работая одновременно над своей диссертацией по праву. Сам он из деревни, и ему пришлось здорово попотеть, чтобы достичь того положения, которое он сейчас занимает. Собственно, нотариусом он стал всего лишь каких-нибудь лет десять назад. Говорят, что члены клуба ссудили ему деньги, благодаря которым он смог открыть свою контору. Таким образом, принимая участие в игре, несмотря на свой возраст, он возглавил «Клуб бесстрашных» и стал для молодых людей идейным вдохновителем, что помогло им в последующем выбрать правильный путь в жизни. Он отлично знал каждого, поэтому ему несложно было понять, кому какая область деятельности может больше подойти в будущем. За это они все до сих пор чувствуют себя обязанными ему, а он готов за них в огонь и в воду. Вы, кстати, с ним знакомы?
— Пока нет.
— Вот увидите — этакий толстяк крестьянской закваски. Только смотрите: он тот еще хитрец!
— Я люблю хитрецов, дорогой коллега. Игра с ними всегда увлекательна. А сейчас, если вам нетрудно, расскажите мне о Жане Арсизаке.
— Личность незаурядная. Всегда и во всем первый и в то же время какой-то беспечный. Говорят, что любая работа дается ему поразительно легко. По мнению многих, это один из самых блистательных юристов. Весьма тщеславный, он готов взяться за любое дело. Так что, если бы не это преступление, его назначение заместителем прокурора Бордо было бы гарантированно, а дальше — Париж. Вместе с тем, говоря о профессиональном честолюбии Арсизака, нельзя не сказать, как мне кажется, и о его политических амбициях.
— А?
— Он часто публикуется в прессе, и его статьи всегда получают высокую оценку в кругах буржуазии.
— Он что, правый?
— Консерватор. По крайней мере, если судить по тем идеям, которые он исповедует публично, хотя мне трудно сказать, насколько они искренни. Ведь в его положении оставаться абсолютно свободным нельзя. Могу вас заверить, что в нем видели будущего независимого депутата. По-моему, и я в этом убежден, у него не все еще потеряно, если, конечно, его не отправят на каторгу.
— Да уж… Уважаемый коллега, вы меня просветили в отношении друзей Арсизака, а как насчет его недругов? Ведь, влезая в политику, он хоть немного да должен был их приобрести?
— Разумеется. Самый серьезный противник прокурора — ветеринар Этьен Тиллу, чей кабинет находится на улице Леона Дессаллеса. Ему оказывает всяческую поддержку его друг Альбер Суже, фармацевт-гомеопат с улицы Сажес. И тот и другой — идейные лидеры СЛП — Союза левых партий, ведущего яростную борьбу против политики Арсизака.
Записав все, о чем ему любезно сообщил коллега, Гремилли собрался уходить.
— Тысячу раз вам благодарен. Не буду откладывать в долгий ящик и прямо от вас пойду побеседую с друзьями и врагами прокурора. Если ваши суждения окажутся верными, то и те и другие будут мне лгать, и, возможно, из клубка обоюдной лжи появится хоть ниточка правды, за которую мне удастся ухватиться.
— Не стоит благодарности. Наоборот, это я у вас в долгу, потому что мне бы ни за что не удалось выкарабкаться из этого дела.
— Вы знаете, я тоже не уверен, что выкарабкаюсь.
Сверившись с планом Перигё, Гремилли отправился на улицу Леона Дессаллеса к ветеринару Тиллу. Он уже проходил по бульвару дез Арен, как вдруг его окликнули. Это был Бесси.
— Ну как дела, дорогой друг?
— Отлично, мсье следователь, а у вас?
— Ничего. Ходил навестить сестру. По правде говоря, это лишь предлог, чтобы заставить себя хоть немного пройтись. Я возвращаюсь во Дворец правосудия. Вы туда же?
— Нет, мне на улицу Леона Дессаллеса.
— Тогда нам почти по пути.
Они пошли рядом.
— Все так же очарованы нашим городом, комиссар?
— Все больше и больше.
— А как расследование?
— Наконец-то лед тронулся.
— Действительно? Ну-ка расскажите мне побыстрее!
— Боюсь, что вам это может не понравиться.
— Мне?
— Вам как представителю высших кругов перигёского общества.
— Объяснитесь, пожалуйста.
— Суть можно выразить в нескольких словах. Мадам Арсизак, вопреки тому, что вы мне говорили, вовсе не ангел, спустившийся по своей оплошности на землю.
Следователь возмутился:
— Мсье комиссар, ваша ирония по отношению к умершей мне кажется совершенно неуместной!
— Согласен, если не считать, что эта умершая устроила комедию и умудрилась ввести в заблуждение определенную часть города.
— Я полагаю, вы — человек достаточно уравновешенный и не будете делать ни на чем не основанные и оскорбляющие память мадам Арсизак предположения. Тем не менее я буду признателен, если вы выразите свою мысль более конкретно.
Полицейский рассказал следователю все, что стало ему известно вчера вечером, избегая упоминать имена, после чего заключил:
— Большинство опрошенных друг друга не знают, совершенно отличны друг от друга по роду своих занятий и принадлежат к разным слоям общества. Так что о сговоре не может быть и речи. Добавлю еще, что ни один из моих «порядочных» свидетелей не мог предвидеть мой приход. Исходя из всего сказанного, мсье следователь, вы, наверное, согласитесь: я имею все основания утверждать, что мадам Арсизак, если говорить о ее «ангельском» характере, вводила окружающих в заблуждение.
Глядя на Бесси, нетрудно было догадаться, что он находится в полной растерянности.
— Я ничего не понимаю… Я даже допустить не могу… И все-таки… Я просто потрясен. Я не подозревал… Никто, впрочем, не мог подозревать… Каждый готов был головой поручиться за мадам Арсизак как за личность в высшей степени благородную.
Гремилли уточнил:
— Да, мсье следователь, каждый, но только в вашей среде. Можно лишь сожалеть, что вы не прислушивались к тому, о чем говорили за стенами салонов.
— Вы правы. Но, согласитесь, мы не скомпрометируем себя тем, что выдадим или не выдадим мадам Арсизак свидетельство о ее добродетели, не так ли? Перед нами одна задача — узнать, кто ее убил. Вы со мной согласны?
— Согласен, мсье следователь. Однако вы не можете не допустить, что открытие неизвестных до сего момента личных качеств мадам Арсизак — качеств явно отрицательных и вызывающих к их обладательнице глубокую неприязнь — может значительно расширить круг подозреваемых лиц. Надеюсь, вы поверите мне на слово, что мне не нужен никакой скандал, однако кто может сказать, куда и к чему приведут мои поиски?
— Бог ты мой, как же все скверно получается! Я не сомневаюсь, дорогой комиссар, что мне не нужно просить вас о строжайшем соблюдении тайны
следствия?
— Можете на меня положиться. Видите ли, мсье следователь, в нашем случае речь идет о провинциальной драме. И какой бы оборот она ни принимала, если, конечно, речь не идет о профессиональных убийцах, скандал всегда зреет где-то рядом. Наши парижские коллеги часто не могут понять, почему иногда мы не ведем себя более открыто и решительно даже во время дознания. Они не подозревают, сколько на нашем пути подводных камней, каждый из которых таит в себе смертельную опасность. Мы вынуждены продвигаться медленно и с максимальной осторожностью, чтобы избежать катастрофы, которую нам никто не простит.
— Кому вы это говорите!
От хорошего настроения следователя Бесси не осталось и следа. Казалось, что на его полное и добродушное лицо опустилась серая вуаль. Губы у него были надуты, как у обиженного ребенка. Полицейский безжалостно довершил удар:
— Если все как следует взвесить, то ни у вас, ни у меня заранее не было никаких шансов в этой истории.
— Да вы-то после всего уедете, а мне здесь оставаться! Если случится что-то неладное, обвинят во всем меня. Ведь в таком городе, как наш, жить можно лишь со всеми в ладу, в противном случае это — ад. Я понимаю, что все эти игры в учтивость требуют изрядного лицемерия, но таков уж удел всех малочисленных обществ, члены которого обречены на невозможность надолго потерять друг друга из виду. И несмотря на это, я даже предположить не мог… Ну и свинью вы мне подложили.
— Я сожалею.
— Но далеко не так, как я, смею вас заверить. Хотя, что уж тут жалеть, в свершившееся изменений не внесешь. Остается только надеяться на то, что у тех, с кем вы имели дело, чересчур сильное воображение.
— А вы сами в это верите?
— Нет…
Они расстались на бульваре Монтеня. Гремилли еще раз торжественно пообещал Бесси, что не предпримет ни одного чреватого гибельными последствиями шага, не поставив предварительно его в известность.
Комиссару вдруг захотелось пропустить стаканчик, и он вошел в «Гранд кафе де ля Бурс». Едва он закрыл за собой дверь, как услышал голос справа:
— Так это же наш комиссар!
Вот тебе и инкогнито! Впрочем, теперь это уже не имело никакого значения, потому что по городу уже пошли разговоры.
Доктор Музеролль пригласил Гремилли за свой столик. Он сидел с каким-то высоким бритоголовым человеком со строгим лицом и в очках. Комиссар не мог отказаться, боясь выглядеть не умеющим проигрывать игроком.
— Мсье комиссар, позвольте представить вам гордость нашего лицея Ренэ Лоби. Ренэ, это комиссар, занимающийся выяснением обстоятельств убийства бедняжки Элен.
Гремилли поочередно пожал протянутые ему руки. Ему не хотелось позволить доктору продолжать беседу в своем духе, поэтому он решил сразу взять быка за рога:
— Рад познакомиться с одним из членов клуба.
Он почувствовал, что попал в точку, поскольку едва уловимая тень недовольства пробежала по лицу Музеролля.
— Уже в курсе наших причуд?
— А это что, секрет?
— Абсолютно никакого секрета, с какой стати.
— Тем более что ваш клуб, насколько я понял, родился довольно давно. Да, нечасто сегодня можно увидеть зрелых мужчин, трогательно хранящих верность своей юности.
Врач ответил хмуро:
— Я благодарен вам, мсье комиссар, за эти слова. Меня, равно как — я в этом не сомневаюсь — и Ренэ, они глубоко тронули.
Преподаватель подтвердил эти слова кивком головы.
— Видите ли, мсье комиссар, — продолжал Музеролль, — большинство людей, узнав о существовании клуба, если его можно так назвать, смеются над нами, потому что совершенно не понимают нас. Мы полностью доверяем друг другу, и это доверие нам здорово помогает в жизни.
— Один за всех, все за одного?
— Да, приблизительно. Мы чувствуем себя сильными, потому что, случись что-нибудь с одним из нас, товарищи будут тут как тут.
— Другими словами, вы готовы на все, лишь бы вызволить друга из беды?
— Вне всякого сомнения.
— Даже на то, чтобы дать ложные показания?
Доктор вздохнул:
— Жаль… Я думал, вы понимаете.
Преподаватель, вступив в разговор, сказал с презрением:
— Вам никак не удается забыть, что вы — полицейский?
— Действительно, мне не удается забыть, что передо мной стоит задача, ради которой я принял присягу уже много лет назад и для выполнения которой я поклялся жертвовать всем.
Лоби пожал плечами.
— Не подумайте только, прошу вас, что мне как преподавателю не терпится прочесть вам лекцию!
— Свою лекцию вы прочтете вскоре в своей аудитории — единственном месте, где вы выполняете свои профессиональные обязанности. Моя же аудитория в настоящее время — это весь город, жители которого сейчас стали моими учениками, и я время от времени вызываю их к доске. К слову сказать, доктор, вы не ответили на мой вопрос.
— По поводу ложных показаний? Не знаю. С такой проблемой я еще не сталкивался.
— А если столкнетесь?
— Трудно сказать, как поведу себя.
— А вы, мсье Лоби?
— Я не считаю, что мои мысли имеют к вам какое бы то ни было отношение.
— Однако я только тем и занимаюсь, что пытаюсь отгадать мысли других.
— Каждый забавляется по-своему.
Гремилли встал.
— Мне очень жаль, мсье, что я не могу рассчитывать на вас… даже в деле спасения вашего друга Арсизака, оказавшегося в таком затруднительном для него положении.
— Если мы Жану понадобимся, он не станет прибегать к вашему посредничеству, чтобы сообщить нам об этом.
— Итак, война?
— Скорее, предание забвению.
— Тут я должен заметить, мсье Лоби, что вы тешите себя иллюзиями. До свидания, мсье, мы еще встретимся.
Преподаватель усмехнулся:
— Сомневаюсь.
— А я — нет.
Теперь полицейский, как некоторое время назад следователь, почувствовал переполнявшую его досаду. Прекрасно понимая, что враждебность клуба может серьезно осложнить его задачу, он злился на себя за свою неуклюжесть. Ему не следовало затевать разговор о лжесвидетельстве. Этот вопрос только заставил их еще больше замкнуться в себе. Разумнее было бы избегать тем, волнующих всех троих, и попытаться хотя бы краешком глаза заглянуть в их мир, где царит культ дружбы. Вероятно, ему удалось бы завоевать их доверие, объяснив им, что он вовсе не стремится во что бы то ни стало сделать из Арсизака убийцу своей жены. Как все неловко вышло! Уже седина в висках, а он все еще ощущает в себе мальчишеское нетерпение, мешающее ему следовать логически задуманному накануне плану. Вместо того чтобы разглагольствовать о лжесвидетельстве, ему лучше бы рассказать Лоби и Музероллю о том, что нового он узнал об убитой, и посмотреть на их реакцию. Он упустил возможность, которая, скорее всего, больше не представится.
Расстроенный, как и комиссар, Бесси, зайдя в кабинет, позвонил своему другу Ампо, старшему по возрасту и занимавшему должность председателя суда, и сообщил, что у него есть некоторые проблемы, которыми он хотел бы с ним поделиться.
Председатель, которому оставалось несколько месяцев до пенсии, походил на микельанджеловского Моисея, что приводило в волнение подсудимых и нагоняло страх на адвокатов, если к тому же учесть, что у него был голос необыкновенной силы, который наполнял зал суда, словно звуки цимбал. Робер Ампо, завершая свою карьеру, мог многое рассказать о людских бедах, с которыми ему пришлось столкнуться и которые привели его к простой философии, где желание понять порой брало верх над желанием покарать.
— Ну так что у вас стряслось, Бесси?
— Расследование обстоятельств убийства мадам Арсизак.
— Появилось что-то новое?
— И да и нет… Да — что касается жертвы, и нет — в отношении убийцы.
— Вы меня заинтриговали.
Следователь, стараясь ничего не упустить, пересказал то, что услышал от Гремилли. Председатель внимательно слушал и, как только Бесси закончил, заметил:
— У меня такое впечатление, что этот полицейский свое дело знает.
— Я этого пока не заметил.
— А что вы еще хотите! Он всего за несколько часов умудрился распознать ложь, жертвами или пособниками которой мы все являемся в течение многих лет. Говоря это, я не понимаю, почему вас так тревожит, что мадам Арсизак была не столь безупречна, как вам это казалось?
— Как мне казалось? Должен ли я понимать, что вы думали иначе?
— Я всегда опасался тех, кого чрезмерно нахваливают или кто выставляет напоказ свои добродетели.
— А я тем не менее испытываю ужасное разочарование.
— Вы заблуждаетесь, мой дорогой, женщины далеко не такие, какими мы хотим их видеть. Мы выдумываем их, подгоняя под воображаемый нами образ, а затем упрекаем их в том, что они не соответствуют нашим мечтам. Но я все-таки не понимаю, если не брать в расчет наше болезненное самолюбие, что вас, собственно, заботит?
— Если мадам Арсизак была такой… в общем, если верить комиссару Гремилли, то ее могли страстно ненавидеть те, о существовании которых мы и не подозреваем, и следствие заходит практически в тупик.
— Бесси, почему бы вам просто не сказать, что Жан Арсизак был для вас очень удобным обвиняемым и что разоблачения вашего полицейского ставят под большое сомнение его виновность? Послушайте, Бесси, давайте будем откровенны! Вас мучает не то, что красавица Элен была не настолько восхитительна, как вы были уверены, а то, что вы рискуете упустить прокурора.
— Мсье председатель! Не хотите ли вы этим сказать, что я преследую прокурора из-за личной к нему неприязни?
— Успокойтесь, Бесси. Вы прекрасно знаете, что я никогда не сомневался в вашей порядочности, иначе бы вы не числились среди моих друзей. Однако желание побыстрее закрыть дело отрицательно сказывается на вашей объективности. Лично я, не в обиду вам будет сказано, очень рад тому, что от вас сейчас услышал. Я бы вообще придал все гласности, чтобы снять эту ужасную атмосферу недоверия, в которой находится сейчас прокурор. Я в высшей степени уважительно отношусь к Жану Арсизаку, и мне бы не хотелось, чтобы эти несправедливые и оскорбительные подозрения могли повлиять на его карьеру. Пока нет доказательств обратного, прокурор всего лишь тот, у кого убили жену. Он имеет право рассчитывать на наши с вами симпатии.
— Да плевать он хотел на свою жену! Вам, я думаю, известны его отношения с мадемуазель Танс?
— Бесси, вы меня удивляете! Я никогда не думал, что вы можете прислушиваться к различным сплетням.
— Но это далеко не сплетни! Арсизак сам…
Однако председатель резко оборвал его:
— Ну и что с того? Если во всех, кто изменяет женам, видеть убийц, то количество судов присяжных придется увеличить в тысячу раз и заставить их работать с первого января по тридцать первое декабря! Я старше вас, Бесси, поэтому позволяю себе дать вам совет: старайтесь всегда понять, прежде чем вынести приговор.
Ветеринар Тиллу, которому на вид можно было дать лет пятьдесят, был высок, худощав, с густой черной растительностью на руках, но, главное, крайне неприветлив. Впрочем, любезной нельзя было назвать и его жену, крошечную женщину с туго стянутыми на затылке волосами, одетую словно квакерша. Они встретили Гремилли с нескрываемой подозрительностью.
— Не думаю, что я могла вас видеть среди знакомых моего мужа, мсье.
— Он меня не знает, мадам.
— В таком случае, сожалею, но он не меняет свою клиентуру.
— Я пришел не в качестве клиента.
— Тогда в каком качестве?
— Полицейского.
Комиссар поднес свое удостоверение почти под нос мадам Тиллу, которая отшатнулась будто от удара.
— Я не понимаю… что вы хотите?
— Поговорить с мсье Тиллу.
— По какому поводу?
— Я ему сам все скажу, с вашего позволения.
— Но я… я не знаю, дома ли он.
— Я убежден, что дома, мадам… А что вас так напугало?
— Меня? Но… мне нечего бояться. С чего вы взяли?
— В таком случае, мадам, будьте любезны, сообщите обо мне мсье Тиллу, мы и так уже с вами много времени потеряли.
Супруга ветеринара в последний раз изобразила на своем лице негодование, после чего, смирившись, развернулась на каблуках и исчезла в глубине прихожей, оставив Гремилли дожидаться стоя. Спустя несколько секунд она вернулась и сухо сказала полицейскому:
— Следуйте за мной, прошу вас.
Она проводила комиссара в кабинет Тиллу, который пребывал, казалось, в крайне дурном расположении духа. Увидев Гремилли, он обрушил на него жалобно-протестующую тираду:
— Что полиции от меня надо? У меня не может быть с ней никаких дел! Еще один государственный переворот, а? Мои противники приходятся ныне ко двору, поэтому, пользуясь своим влиянием, пытаются заставить меня отказаться от моего апостольства. Но я заранее заявляю вам и тем, кто вас послал: меня никто не остановит! Прогрессивные силы избрали меня для того, чтобы я возглавил их движение к светлому будущему, и я не обману доверия моих друзей и не оставлю их! Моя репутация незапятнанна! И я ничего и никого не боюсь!
Гость воспользовался тем, что ветеринар собрался перевести дух, и спросил спокойно:
— Тогда к чему эта защитительная речь?
— Пардон?
— Вы выступаете со своей защитой, в то время как, насколько я знаю, никто не собирается вас ни в чем обвинять.
— Мне показалось, что ваш визит ко мне…
— Я не занимаюсь политикой, мсье.
— Да?
— Только криминальными расследованиями.
— Да? Тогда я совсем перестаю понимать…
— Я позволил себе побеспокоить вас, чтобы узнать ваше мнение о прокуроре республики Жане Арсизаке, у которого жена, как вы, вероятно, знаете, погибла при трагических обстоятельствах.
— Да, это всем известно. Прошу вас извинить мою горячность. Мне приходится иметь дело с влиятельными лицами, которых моя деятельность не всегда устраивает. От них можно всего ожидать, поэтому я вынужден быть постоянно начеку. Ваш приход я воспринял как очередную махинацию с их стороны. Я еще раз прошу извинить меня. А что касается мсье Арсизака, то я не уверен, что смогу вам чем-либо помочь, поскольку я не состою и никогда не состоял в дружеских отношениях с ним. Если мы и сталкиваемся с ним, то лишь во время политических дебатов.
— Я не думаю, что открою секрет, если сообщу вам, что до сих пор неясно, имеет ли мсье Арсизак какое-либо отношение к смерти своей жены или нет. Скажу больше: в отношении него имеются некоторые подозрения.
Последнее замечание, чувствовалось, вызвало в Тиллу бурю внутреннего ликования, ибо возможная виновность Арсизака автоматически влекла столь желанное исчезновение опасного политического соперника. Однако вскоре лицо Тиллу вновь помрачнело. Не скрывая презрения, он сказал:
— Я не питаю на этот счет ни малейших иллюзий! Даже если будет доказано, что Арсизак виновен, его приятели — его клан — найдут способ, чтобы замять дело.
Комиссар сделал вид, что не понимает.
— Вы действительно так считаете?
— Еще бы! Эти люди на все готовы, чтобы вытащить своего! Пусть даже для этого понадобится отправить невиновного на эшафот!
— А вы не преувеличиваете?
— Преувеличиваю? Все эти ничтожества, эти миллионеры, эти наследники бешеных состояний, эти присосавшиеся к государству клещи держатся друг за друга, как воры на ярмарке! Они готовы пойти на любые мерзости, лишь бы люди и понятия не имели об их жизни, которую иначе как клоачной и не назовешь. Но пролетариат их вышвырнет на свалку истории!
— Тебе нельзя так нервничать, Этьен! У тебя же давление! — воскликнула мадам Тиллу, объясняя тем самым свое появление в комнате. Гремилли подумал, что она подслушивала, стоя под дверью, и решила вмешаться в разговор, после того как поняла истинные мотивы его визита. Ее муж дал ненужные уже ей пояснения:
— Мсье расследует обстоятельства убийства мадам Арсизак и хотел бы знать, что я думаю о его супруге.
— Будь внимательным к тому, что говоришь.
— Почему?
— Твои слова могут выйти из стен дома и дойти до ушей твоих противников в искаженном виде, и нет никакой гарантии, что они не попытаются тебя привлечь за клевету.
Гремилли вмешался:
— Мне кажется, мадам, вы слишком плохо думаете о полиции. К тому же все, что мне доверительно сообщают, не имеет законной силы до тех пор, пока не будет мною запротоколировано и подписано авторами. Поэтому ваши волнения абсолютно напрасны. Ответы вашего супруга любопытны мне, поскольку я пытаюсь понять человеческую сущность тех, кто меня интересует, независимо от того, идет ли речь о живых или мертвых.
— Если это действительно так, как вы говорите, мсье, то я вам советую заняться личной жизнью этого Арсизака! Стыд! Какой стыд! У меня в голове не укладывается, как можно доверить интересы государства подобному развратнику! Любовниц пруд пруди! Кругом сплошные кутежи! Я слышала, что он позволял себе предаваться наслаждениям даже у себя на бульваре Везон.
— В это трудно поверить…
— Именно! Настоящие оргии устраивал!
— В отсутствие мадам Арсизак?
— Скажете тоже! Да они два сапога пара!
Ветеринар притих, смирившись с тем, что жена окончательно заняла его место в борьбе и теперь одна бесстрашно рвалась в атаку.
— А мне почти все, к кому я ни обращался, расхваливали мадам Арсизак, отмечая ее красоту, обаяние и готовность пойти на любые жертвы ради несчастных.
Эта наивность полицейского привела мадам Тиллу просто в восторг.
— Что касается ее красоты, то не мне об этом судить. Я не мужчина, но знаю, что найдется немало охотников до женщин подобного вызывающе вульгарного типа. Ну а насчет остального — это все выдумки тех, кому очень хотелось запудрить вам мозги. Интриганка — вот кем была ваша мадам Арсизак, которая пыталась подпрыгнуть выше своей задницы!
— Клеманс!
— Извини меня, Этьен, но если откровенно, то одна мысль об этой дочке бедных аркашонских бакалейщиков, пытавшейся нас убедить, что ее сделали из ляжки Юпитера, меня просто бесит. И то, что произошло, не могло не произойти в этом развращенном мире! Не исключено, что как раз в одну из оргий ее и убили.
Итак, мадам Тиллу звалась Клеманс[109]…
Выйдя от четы Тиллу — этого сгустка злобы и зависти, — Гремилли вдохнул полной грудью, испытывая острую необходимость в свежем воздухе. За все время своего пребывания в Перигё он впервые ощутил столь сильное чувство отвращения. Единственным противоядием могла быть только медленная прогулка, которую комиссар решил использовать с толком, направившись в сторону старого города, на улицу Сажес, к дому Альбера Суже, фармацевта-гомеопата и помощника Тиллу. Полицейский надеялся встретить на сей раз личность более симпатичную, чем ветеринар.
На бульваре Монтеня Гремилли столкнулся нос к носу с прокурором.
— Расследование продолжается, мсье комиссар?
— А чем, вы полагаете, я должен заниматься?
— Моим арестом, например.
— Вы действительно так считаете?
— Это вызвало бы такой глубокий вздох облегчения у моих… друзей.
— Почему вы так решили?
— Вы бы отомстили за их «святую».
— Мсье прокурор, скажите, вы любили вашу жену?
— Сказать, что не любил, — это все равно что ничего не сказать: я ее ненавидел.
— До такой степени, чтобы пойти на убийство?
— Если бы у меня хватило на это храбрости, то — вне всякого сомнения.
— Да, но иную работу можно и другому доверить, в цене бы только столковаться.
— Вы думаете? А если нарвешься на какого-нибудь неугомонного шантажиста?
— Возможно.
— Скажите откровенно, мсье комиссар, неужели вы можете представить меня просящим кого-то: «Дружище, сделайте одолжение, ухлопайте мою жену»? До свидания, мсье комиссар. Но знайте: несмотря на почти всеобщее подозрение, я продолжаю надеяться.
— На что?
— На вас. До скорого!
Прокурор направился в сторону Дворца правосудия, оставив Гремилли в задумчивости. Полицейский чувствовал, что ему не удается до конца понять Арсизака. За внешней веселой беззаботностью угадывался никогда не дремлющий ум, способный ненавязчиво дать вам понять то, что считает необходимым. Любит все усложнять, но в то же время уж слишком проворен. И о своей ненависти к жене говорит исключительно с целью показать, что не убивал ее ни сам, ни с помощью кого-то. Гремилли признался себе, что ему нечасто приходилось сталкиваться со столь серьезным противником, каким оказался Арсизак. Настроение его улучшилось.
В отличие от Тиллу, сорокапятилетний фармацевт-гомеопат был весьма элегантным блондином. Жена его также была светловолосой, и ее можно было бы назвать миловидной, если бы не рыхлая кожа лица и мутно-близорукий взгляд. Она сразу же показалась Гремилли занудой и плаксой, которая постоянно на что-то жалуется. Именно она и открыла полицейскому дверь.
— Что мсье угодно?
— Поговорить с мсье Суже, если можно.
— Вы… по личному делу к нему?
— По самому что ни на есть личному.
Она недоверчиво посмотрела на Гремилли и обратилась через плечо:
— Альбер, ты не подойдешь на минуту?
Фармацевт, занятый раскладыванием пакетов, заполненных различными лекарственными травами, оторвался от своего дела.
— Что там еще?
— Какой-то мсье хочет с тобой поговорить.
— О чем?
— Я не осмелилась у него спросить об этом.
Решив покончить с этой смехотворной сценой, полицейский назвал свою фамилию и род занятий, что, впрочем, не вызвало у них никакого волнения, если сравнивать с реакцией супругов Тиллу. Суже лишь спокойно попросил Гремилли пройти с ним за стойку, оставив в магазине жену.
— Чем могу быть полезен, мсье комиссар?
— Я занимаюсь расследованием обстоятельств убийства мадам Арсизак.
От Гремилли не ускользнуло еле уловимое беспокойство, мелькнувшее в глазах Суже. Что бы это значило?
— Я, право, не знаю, чем…
Полицейский не дал ему закончить:
— Мне хотелось бы услышать ваше мнение о прокуроре Арсизаке, и не буду от вас скрывать, что мсье Тиллу, от которого я сейчас иду, высказался о нем довольно-таки резко.
Фармацевт улыбнулся.
— Этьена я знаю давно. Это славный малый, но без царя в голове. Бывший военный, он понравился нам своей прямотой и непреклонной верой в великие принципы демократии. Что до его философской проницательности, то тут мы от него многого не ждем. Если он и сказал что-то резкое в адрес Арсизака, то это потому, что прокурор как представитель ненавистного Тиллу класса олицетворяет в его глазах все пороки своей среды. Для Этьена существует лишь черное и белое без каких бы то ни было оттенков.
— Вы знаете, мадам Тиллу мне показалась еще более агрессивной.
— Ах, эта! Она вбила себе в голову, что ее муж должен быть среди первых лиц города, и постоянно страдает от избытка зависти. Она убеждена, что любое важное место — будь то мэрия или генеральный совет — должно по праву принадлежать ее супругу.
— Именно это впечатление я и вынес из их дома. А что вы сами, мсье Суже, думаете об Арсизаке?
— Да что тут говорить — он не хуже и не лучше многих из нас. Одни его не любят, потому что, имея жену-красавицу, он обманывал ее (думаю, нет надобности что-либо рассказывать вам об этом, не так ли?), другие не могут ему простить его головокружительной карьеры. Ну и, наконец, граждане самых строгих правил упрекают его в том, что он не ходит важным гусем, а любит пожить в свое удовольствие.
— То есть, если судить по вашим словам, личность скорее симпатичная, чем отталкивающая?
— Вне всякого сомнения.
— А его жена?
— Бедняжка… Какая ужасная судьба! Кто бы мог даже на секунду предположить, что красавица Элен Арсизак закончит свои дни подобным образом?!
— Вы ее знали?
— Как и все.
— У вас никогда не было причины ее в чем-нибудь упрекнуть?
— Мы принадлежали к разным кругам. Кроме того, политические взгляды, которые я защищаю, не позволили бы мне войти в особняк на бульваре Везон, даже если бы у кого-то вдруг и появилось желание меня туда пригласить.
— А какой вы видели мадам Арсизак?
— Ей наверняка пришлось изрядно побороться, чтобы быть принятой в обществе, в которое она попала по воле судьбы. Вам, вероятно, уже доложили о ее происхождении? Я думаю, можно только восхищаться, с какой легкостью ей удалось преодолеть все препятствия, расставленные на ее пути. Даже самых злых она обезоруживала своим милосердным отношением к несчастным. Даже маленькая, чья-то боль не могла ее оставить безразличной. Вот почему Перигё оплакивает Элен Арсизак.
— И вы в том числе?
— Разумеется.
— А вас не смутит, если я скажу, что мне приходилось слышать нечто совершенно противоположное?
— Нет. Всегда найдутся мелкие людишки. А потом, зависть… Кроме того, есть и такие, для кого выразить восхищение значит показать свою слабость. Для них гораздо проще оклеветать своего ближнего. Люди злы, мсье комиссар.
— Как вы догадываетесь, не мне утверждать обратное.
Возвращаясь в новый город, Гремилли пришел к мнению, что жить в маленьком провинциальном городке не так сладко, как это казалось раньше. Он испытывал ощущение, будто бродил по аллеям огромного сада-лабиринта, и как бы он ни был уверен, что вот эта дорога наконец приведет его к выходу, каждый раз оказывалось, что он крутился вокруг одного и того же места. Портрет Элен Арсизак, составленный Гремилли со слов опрошенных, напоминал ему неоновые рекламные щиты на фасадах больших магазинов, где изображение вдруг исчезало в темноте ночи, чтобы спустя некоторое время возникнуть вновь в свете тысячи огней. И полицейский терялся, не зная, какое из этих лиц — темное или светлое — принадлежало убитой.
Где искать художника, который мог бы нарисовать портрет Элен Арсизак? Кем была она — обманутой женой, пытавшейся уйти от своего горя, полностью жертвуя собой ради облегчения участи обездоленных, или мерзавкой, не сумевшей скрыть свою сущность от некоторых проницательных взглядов? Кто прав — мадам Тиллу или Альбер Суже? Эта неопределенность, из которой полицейский никак не мог выбраться, приводила его в отчаяние. Нет ничего более угнетающего, чем продвигаться на ощупь в поисках неизвестно чего. С каким удовольствием он променял бы сейчас это дело на десяток простых деревенских преступлений, чьи мотивы лежат на поверхности и с которыми порой прекрасно справляются сами жандармы. Там, в деревне, и в голову никому не придет прибегать к каким-то ухищрениям. Ты стащил у меня деньги, увел жену или оттяпал кусок моего поля, ну и получи по сопатке, а ежели я, случись, и перегну палку, то не обессудь, сам понимаешь, за все надо отвечать, а не хныкать. Если перед тобой стоит Мария, то можешь не сомневаться, что это Мария и Пьер там всегда похож на Пьера. И суетиться не надо, сиди себе спокойно и жди, когда тебе и те и другие сами все расскажут. А здесь из двух согласившихся с тобой поговорить один как минимум врет, а ты мучайся, гадая, кто именно. Вот взять хотя бы этих двух последних: друзья борются, что называется, бок о бок за милую их сердцу идею, а просишь их рассказать об одном и том же человеке, и выходит настолько несхоже, что поневоле начинаешь сомневаться, не о разных ли людях они говорят? А потом, что значит это замешательство Суже, когда он узнал о цели визита к нему Гремилли? Еще одна полуправда? А этому-то что скрывать? Комиссару вдруг захотелось собрать всех опрошенных вместе и крикнуть им: «Я знаю, что вы дали мне показания в урезанном виде. Но почему? С какой целью? Что вы пытаетесь скрыть от меня?» Увы, он понимал: они лишь посмеются ему в лицо и будут утверждать, что им неясно, чего от них хотят. Они будут просто издеваться над ним, что, впрочем, некоторые уже и так делают. С грустью вспоминая свой тихий бордоский кабинет, полицейский миновал улицу Лиможан, выходящую на бульвар Турни, собрался было идти дальше, но неожиданно остановился, услышав, как кто-то сказал тихо:
— Мсье комиссар…
Гремилли обернулся и не сразу узнал эту неброскую, бесцветную женщину.
— Что случилось, мадам Суже?
— Мне необходимо с вами поговорить.
Видя, что она чем-то сильно взволнована, он предложил:
— Что мы с вами остановились посреди улицы, давайте зайдем куда-нибудь и что-нибудь выпьем, а?
— Да, пожалуйста.
Они зашли в первое попавшееся кафе. В этот час зал был почти полон, но, на их счастье, один из столиков освободился, и Гремилли, не колеблясь, завладел им, заставив суровым взглядом ретироваться парочку.
— Садитесь, мадам. Что вам заказать?
— Я не знаю. Что-нибудь.
— Фруктовый сок.
— Да-да, фруктовый сок.
Он заказал фруктовый сок и белый чинзано. Когда все было на столе, комиссар подался вперед:
— Итак, мадам?
— Я только что слышала ваш разговор с мужем…
Да, подумал Гремилли, у жен моих свидетелей вошло в привычку стоять и подслушивать под дверью.
— Действительно?
— Мне хотелось знать, что он вам скажет, вы понимаете?
— А? Очень хорошо понимаю.
— Он обманул вас, мсье комиссар.
— Ваш муж?
— Да.
— В чем обманул?
— В отношении Элен Арсизак.
— А поконкретнее нельзя?
— Он вовсе не думает о ней так, как сказал вам. Это не добрая была женщина, а причинявшая людям только зло.
— Как вы думаете, мадам, почему он скрыл от меня свое истинное отношение к Элен Арсизак? К чему эта ложь?
— Потому что он боится…
— Боится?
— …Вы можете узнать о том, что она была его любовницей.
Новость буквально ошарашила Гремилли, которому понадобилось немало усилий, чтобы скрыть свое крайнее удивление.
— Вы в этом уверены?
Она пожала плечами.
— Вы прекрасно понимаете, что мне не доставляет ни малейшего удовольствия сообщать вам подобное.
— Допустим. А вашему мужу известно, что вы в курсе его похождений?
— Да. Впрочем, с этим покончено еще несколько месяцев назад.
— А вы откуда, простите, это знаете?
— Он во всем мне признался.
— Надо же! А я и не думал, что у ветреных мужей принято делиться с женами своими маленькими тайнами!
— Альбер чувствовал себя загнанным в ловушку.
— Это как?
— Он хотел с ней порвать. Вы понимаете, мсье комиссар, вначале эта связь льстила ему… Ну как же! Самая красивая женщина Перигё, да к тому же жена его политического противника. Это ему вскружило голову. Мсье комиссар, я хоть не красавица, но, оказывается, мой муж любит меня и не захотел расставаться со мной из-за какого-то увлечения. Когда он дал понять этой мерзавке, что между ними все кончено, она начала его шантажировать.
— Каким образом?
— Угрожала Альберу, что, если он ее бросит, она придет ко мне и расскажет все, что между ними было. В конце концов однажды вечером муж покаялся передо мной. С этого момента Элен Арсизак была бессильна что-либо сделать, чтобы разлучить нас. Я ей написала письмо.
— Она вам ответила?
— Нет. А что она могла мне ответить? Мсье комиссар, вы не расскажете Альберу, если еще раз с ним встретитесь, о том, что сейчас от меня услышали?
— Даю вам слово, при условии, разумеется, если я не буду вынужден это сделать в интересах следствия, хотя, как мне кажется, в этом не будет необходимости.
— Спасибо.
Гремилли заказал себе еще чинзано и фруктовый сок для мадам Суже, которая заметно повеселела. Полицейскому необходимо было какое-то время, чтобы подумать. Не каждая станет открыто объявлять, что обманута. Мадам Суже говорила правду. С этой минуты образ мадам Арсизак начинал приобретать реальные очертания — образ, который наверняка окажется горькой пилюлей для судебного следователя.
— Мадам, я прошу прощения, но не все в вашем рассказе мне понятно…
— Что именно?
— Каким образом мадам Арсизак и ваш муж могли встретиться?
— В этом я сама виновата.
— Как так?
— Я с ней познакомилась на организованной ею благотворительной распродаже товаров, выручка от которой должна была пойти на благоустройство детских яслей. Она была очень мила со мной, говорила, что торговля лекарственными травами — древняя и благородная профессия, ну и так далее, в общем, все, что в таких случаях обычно говорят. Я представила ей Альбера, и, когда он отправился в буфет, чтобы купить там что-нибудь для нас, она пошутила насчет того, что, мол, с таким симпатичным парнем ухо надо держать востро. Я, наивная, подумала, что она действительно шутит, и стала ее уверять, что здесь мне бояться нечего, так как мой муж ко мне очень привязан и наш союз никогда подобным не омрачался.
— А потом?
— А потом я поняла, что мои признания раззадорили ее. На следующий день она пришла в магазин и описала в мельчайших подробностях Альберу все свои так называемые болезни. Я этому не придала никакого значения. Как и все, я относилась к ней как к человеку в высшей степени замечательному и свято верила во все, что слышала о ней, то есть в ее благодетельность и доброту. А спустя некоторое время Альбер вдруг зачастил после обеда на заседания своего политбюро. А на самом деле он ходил к ней. Естественно, я об этом узнала гораздо позже.
— Нетрудно догадаться, что вы ее возненавидели?
— Сильнее возненавидеть нельзя было.
— Даже до такой степени, чтобы убить?
— Конечно, если бы Альбер не бросил ее.
На сей раз Гремилли возвращался в гостиницу насвистывая. Похоже, в этой затяжной игре в прятки, где он гонялся за тенью покойницы, ему удалось заработать важное очко. Маска, которая так надежно скрывала лицо мадам Арсизак, дала первую трещину. Признания мадам Суже подтверждали историю с телефонным звонком, невольным свидетелем которого стала Жанна. Муж, супруга любовника, еще, возможно, Агата и Жозеф Роделль… Да уж, немало народу, мечтавшего избавить Перигё от этой «святой».
В ресторане гостиницы «Домино» комиссар галантно ответил на приветствие пожилого мсье, которого он уже видел накануне. Он заканчивал обедать, когда метрдотель принес ему визитную карточку Блэза Жюнкала, бывшего председателя суда Перигё, который приглашал Гремилли на чашечку кофе. Гремилли был в таком прекрасном расположении духа, что с удовольствием принял приглашение. После того как они представились друг другу, старый магистрат сказал:
— Мсье комиссар, я внимательно наблюдаю за вами с момента вашего приезда в эту гостиницу, где я часто бываю. Я не ошибусь, если предположу, что вам удалось что-то нащупать?
— Вы правы.
— Мой преемник и друг Ампо поведал мне, насколько деликатна ваша миссия. Среда, в которой вам приходится работать, пытается запутать все следы, ведущие к убийце. Вы приехали из Бордо, то есть, можно сказать, из столицы. А здесь все по-другому.
— Я пришел к убеждению — и это, признаюсь, меня удручает, — что те, с кем мне пришлось столкнуться, мне не лгут в полном смысле этого слова, но говорят не всю правду.
— А это потому, что вы для них, включая дворец правосудия, никто иной, как человек, которого им навязали. Они прекрасно понимают, что необходимо пролить свет на эту историю и убийца мадам Арсизак должен получить свое. И они все жаждут его наказания, однако кастовая солидарность оказывается сильнее их. Никто не желает взять на себя ответственность и навести вас на след преступника.
— Мне от этого не легче.
— Разумеется, но вы не кажетесь мне человеком, которого это может обескуражить.
— Я упрямый.
— Это немаловажно в вашем деле, и я не сомневаюсь, что вы добьетесь успеха.
В эту ночь Гремилли снилось нечто странное: он шел навстречу людскому потоку, в котором каждый имел два лица, как двуликий Янус.
Глава IV
На следующее утро Гремилли вышел из номера в веселом расположении духа. Он хорошо выспался и встал только в девять часов, что позволял себе крайне редко. Вешая ключ внизу, полицейский увидел в своей ячейке письмо, невесомость которого говорила о качестве находящейся внутри бумаги и от которого исходил еле уловимый аромат духов. В месте, предназначенном для адреса, он прочел:
«Гостиница «Домино». Мсье комиссару Гремилли.»
Письмо было доставлено наверняка рано утром и, скорее всего, служанкой. Заинтригованный, комиссар вскрыл конверт. На гербовой бумаге было написано:
«Мадам Э. де Новаселль желает переговорить с мсье комиссаром по вопросу, чрезвычайно важному и непосредственно касающемуся проводимого им расследования, и будет ему признательна, если он окажет ей честь своим визитом в десять часов на улице Карно, 128.»
Далее следовали общепринятые в таких случаях слова, заверяющие его в глубоком и искреннем к нему уважении.
Покончив с завтраком, Гремилли осведомился у метрдотеля о личности его корреспондента.
— Мадам де Новаселль из старинного дворянского перигёского рода, мсье комиссар. Очень богата и значительную часть доходов тратит на благотворительную деятельность. Возглавляет учрежденный ею комитет «Женщина спасет женщину». Кавалер ордена Почетного легиона. Прекрасная дама и пользуется огромным влиянием в нашем городе. Одна рекомендация мадам де Новаселль стоит всех аттестатов[110] и даже дипломов, если мсье понимает, что я хочу сказать.
— Понимаю. Короче, это как раз та дама, с которой лучше водить дружбу?
— Во всяком случае, не ссориться.
Было без двадцати десять, когда Гремилли вышел из гостиницы и отправился в гости к мадам де Новаселль.
Улица Карно была удивительно тихим местом. Перед некоторыми домами были разбиты сады, где росли пальмы. На звонок. Гремилли открыла подчеркнуто учтивая служанка, которая провела его в огромный зал с интерьером, выдержанным в строгом классическом стиле, с колоннами из зеленого мрамора и бюстами, пристально следящими невидящими глазами за каждым движением полицейского.
— Я — комиссар Гремилли.
— Прекрасно, мсье комиссар. Мадам ждет вас. Следуйте, пожалуйста, за мной.
Служанка открыла расположенную справа, в глубине зала, дверь и, войдя первой, объявила:
— Мсье комиссар Гремилли! — после чего отступила назад, давая возможность гостю пройти в салон.
Гремилли вдруг перенесся в свое детство и в считанные секунды вновь пережил те же чувства, что и много лет назад, когда во главе делегации девочек и мальчиков он пришел в дом банкира, чтобы поблагодарить его жену за подарки, сделанные ею школе к Рождеству. Увидев шедшую ему навстречу сильную, хоть и опирающуюся на палку женщину, он подумал, что произнесет сейчас, как когда-то, выученную наизусть приветственную речь.
— Милости прошу, мсье комиссар. Я признательна вам за то, что вы так скоро откликнулись на мое приглашение.
Гремилли молча поклонился, в то время как хозяйка продолжала:
— Позвольте представить вам мадам де Сен-Блен — мою правую руку и человека, без которого я бы просто пропала.
Полицейский снова поклонился, на сей раз в сторону крошечной и худосочной дамы, которая, казалось, утонула в кресле, так что вначале он ее и не приметил. Мадам де Сен-Блен заверила комиссара, что счастлива его видеть.
Пока Гремилли устраивался в предложенном ему мадам де Новаселль кресле, он постепенно освобождался от чувства скованности, которое вызывала в нем эта величественная обстановка. Внушительных размеров салон был обставлен настолько роскошно, что он ощущал себя в музее. Висящие на стенах портреты предков демонстрировали богатство былых туалетов и надменность.
— Что-нибудь выпьете, мсье комиссар?
— Если позволите, мадам, я воздержусь.
— Как вам будет угодно. Мсье комиссар, я не буду ходить вокруг да около. Вы меня не знаете, но в Перигё за мной закрепилась репутация человека, который не привык мелочиться. Некоторыми это воспринимается как дерзость, чего я не отрицаю, но если и так, то она перешла мне в наследство от моего прапрадеда Хюберта де Новаселль, погибшего в бою с пруссаками под Монмираем. Мсье комиссар, для мадам де Сен-Блен и для меня Элен Арсизак была самой дорогой подругой. Ее смерть нанесла нам удар, от которого мы долго не сможем оправиться. Не так ли, Одилия?
— Боюсь, что мы вообще никогда не сможем прийти в себя, Элизабет.
— Нам известно, мсье комиссар, что вы делаете все, чтобы вывести на чистую воду это ничтожество, решившее избавиться от мешавшей ему жены.
Гремилли осмелился перебить свою собеседницу:
— Прошу великодушно извинить, мадам, но у меня такое впечатление, что убийца вам известен.
— В равной степени, как и вам, мсье комиссар!
— Уверяю вас, что пока…
Теперь наступила очередь мадам де Новаселль перебить гостя:
— Полноте! К чему делать вид, будто вы не знаете, что Арсизак стал невменяемым после того, как понял, что не получит развода и не сможет жениться на этой потаскушке!
— Поверьте мне, мадам, что если даже мсье Арсизак и находится сейчас в трудном для него положении, это еще не значит, что против него может быть выдвинуто официальное обвинение.
— Человек коварен! Впрочем, коварство — основная черта всех выскочек, а иначе как бы они выходили в люди? Как бы там ни было, мы не потерпим, чтобы, желая явно или нет защитить мужа, пачкали честное имя жены.
— Мне кажется, я не совсем вас понимаю.
— Хорошо, я расставлю все точки над «i». Нам стало известно от мадам Бесси, что во время следствия вам пришлось иметь дело с людьми без стыда и совести. Они осмелились, преследуя какие-то свои грязные цели, о которых мы и слышать не хотим, не так ли, Одилия?..
— Конечно, Элизабет.
— …распространять различного рода мерзости о нашей бедной дорогой подруге, которую постигла такая ужасная участь. Вы с нами согласны, мсье комиссар?
— Я с удивлением констатирую вашу осведомленность о конфиденциальных сообщениях, сделанных мной в беседе с судебным следователем…
— Пусть вас это не шокирует, мсье комиссар. Мое положение в Перигё требует, чтобы я была в курсе всего, что здесь происходит. Вы тоже так считаете, Одилия?
— Вне всякого сомнения, Элизабет.
— Я должен признаться вам, что некоторые из опрошенных мной лиц дали мне понять, что воспринимали мадам Арсизак несколько иначе, чем это было принято.
— Скандал! Настоящий скандал!
— Мне намекнули, что мадам Арсизак была далеко не тем нежным ангелом, за которого ее иногда принимали, и что она, если понадобится, могла проявлять безграничную злость вплоть до садистских выходок.
— О! Вы слышите, Одилия?!
— Слышу, Элизабет, и во мне все переворачивается!
— Еще бы! Все, что вы от них услышали, мсье комиссар, — не что иное, как сплошная гнусность! Верьте мне на слово!
— Но ради чего этим мужчинам и женщинам обижаться на мадам Арсизак до такой степени, чтобы распространять о ней различные небылицы, оскорбляющие ее
память? К тому же я слышал кое-что и похуже…
— Похуже? — хором простонали обе женщины.
— У мадам Арсизак был любовник.
Мадам де Новаселль издала звук, похожий на рычание, схватилась рукой за горло и, закатив глаза, прохрипела:
— Одилия… быстро… успокоительного!..
Мадам де Сен-Блен засуетилась. Наконец она плеснула что-то в стакан, который поднесла к губам подруги, и принялась ее поить, поддерживая ей голову. Опорожнив стакан, мадам де Новаселль смачно выдохнула и, после того как дыхание ее восстановилось, сказала:
— Мсье комиссар, вы чуть меня не убили. Я за всю свою жизнь ничего подобного не слышала! Бедная малышка Элен… настолько чиста… целомудренна… стыдлива, даже излишне, так что я ее, моего дорогого ангелочка, порой просто вгоняла в краску вольностью речей, достойных дочери, внучки и правнучки гусар. Мсье комиссар, кто осмелился вам сказать такую гадость?
— Супруга любовника.
Какое-то мгновение мадам де Новаселль сидела с открытым ртом, не в силах произнести ни слова, в то время как из груди Одилии де Сен-Блен вырывались полные негодования звуки, похожие на цыплячий писк.
— Я не ослышалась, мсье комиссар? — спросила побагровевшая мадам де Новаселль.
— Не думаю, мадам.
— Эта женщина — чудовище! Сумасшедшая! Выдумщица! Оскорблять память несчастной, жизнь которой с таким распутным мужем была настоящей Голгофой… Как только язык поворачивается! Бедняжка надеялась, что, глядя на пристойный образ жизни, который она вела, он наконец одумается и вернется к ней. Мы-то хорошо знали, как она страдала, потеряв сердце Арсизака, не правда ли, Одилия?
— О да, Элизабет!
— И вы пришли мне рассказать, что у этой преданной жены был любовник! Я не верю вам, мсье комиссар! Вас просто обманули!
— С какой целью?
— Мне это неизвестно! Возможно, без всякой цели, а лишь потому, что люди низменны по самой своей природе и в общей своей массе отвратительны.
— Мадам, я разве говорил о человеке из «общей массы», как вы изволили выразиться?
— Вам никогда не удастся меня убедить, что человек, способный на агрессивные выпады против мертвой, может быть порядочным! Мы на такую низость не способны! Мы еще не забыли, что такое честь, не так ли, Одилия?
— Еще не забыли, Элизабет! О, мсье комиссар, если бы вы видели, как мадам Арсизак буквально млела над малышами в моих яслях, вы бы сами не позволили, чтобы кто-то говорил о ней худо.
— Признаться, я не вижу связи…
Мадам де Новаселль пришла на помощь своей подруге:
— Мадам де Сен-Блен хочет сказать, мсье комиссар, что высоконравственный человек остается им везде. Элен была чиста и пряма, как сталь клинка.
Она поднялась, опираясь на палку, и произнесла торжественным тоном:
— Я, Элизабет де Новаселль, кавалер ордена Почетного легиона, перед лицом своих предков клянусь вам честью, мсье комиссар, что вас обманули и над вами посмеялись те, кто не побоялся божьей кары, совершая это истинное святотатство. Всего доброго, мсье комиссар.
Гремилли был сыт по горло этим состязанием в красноречии вокруг покойницы. Казалось, что он уже добрался до площадки, на которой можно перевести дух перед дальнейшим восхождением к истине, так нет же, выходит, он сбился с пути, наивно доверившись россказням злых шутников. Пора с этим кончать.
Вернувшись в гостиницу, он отыскал в справочнике номер телефона Суже и снял трубку.
— Алло, мсье Суже?
— Он самый.
— Это комиссар Гремилли. Буду вам признателен, если вы немедленно прибудете ко мне в гостиницу «Домино».
— Но я не могу…
— Я сказал — немедленно, мсье Суже, в противном случае я вызову вас в полицейский участок.
Комиссар бросил трубку, не дожидаясь ответа. Теперь они все узнают, как морочить голову комиссару регионального управления криминальной полиции!
Гремилли попросил, чтобы срочно привели в порядок его номер, где он решил устроить конфиденциальную встречу тому, кого он ждал и кто не станет мешкать с приходом. Горничные поработали на славу, и за несколько мгновений до появления гомеопата комната была готова.
— Мсье комиссар, я не понимаю, зачем…
— Пусть это вас не тревожит, вы сейчас все поймете. Пройдите!
Едва дверь за ними закрылась, Гремилли приступил к делу:
— Вам что, мсье Суже, неизвестно, что лгать полиции, расследующей криминальное преступление, крайне неосторожно и даже опасно?
— Я… я не понимаю, что этим…
— Что я этим хочу сказать? А хочу я вам сказать, что вы просто меня обманули. Вы были любовником мадам Арсизак.
— Я?
— Вы.
— Кто смог… кто осмелился распространять обо мне подобную ложь?
— Человек, который вас хорошо знает.
— И кто же этот человек?
— Ваша жена. Вы можете сесть.
Гомеопат с растерянным видом опустился на стул.
— Ну что, мсье Суже, будете признаваться?
— Но… это неправда.
— Значит, мадам Суже говорит неправду?
— Не совсем… Она имеет склонность несколько преувеличивать… Она может вообразить себе бог знает что и сама потом в это верит. Она ревнует меня ко всем приближающимся ко мне женщинам. А поскольку наша клиентура состоит в основном из женщин…
Гремилли посмотрел на него с грустью.
— Некрасиво так поступать, мсье Суже. Напрасно вы черните женщину, которая страдает от вашей неверности, но, несмотря на это, вас любит.
— Уверяю вас…
— Хорошо. Мы пойдем сейчас с вами в комиссариат, я вызову туда вашу жену и устрою вам очную ставку. Пойдемте.
— Нет!
— Что значит «нет»?
— Я не хочу никакой очной ставки с Мартой.
— Это почему?
— Ладно… Я был любовником Элен Арсизак.
Гремилли облегченно вздохнул: ему стало окончательно ясно, что высокопарные заклинания мадам де Новаселль и поддакивающее хныканье ее подруги в расчет не шли — как и все остальные, они были вовлечены в грязную игру, которую затеяла супруга прокурора.
— Ну, поскольку невинность все равно уже утрачена, расскажите мне теперь все по порядку.
И Суже выложил все как на духу. В основном его рассказ был отражением того, что сообщила мадам Суже. Симпатичного мужчину преследует красивая женщина, чье внимание ему, естественно, льстит. Их любовное приключение недолговечно — что-то около двух месяцев. Затем — отрезвление гомеопата, осознавшего, что, завлекая его, она преследует какие-то свои корыстные цели, не имеющие ничего общего с любовью. Угрызения совести. Решение порвать с ней раз и навсегда. Шантаж Элен, удерживающей Альбера — и комиссар это понимал — с одной лишь целью — заставить его страдать, не выпуская из своих щупальцев. Наконец, покаяние перед женой и окончание этой жалкой в общем-то истории.
— И когда произошел ваш окончательный разрыв?
— Месяца два назад.
— А не на днях, случайно?
— Да нет же, зачем мне вас обманывать?
— Ну, из-за какого-нибудь пустячка… Например, чтоб отвести от себя подозрение в убийстве, а?
Гомеопат вскочил от негодования.
— Что вы этим хотите сказать?
— Успокойтесь! Не думайте, что вы меня этим испугаете. Садитесь и попытайтесь вспомнить, где вы находились в ту ночь, когда произошло убийство.
— Мы были с Мартой дома.
— Не слишком надежное алиби, вы не находите?
— У меня нет другого.
— Тогда мне очень жаль вас.
— Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду, что лучшей кандидатуры, чем ваша, для пополнения моего списка подозреваемых и не придумаешь.
— Да вы поговорите с Мартой, она вам сама скажет…
Гремилли не дал ему договорить.
— Нетрудно догадаться, что она мне скажет. Почему я должен ей доверять больше, чем вам? Мне прекрасно известно, какие чувства она питала к мадам Арсизак. Поэтому я не исключаю, что, в случае чего, она вполне могла бы внести свою лепту в ваше освобождение от кабалы Элен Арсизак.
— Выходит, я пропал?
— Не надо чересчур драматизировать ситуацию. Подозреваемый и виновный — это далеко не одно и то же. Возвращайтесь к себе и благодарите мадам Суже за то, что она положила конец вашему бессмысленному вранью, иначе последствия для вас могли бы быть самыми печальными.
Входя во Дворец правосудия, Гремилли предвкушал удовольствие, которое он испытает, глядя на вытянувшееся лицо судебного следователя после того, как выложит ему все, что думает о столь уважаемой Бесси покойнице.
Приход полицейского вызвал заметную обеспокоенность в душе следователя. Несомненно, он ломал голову над тем, какие еще новости принес этот неугомонный комиссар. Нет, Бесси никому не позволил бы тормозить следствие, даже несмотря на то, что первые результаты расследования были им восприняты с мучительной болью. Как человек честный, он свято верил в правосудие и еще в годы своей молодости поклялся целиком отдать себя борьбе за справедливость. Однако ему страшно не хотелось услышать нечто такое, что заставило бы его задуматься о незыблемости своих идеалов.
— Заходите, заходите, мсье комиссар! Надеюсь, вы не собираетесь добавить черной краски к портрету нашей жертвы? Вполне хватает уже того, что вы сообщили мне раньше.
— Мсье следователь, сегодня утром я получил забавное приглашение.
— От кого?
— От мадам де Новаселль.
— А она-то что вами интересуется?
— Не мной, а мадам Арсизак. Она просила прийти к ней в десять часов. Я был у нее.
— Что она от вас хотела?
— От мадам Бесси она узнала о моих открытиях относительно Элен Арсизак.
Следователь закусил губу.
— Фанни просто несносна. Совсем не умеет держать язык за зубами!
Он покраснел под ироничным взглядом полицейского.
— Ну ладно, согласен, и я тоже! Я виноват перед вами. Обещаю, что подобное больше не повторится. Вернемся к мадам де Новаселль.
— Ей хотелось убедить меня в том, что все услышанное мной — не что иное, как сплетни и выдумки, и что мадам Арсизак была чиста и пряма, как сталь клинка.
— У мадам де Новаселль богатый жизненный опыт, и ее мнение заслуживает того, чтобы к нему прислушивались.
— К сожалению, в данном случае ее плохо информировали.
— То есть?
— Я пришел к такому выводу после того, как понял: она не знает, что у этой безупречной супруги, у этой прямой и чистой женщины был любовник.
— Что?
— Мне стало это известно от самого любовника и его жены, которой он во всем признался.
Следователь молчал. Ошарашенный, он смотрел перед собой, ничего не видя. Гремилли не беспокоил его. Наконец Бесси решился.
— Я не буду спрашивать у вас имя этого человека. Я предпочитаю его вовсе не знать, если, конечно, это не потребуется в процессе следствия… Видите ли, мсье комиссар, после стольких лет, проведенных во дворце, кажется, что все человеческие мерзости тебе давно известны, а вот поди ж ты… И ведь, заметьте, меня угнетает не сам факт, что мадам Арсизак имела любовника. В конце концов, нет ничего удивительного в том, что она, почувствовав пренебрежение мужа, пыталась получить какую-то компенсацию на стороне. Вот сама ее сущность, которая становится для меня все более понятной по мере того, как вы вносите свои ужасные поправки. Ее отношение к обездоленным, которых она якобы любила, злоба, с которой она пыталась разрушить счастливые семьи, низость в отношении к прислуге… Это ужасно, мсье комиссар. Как мы могли позволить так просто себя одурачивать, да еще в течение такого длительного времени?
— И боюсь, это время еще не закончилось, мсье следователь. Ей удалось создать себе легенду, которая оказалась сильнее истины, во-первых, потому, что она выделялась красотой — а в людях с рождения заложена потребность восхищаться; во-вторых, потому, что самолюбие тех, кто свято верил в нее, никогда не позволит им признать свою промашку.
— Вы, конечно, правы. Однако вернемся к нашим баранам, дорогой комиссар. После того как вы выявили всю эту ложь, продвинулись ли вы вперед в ваших поисках?
— Напротив. Хотя подозрения с мужа не снимаются, однако его виновность уже не столь очевидна. Теперь у нас есть любовник, который, не в силах уйти от шантажа, вполне мог решиться на то, чтобы положить конец всему таким жестоким способом. Нельзя сбрасывать со счетов и жену любовника, которой тоже, возможно, не терпелось прервать эту угрожающую ее семейному очагу связь. Кроме того, можно допустить и месть со стороны Роделлей — водопроводчика и его жены Агаты. Как вы сами видите, теперь нам грех жаловаться на нехватку версий. И все-таки я склонен думать, что заурядный человек это преступление совершить не мог.
— Таким образом, Роделлей мы исключаем?
— Мне бы этого очень хотелось. А также любовника: уж больно он несуразен.
— И снова возвращаемся к мужу?
— Или к кому-то другому, кто на него похож и на которого мы пока не вышли.
— На что вы опираетесь, делая подобное заключение?
— На то, что эта драма порой сильно смахивает на фарс. У меня такое впечатление, что надо мной потешаются, глядя, как я, словно майский жук в комнате с запертыми окнами, кружусь вокруг одного и того же. Развязность мужа, скрытая ирония доктора Музеролля, очевидная и вызывающая враждебность преподавателя Лоби… От всего этого тянет фальшью, вымыслом, да просто спектаклем!
— А вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете?
— Преувеличиваю? А все эти детские трюки, связанные с убийством? А возврат по почте украденных денег?
— Не будем так злиться, мсье комиссар.
— Да я и не злюсь. Наоборот, мсье следователь, я испытываю даже некоторую симпатию к убийце.
— Ну уж это вы хватили!
— Я хочу сказать, что моту понять того, кто пожелал избавить город от человека, подобного Элен Арсизак. Но, уверяю вас, своими чувствами я делюсь исключительно с мсье Бесси. Что же касается судебного следователя, то заверяю его, что не проявлю ни малейшей снисходительности к преступнику, когда он окажется в моих руках… если он окажется в моих руках.
— Он окажется в ваших руках, я в этом не сомневаюсь.
— А я, скажу вам по секрету, сомневаюсь.
Пересекая бульвар Монтеня, Гремилли чуть было не оказался под колесами автомобиля, который резко затормозил и вильнул в сторону, избегая удара. В окошке появилась голова Музеролля.
— Вы что, комиссар, хотите, чтобы я вас отправил в больницу? Тут уж никто не сможет отрицать, что я сделал это нарочно, дабы уберечь своего дружка Арсизака!
— Я был неосторожен. Спасибо, что пощадили меня, доктор.
— И на старуху бывает проруха. Летите кого-то арестовывать?
— Нет, я прогуливаюсь.
— Тогда садитесь. Я еду в пригород к одному серьезному больному, а потом мы пообедаем вместе.
Гремилли сел в машину врача, который предложил:
— Давайте заключим пакт: вы не говорите со мной об убийстве Элен, пока я не закончу заниматься парнишкой. Вы должны понимать, что мне нельзя нервничать перед тем, как я его увижу. А уж за столом вы можете задавать мне все ваши вопросы.
— И вы на них ответите?
— Обещаю.
Мальчишка, к которому направлялся Музеролль, был внуком его знакомого фермера, что и объясняло этот визит, который мог показаться не совсем обычным для такого известного практикующего врача. Гремилли оставался в машине, пока доктор осматривал больного. Через полчаса он, сияя, вышел из дома.
— Извините, что заставил вас так долго ждать. Пришлось немного поволноваться за парня, хотел даже звонить одному моему коллеге-педиатру. Но, слава Богу, тревога оказалась ложной, и я успокоился. Знаете, я так рад, что, если вы, конечно, не очень спешите, предлагаю домчаться до Савиньяк-лез-Эглиз и полакомиться фаршированной гусиной шейкой и сбитыми яйцами с трюфелями у мадам Гужон. Идет?
— Идет.
В пути — километров двадцать — Музеролль болтал почти безостановочно. Делая вид, что увлечен рассказом о Перигё, он не давал и слова вставить своему спутнику. Однако Гремилли был не так прост. Прикрываясь болтовней, Музеролль, скорее всего, разрабатывал тактику поведения во время атаки, которую намеревался предпринять полицейский во время обеда.
Комиссар угостил себя гусиной печенкой, фаршированной гусиной шейкой и сбитыми яйцами с трюфелями, запивая все это славным шато-канон, рожденным в один из урожайных годов. К тому же он забавлялся, наблюдая, с каким нетерпением его сотрапезник ждал, когда же наконец Гремилли начнет задавать ему вопросы. Когда подали кофе, у врача не было больше сил терпеть.
— Итак, мой дорогой комиссар?
— Итак, что, мой дорогой доктор?
— Ну как же, а ваши вопросы, которыми вы хотели уложить меня наповал?
— Это вы говорили о вопросах, а не я.
— Значит, вы не хотите меня ни о чем спросить?
— Почему же… Но вы все равно мне не ответите или будете ходить вокруг да около. Да мне и не хотелось бы портить концовку этого замечательного обеда дискуссией, которая в лучшем случае ни к чему не приведет, а в худшем — вымотает нам обоим нервы. Впрочем, нет, один вопрос я все-таки задам. В ночь, когда произошло убийство, вы действительно работали в своем кабинете до указанного вами часа, перед тем как отправиться к мадемуазель Танс?
— Ничего не поделаешь, придется быть искренним, хватит, пошутили. Нет, в ту ночь, как и всегда один раз в неделю, я пошел к моему другу мэтру Димешо играть в бридж.
— Тогда дополнение к моему вопросу: кто были ваши партнеры?
— Как обычно, Катенуа, Лоби и Сонзай.
— Арсизака с вами не было?
— Нет, мы ему простили желание воспользоваться отсутствием жены.
— Почему вы не рассказали мне этого тогда, в вашем кабинете?
— Сам не знаю. Из-за вечного желания подшутить, вероятно. Вы на меня обижаетесь?
— Ничего подобного.
— Куда вас отвезти?
— К вам домой, если не возражаете.
— Да нет, но…
— Мне просто хочется, чтобы вы позвонили мэтру Катенуа и попросили его незамедлительно меня принять.
— С большим удовольствием.
Больше они не произнесли ни одного слова и ехали до самого дома Музеролля молча. Встретившая их мадемуазель Танс сообщила доктору, что зал ожидания полон народу. Врач увлек полицейского в свой кабинет и при нем позвонил мэтру Катенуа, который заверил, что будет счастлив познакомиться с мсье Гремилли и ждет его у себя.
— Вам известен его адрес?
— Улица Сен-Симона.
— Верно.
Музеролль решил сам проводить гостя и, закрывая дверь, признался комиссару:
— Если сказать честно, то вы одолели меня своим молчанием.
Гремилли улыбнулся:
— У каждого своя метода.
Чтобы добраться до дома адвоката, полицейскому надо было пройти всего несколько сот метров. Он преодолел это расстояние не спеша, подводя итог последней встречи. Прежде всего, он не сомневался в том, что приглашение доктора было сделано без всякой задней мысли. В конце концов, он мог питать к комиссару элементарную симпатию, точно так же, как и комиссар к нему. Именно это-то и было самым странным: наиболее здравомыслящие люди, с которыми комиссару приходилось сталкиваться, испытывали больше неприязни к жертве, чем к преступнику или преступнице. И тем не менее Музеролль готовил какой-то план, который намеревался реализовать во время обеда и который был сведен на нет молчанием Гремилли. Зачем врачу понадобилось лгать во время их первой встречи? Только лишь из желания поиздеваться над прибывшим из большого города полицейским? Гремилли в это не верил, но объяснения этому алогичному поведению найти не мог. Он все более и более убеждался в том, что те, кто ему врал, старались это делать так, чтобы их ложь в конце концов была раскрыта. С какой целью? Иногда Гремилли казалось, что его несет на какую-то огромную паутину, из темного угла которой притаившаяся страшная тварь руководит его действиями, заставляя приближаться все ближе и ближе к роковому месту. Это ощущение буквально выводило комиссара из себя. В очередной раз он поклялся себе, что вынудит зверя оставить свое логово.
Мэтр Катенуа был просто душка. Всем своим сияющим видом он показывал, что претензий к жизни у него нет. Окружающие считали его балагуром, а тем, кто выражал свое сочувствие его жене, женщине с ликом флорентийской мадонны, Юдифь отвечала, что лучше жить с весельчаком, чем с выматывающим душу занудой. Помимо прочих общих интересов, Юдифь и Марк питали обоюдную привязанность к лошадям и мечтали завести когда-нибудь конный завод. Однако для этого еще надо было выиграть немало процессов. И следует заметить, адвокат не сидел сложа руки и довольно уже преуспел. Люди верили адвокату безоглядно, и это могло бы служить ему дополнительным, хотя и сомнительным источником доходов, если бы он не был человеком с кристально чистой совестью.
Марк Катенуа встретил Гремилли с обезоруживающей теплотой, как будто полицейский из Бордо, которого он впервые видел, был его давним другом. Однако это не могло притупить бдительность комиссара, и он насторожился, боясь угодить в ловушку.
— Я признателен Музероллю, что он направил вас ко мне. Кругом только и говорят о вас, и мне не терпелось с вами познакомиться.
Гремилли ответил с излишней сухостью:
— Позвольте сделать маленькое уточнение. Мэтр, это не доктор меня к вам направил, а я его попросил помочь мне встретиться с вами.
— Что ж, пусть будет так! О чем мы будем беседовать? Не думаю, что вы пришли поговорить со мной о вашей карьере, а лошадиный карьер, как мне кажется — и я об этом заранее сожалею, — вас не интересует.
— Нет, мэтр, вы правы, меня больше интересуют преступники, и именно поэтому я пришел к вам поговорить о мадам Арсизак.
— Странная мысль!
— Вы находите?
— То есть я хочу сказать, что у меня нет ничего общего с этой женщиной или, правильнее, у меня не было ничего общего с ней.
— Как раз это меня больше всего и интересовало, мэтр.
— Да, ничего. Вот и весь мой ответ. Вы удовлетворены?
— Нет. Вы — один из лучших друзей Жана Арсизака.
— И именно по этой причине, вы считаете, я должен страдать от того, что он потерял женщину, к которой у него не было никаких чувств? Он поставил не на ту лошадь. Теперь он свободен, и мне непонятно, зачем мне его жалеть?
— Затем, что он находится в довольно сложном положении.
— Дорогой комиссар, плакаться над каждым несчастным — слез не хватит!
— А? Позвольте вам заметить, мэтр, что у вас несколько необычное представление о дружбе.
— До сих пор оно меня устраивало, и мне жаль, что это вас шокирует.
— Где вы находились в ночь убийства?
— Вы хотите занести меня в свой список подозреваемых?
— Для меня подозреваемыми остаются все, кто близко или хоть как-то приближался к мадам Арсизак.
— В таком случае, я отношусь к тем, кто хоть как-то, поскольку старался видеть Элен как можно реже и, насколько это было возможно, издалека. Теперь я могу вас заверить, что в ночь, когда она покинула нас навечно, я, как обычно, играл в карты у Димешо с Музероллем, Лоби и Сонзаем, после чего вернулся к себе и нырнул в супружескую постель.
Несмотря на очевидную или скрытую жестокость вопросов и ответов, которыми обменивались собеседники, их диалог был настолько сердечным, что мог показаться какому-нибудь недовольному слушателю странным и даже нелепым.
— А не смущает ли вас, мэтр, одно прелюбопытное совпадение?
— Совпадение чего с чем?
— Ваших традиционных ночных посиделок с убийством мадам Арсизак.
— Элен всегда старалась подложить свинью другим в самый нужный момент.
— Простите, но не сама же она решила умереть именно в эту ночь!
— Прошу также простить меня, мсье комиссар! Если Элен надумала вернуться именно в эту ночь, то только потому, что не сомневалась: мы все в это время будем у Димешо.
— Мне не совсем ясно, что вы этим хотите сказать.
— Как мне представляется, она догадывалась, что в ее отсутствие Жан пойдет ночевать к своей любовнице, и надеялась поймать его таким образом.
— Версия, должен признать, соблазнительная, однако здесь есть два «но», которые мешают мне поддержать ее безоговорочно.
— И что же это за два «но»?
— Прежде всего, почему мадам Арсизак не пошла сразу на квартиру к мадемуазель Танс, чтобы там и застать своего мужа? А потом, зачем было Арсизаку возвращаться домой в два часа ночи, если он не знал о засаде, готовящейся для него женой?
— Понятия не имею, и, между нами, меня это не волнует.
— В этом я не сомневался с самого начала нашей беседы. Мэтр, вам покойная очень не нравилась?
— Совсем не нравилась.
— А вы не поделитесь со мной почему?
— Она напоминала мне одну из тех порочных и темных лошадок, которых лучше обходить десятой дорогой. Эти мерзкие твари постоянно притворяются, что им нужна ласка, а стоит к ним приблизиться, они тут же норовят вас цапнуть да еще лягнуть как следует.
— Мэтр, скажите, вам известно, что Элен Арсизак имела любовника?
Марк Катенуа пожал плечами.
— У меня-то есть все основания, чтобы знать, а вот то, что вы уже встречались с Лоби, мне не было известно.
— А при чем здесь мсье Лоби?
Адвокат уставился на Гремилли квадратными глазами и тихо пробормотал:
— Думаю, было бы лучше, если бы я промолчал. Единственным оправданием мне может служить то, что я думаю — вы в курсе…
— В курсе чего?
— Но вы же сами сказали, что знаете любовника Элен!
— Да, ну и что?
— Вот тебе на! А разве не Лоби был ее любовником?
Гремилли счел необходимым и дальше валять дурака.
— Прошу прощения, мэтр. Я действительно знал, что речь идет о Лоби, но мне хотелось услышать это от вас.
— А в этом нет никакого секрета. Об этом многие знали.
— И у них это было серьезно?
— Еще как! Вы бы видели, с какими шальными глазами он влетел однажды ко мне в кабинет. Хотел узнать, сможет ли он получить развод. Он пытался меня убедить, что бросил Ивонну — его жену — и двух детей и собирается бежать с Элен!
— А она?
— Она забавлялась… Неужели вы думаете, что она могла уйти от прокурора, которому светила блестящая карьера в магистратуре и, возможно, в политике, ради какого-то преподавателя к тому же вынужденного платить немалые алименты? Эта бестия была не настолько глупа.
— А что же мсье Арсизак?
— Жан? Да ему было плевать на все!
— И чем же закончилось все между Элен и Лоби?
— С полмесяца назад, когда я его встретил, бедный Лоби выглядел совершенно пришибленным. Он шел как раз от Элен, которая заявила ему, что у них все кончено. Он ей не нужен, и она больше не желает его видеть. Бедняга едва не чокнулся. Он тогда не знал, что выбрать — повеситься самому или ее придушить. Я его продержал у себя полдня, опасаясь, как бы он не сделал какую-нибудь глупость.
— А что потом?
— К счастью, вроде бы оклемался.
После некоторого молчания Гремилли спросил спокойно:
— Мэтр, отдаете ли вы себе отчет в том, что называете мне мсье Лоби как вероятного убийцу мадам Арсизак?
Катенуа на какое-то мгновение смутился.
— А ведь действительно… Вы очень ловки, мсье комиссар, и умеете разговорить людей.
— Вы сожалеете, что были откровенны со мной?
— Сожалею или нет, это уже не имеет никакого значения.
Затем, с двусмысленной улыбкой на губах, добавил:
— Надеюсь, вы не будете упрекать меня в том, что я, пусть даже сам того не желая, оказываю помощь правосудию?
Шагая в сторону старого города, где на улице Эгийри жил преподаватель Лоби, Гремилли размышлял о своем разговоре с мэтром Катенуа. Этот страстный любитель лошадей, похоже, без особого трепета относился к такому понятию, как дружба. Беззаботность, с которой он говорил об Арсизаке, и то, каким образом он предал Лоби, озадачивало полицейского. Поведение адвоката вызывало в нем внутренний протест. Оно никак не вязалось с взаимной и глубокой привязанностью, которая сплачивала членов знаменитого клуба. А если предположить, что Арсизак был ближе адвокату (они оба носили мантию), чем Лоби, и он решил принести последнего в жертву, лишь бы отвести все подозрения от прокурора?
На звонок полицейского, стоящего перед искусно отделанной резьбой дверью старинного дома, вышла не полная, но довольно плотная красивая брюнетка.
— Комиссар полиции Гремилли. Мне бы хотелось увидеть мсье Лоби.
— Вам повезло, он только что вернулся из лицея. Пожалуйста, проходите.
Коридор, в который провели полицейского, был узким, но уютным. Обои теплых тонов с изображением античных масок выдавали живущего здесь интеллектуала. Мадам Лоби опередила Гремилли, открыв дверь изрядно заставленного мебелью кабинета.
— Ренэ, мсье хотел бы с тобой поговорить.
Из-за груды книг и тетрадей показался преподаватель. Голос его был столь же холоден, как и во время их встречи в кафе на бульваре Монтеня:
— А, мсье комиссар… Пришли брать у меня уроки?
Не дожидаясь ответа гостя, он повернулся к жене:
— Ивонна, позволь представить тебе комиссара Гремилли, который ищет того, кто свел счеты с Элен Арсизак. Мсье комиссар, моя жена.
Ивонна мило улыбнулась и, перед тем как оставить мужчин вдвоем, спросила полицейского:
— Надеюсь, мсье комиссар, вы не рассчитываете найти его здесь?
После чего она скрылась за дверью, не став, как и ее муж, ждать, что ответит Гремилли. Преподаватель освободил стул от горы бумаг и предложил его нежданному гостю:
— Прошу, мсье комиссар. Слушаю вас.
Подождав, пока Лоби займет свое место за столом, Гремилли спросил:
— Вы преподаете историю, если не ошибаюсь?
— Вы не ошибаетесь.
Его тон не потеплел и не стал менее презрительным, и Гремилли сразу понял, что добиться чего-то серьезного от этого парня с бритым черепом и суровым взглядом сквозь очки без оправы ему не удастся.
— Я буду вам признателен, если скажете мне, где вы были в ту ночь, когда убили мадам Арсизак.
— У мэтра Димешо, с Катенуа и Сонзаем.
— Это мне известно.
— Тогда зачем вы меня спрашиваете?
— Чтобы услышать это от вас.
— Эти наши еженедельные встречи — единственная разрядка, которую я могу себе позволить. Не хватает времени, я уже два года работаю над книгой о Людовике Пятнадцатом, которого мне хотелось бы реабилитировать в глазах общественности.
— Прекрасные намерения.
— На которые вам ровным счетом наплевать?
Решив не нарушать стиль разговора, Гремилли ответил:
— На которые мне ровным счетом наплевать.
— В таком случае, если вам не о чем больше меня спросить…
— Уточню еще одну деталь, с вашего позволения. Если вы отдаете львиную долю своего времени, не считая вашей непосредственной работы, Людовику Пятнадцатому, то каким образом вы умудрялись еще встречаться с Элен Арсизак?
— Пардон?
— Вы были любовником мадам Арсизак.
— Это вопрос или утверждение?
— Утверждение.
— В таком случае смею вас заверить, что вы заблуждаетесь.
— Вы меня поражаете.
— А вы считаете, что я обязательно должен был быть любовником этой дамы?
— Мсье Лоби, прошу вас!..
— Если вы требуете, чтобы я принимал ваши слова всерьез, то и говорите серьезно.
— А я и говорю серьезно.
— Незаметно.
— Сожалею, но мое положение требует, чтобы прежде всего принималось во внимание мое мнение. Если я говорю, что вы были на короткой ноге с покойной, причины смерти которой я пытаюсь прояснить, то это значит, что меня в этом заверили.
— Вам не следует прислушиваться к различного рода болтовне.
— Согласен, но данный случай — особый: речь идет об одном из ваших лучших друзей. Как вы думаете, о ком?
— Не знаю, меня это не интересует.
— Вы производите впечатление очень уверенного в себе человека, мсье, Лоби.
— Так оно и есть, мсье комиссар.
— Автором этого доверительного сообщения был мэтр Катенуа.
— Марк всегда отличался богатым воображением.
— На самом деле?
— Доказательством этому служит то, что каждое воскресенье он убежден, что выиграет пари на трех первых лошадей.
Оба с неприязнью посмотрели друг на друга. Полицейский спросил:
— Почему вы меня воспринимаете с такой враждебностью, мсье Лоби?
— Мне не нравятся люди вашей профессии, мне не нравятся ваши вопросы, и мне не нравится, когда кто-то отнимает у меня мое время. У меня другие интересы.
— Людовик Пятнадцатый?
— В том числе.
— Что, по-вашему, толкнуло мэтра Катенуа на такую ложь?
— Он обожает играть в шутки с друзьями и… не только с ними.
— Вам не кажется несколько рискованным — тем более для адвоката — смеяться над офицером полиции, занимающимся расследованием уголовного преступления, и бросать тень на друга, практически называя его потенциальным преступником?
— Он уже и до этого договорился?
— Он даже поведал мне о том состоянии отчаяния, в котором вы находились, и о вашем желании развестись.
Лоби расхохотался. Гремилли охватила злость:
— Не вижу в моих словах ничего смешного!
— Вам этого не понять!
— Но я только тем и занят, что выпрашиваю разъяснений!
— Самое комичное во всей этой истории — это то, что Марк-то как раз и был любовником Элен.
Чувствуя, что его все дальше и дальше уносит в море лжи, Гремилли готов был опустить руки, отдавшись стихии этого необычного для него мира, где полицию всерьез не принимали. Он был в растерянности и не знал, как себя вести в этой ситуации. Такое с ним случалось впервые. Когда Лоби открывал входную дверь, он задал ему вопрос, который задавал всем:
— Мадам Арсизак была вам симпатична?
— О нет!
— Почему?
— Потому что она ничего не знала о Людовике Пятнадцатом.
Гремилли страшно захотелось что-то сломать или разбить — настолько он был уверен, что над ним в очередной раз посмеялись. Его считали специалистом по самым изощренным хитросплетениям, некоторые из его младших коллег прислушивались к его советам и восхищались им, начальство ценило его… И на тебе! Какие-то перигёские буржуа позволяют себе изгаляться над ним! Так продолжаться больше не может!
Расстояние от дома Лоби до аптеки Сонзая было незначительным, и Гремилли преодолел его за считанные минуты. Посетителей в аптеке не было. Из лаборатории вышел довольно молодой черноволосый мужчина, подстриженный под римского императора Тита. Своим носом-пятачком, ясными и веселыми глазами он напоминал одного из чудных и добрых героев Жюля Лафорга[111].
— Мсье что-нибудь нужно?
— Мсье Сонзай?
— Он самый.
— Мы могли бы где-нибудь поговорить с вами?
— Можно… А в чем дело?
— Комиссар полиции Гремилли. Я ищу убийцу мадам Арсизак.
— Да сопутствует вам удача. Мадемуазель Валери!
Послышалось частое постукивание каблучков, и вскоре появилась Дюймовочка — девушка лет двадцати, маленькая и, казалось, очень хрупкая. Механическая улыбка осветила ее круглое фарфоровое личико.
— Мадемуазель Валери, на некоторое время оставляю магазин на вас. У нас с мсье дело.
В лаборатории каждый сел на табуретку.
— Не хотите ли выпить анисового ликера, приготовленного по моему рецепту, мсье комиссар?
— Нет, спасибо. Мсье Сонзай, на что вы тратите свободное от работы время?
— На провансальских поэтов. Я страстный поклонник провансальской поэзии. А вы?
— Никогда над этим не задумывался.
— И напрасно, позвольте вам заметить. Вы себя лишаете такого удовольствия!
— У меня еще есть время исправить свою ошибку. И давно вы влюблены в эту поэзию?
— Почти с самого рождения, точно не помню. Но по-настоящему я почувствовал этот обжигающий душу ритм в день нашей свадьбы с Жанной, ну, знаете, дочкой изготовителя гусиной печенки, который…
— Простите, я не из Перигё.
— Ах да, действительно! Как я вам сочувствую — более чудесного места в мире, чем Периге, отыскать трудно!
— Я обязательно учту это. Так вы говорите, свадьба открыла вам мир поэзии?
— Да, своего рода смена обстановки, что ли. Признаюсь вам по секрету: я ведь по натуре был раньше гулякой. Стоило увидеть какую-нибудь хорошенькую девочку — и я влюблен по уши!
— И, судя по всему, не ведали поражений?
— Ну почему же. Однако в неудачах я закалялся!
— Значит, вас можно назвать человеком с романтическим и восприимчивым характером?
— Вот это определение меня устроило бы.
— Я чрезмерно рад, что встретил наконец сердечного человека, который, вероятно, сможет мне рассказать, что на самом деле представляла собой Элен Арсизак. У вас такой богатый опыт по части женщин, что вы, как мне кажется, глубже других их понимаете.
— Я думаю, что знал Элен настолько, насколько это было возможно, в общем, как она сама себя знала.
— И каковы ваши ощущения?
— Дура.
— Дура?
— Полная дура.
— Вас не удивит, если скажу вам, что подобную оценку слышу впервые? Элен Арсизак обвиняли во многих грехах, но только не в глупости.
— И тем не менее это так.
— На чем вы основываете свое…
— Она предпочла мне этого придурка Музеролля. Кто бы мог предположить, а?
— Послушайте. Я не знаю, хорошо ли понимаю, но…
— Все просто, мсье комиссар. Она мне очень нравилась, эта Элен Арсизак, такая симпатичная, элегантная. Я бегал за ней так, как ни за какой другой. Я включил всю энергию, применил самые испытанные приемы. Так нет же! Она, смеясь мне в лицо, заявляет, что не свободна и не может мне ответить взаимностью, потому что она — любовница Музеролля, который ей дает именно то, что она ждет. Да она просто нахалка!
После некоторого молчания аптекарь добавил меланхоличным тоном:
— Думаю, что именно этот мой провал и вынудил меня окончательно уйти в провансальскую поэзию.
— И как давно случилось это приключение?
— Месяца два назад.
— Но вы мне сами говорили, что после свадьбы…
— Я говорил в общем. Полного исцеления не бывает. Здесь необходимы терпение и желание. Желание у меня есть, а терпения не хватает.
— Доктор Музеролль был с вами у Димешо в ночь убийства?
— Разумеется. Он только и знал тогда, что выигрывал. Он дважды взял «большой шлем»! Вы представляете! Впрочем, здесь нет ничего удивительного.
— Почему?
— Еще бы! Стоило Лоби увести у него любовницу, как карта так и повалила ему…
Звон разбитой мензурки, которой Гремилли со злостью хватил об пол, заставила аптекаря подскочить в испуге.
Стиснув зубы так, что кровь стучала в висках, комиссар прямо-таки летел к дому доктора Музеролля. Хотевшей было провести его в зал ожидания мадемуазель Танс он заявил раздраженно:
— Не вмешивайтесь не в свое дело! У патрона есть кто-нибудь?
— В настоящий момент нет, но…
Гремилли довольно грубо отстранил молодую женщину и распахнул дверь кабинета, в котором доктор был занят выписыванием рецепта. Тот поднял глаза на буйного посетителя.
— Минуточку, прошу вас…
Закончив свои дела, он улыбнулся:
— Вы понимаете, мсье комиссар, что, входя таким образом, вы могли бы напугать какую-нибудь не совсем одетую клиентку? Пикантный скандал был бы обеспечен. Чем могу вам помочь?
— Ответить мне прямо, долго ли еще вы и остальные будете измываться надо мной?
— Насчет остальных мне ответить трудно, а что касается меня, то мне и в голову никогда не приходило смеяться над вами.
— Тогда почему вы мне не признались, что у вас была связь с Элен Арсизак?
— Что вы такое говорите! Да она ненавидела меня больше всех, не считая своего мужа.
— Это в последнее время, а раньше?
— А «раньше» вообще никогда не было.
— А Андрэ Сонзай придерживается другого мнения на этот счет.
— Он всегда мне завидовал. Не знаю почему, но последнее время он вбил себе в голову, что я хочу отбить у него любовницу.
— Какую любовницу?
— Элен Арсизак, кого же еще?
— Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три…
— Вам нехорошо?
— Послушайте-ка меня внимательно, доктор. Я перетряхну до основания весь ваш клуб и устрою вам грандиозный скандал, если вы будете продолжать мне врать и мешать нормальному ходу следствия!
— Вам будет стоить немалых трудов, комиссар, доказать, что мы лжем, — основного заинтересованного лица уже нет с нами.
— В таком случае, вы признаете…
— Я ничего не признаю, кроме того что на день своей смерти мадам Арсизак была любовницей Сонзая, точно так же, как до этого она принадлежала Лоби и Катенуа.
— То есть еще одна Мессалина[112], о существовании которой никто не подозревал?
— Мы, провинциалы, обожаем скромность.
— Вы все ненавидели Элен Арсизак и все же ее любили?
— Почти все… А что вы хотите, мсье комиссар, в Перигё тоже иногда одолевает скука.
— Неужели вы думаете, что я поверю вам и вашим друзьям?
— А что вам еще остается делать, мсье комиссар?
Никогда еще судебному следователю не приходилось видеть, в каком состоянии может находиться комиссар полиции. Пораженный, он смотрел, как Гремилли метался из угла в угол, жестикулировал и кому-то угрожал.
— Вам надо успокоиться, мсье комиссар.
— Я успокоюсь только после того, как они принесут мне свои извинения! Это же форменный заговор! Они отфутболивают меня от одного к другому и предают друг друга самым бесстыдным образом! Подлецы, мсье следователь!
Бесси бросил взволнованный взгляд в направлении двери и с удовлетворением отметил про себя, что она обита.
— Прошу вас, комиссар, возьмите себя в руки. Если вас услышат…
— Меня услышат, можете не сомневаться!
— Я бы предпочел, чтобы это случилось лишь после того, как у вас будут неопровержимые доказательства. Сядьте.
Гремилли неохотно подчинился и проворчал:
— Иногда, мсье следователь, мне начинает казаться, что вы получаете удовлетворение от того, что со мной происходит.
— Я запрещаю вам так думать, мсье комиссар! Я не меньше вашего заинтересован в том, чтобы вы нашли убийцу мадам Арсизак, и не позволю вам в этом сомневаться! А теперь я вам скажу, что в этой солидарности друзей детства есть что-то трогательное и ободряющее.
— Одним словом, вы одобряете их действия?
— Нет. Я просто восхищаюсь тем, что они ставят дружбу выше всего, а мне, видимо, этого не дано.
— Ставить дружбу выше правосудия?
— Мсье комиссар, я буду вам признателен, если вы оставите подобные мысли при себе. Да и потом, разве у вас есть основания разговаривать со мной в таком тоне? Многого ли вы добились по сравнению с вашим перигёским коллегой? Конечно, вы доказали нам, что мы излишне восхищались женщиной, в которой ничего не было, кроме лицемерия. А что толку? Вы хоть на шаг продвинулись в раскрытии преступления? Нет, ведь правда? Так что же вы тогда хотите?
— Мне следует отныне вести себя более разумно, мсье следователь.
— Полностью разделяю ваше мнение. Считаю, что вы
погорячились, наскакивая на меня.
— Ладно… Перед тем как сойти с дистанции, мне бы хотелось встретиться с мэтром Димешо, который, как мне кажется, послужит дуэс экс махина[113] во всей этой истории.
— Ступайте, только постарайтесь позвонить ему предварительно, поскольку мэтр Димешо частной практикой фактически уже не занимается, и если и принимает у себя, то лишь по предварительной договоренности и далеко не каждого.
— Простите, мсье следователь, но речь идет не о каждом, а о полиции и…
Бесси не дал договорить комиссару, заметив ему самым что ни на есть дружеским тоном:
— Боюсь, мсье комиссар, что мэтра Димешо полиция мало волнует.
Глава V
Гремилли напрасно убил два часа, пытаясь добиться встречи с нотариусом. То он только что вышел, то у него важный клиент и он просил его не тревожить. Не оказали воздействия ни фамилия, ни должность полицейского. От этих заранее известных ответов у Гремилли поднималось давление. Попытки Димешо затруднить законный ход судебного дела только подтверждали догадки полицейского о пренебрежении, с которым мэтр Димешо относился к представителям государственных органов. По телефону ему отвечал один и тот же мягкий, любезный и сочувственный женский голос, который тем не менее не мог сказать — мсье комиссар понимает, — что мэтр Димешо у себя, если его нет на месте. Комиссару ничего не оставалось, как оставить номер своего телефона в гостинице и попросить передать мсье нотариусу, чтобы он позвонил ему, как только освободится.
В этот вечер полицейский ужинал без особого аппетита. Он уже приступал к десерту, когда к его столику подошел старый Блэз Жюнкал, бывший председатель суда. Ему нравилась здешняя кухня, и он частенько сюда захаживал.
— Что-то не ладится, уважаемый мсье? — спросил он.
— Похоже на то.
Старик занял предложенное ему место напротив и принялся слушать рассказ несколько обескураженного полицейского. Когда тот замолчал, эмоционально выразив напоследок свое отношение к поведению мэтра Димешо, он сказал:
— Видите ли, с самого рождения человеческого общества в нем всегда можно было встретить людей, чувствующих себя не в своей тарелке, даже потерянными, и испытывающих ностальгическую тоску по более компактным формированиям, какими были некогда племена и кланы. В зависимости от своего интеллектуального уровня они старались возродить их в той или иной форме, ведь одолеть клан гораздо сложнее, чем индивидуума. Конечно, если вы придете к своему начальству с подобными рассуждениями, оно посмеется вам прямо в лицо. И все же… Димешо, которого я знаю уже многие годы, как раз и стал предводителем такого клана — клана, который, к вашему несчастью, состоит из людей, чей интеллектуальный уровень намного выше среднего. Вам приходится иметь дело не с одним противником, а с шестью, каждый из которых вполне может сразиться с вами на равных. Трое из них — юристы, знающие законы если не лучше, то, во всяком случае, не хуже вас. По какой-то причине, о которой мне трудно что-либо сказать, они, как мне кажется, решили прикрыть убийцу мадам Арсизак. Возможно, все объясняется желанием показать, насколько крепко у них чувство дружбы, особенно к тому, кто попал в беду.
— Вы думаете, им это удастся?
— Я в этом убежден, и мне искренне жаль вас, дорогой комиссар.
Разговор прервал метрдотель, сообщивший Гремилли, что мэтр Димешо просит его к телефону. Буркнув «Наконец!», полицейский спешно удалился.
— Алло? Комиссар Гремилли слушает.
— С вами говорит мэтр Димешо. Если не ошибаюсь, мсье, вы неоднократно мне звонили?
— Мэтр, мне хотелось бы с вами встретиться как можно быстрее.
— Могу я узнать о причинах?
— Это связано с расследованием обстоятельств убийства мадам Арсизак.
— Мсье, я стараюсь как можно реже встречаться с полицией. А что касается смерти особы, о которой вы говорите, то она меня совершенно не интересует.
— И все же…
— Прошу простить меня, мсье, но я привык рано ложиться спать.
— Мэтр, не заставляйте меня вызывать вас официальным путем для дачи показаний.
В тоне нотариуса прибавилось жесткости:
— Нам никак уже угрожают?
— Передо мной стоит задача, которую я обязан выполнить, и я был бы вам признателен, если бы вы мне ее не усложняли.
— Коль уж вам действительно кажется, мсье, что я смогу внести ясность, в которой вы нуждаетесь, тогда жду вас у себя завтра в десять утра. Спокойной ночи.
Оскорбленный, Гремилли вернулся за столик, где его дожидался старый собеседник.
— За кого он себя принимает, этот нотариус? Честное слово, он разговаривал со мной как со своей прислугой!
— Димешо — личность довольно любопытная. Этакий безобидный мизантроп. Он испытывает глубокую неприязнь ко всему роду человеческому, делая исключение лишь для нескольких редких друзей, и презирает всяческую людскую суету. Он предпочитает гастрономию политике и музыку честолюбию. Это человек из другой эпохи, который позволяет себе считать, что лучше философствовать, чем стремиться к наградам. Одним словом, человек особенный.
— У меня складывается впечатление, что вы в восторге от него.
— Не совсем, хотя и сожалею, что не вхожу в число его друзей.
Утро следующего дня выдалось прекрасным. Гремилли вышел из гостиницы и отправился к ожидавшему его нотариусу. Как Лоби, Сонзай и мадемуазель Танс, мэтр Димешо жил в старом городе, на улице Плантье. Такое впечатление, что сквозь стены, покрытые вековой грязью, эти люди вдыхали дурманящий запах былых интриг и заговоров.
Дом нотариуса относился к тем строениям, мимо которых знающие в этом толк туристы пройти не могли. Его фасад, украшенный скульптурами и окнами с массивным переплетом, казался несколько перекошенным под тяжестью веков. Потянув за шнурок звонка, Гремилли услышал далекие и приглушенные звуки гонга. Открывшая дверь служанка — сурового вида женщина лет пятидесяти, одетая во все черное, — провела его в квадратную прихожую, где каждая вещь, казалось, была хранительницей царившей здесь тишины. Массивные ковры и даже обои приглушали звук шагов. Непроизвольно понизив голос, полицейский представился:
— Комиссар Гремилли. Меня…
— Я знаю. Сюда, пожалуйста.
Следуя за горничной, Гремилли прошел длинным коридором и очутился перед дверью из ценных пород древесины, чья прочность ощущалась с первого взгляда. Служанка подала знак, приглашая тем самым посетителя пройти в кабинет мэтра Димешо. Здесь пол также был покрыт толстым ковром. Обшивка из потемневшего от времени дуба достигала середины стен, две из которых были полностью закрыты стеллажами, до предела забитыми книгами. Широкий письменный стол был залит светом постоянно включенной лампы-котелка, рядом со столом стояли старые кожаные кресла, а в углу — изящный книжный шкафчик со стеклянной дверцей, защищенной золоченой сеткой.
— Не подумайте, мсье, что я держу там сочинения по вопросам права. Это все книги о здоровой ж полезной пище, некоторые из них — настоящие реликвии.
Гремилли чувствовал себя неуютно в этой комнате, которую гнетущий полумрак не покидал ни на миг. Нотариус встал из-за стола, чтобы приветствовать гостя. Это был упитанный мужчина высокого роста с заметно выступающим брюшком. Он двигался, опираясь на трость.
— Садитесь в это кресло, мсье комиссар, — пригласил он Гремилли низким голосом.
— Я испытываю неловкость за то, что так настойчиво…
— Забудем это, прошу вас.
Неожиданно в комнате появилась неслышно вошедшая женщина. Она была ниже среднего роста, пухленькая и седоволосая, и в голове Гремилли возник образ не то мышки, не то кролика.
— Извини, Пьер, что приходится беспокоить тебя, но нельзя ли нашпиговать утку не сердцевиной сельдерея, а чем-нибудь другим?
— Ты — настоящая еретичка! Ни в коем случае! И не забудь про зеленый горошек! А арманьяк лучше взять с красной этикеткой.
Она исчезла так же незаметно, как и появилась.
— Моя жена Берта. Замечательная стряпуха, но уж больно много колотится по хозяйству. Впрочем, она считает, что коль ее мать и бабка всю свою жизнь только этим и занимались, то ей и сам Бог велел. Сейчас она готовит утку по моему собственному рецепту, который я составил в прошлом месяце и изрядно им горжусь. Полагаю, мсье комиссар, гастрономия вас не очень-то интересует?
— Как вам сказать… Наверное, погрешу, если скажу, что хороший стол портит мне настроение.
— Я именно так и предполагал. Однако вернемся, прошу вас, к цели вашего визита. Какой вопрос по поводу смерти мадам Арсизак вы хотели мне задать?
— Были ли вы с ней знакомы?
— Скорее понаслышке.
— У вас было какое-то мнение на ее счет?
— Крайне отрицательное! Арсизак стал жертвой мезальянса, но не в социальном смысле этого слова, не в том его звучании, которое слышалось в романах и комедиях девятнадцатого века, а в простом человеческом смысле. Он женился на женщине, у которой не было ни души, ни сердца. То, что принималось всеми за ее так называемый гибкий ум, было не чем иным, как затаившейся злобой, а ее великая добродетель — вульгарной и не имеющей границ хитростью.
— Как женщина она была симпатична?
— К несчастью, ибо красота только облегчала претворение в жизнь ее планов.
— Каких планов?
— Заставить считаться с ней в обществе, блистать, быть во всем первой. Когда ей стало ясно, что она уже не может пускать пыль в глаза своему мужу, она возненавидела его. Общественно опасная личность — вот кем была эта женщина.
— Этого хватило, чтобы ее убить?
Нотариус посмотрел в глаза полицейскому и ответил спокойно:
— По-моему, вполне.
— Мэтр, вы меня удивляете…
— Потому что я искренен с вами?
— Мне кажется, что по-человечески, пусть даже…
Мэтр Димешо рассмеялся.
— Мсье комиссар, не смешите меня вашим человечеством. Вы полагаете, что именно ваша профессия позволяет увидеть темную сторону этого самого человечества. Ваши убийцы старух, воры, сутенеры с их чересчур бесхитростными нравами кажутся вам отбросами и уродством человеческого общества. Заблуждаетесь, мсье комиссар! Поистине ужасное лицо человечества находится в моем письменном столе и в письменных столах моих коллег. Оно просто чудовищно! Эти благовоспитанные и занимающие высокие посты мужчины, изящные женщины — все они готовы глотку друг другу перегрызть за наследство, словно псы за кость. Эти сведенные судорогой и брызжущие слюной физиономии, скрюченные пальцы, ругательства, которые не позволит себе даже последняя шлюха, — вот тот спектакль, зрителями которого мы являемся и который вынуждает нас отвечать полным и безжалостным презрением. Ваша Элен Арсизак была той же породы. Так какие же чувства, по-вашему, могли родиться во мне после того, как я узнал, что кто-то очистил наш город от подобного творения природы?
— А лично у вас были какие-либо причины ее ненавидеть?
— Были.
— Я был бы вам признателен, если бы вы рассказали мне о них.
— Мсье комиссар, проводя свое расследование, вы не могли не слышать о том, каким образом родился наш весьма недоступный для посторонних клуб, где я вроде как за председателя. Люди, которые стали его членами, продолжают оказывать мне, как и раньше, когда они были подростками, свое доверие. Думаю, они любят меня так же, как и я их, поэтому я не допущу, чтобы кто-то пытался делать им гадости. Когда Элен Арсизак поняла, что ей никогда не будет места среди нас, она совсем распустилась от зависти и злости. Чтобы отомстить нам, она решила атаковать каждого по отдельности.
— Вы хотите сказать, что она… пыталась соблазнить товарищей по клубу?
— Да. Вы же сами спрашивали меня, симпатична ли она? Ей это во многом помогло.
— И далеко ли, как вам кажется, зашло дело?
— Спрашиваете, далеко ли зашло? Достаточно сказать, мсье комиссар, что этот чертов эпикуреец Музеролль чуть было не покончил с собой. Слава Богу, я случайно зашел к нему.
— Она отвергла его?
— Она отвергла его. Она предпочла ему Лоби, который уже подумывал о разводе.
— Мэтр, мне необходимо задать вам довольно деликатный вопрос.
— Что ж, задавайте, отвечу, если смогу.
— Положа руку на сердце, как вы думаете, мог ли доктор Музеролль, чувствуя себя униженным и раздираемый жаждой мести, решиться на убийство Элен Арсизак?
Нотариус ответил не сразу. Он не спеша достал из ящика стола прекрасно обкуренную пенковую трубку и принялся тщательно набивать ее табаком.
— Вы задаете мне очень трудный вопрос.
— Я это хорошо понимаю, мэтр, и был бы вам очень признателен, если бы вы ответили мне на него, при условии, разумеется, сохранения строжайшей тайны.
— В таком случае — да.
— Спасибо.
— Только не ошибитесь, мсье комиссар полиции! Я искренне думаю, что Музеролль, махнув на себя рукой, мог пойти на убийство этой женщины. Однако допускаю, что на его месте мог оказаться и Лоби, чей семейный очаг был на грани краха, равно как и Сонзай, который вполне мог опередить всех в этом деле… очищения. И разумеется, Катенуа, который хотя и производит впечатление беззаботного весельчака, но обладает чувствительнейшим сердцем и удивительной наивностью, что абсолютно не вяжется с серьезностью, которую он проявляет в работе. И как все наивные люди, он способен разъяриться не на шутку, если увидит, что его околпачили… Не говоря уже о самом Арсизаке, у которого были все основания разделаться с той, которая только и делала, что портила ему кровь.
— И все, таким образом, возвращается на круги своя, — раздраженно заключил Гремилли.
— Сожалею, мсье комиссар.
— Хотелось бы в это верить, мэтр.
— Вы бы меня обидели, если бы сомневались в этом.
— Скажите мэтр, все ли ваши друзья присутствовали на последнем собрании?
— Все, кроме Арсизака, которому подфартило вдохнуть глоток свободы.
— И они оставались у вас до…
— Мы разошлись где-то в половине третьего ночи. Наши встречи за бриджем позволяют нам постоянно пополнять нашу общую и вполне солидную кубышку. Мы ее ежегодно опустошаем ради знакомства с очередным гастрономическим районом Франции, приглашая к себе какого-нибудь известного шеф-повара. Итак, мсье комиссар, я убежден, что все, о чем вы хотели узнать, вам теперь известно.
Если бы Гремилли вовремя не сдержался, то влепил бы нотариусу хорошенькую оплеуху, настолько он был уверен, что тот, как и его дружки, просто потешался над ним.
— Вы предельно ясно излагаете свои мысли, и я не могу не оценить по достоинству вашу иронию.
— Неужели вы чем-то недовольны?
— Недоволен? С чего вы взяли?! На что мне жаловаться, если все из кожи вон лезут, чтобы мне помочь! Конечно, меня кормят баснями, закладывают мне друг друга, но все это исключительно из желания оказать мне услугу. Вам нужен преступник? Да пожалуйста, хоть десяток! Обижаться в моем положении — значит быть неблагодарным.
— Действительно, вам жаловаться не на что. Вы простите, что я не могу вас проводить, но эти чертовы дряхлые ноги совсем уже отказываются мне служить. Берта!
Старая запуганная мышка вновь поспешно появилась в кабинете.
— Ты звал меня, Пьер?
— Будь так любезна, проводи мсье комиссара.
В словах «мсье комиссара» Гремилли услышал столько сарказма, что невольно сжал кулаки.
— Рад буду увидеть вас снова, мсье комиссар.
— Чувствую, мэтр, ждать этого вам придется недолго.
— Вы всегда будете желанным гостем.
Ни тот, ни другой не счел нужным проститься за руку.
Идя следом за Бертой, полицейский подумал, что эта миниатюрная и чудаковатая женщина, вероятно, могла быть слабым местом обороны, хитроумно организованной — в этом можно не сомневаться — нотариусом. Как же к ней подступиться? Открывая дверь, она сама обратилась к нему с нескрываемым испугом:
— Вы… вы снова к нам придете?
— Зачем? Вы что, боитесь?
Затаив дыхание, она шепотом произнесла еле слышное «да». Гремилли нагнулся к ней:
— Почему?
— Потому что во всем этом много лжи.
Комиссар почувствовал, что с его плеч свалилась гора. Каким бы хитрецом ни был мэтр Димешо, он, суда по всему, не предусмотрел, что один из второстепенных, как ему казалось, элементов его крепости может дать трещину.
— Ваш муж никуда не выходят?
— Что вы! Он каждый день совершает своя прогулки.
— И где он гуляет?
— Вот уже несколько лет, как он не покидает пределов старого города.
— И в котором часу он выходит из дому?
— Около одиннадцати утра и семи вечера.
Гремилли уходил с затеплившейся надеждой, о которой он и мечтать не мог всего несколько минут назад.
— Ну и как, мсье комиссар, ваш визит?
Полицейскому никак не удавалось до конца понять Бесси. Разумеется, это был в высшей степени честный следователь, но вместе с тем комиссар не ощущал никакой, даже моральной, поддержки с его стороны. Сам того, видимо, не сознавая, он и себя относил к этому клану и безотчетно становился на сторону членов клуба. Комиссар объяснял это поведение Бесси тем, что, узнав об истинной сущности убитой, он вознегодовал. Она умудрялась дурачить почти всех в Перигё, включая и Бесси, который не мог ей этого простить.
— Весьма насыщенный визит, мсье следователь.
— Не правда ли, удивительный человек этот Димешо?
— Действительно удивительный.
— Если он окажется замешанным в этом деле, то нам с вами предстоит попотеть, пробираясь к истине.
Гремилли показалось, что в словах следователя прозвучало некоторое ликование.
— У меня нет доказательств, мсье следователь, но я на сто процентов убежден, что мэтр Димешо прекрасно знает, где нужно искать истину.
— Но этого он нам не скажет.
— Но этого он нам не скажет. Разве что…
— Разве что?
— Видите ли, мсье следователь, даже в самых искусно разработанных планах можно найти червоточинку. Не видя ничего перед глазами, кроме поставленной перед собой цели, преступники разрабатывают свою стратегию, пытаясь в ней все предусмотреть. Однако часто потом случается то, чего предусмотреть практически невозможно: прохожий неожиданно появляется именно в тот момент, когда задумано ограбление магазина, или какой-нибудь грузовик перекроет дорогу улепетывающим грабителям и т. д. И подобные непредвиденные обстоятельства порой становятся для нас, полицейских, единственной зацепкой в раскручивании дела. Часто такая вот непредвиденная деталька и решает участь преступника.
— Вам кажется, что вы…
— Да.
— И что же это за «деталька»?
— Мадам Димешо.
— Вот тебе на! Вы меня поражаете. Я знаю Берту на протяжении уже многих лет и не могу себе даже представить, что она способна предать своего мужа.
— Она пока еще его не предала.
— Но вы полагаете, что она это сделает?
— Да.
— Почему вы так в этом уверены?
— Потому что она испытывает страх, — и Гремилли вкратце пересказал свой разговор с женой нотариуса, заключив при этом: — Завтра я схоронюсь в укромном местечке и, когда нотариус выйдет на одну из своих ежедневных прогулок, попытаюсь переговорить с его супругой. Она расколется, я в этом не сомневаюсь.
Следователь был не столь уверен.
— Мне хотелось бы, чтобы вы оказались правы, мсье комиссар. Однако не могу не сказать, что ваши впечатления о мадам Димешо совершенно не соответствуют моим представлениям об этой женщине.
— Позвольте напомнить, мсье следователь, что нарисованный вами портрет мадам Арсизак оказался совершенно непохожим на оригинал.
— Тут мне сказать нечего, и я сам готов протянуть вам розги и подставить спину. И все-таки замечу вам, что мадам Димешо — доктор филологических наук.
— Ну и что?
— Просто я думаю, что женщина такого интеллектуального уровня не может сразу впасть в панику.
— Это еще ни о чем не говорит. Нет абсолютно никакой связи между интеллектуальной мощью, необходимой при расшифровке текстов, и твердостью духа, которой так часто не хватает тем, кто оказался замешан в судебное дело.
— Время — и самое ближайшее — покажет, насколько вы правы, мсье комиссар.
От бессилия у Гремилли опускались руки, и он уже никому не верил в этом городе, где каждый его жест, каждый его шаг были под бдительным наблюдением, комментировались и немедленно передавались по кругу. Именно по этой причине он и сказал следователю, что собирается нанести визит мадам Димешо завтра, хотя на самом деле решил это сделать сегодня же вечером.
В половине седьмого полицейский устроился за столиком небольшого кафе, из которого хорошо просматривалась дверь интересующего его дома, и стал ждать появления нотариуса.
Ровно в семь часов на пороге появился опирающийся на трость с резиновым набалдашником Димешо. Запрокинув голову, он зашагал в сторону центра старого города. Гремилли выждал минуть десять, опасаясь непредвиденного возвращения того, чье присутствие могло спутать все его планы. Затем он решительно направился к двери, над которой была прикреплена вывеска нотариальной конторы. Ему открыла Берта Димешо все с тем же видом смертельно напуганного человека.
— Мой муж только-только ушел.
— Я пришел поговорить не с ним, а с вами, мадам.
— Со мной? Но…
Тоном, в который он постарался вложить как можно больше теплоты, полицейский продолжал настаивать:
— Уверяю вас, мадам, мне крайне необходимо с вами переговорить.
Все еще колеблясь, она наконец развела руки, выражая тем самым одновременно непонимание и вынужденное смирение.
— Если вы так настаиваете… Пройдемте в салон.
Комната, в которой хозяйка дома усадила гостя, была, как и остальные апартаменты, музеем в миниатюре. От каждой вещицы и каждого предмета мебели веяло стариной, за которой супруги Димешо, казалось, решили раз и навсегда укрыться от внешнего мира.
— Итак, мсье?
— Мадам, вы дали мне понять сегодня утром, что кругом все врут…
— Я этого не помню.
— Послушайте, мадам, я не думаю, что вы будете уподобляться тем, кто… Одним словом, после того как вы высказали мне свою обеспокоенность — возможно даже, это были угрызения совести, — вы уже не можете идти на попятную! Итак, кто врал?
Гремилли нетрудно было заметить, что глаза мадам Димешо были наполнены заячьим страхом.
— Говорите же, мадам, говорите! Ваше молчание может усугубить и без того нелегкое положение вашего мужа.
— Вы так считаете?
— Еще бы!
— Но если я вам скажу…
— Тогда я забуду сегодняшний мой визит к мадам Димешо и приду завтра, позвонив в вашу дверь с таким видом, будто я это делаю впервые в жизни.
— Вы даете мне слово?
— Считайте, что оно у вас уже есть.
— В таком случае… В тот вечер доктор Музеролль ушел от нас около одиннадцати вечера.
— Вам известно, куда он ходил?
— К мадам Арсизак.
Наконец-то! Вот оно!.. Теперь все строение, возведенное с такой тщательностью ради сокрытия убийцы мадам Арсизак, рушилось прямо на глазах, потому что архитекторы не учли одну деталь — хрупкую мадам Димешо.
— Он вам сам это сказал?
— Ему незачем было мне об этом сообщать, потому что она сама ему позвонила. Все были увлечены бриджем, и я сняла трубку, не желая их беспокоить.
Гремилли был настолько счастлив от всего услышанного, что даже не подумал попросить дополнительных разъяснений. Он спешно простился с хозяйкой и помчался к доктору Музероллю.
Врач долго не открывал, и когда наконец он появился в дверях, весь его вид красноречиво говорил о крайнем неудовольствии.
— Не буду отрицать, мсье комиссар, вы очень любезный человек, но неужели даже в такое время нельзя оставить людей в покое? Я как раз готовлю себе ужин, и вот…
— Я сожалею, доктор, что отрываю вас от дела, но боюсь, что теперь мне придется это делать гораздо чаще… Короче, должен вам сообщить, что вы попали в хорошенький переплет.
— Быть того не может!
— Может, еще как может!
— В таком случае устраивайтесь в моем кабинете, а я пока пойду убавлю огонь. Благодаря вам, мсье комиссар, можно считать, что сегодняшний мой ужин испорчен.
— Я в этом просто убежден, доктор.
Музеролль отсутствовал всего несколько секунд, и когда он вернулся, лицо его сияло, как обычно.
— Я слушаю вас, мсье комиссар.
— Доктор, я обвиняю вас в убийстве мадам Арсизак.
— Этого еще недоставало!
— Вы признаете теперь, что игра в прятки окончена?
— Признаю? Что за шутки! Ничего я не признаю! Что вы все пытаетесь пришить мне это дело?
— Потому что начиная с нашей первой с вами встречи и вплоть до сегодняшнего дня вы не перестаете лгать.
— Легковесное утверждение, вам не кажется?
— И потому еще, что в ночь преступления, практически в момент преступления, вы находились в доме убитой.
— Вам решительно все известно.
— И из надежных источников. Мне сама мадам Димешо обо всем рассказала.
— Ох уж эта доверчивая Берта… Да она может рассказать все, что душе угодно.
— Не старайтесь, доктор. На сей раз этот номер у вас не пройдет. Отвечайте — да или нет: ходили ли вы к мадам Арсизак в ночь убийства и находились ли вы там в час убийства?
— Она позвонила на квартиру нотариуса, зная, что я нахожусь там, поскольку это был день нашей традиционной встречи. Она начала с того, что спросила меня, с нами ли ее муж. Я вынужден был ответить ей, что нет. Затем она мне пожаловалась, что чувствует себя очень плохо, а в доме никого нет. Я не мог уклониться от своих обязанностей. Я — врач. Она сама мне открыла, мы поднялись в ее спальню, где я ее осмотрел. Верите ли вы мне, мсье комиссар, или нет, но задушил ее не я.
— Чем вы это докажете?
— Около полуночи я вернулся в дом нотариуса.
— А мне показалось, что вы пошли навестить мадемуазель Танс и пробыли у нее до двух часов ночи…
— Я действительно пошел к ней, но только после того, как предупредил Димешо о возвращении Элен. Я пришел на улицу Кляртэ как раз в тот момент, когда Жан и Арлетта выходили из машины. Они ужинали в Сен-Сиприене, что в пятидесяти восьми километрах от Перигё. И мы на самом деле пробыли вместе почти до двух часов ночи, обсуждая наше ближайшее будущее.
— А потом?
— А потом я вернулся к себе.
— Вы можете чем-нибудь доказать, что Элен Арсизак была еще жива до того, как вы встретились с ее мужем?
— Около половины первого ночи она снова позвонила нотариусу и сообщила, что ей никак не удается уснуть. И потом, мсье комиссар, врачи редко имеют склонность убивать своих клиентов, разве что по недосмотру, но я не думаю, что удушение можно списать на неосмотрительность.
— Арсизак ушел вместе с вами?
— Нет, он решил остаться у Арлетты до утра.
— Почему же он изменил свои планы?
— Наверняка из-за необходимости объясниться с женой.
— Скорее всего, это и имело место.
— Нет, мсье комиссар! Когда Жан пришел на бульвар Везон, его жена была уже мертва, что и подтвердил ваш судебно-медицинский эксперт. Вы удовлетворены, мсье комиссар?
— А насчет ужина в Сен-Сиприене…
— Ресторан «Монастырь», мсье комиссар. Жан хорошо знаком с его хозяйкой. Они ели там кролика «по-королевски» и поджаренную в собственном соку утку. Вам нетрудно это проверить.
— Что я непременно и сделаю. А к чему тогда все предыдущие истории?
— Вероятно, нам хотелось оценить ваши способности.
— Я нахожу странным, доктор, что вы могли забавляться в подобной ситуации.
— О, вы знаете, мне слишком часто приходится сталкиваться со смертью, чтобы принимать ее близко к сердцу.
В очередной раз Гремилли вынужден был испытать разочарование. Стоило ему только подумать, что наконец-то он достиг цели, как оказывалось, что он к ней даже и не приближался. Почти без всякой надежды он отправился к нотариусу.
В отличие от доктора, мэтр Димешо, похоже, не очень удивился позднему визиту полицейского.
— Моя жена, мсье комиссар, покаялась передо мной за свой слишком длинный язык, и я ждал вашего прихода.
— Почему же слишком длинный?
— Потому что ей не следует рассказывать посторонним обо всем, что происходит у нас дома.
— Даже ради того, чтобы снять подозрения с невиновного?
— Насколько мне известно, вы сами были далеки от мысли, что убийство мог совершить Музеролль, не так ли?
— Как бы там ни было, вы подтверждаете, что мадам Арсизак звонила доктору около одиннадцати вечера?
— Сначала в одиннадцать, а затем в половине первого ночи или чуть позже. Правда, Музеролль к этому времени уже ушел.
— Раньше вы мне этого не говорили.
— А к чему мне было это говорить, если все газеты сообщали о том, что, по словам судебно-медицинского эксперта, смерть наступила около половины первого ночи? Ее последний телефонный звонок лишь подтверждал официальное заключение. Вероятно, ее убили сразу после этого второго звонка.
— В то время как доктор и прокурор находились в гостях у мадемуазель Танс, а трое остальных были здесь, рядом с вами?
— Вовсе нет.
— А? Что, кто-то из троих отсутствовал?
— Все трое.
— Они не пришли играть в бридж в тот вечер?
— Напротив, но, представьте себе, произошла довольно комичная сцена, которая напомнила мне те времена, когда я присматривал за мальчишками в лицее. Сразу после того как Музеролль ушел, мы возобновили игру, которая без доктора оказалась не столь увлекательна. Кое-как дотянув до конца партию, скучающие Сонзай и Катенуа сцепились вдруг из-за того, кому из них удалось лучше сохранить спортивную форму. Дружеская перебранка не оставила безучастным и Лоби, и теперь все трое пытались убедить друг друга в своей молодецкой удали. В итоге все закончилось заключением пари, и, поскольку в этот поздний час улицы Перигё практически безлюдны, они решили немедленно устроить состязание.
— И что же это было за состязание?
— Кто быстрее добежит до того места, где кончается улица Кампньяк. Однако у каждого должен быть свой маршрут. Сонзай, который считал себя более сильным, выбрал довольно сложный путь: проспект Торни, проспект Монтеня, площадь Франшвилль, бульвар Везон и улица Кампньяк. У Лоби маршрут был не таким длинным: улица Плантье, где мы с вами сейчас находимся, площадь Клотр, улица Фарж, площадь Франшвилль, бульвар Везон и улица Кампньяк. Ну и последний, Катенуа, решил бежать по улице Нотр-Дам, улице Ламмари, площади Кодерк, улице Тайферу, бульвару Везон, чтобы, как и остальные, финишировать на улице Кампньяк.
— Несколько странная затея, принимая во внимание зрелый возраст мужчин и их положение в обществе… Вы не находите?
— Разумеется, но у меня они обретали свою молодость. Впрочем, они выбрали это место финиша только потому, что именно там они встречались в свои лицейские годы и именно оттуда начинали свой забег на длинную дистанцию в будущем.
— И как бы случайно все трое пробегали по бульвару Везон практически в одно и то же время, то есть тогда, когда произошло убийство.
С плохо скрываемым притворством нотариус изобразил на лице удивление.
— А ведь верно! Я даже и не подумал об этом…
Гремилли ответил ему в том же тоне:
— Я в этом и не сомневался. И каким же образом, мэтр, вы рассчитываете убедить меня в том, что эти гонки не являются хорошо разыгранным вами фарсом?
— Вы мне не верите, мсье, но свидетели мои — ваши друзья, то есть, я хочу сказать, полиция.
— Вот как?
— Дело в том, что с каждым из соперников, жаждущих победы, случилось досадное приключение. Сонзай, не остановившийся на проспекте Монтеня по требованию двух полицейских на мотоциклах, принявших его за скрывающегося от погони, был ими в конце концов задержан и вынужден предъявить свои документы. Со злости он сказал им пару ласковых, за что и оказался в участке. К Лоби прицепилась какая-то молодежь, от которой ему пришлось отбиваться, и он также побывал в участке. А что до Катенуа, то он, споткнувшись, растянулся прямо у ног компании шедших в ночную рабочих парней, которые помогли ему подняться, проводили в еще работающее бистро и угостили стаканчиком. Думаю, вам не составит труда найти в комиссариате составленные протоколы, кроме, конечно, случая с Катенуа, но, обратившись к хозяину кафе…
Наступило молчание. Оба выжидающе смотрели друг на друга. Гремилли понимал, что потерпел очередное поражение и что мадам Димешо так же ловко, как и остальные, провела его. Ему следовало бы прислушаться к мнению Бесси. Она просто прикинулась дурочкой, а в итоге он сам оказался в дурацком положении…
Полицейский встал.
— Хочу сделать вам, мэтр, маленькое признание: по-моему, никому и никогда не удастся найти убийцу мадам Арсизак.
— Поверьте, мне больно это слышать.
Лгать с большей наглостью вряд ли кому было под силу.
Солнечные лучи переполняли строгий кабинет следователя Бесси, где все выглядело празднично, включая бюст, олицетворяющий Республику. Бесси потеплевшим взором разглядывал стоящего с унылым видом комиссара Гремилли.
— Вы действительно решили отступиться, мсье комиссар?
— Да, я отказываюсь от дальнейшего расследования, мсье следователь, и использую этот последний день на составление отчета. Завтра утром я возвращаюсь в Бордо.
— Ваше решение меня удивляет.
— Любой бы на моем месте поступил точно так же. Меня направили в Перигё, чтобы я нашел убийцу замечательной женщины, чью смерть оплакивает весь город. Мне удается установить, что этот спустившийся на землю ангел был на самом деле самой настоящей стервой. Рядом с ней муж, с которым она, если сказать мягко, не ладит, и несколько мсье, причем не исключено, что все они были ее любовниками и каждый из них вполне мог испытывать желание разделаться с ней. К тому же любое мое вмешательство рискует вызвать нежелательный скандал, которого все боятся, включая обитателей Дворца правосудия, не правда ли, мсье следователь? Я знал, что мне не будут мешать проводить расследование…
— Так вы должны еще радоваться!
— …но я также знал, что никто палец о палец не ударит, чтобы оказать мне содействие в этом нелегком деле.
— Вы преувеличиваете, мсье комиссар!
— Вы искренне так считаете, мсье следователь? Все эти мсье принадлежат к мощному политическому клану. Бесчестие одного из них моментально отражается на всех и дает лишний козырь в руки их противников, которые не преминут им пойти в первый же день предвыборной кампании.
— Даже если вы правы и перспектива действительно столь безрадостна, все равно ничто не мешает нам выполнять свой служебный долг.
— Конечно, мсье следователь, но вы же сами прекрасно понимаете, что никто не сможет выполнить свой долг в подобных условиях.
— Почему же?
— Потому что виновный никогда не будет обнаружен. Доказательств никаких, зато у каждого из подозреваемых есть свое алиби, и его невозможно поставить под сомнение без того, чтобы не бросить тень на честь и достоинство какой-нибудь важной особы города. Муж? Дудки! В момент убийства он как раз вставал из-за стола в пятидесяти восьми километрах отсюда. Доктор? Жертва пыталась связаться с ним по телефону сразу после того, как он от нее ушел. Преподаватель? Аптекарь? Адвокат? Они скакали наперегонки вокруг дома убитой, о чем свидетельствуют протоколы полиции. Все их алиби неопровержимы и настолько перепутаны между собой, что, атаковав одного, обязательно заденешь остальных. Наконец, главное действующее лицо и странная личность одновременно — человек, который, вероятно, и организовал весь этот спектакль, как он организовывал когда-то приключенческие встречи веселой банды, за которой он присматривал в лицее. И вот игра, начатая двадцать пять лет назад, достигла своей кульминационной точки…
— Мне понятна ваша горечь, но не слишком ли далеко она вас уносит?
— Они основательно поизмывались надо мной, мсье следователь. Они заставили меня искать там, где им этого хотелось. Даже жена нотариуса, напоминающая жирного и трясущегося от любого шороха кролика, — и та умудрилась меня одурачить.
— Я вас предупреждал.
— Она направила меня именно туда, куда ей было приказано меня направить. Сообщая мне об отсутствовавшем Музеролле, она давала возможность своему мужу поведать мне об отсутствии всех остальных и о втором телефонном звонке мадам Арсизак, сняв таким образом с доктора все подозрения. Одна мысль, что нотариус и его жена посмеялись надо мной, приводит меня в бешенство.
— Однако, мсье комиссар, у вас наверняка есть свое мнение относительно личности убийцы?
— Разумеется, у меня есть такое мнение, но я считаю совершенно бесполезным высказывать его. Ведь я не могу подкрепить его хоть какими-нибудь доказательствами. Необычность ситуации заключается в том, что случившееся является одновременно и преступлением и игрой. А нас играм не обучали. Сожалею.
— Итак, вы отказываетесь от дальнейшего расследования. Ваше решение окончательно?
— Окончательно, мсье следователь. С вашего позволения, я закроюсь в одном из ваших кабинетов и займусь составлением рапорта, оригинал которого я вручу вам. Я выскажусь в пользу версии о грабителе, застигнутом мадам Арсизак врасплох и решившем вернуть украденные деньги, потому что он испугался. Глупость, конечно, несусветная, но другого выхода не вижу, чтобы хоть как-то избежать позора.
— Сомневаюсь, чтобы общественность Перигё была этим удовлетворена.
— Ничего не поделаешь, придется ей довольствоваться тем, что есть. К тому же через некоторое время она предпочтет снова благоговейно произносить имя жертвы, а не ломать себе голову над личностью какого-то другого возможного убийцы.
После того как Гремилли ушел, следователь тут же отправился к председателю суда с намерением поставить его в известность относительно неожиданного заявления комиссара. Выслушав рассказ Бесси, председатель заключил:
— С точки зрения закона, дружище, нас, возможно, не все должно устраивать в этом деле, однако в глазах горожан такой вывод, несомненно, будет казаться справедливым. Жертва не заслуживает того, чтобы мы ее оплакивали. И все-таки никогда бы не подумал, что мои соотечественники окажутся способными преподнести мне перед пенсией подобный подарок. Я думал, что знал людей как самого себя, но, оказывается, заблуждался на этот счет.
Свой последний — светлый и тихий — вечер в Перигё Гремилли решил использовать на очередную прогулку по старому городу. Неспешно шагая, словно турист, по старым кварталам, он вспоминал о тех чувствах, которые охватили его несколько дней назад, когда он впервые оказался в этом уголке. Если бы кто-нибудь тогда сказал ему, что впереди его ждут непреодолимые препятствия, он бы посмотрел на него с улыбкой человека, за плечами которого богатый тридцатилетний опыт. И вот тебе…
Он ходил долго. На улице Эгийри он прошел около дома преподавателя Лоби, затем по Сажес спустился к жилищу слабовольного Суже и его мстительной супруги. Пройдя по проспекту Домениль и по бульвару Жорж-Соманд, полицейский вышел на улицу л'Абревуар и поприветствовал дверь Агаты Роделль. Через некоторое время, поднявшись по Барбекан и свернув на Плантье, он оказался рядом с домом нотариуса как раз в тот момент, когда тот из него выходил.
— Добрый вечер, мэтр.
— Бог мой, это вы, мсье! В такой час! Сыщикам покой неведом?
— Я на каникулах.
— Действительно?
— Свою работу я сделал, дело Арсизак закрыто. Завтра утром я уезжаю, а сейчас вот решил подарить себе последнюю прогулку по старому городу, в который я влюбился.
— Вы его искренне полюбили, мсье?
— Думаю, что да.
— В таком случае вы не должны отказываться от стаканчика, которым я хочу вас угостить. Я угощаю вас не как полицейского, а как ценителя этого прошлого, которое, к сожалению, не вызывает никаких чувств у большинства наших современников.
В кабинете, смакуя коньяк многолетней выдержки, мэтр Димешо объяснил:
— Я вот уже лет десять не выхожу, так сказать, за пределы моего старого города. Сегодняшний мир меня не интересует. Он неведом мне, равно как и я ему. Я ничего не требую, и у меня ничего не просят. Но я изо всех сил защищаю старый Перигё и тех, кто его любит. Только и всего. А ваши законы, указы да положения меня не волнуют. Их просто для меня не существует. У меня, к счастью, есть верная мне клиентура, которая избавляет меня от необходимости покидать дом. Я выхожу лишь дважды в день, чтобы пройтись по своим владениям. Мне шестьдесят пять, мсье комиссар. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы иметь возможность позволить себе все то, что вы видите вокруг себя. Я решил вовсю попользоваться этим в течение последних лет, которые мне остались. Вот почему я придумал себе эти границы: бульвары Турни, Монтеня, Фенелона и Жорж-Соманд. И если я выхожу за пределы этого района, то только в исключительных и, к счастью, редких случаях. Я, мсье комиссар, чувствую себя уставшим и ставшим на прикол кораблем.
— Я завидую вам, мэтр, и не обижаюсь на вас за то, что вы оставили меня в дураках.
— За ваши слова я ответственности не несу.
— Сейчас, конечно, поздно и поэтому бессмысленно сожалеть, и все-таки я испытываю это чувство, когда думаю, что, если бы вы в свое время согласились мне помочь, мне удалось бы решить загадку, связанную со смертью мадам Арсизак.
— И кому бы это было нужно? К тому же я не полицейский. Каждый должен заниматься своим делом.
— Знаете, мэтр, несмотря на то что у меня нет никаких доказательств чьей бы то ни было виновности, мне кажется, что я понял все или почти все, если не считать — и это не дает мне покоя — мотивов содеянного.
Вместо ответа нотариус принялся снова наполнять бокалы. Наконец он поставил на стол бутылку и сказал:
— Вы сказки любите, мсье комиссар?
— Ну…
— Если вы не против, я вам сейчас одну расскажу.
— Послушаю вас с удовольствием.
Мэтр Димешо раскурил трубку и приступил к рассказу.
— Однажды в одном неизвестном нам городе жили-были пятеро молодых людей. Все они были знатны, но с разной степенью одаренности. Самым заметным среди них… так, как же мы его назовем? Что вы скажете, если это будет Жан? Итак, Жан решил отдать себя государственной службе. Работал он самозабвенно, стараясь при этом быть замеченным, поскольку мечтал подняться как можно выше по служебной лестнице. Несмотря на то что их профессиональные интересы были совершенно различны, эти пятеро молодых людей, оставаясь верными давней дружбе, каждую неделю собирались у своего бывшего наставника. Под его строгим и дружеским оком они окунались на несколько часов в воссоздаваемый ими рай былой молодости. Все у них было ладно, да вот незадача:
судьба распорядилась так, что Жан женился на ведьме… Я вам не говорил, что мои сказочные герои жили в средние века в одном из городков Лангедока?
— Нет, но я бы догадался.
— Так вот. Чтобы получше дурманить людей, колдунья принимает облик весьма очаровательной женщины. Ясность ее очей скрывала неведомую по своему коварству душу. Эта женщина была убеждена, что в ее власти творить все, что ей вздумается, с бедным Жаном, ослепленным любовью и не способным увидеть ее истинное нутро. Однако друзья Жана проявляют больше здравомыслия и, невзирая на его заклинания, отказываются принять ее в свой круг. Тогда ведьма, распираемая злобой, решает отомстить и заводит себе любовника. Боясь разонравиться королю и, как следствие, поставить крест на своем будущем, Жан не решается устроить скандал. К тому же никто бы ему не поверил — настолько двор находится под воздействием чар ведьмы. Жан испытывает невыносимые страдания от этой неверности, но находит убежище и обретает покой среди своих друзей. Тогда злодейка решает покарать последних.
— И к чему сводилась ее кара?
— Один из них, Франсуа…
— У него было такое же имя, как у доктора Музеролля?
— Смотри-ка, и вправду!.. Так вот, у этого Франсуа была девушка, в которой он души не чаял и на которой хотел жениться. Колдунье удается добиться расположения этой девушки и ложными доказательствами убедить ее в том, что ее друг изменяет ей. Та ей верит и в конце концов покидает Перигё, уезжая в Пуатье, где в отместку выходит замуж. Франсуа до сих пор не находит себе места.
— А каким образом ему стало известно, что причиной его несчастья была ведьма, как вы ее называете?
— Она кичилась этим перед мужем, который вынужден был пойти к своему другу и просить у него прощения.
— Стало быть, у Франсуа имелись резоны ненавидеть ведьму?
— Вне всякого сомнения.
— До такой степени, чтобы лишить ее жизни?
— Почему бы нет? Спустя некоторое время после этого жена друга Жана, Ренэ…
— Имя, как у Лоби…
— Какое это имеет значение? Так вот, Ивонна тяжело заболевает, ее госпитализируют и проводят серьезные обследования. Ведьма тут как тут. Она ее убеждает в том, что у нее рак и что врачи скрывают это от нее из жалости. Ивонна впадает в такую депрессию, что никто уже не видел в ней жильца на этом свете. Три года ей понадобилось на то, чтобы прийти в себе, три года, в течение которых Ренэ трясло, особенно после того как он узнал, что она пыталась покончить жизнь самоубийством.
— Еще один, кто имел право ненавидеть ведьму, не так ли?
— Разумеется!
— И испытать желание отомстить?
— Возможно. Что касается Андрэ…
— Или Сонзая…
— …то этот известный в молодости ловелас был на грани развода, после того как его жене стало известно обо всех его действительных и придуманных похождениях. Она получила несколько анонимных писем, автором которых была все та же ведьма. Его друзьям пришлось проявить немало упорства, а его старому наставнику — весь свой авторитет, чтобы убедить Жанну простить его.
— Значит, он тоже…
— Он тоже, мсье комиссар…
— И… в этой сказке был еще один молодец, который, несомненно, звался Марком, как Катенуа…
— Вы удивительно догадливы, мсье комиссар. Представьте себе, этот Марк был самым чувствительным, самым романтичным из всех. Он был без ума от своей жены Юдифи, высокой брюнетки с глазами лани, и боготворил обоих своих детей. Однако — и для меня до сих пор остается загадкой, каким образом ей это удалось, — ведьма внушила ему, что Юдифь регулярно ставит ему рога и что его старший мальчуган вовсе не его… Очередная семья чуть не распалась, и Марк был готов уже с этим смириться. Встряска для обоих была такой, что они долго не могли от нее очухаться. Не мне говорить вам, мсье комиссар, как иногда бывает трудно доказать правду.
— Да уж! Итак, если подвести итог, я насчитал четверых, которые могли испытывать желание отправить на тот свет это дьявольское создание. Но меня удивляет, что в вашей сказке не нашлось места персонажу по имени Пьер…
— Успокойтесь, он существует! И это — славный малый, любящий давать советы. Этакий деревенский Нестор, пользующийся полным доверием остальных.
— Ну уж этому, я надеюсь, колдунья не старалась напакостить?
— Еще бы! Она, конечно, сделала попытку, придя как-то в его хижину, но он ее так шуганул, что навсегда отбил у нее охоту и близко к нему подходить.
— А что стало с мужем?
— Он искал утешения… в объятиях простенькой и славненькой девушки. Об этом прознала ведьма и сказала себе, забывая о своих собственных прегрешениях, что он у нее еще попляшет. Когда она поняла, что ее власть над Жаном кончилась, она решила нанести сокрушительный удар по его будущему, учинив скандал, который сотряс бы стены дворца и поверг бы в смятение всех горожан. Слушайте меня внимательно, мсье комиссар, поскольку мы подошли к самому захватывающему месту сказки.
— Будьте уверены, я не пропущу ни единого вашего слова.
— Однажды под каким-то выдуманным предлогом она отправляется в соседний город, но вскоре тайно возвращается, дожидается, когда опустится глубокая ночь, и, вооружившись кинжалом — по-сегодняшнему, пистолетом, — направляется к дому любовницы своего мужа с намерением переполошить весь квартал. К ее несчастью, жилище оказывается пустым. Трясясь от гнева, словно от лихорадки, она возвращается к себе и, перед тем как лечь в постель, звонит туда, где обычно в этот день находился Жан. Услышав, что Жана там нет, она обращается с просьбой к доктору, другу своего мужа, приехать к ней и оказать ей срочную помощь. Доктор является и дает ей успокоительное, после того как она рассказывает ему по своей глупости — а она была глупа — о своем намерении убить любовницу своего мужа и разрушить таким образом карьеру последнего. В подтверждение своих слов она показывает пистолет, который взяла в сейфе, шифр которого ей был известен. Врачу удается уговорить отдать ему оружие, чтобы он вернул его на то место, где она его взяла. Закрыть дверцу сейфа врач забывает. Уложив ведьму в постель, он уходит, опять-таки забывая закрыть дверь, на сей раз входную. Он возвращается к друзьям и сообщает им о том, что ведьма задумала. Тогда они решают прикончить ее. Еще коньяку?
— С удовольствием.
Нотариус наполнил бокалы, отпил из своего и продолжил:
— Друзья Жана понимают, что первым, на кого падет подозрение, будет он, поэтому очень важно, чтобы он совершенно ничего не знал. Они приходят к выводу, что, расширяя круг подозреваемых, они осложнят задачу стражников. Но, на их беду, в город прибывает мудрейший из стражников, и им приходится действовать с гораздо большей осторожностью. Отныне главная их задача — показать своему новоявленному противнику истинное лицо ведьмы. Им это удается — они наговаривают друг на друга касательно любовных связей с ведьмой.
— И это было неправдой?
— Да, это было неправдой, но как доказать обратное, если основного действующего лица уже нет с нами? Остается назначить час убийства. Одному из них в голову приходит нелепая, на первый взгляд, идея с этим бегом наперегонки, что позволяет им оказаться поблизости от жилища ведьмы в то время, когда с ней сводили счеты. Каждый из этой троицы провоцирует небольшое происшествие. И вот уже полиция становится свидетелем того, что все они находились поблизости от места преступления. Кто же убийца? Один из трех бегунов? Врач? Только муж остается вне подозрения, иначе, зная о готовящемся, он никогда бы не вернулся домой в два часа ночи.
— Вы не можете предположить, каким образом действовал преступник?
— Будем называть его феодальным защитником, если не возражаете. Нет, точно мне неизвестно, как произошла трагедия, но попытаться представить себе могу. Итак, врач забывает закрыть за собой входную дверь, и феодальному защитнику, чтобы войти, остается лишь толкнуть ее. Он поднимается в спальню и, так как она спала, спокойненько душит ее. Могу вообразить себе, что с целью инсценировки ограбления он берет деньги из сейфа, который, как я вам уже говорил, врач по рассеянности запамятовал закрыть.
— А почему, по-вашему, похищенные деньги решили вернуть?
— Не забывайте, что Жану ничего не было известно и что он не был богат. Кроме того, следы еще больше запутывались. Но, конечно же, это все сказка.
— Вне всякого сомнения! С вашего позволения, я удаляюсь. Я весьма доволен этим случайным и очень полезным для меня визитом к вам. Благодарю вас.
— Ну что вы, я сам испытал огромное удовольствие от встречи с вами. Пойдемте, я провожу вас до границы.
Они пересекли старый город, не проронив ни слова. Дойдя до башни Матагер, нотариус остановился.
— Дальше я не хожу. Там живут другие.
— Мэтр, дорогой я думал о сказке, которую вы с таким изяществом рассказали мне. У меня сложилось впечатление, что ей недостает концовки.
— Вы полагаете?
— Несомненно! Ведь читателю интересно будет узнать имя того, кто задушил ведьму.
— Я об этом не подумал.
— Позвольте мне дать вам один литературный совет?
— Прошу вас.
— По-моему, из всех друзей Жана на роль убийцы больше всего подошел бы тот, кому ведьма меньше всего досадила и который, благодаря этому, оставался бы вне всяких подозрений со стороны стражников. К примеру, я бы наделил его ремеслом, которое совершенно несовместимо с насилием, и возрастом, оберегающим его от плотской страсти невоздержанных особ. Одним словом, мой герой был бы тем, перед которым ведьма оказалась бы бессильна.
— Умно! И каким же ремеслом занимался бы ваш убийца?
— Трудно сказать… Возможно, это был бы придворный нотариус, а? — сказал Гремилли совершенно другим тоном. — Это же вы, мэтр, не так ли, убили ее, пока ваши приятели носились вокруг дома на бульваре Везон, а врач находился у Арлетты Танс?
— Мсье комиссар, скажите, вы читали Гольдсмита?
— Не думаю.
— Жаль. В своем романе «Она унижается, чтобы победить» он говорит: «Обилие вопросов рождает обилие лжи». Счастливого пути, мсье комиссар.
— Спокойной ночи, мэтр.
Шарль Эксбрайя
РАНЫ И ШИШКИ
Пролог
Игэн О'Мирей гордо вышагивал по улицам Бойля, столицы ирландского графства Роскоммон. Игэну было восемнадцать лет, и он невероятно гордился только что полученным аттестатом о среднем образовании. Ему казалось, что все прохожие смотрели на него с каким-то восхищением, смешанным, по его мнению, с чувством уважения. Он открыл калитку в небольшой сад, расположенный перед домом его дяди Оуэна Дулинга. В вестибюле дома на звук его шагов обернулась довольно крупная, не первой молодости женщина. С радостным возгласом молодой человек подбежал к ней:
— Нора, поздравь меня с успехом!
Обняв его, она прошептала:
— Слава Богу… Игэн, если бы ваши родители сейчас видели вас оттуда, они были бы вами довольны.
Игэн вздохнул. Он не любил, когда говорили о родителях, которых он почти не помнил. Его отец погиб в одной из драк с английскими солдатами, а мать, младшая сестра доктора Дулинга, вскоре последовала за мужем, когда Игэну не было еще и пяти лет. Доктор Дулинг взял его к себе и воспитал при помощи и при участии Норы Нивз, тридцатилетней вдовы, присматривавшей за хозяйством доктора. Молодой О'Мирей считал Нору настоящей матерью.
— Дядя Оуэн дома?
— Он ждет вас в кабинете.
— В кабинете?
— Похоже, мой мальчик, он собирается вам сказать нечто важное.
— Почему ты так думаешь?
— Потому, что он взял из своих запасов новую бутылку виски. Вы ведь знаете: в момент принятия важных решений ваш дядя всегда откупоривает новую бутылку виски.
Оуэна Дулинга, человека весьма невысокого роста, компенсировавшего этот недостаток своими габаритами в окружности, можно было сравнить с мистером Пиквиком, точнее — с ирландским мистером Пиквиком… На его лысом черепе, украшенном легкой короной редких седых волос, солнце и дожди графства Роскоммон оставили неизгладимые следы в виде неопределенного цвета: чего-то среднею между вареным омаром и цветом кожи находящегося при смерти больного гепатитом. При этом, лицо его было постоянно багровым. Этим цветом лица, на котором особенно выделялись ясные голубые глаза, доктор Дулинг был обязан, прежде всего, пристрастию к виски, и уж затем — скверному ирландскому характеру. Игэн обожал дядюшку, но побаивался вспышек его ярости. Когда молодой человек вошел в кабинет, где его ждал доктор, он, прежде всего, поразился торжественной атмосфере момента. Дядя удобно расположился в кресле за столом, заваленным бумагами и книгами, на самой верхушке этой груды воцарилась нетронутая бутылка виски. Он был похож на судью, готового произнести приговор. У О'Мирея-младшего от этого сжалось сердце. Дулинг очень любил своего племянника, по при этом он точно так же любил устраивать представления для себя самою и для других. Смущенный, Игэн произнес:
— Дядя… Я сдал на аттестат.
— Знаю, мистер О'Нейл уже поздравил меня по телефону.
Растерянный Игэп подумал, что эти поздравления должны были бы как-то дойти и до него.
— Садитесь, племянник.
Оуэн пальцем указал на высокое и очень неудобное кресло, стоявшее как раз напротив ею стола. Игэпу пришлось сесть.
— Я доволен вами, племянник…
— Спасибо, дядя.
— Я доволен вами потому, что вы получили аттестат, потому, что ваш рост — метр восемьдесят два; потому, что ваш вес — сто пятьдесят фунтов; потому, что вы — отличный боксер, не знающий страха и, наконец, потому, что, как я могу предположить, вы, как и всякий порядочный ирландец, родившийся в самом лучшем графстве республики, при случае не откажетесь от хорошего стакана виски. Игэн, позвольте вас заверить, что ваша мать, а моя дорогая сестра Грэнн была бы очень счастлива. С вашего позволения, Игэн, я выпью в память о моей покойной младшей сестре. Она была хорошей женщиной.
— Конечно, дядя…
С какой-то таинственной невозмутимостью доктор Дулинг открыл бутылку виски, налил себе полный стакан и выпил его одним духом.
— Племянник, я рад, что сумел сделать из вас мужчину с таким превосходным положением в обществе, и все это — благодаря, если можно так сказать, материнским заботам Норы Нивз, которую Господь некогда поставил на моем пути для моего и вашего счастья. Игэн, прошу вашего позволения выпить за здоровье Норы Нивз, Человека с большой буквы…
— Конечно, дядя…
Дулинг отправил второй стакан вслед за первым с легкостью, восхитившей молодого человека.
— Племянник, я не женился прежде всего потому, что у меня не было средств, затем потому, что ваша мать доверила вас мне и, наконец, потому, что для меня медицина — важнее всего. Мне кажется, племянник, что я обязан выпить за медицину, ставшую целью моей жизни, благодаря которой я, возможно, смог облегчить страдания подобных мне!
— Конечно, дядя…
Доктор одолел третий стакан за рекордное время. На этот раз он на мгновение прикрыл глаза, затем тяжело вздохнул и продолжил:
— Племянник, иногда я задумываюсь о собственной смерти. В этом плане меня огорчает то, что я больше не смогу вас видеть, не смогу пить виски, а главное — мне навсегда придется покинуть Бойль и его жителей. Игэн, мне очень нелегко при мысли, что их будет лечить врач родом из других мест… Как вы считаете: было бы лучше приободрить себя, чтобы не думать о превратностях подобной перспективы?
— Конечно, дядя…
— Вы отличный парень, Игэн.
Сделав это заключение, дядюшка опустошил четвертый стакан виски, уменьшив, таким образом, содержимое бутылки наполовину. Теперь глаза его открылись не так быстро, как прежде, а голос стал несколько глуше.
— Племянник… Если вы согласны с тем, что кое-чем обязаны мне в жизни и если хотите, чтобы моя душа покоилась в мире, вы должны заняться медициной, чтобы в один прекрасный день заменить своего старого дядюшку.
— С удовольствием, дядя! Я прежде не решался поговорить с вами об этом, поскольку знаю как дорого стоит такое продолжительное обучение.
— Игэн, вы можете располагать всеми средствами, которые мне удалось скопить за всю мою жизнь!.. Вы в самом деле чувствуете склонность к медицине?
— Думаю — да, дядя.
— Да благословит вас Господь, дитя мое! Призвание — это дар Всевышнего! Я пью за ваше призвание, Игэн!
Пятый стакан доктор Дулинг смог выпить только в два приема. У него слегка перехватило дыхание.
— Племянник, послезавтра вы отправляетесь в Дублин! Вы записаны на факультет медицины и для вас там снята комната!
О'Мирей-младший не мог скрыть своего удивления.
— Скажите, дядя, каким образом вы узнали, что я успешно сдал экзамены и что решил стать врачом?
— О'Нейл — друг моего детства. А в вашем будущем я никогда не сомневался. Вы только что подтвердили мою уверенность. Между нами говоря, Игэн, я могу гордиться своей проницательностью и, думаю, что было бы логично выпить за нее.
Не дожидаясь ответа племянника, Дулинг выпил шестой стакан, при этом часть содержимого пролилась на его жилет. Именно в этот момент, как обычно не постучав в дверь, вошла Нора.
— Вы уже окончили ваш разговор?
— А… а в… чем де… дело, Но… НораНивз?
— К вам пришел Брайан Кейхер. Он говорит, что плохо себя чувствует…
— Я… Я сейчас им… им займусь…
Дядюшка тяжело поднялся с кресла и оперся обеими руками о стол, чтобы не упасть. Нора воскликнула:
— Святой Патрик! В каком вы состоянии! И вам не стыдно!
Доктору удалось выпрямиться.
— Мне… Мне кажется… вы ме… меня не… не уважаете, Ноно… Нора Нивз!
— Уважать можно лишь тех, кто этого заслуживает!
Эта дерзость несколько отрезвила дядюшку.
— И у вас хватает наглости, Нора Нивз, упрекать меня в пьянстве, тогда как вы сами…
Она сухо отрезала:
— Я делаю это только по вечерам, в пятницу, потому что мне несносна мысль, что именно в пятницу распяли Того, кто пришел спасти таких грешников, как мы с вами, Оуэн Дулинг!
После этой реплики, которая в ее глазах оправдывала подобную наклонность, Нора вышла из кабинета. Доверительным тоном доктор сказал:
— Если хотите знать, у нее чертовски сложный характер, и все же я ее люблю… А теперь оставьте меня, чтобы я мог заняться этим занудой Брайаном Кейхером, которого за двадцать лет усиленного лечения мне не удалось отправить в мир иной!
— Но, дядя… Неужели вы примете Брайана Кейхера в… в таком состоянии?
— Вы хотите сказать, что я пьян? Успокойтесь, племянник, в такое время Брайан Кейхер, вероятно еще более пьян, чем я!
В прихожей Игэн встретился с Норой, которая улыбнулась ему.
— Ну что, Игэн, вы гоже станете врачом?
— Вы это знали?
— Вот уже многие месяцы мы говорим об этом по вечерам с вашим дядей… Мы хотели бы гордиться вами…
И сердце молодого О'Мирея не выдержало. Со слезами на глазах, он бросился в объятия Норы, приговаривая: «Спасибо, мама…» В свою очередь, миссис Нивз тоже не выдержала и расплакалась, поскольку Игэн заменял ей собственного сына, которого у нее никогда не было, и сердце ее затрепетало от подобного признания. Когда они, наконец, освободились от объятий, молодой человек сказал:
— А теперь я пойду и расскажу обо всем дяде Лэкану.
— Не забудьте напомнить этому старому негодяю Томасу, что он забыл выплатить мне деньги за последний месяц!
Томас Лэкан был родным братом Норы. Приняв на свое попечение Игэна, Нора тем самым предоставила ему как подарок свою собственную семью. Томас и Мив Лэканы содержали ферму к северу от Бойля, близ дороги на озеро Лаф Кей. За эту ферму, унаследованную от родителей, Томас выплачивал сестре небольшую ренту. Лэканы, сочувствуя сиротству Игэна О'Мирея, относились к нему как к родному племяннику. С ним они были так же ласковы и строги, как с собственными детьми: Шоном, бывшим двумя годами старше Игэна; Кевином, его сверстником; Пэтси, которая на три года была моложе будущего доктора, и, наконец, Кэт, считавшей себя его младшей сестрой. Шон вырос здоровяком, Кевин был равен Игэну по силе, Пэтси обещала стать красавицей, а Кэт — отличной хозяйкой.
Как только они немного подросли, Шон, Кевин и Игэн стали драться между собой. После каждой встречи один из них останавливал идущую из носа кровь, а другим приходилось прикладывать холодные компрессы к лицу, чтобы синяки на нем были не так заметны. Они были очень дружны, но как у всех ирландцев, вкус к побоищам был у них в крови. Став постарше, они перестали драться между собой, приберегая силы для других парней из Бойля. Таким образом, они были верны традициям старой доброй Ирландии. Никого это не смущало, скорее — наоборот. Поначалу отец Дермот О'Донахью, чувствовавший ответственность за души своих прихожан, пытался умерить воинственные порывы своей паствы: все было напрасно. Ему оставалось лишь вздыхать во время воскресной мессы, благословляя молящихся с распухшими носами, красными оттопыренными ушами, со свежими швами на бровях и с разбитыми губами. Не было исключительным явлением, что певчие, многим из которых уже перевалило за семьдесят, пели о любви к ближнему с лицами, изувеченными ударами кулака. Никто даже не думал смеяться над этим, поскольку весь город знал, что вот уже тому полвека, как хористы Сэмюэль и Руэд в субботу вечером напиваются в баре Леннокса Кейредиса до такой степени, что стоит лишь скрыться тому за дверью своего заведения, как они тут же начинают драку из-за девушки, за которой вместе ухаживали в молодости и имя которой могут вспомнить лишь тогда, когда хорошо выпьют.
С тех пор, как Игэн решил стать врачом, прошло восемь лет…
Все шесть лет учебы в Дублине Игэн О'Мирей на каждые каникулы приезжал в Бойль и навещал дядюшку Оуэна, пившего виски все больше, Нору Нивз, все меньше страдавшую по пятницам от мысли о распятии Христа, мирно старившихся Томаса и Мив Лэканов, оставивших ферму на Шона и Кевина, являясь, однако, ее настоящими владельцами, и Кэт, взявшую на себя вместо матери заботы по дому. Петси же доставляла родителям немало хлопот. Все свое свободное время ее братья использовали для того, чтобы присматривать за ней или чтобы отваживать ухажеров, слишком крепко сжимавших ее в своих объятиях. Петси считала, что работа на ферме не подходит для нее и немного презирала свою сестру, которая находила удовольствие в стирке белья или мойке посуды. Избалованная родителями больше всех, Петси получила от них разрешение на продолжение учебы и под этим предлогом дважды в неделю ходила в Слайго, якобы для того, чтобы посещать курсы французского языка или стенографии, а на самом деле — пофлиртовать. Она была очень красива. Дома она каждый раз принимала обиженный вид, когда от нее требовали заняться хозяйством, и, чтобы избежать бесконечных ссор, Кэт брала ее работу на себя.
С того самого дня, как она узнала, что друг ее детства Игэн станет доктором в Бойле, старшая дочь Лэканов, несмотря на всю свою ветреность, преследовала вполне определенную цель. Ей не составило никакого труда вскружить голову О'Мирею-младшему, который вместо братских стал испытывать к ней иные чувства. Однажды вечером, после ужина, Шон довольно грубо сказал сестре:
— Петси, не пора ли оставить в покое Игэпа?
Она притворилась обиженной.
— Не понимаю, что вы хотите этим сказать?
— Серьезно? Тогда вы одна ничего не замечаете!
— Я не люблю загадок!
— Вы слишком явно пытаетесь влюбить в себя Игэна!
Она высокомерно ответила:
— Я не пытаюсь, Шон, все уже свершилось! Игэн влюблен в меня! И он женится на мне, как только я того захочу!.. То есть, тогда, когда он займет достойное положение в обществе!
В этот момент Кэт вскочила и выбежала на кухню. Кевин, любивший больше всех младшую сестру, последовал за ней. Та была в слезах. Он взял ее, как ребенка на руки и, покачивая, шепотом спросил:
— Ты любишь Игэна?
— Да.
— Давно?
— Всю жизнь…
— Слепой дурак! Может, набить ему морду, чтобы у него открылись глаза?
— Нет, Кевин, силой здесь ничего не добьешься, а Петси такая красивая!
Когда О'Мирей получил диплом терапевта, он вернулся в родной Бойль таким важным, будто его избрали президентом Эйра. Петси ждала его на вокзале и, не обращая внимания на общественное мнение, взяла его под руку и проводила до дядюшкиного дома, дабы продемонстрировать всему городку, что Игэн принадлежит только ей.
— Вы довольны, Игэн, тем, что я пришла вас встречать?
— О! Да!
— Вы помнили обо мне в Дублине?
— Вы не из тех, кого можно забыть, Петси!
Девушка и так была в этом уверена, но ей доставляло удовольствие слышать такие слова.
— Вы скоро начнете практиковать в Бойле?
— Думаю, поначалу мне придется поработать с дядей, пока он не выйдет на пенсию.
— Когда вы придете просить моей руки у отца?
— Хотите — сегодня вечером?
— Нет, лучше завтра, в воскресенье… Так будет торжественней!
Когда Нора Нивз узнала от Игэна о том, что ее племянница встречала его на вокзале, она вздохнули:
— Петси чересчур настойчива!
— Нора! Никогда не повторяйте подобных вещей, иначе мы поссоримся!
Гувернантка ответила лишь новым вздохом:
— Овощи и фрукты улучшаются с каждым новым поколением, одни только люди остаются по-прежнему глупыми! Так вы стали доктором, Игэн?
— Да, со специализацией в области гинекологии… Думаю, я помогу появиться на свет многим маленьким ирландцам, Нора!
— Вот как, гинекология?…
Гувернантка на минуту задумалась и заключила:
— Не знаю, насколько это корректно!
Дядюшка Дулинг все хуже переносил виски, увеличивая дозу потребления с каждым днем. Сильный гепатический цирроз, которым он страдал, сделал желтоватым цвет его лица и добавил зелени в склеру глаз.
— Игэн, я чертовски горжусь вами! И очень рад, что вы вовремя пришли мне на помощь, поскольку, честно признаюсь, я устал от этой жизни… Ваш приезд был совершенно необходим… Думаю, племянник, мы вместе славно поработаем! Если хотите знать мое мнение, то, мне кажется, было бы безобразием не выпить за наше содружество.
Они выпили. Дядюшка Дулинг с удивлением и не без удовольствия отметил про себя, что племянник пил до дна. Настоящий ирландец!
У Лэканов с энтузиазмом отметили приезд нового доктора, и Кэт, позабыв о своей природной сдержанности, со всей непосредственностью своих семнадцати лет бросилась ему на шею, что пришлось Петси не по вкусу. Она сухо сделала замечание сестре, и та, покраснев до ушей, скрылась в доме. Мистер О'Мирей, видевший только свою невесту, не обратил на это никакого внимания. Томас и Мив Лэканы, гордившиеся тем, что их дочь станет супругой доктора, готовы были все ей простить. Шон считал, что все это глупости. Он не понимал, зачем его друг Игэн так торопится лишиться свободы. Один только Кевин был обижен на О'Мирея за его слепоту, поскольку, честно говоря, считал свою сестру шлюхой.
То, как Шон и Кевин вместе с Игэном отметили получение последним диплома доктора медицины, навсегда осталось вписанным в историю графства Роскоммон. В самом начале вечеринки, трое парней сцепились с соседями из графства Слайго. Это была потрясающая драка, поскольку в течение нескольких часов к обеим противоборствующим сторонам прибывало подкрепление. Немало людей с веселым задором колотили друг друга, даже не зная за что. До двух часов ночи доктор Дулинг с помощью Норы, накладывал швы на разбитые брови, выпускал жидкость из распухших ушей, творил чудеса, останавливая обильные кровотечения из носа и пытался уменьшить размеры фингалов, из-за которых некоторые почти ослепли. Да, в самом деле, вечер прошел прекрасно, и, как стало довольно скоро известно в кругах посвященных лиц, все началось с того, что один тип из Слайго позволил себе предложить Петси Лэкан потанцевать с ним. Игэн сразу же набросился на пего, и с этого все началось. К часу ночи Шон и Кевин, с трудом державшиеся на ногах, были все же в лучшем состоянии, чем Игэн. Поэтому они довели его до дома, где тетушка встретила их со словами:
— Посмотрите на этих безбожников! Неужели ваша бедная мать родила вас на свет, чтобы вы дрались, как хулиганы, а? Вы только посмотрите на эти лица! Неблагодарные! Вам бы жить среди, так называемых, североирландцев! Вы ничем не лучше их! В ваших венах течет английская кровь!
По взгляду Шона из его полуприкрытых глаз, Нора поняла, что переборщила. И она продолжила извиняющимся тоном:
— Вы так меня рассердили, что я даже стала заговариваться! А этот, — будущий врач! Кто сможет в это поверить, если увидит его в таком состоянии? Он растеряет всю свою клиентуру еще до того, как она успеет у него появиться! Отнесите его на постель, я сама займусь его лечением!
Стеснительный Кевин не решался раздевать Игэна в присутствии тетушки, но Нора не сразу это поняла.
— Эй, чего вы ждете, снимите с него брюки! Надеюсь, вы не собираетесь укладывать его в одежде?
— Но… Я жду, когда вы выйдете, тетя.
Она не сразу поняла весь смысл сказанного, а затем громко рассмеялась.
— Вот это да! Вы что, забыли, Кевин, недотепа вы этакий, о том, что я его вырастила? Ведь я была для него тем же, что родная мать для вас! Сказали бы вы матери выйти, если бы вас, раненого, укладывали в постель?
— Конечно, нет…
— Так чего же вы ждете?
Оглушенный выпитым виски, Игэн продолжал спать, пока Пора накладывала ему на лицо компрессы. Наконец, приведя его в порядок и приласкав, она обернулась к старшему из своих племянников.
— Шон… Из-за чего произошла эта драка?
Шон ей все объяснил.
После того как парни, поддерживая друг друга, отправились на свою ферму, Нора направилась к доктору, и у них произошел серьезный разговор.
В девять часов утра все еще мутный взгляд Игэна обнаружил Нору, сидевшую у его постели. Он с удивлением пробормотал:
— Это вы?… Что случилось?
Ему сразу же пришли на ум мысли о больной дядюшкиной печени и о его давлении и, вскочив, он сразу же спросил:
— Дядя?
Миссис Нивз вначле перекрестилась и лишь затем ответила:
— Благодаря удивительно беспредельной Божьей милости, доктор чувствует себя превосходно. Конечно, это вопиющая несправедливость, но, поскольку я люблю вашего дядю, то обязана только радоваться за него. Игэн, вчера вы подрались самым непристойным образом…
— Кто помог мне дойти до дому?
— Естественно, Шон и Кевин. У них был вид не намного лучше вашего. Скажите, кто после этого сможет поверить, что вы — доктор медицины?
О'Мирей смущенно опустил голову Он отлично сознавал правоту слов своей приемной матери, а также то, что ему необходимо как можно скорее покончить с этими варварскими обычаями, если он хочет преуспеть в своей карьере. Врач должен перевязывать раны, а не наносить их.
— Простите меня, мамми.
У Норы таяло сердце, когда он называл ее так, и он хорошо это знал, негодник! Каждый раз, когда ему необходимо было в чем-то раскаяться, он называл ее этим нежным словом — «мамми», и она смягчалась в своих чувствах. Но сейчас она сдержалась, чтобы в порыве нежности не прижать его к себе и не расцеловать, чтобы ее мальчик понял, что она сердится на него.
— Я на вас чертовски сердита, Игэн. Вчера вечером вы говорили со мной в недопустимом тоне… Вы еще так никогда не поступали, никогда… Мне было очень больно, мой мальчик. Из-за вас я вчера плакала… С тех пор, как вы едва не умерли от скарлатины, со мной такого не случалось. А это было двадцать два года тому назад!
Пораженный, Игэн схватил натруженную руку Норы и поцеловал ее. Тогда она запустила вторую руку ему в волосы.
— Мой маленький… Я так бы хотела, чтобы вы больше не делали глупостей…
— Обещаю, что этого больше никогда не будет!
— Вы ведь подрались из-за Петси, не так ли, Игэн?
Он сразу же ушел в себя. Она продолжала настаивать:
— Шон мне обо всем рассказал.
— Лучше бы он держал язык за зубами!
— Послушайте меня, Игэн: Петси — моя племянница… И, как племянницу я люблю ее, но она — не жена вам.
Он возмутился:
— Не говорите так, Нора! Я люблю Петси!
— За что?
— За что?… Ну… я просто ее люблю и все!
— Нет, Игэн. Вы ее любите или вам кажется, что вы ее любите, потому что она красива и кокетничает с вами… Она ведь кружит головы всем парням и — да простит меня Господь! — ведет себя так, что потеряла все приличия!
Он переменился в лице.
— Вам должно быть стыдно говорить такие вещи о собственной племяннице! Я люблю Петси! И она тоже меня любит! Мы все равно поженимся, хотите вы этого или нет!
Она вздохнула.
— Боже мой! Насколько мужчины могут быть слепы, Игэн… Петси не любит вас, и я уверена, — она будет вам плохой женой! А Кэт вас просто обожает — ее мать говорила мне об этом… С того или почти что с того дня, как она научилась ходить, она думает только о вас… Она в десять раз лучше сестры, но не пытается никому вскружить голову!
Он проворчал:
— И правильно делает! Кому нужна девушка, которая только и умеет, что подметать, мыть, стирать и вязать?
— Умному человеку, но не такому, как вы, Игэн О'Мирей!
Миссис Нивз вышла из комнаты с видом оскорбленной королевы и направилась к себе обдумывать невероятную месть. Немного обескураженный таким поворотом дела, Игэн решил взглянуть в зеркало. Его лицо было похоже на бифштекс, над которым хорошо поработали молотком! На бифштекс, который, с точки зрения свежести, оставлял желать лучшего! Из расквашенных губ все еще сочилась кровь, под левым глазом красовался синяк, отливавший всеми цветами радуги, белел крест из лейкопластыря, а правый глаз не открывался вообще. Конечно, с таким лицом трудно рассчитывать на благосклонность родителей, у которых просят руки их дочери. И он решил переждать несколько дней, прежде чем предпринять этот жизнеопределяющий поход в дом Лэканов. Петси сумеет его понять. Странно, по все или же почти все не любят Петси. Конечно, ей не могут простить того, что она красивее, элегантнее и веселее других. Ясно, что Нора не понимала какая замечательная девушка ее племянница. Вспомнив о вчерашнем вечере, Игэн не смог сдержать улыбку, которая из-за расквашенных губ оказалась похожей на гримасу. А какая драка получилась! И все это — из-за одной из красивейших, если не самой красивой, девушек, которую когда-либо видывал Бойль со времени своего основания! Несколько местных полицейских из предосторожности предпочли наблюдать побоище со стороны. Кажется, суперинтендант[114] Мик О'Коннел и сержант Саймус Коппин, как отличные спортсмены, восхищенные этой замечательной дракой, решились вмешаться только тогда, когда перевес оказался на той стороне, которая больше этого заслуживала.
Около двенадцати дня дядюшка Оуэн попросил племянника незамедлительно подняться в его кабинет. Войдя в него, Игэн не без удивления отметил, что поблизости не было видно ни одной бутылки. Это не предвещало ничего хорошего, что собственно и случилось.
— Игэн, я рассержен и даже чертовски рассержен! Не потому, что вы от души подрались с какими-то парнями, а за то, что вы устроили это всеобщее побоище в честь Петси Лэкан.
Даже дядюшка что-то имел против возлюбленной О'Мирея. Игэн тотчас же нашелся:
— Она была со мной, а один тип стал приставать, чтобы она шла танцевать с ним.
— Это еще одно доказательство того, что в ваше отсутствие она танцует с кем попало, племянник!
— Послушайте, дядя!
— Да, племянник!
— Если бы вы… если бы вы не были собой, я надавал бы вам по физиономии!
— И что бы от этого изменилось?
Сбитый с юлку столь прямым вопросом, Игэн опять перешел к своим чувствам.
— Я люблю Петси Лэкан! Она будет моей женой! И я запрещаю кому бы то ни было говорить о ней в неуважительном тоне!
— Пусть сначала научится сама себя уважать!
Игэн издал яростный рев и, чтобы не поднимать на дядюшку руку, схватил кресло и приподнял его, готовясь с силой стукнуть об пол. Доктор Дулинг спокойно заметил:
— Племянник, не ломайте, пожалуйста, мебель, которая пока еще вам не принадлежит!
— И никогда не будет мне принадлежать! Я ни на минуту не останусь в доме, где клевещут на будущую мать моих детей! Прощайте, дядя!
— До свидания, племянник. Прежде чем собрать чемоданы, окажите любезность поведать мне о реакции мисс Лэкан, когда она узнает, что вы остались без денег и без обеспеченного положения в обществе.
В последовавшем за этим исступленном крике Игэна можно было разобрать слова о его уверенности в отсутствии меркантильных соображений у его девушки, в том, что у него хватит ума, дабы обеспечить себя, не прибегая к дядюшкиному кошельку, в том, что вся Ирландия готова радостно принять такого доктора, как Игэн О'Мирей и, наконец, в том, что настоящей любви не до низких расчетов, достойных одних лишь стариков, позабывших о великодушии их молодости.
И все же, идя по улицам Бойля к Лэканам, Игэн почувствовал некоторое беспокойство. Когда Игэн предстал перед семейством Лэканов, оно как раз заканчивало обед. Увидев его, Мив всплеснула руками:
— Боже мой, как можно доводить себя до такого состояния!
Ее муж Томас с некоторым восхищением заметил:
— А вам досталось, мой мальчик! Надеюсь, те, кто это сделал, выглядят не лучше?
Шон и Кевин дружно подтвердили это предположение и пригласили друга присесть радом с ними. Подбежала Кэт и склонилась пат ним:
— Вам не очень больно?
— Нет, что вы…
Одна лишь Петси с отвращением сказала:
— Надо же было умудриться, чтобы вам так разукрасили физиономию!
Это замечание словно парализовало Игэна и заставило иссякнуть в нем источник романтических мечтаний, готовый уж было перерасти в бурлящий поток. Кевин, возмущенный поведением сестры, напомнил ей:
— Вы забываете, Петси, что вы были причиной этого! Если бы вы не строили глазки этому парню из Слайго, Игэну не пришлось бы напоминать ему о правилах приличия!
— Да в какие же времена мы живем, Господи?! Из-за того, что мой дом в Бойле, я не могу потанцевать, с парнем из Слайго?
— Нет!
— Так вот! Нравится вам это или нет, а я буду так поступать и в дальнейшем!
Бросив салфетку на стол, Петси скрылась в своей комнате и заперлась там. После этого за столом наступило неловкое молчание. Заявив, что у его дочери прескверный характер, Томас подытожил общее мнение. Игэн вздохнул:
— Жаль, что так случилось: я как раз собирался с вами поговорить о себе и о Петси…
Томас посмотрел по очереди на жену, сыновей и на младшую дочь, почесал затылок и сделал заключение:
— Кажется, парень, время не самое подходящее…
Игэн вернулся в дядюшкин дом расстроенным. Доктор Дулинг ожидал его.
— Ну что, племянник, вы уезжаете со своей возлюбленной?
— Нет… Она сказала, что у меня отвратительный вид… Мне не удалось поговорить с ней об этом.
Оуэн пожал плечами:
— Чувствую, что эта девушка — не настоящая ирландка. Не стоит кричать и возмущаться, мой мальчик; от этого пользы не будет. Зайдите на минутку в мой кабинет. Я хочу с вами поговорить.
— Опять?
Доктор строго посмотрел на О'Мирея.
— Разве в этом состоит то хорошее воспитание, которое, скажу без бахвальства, я сумел вам дать?
Когда они заперлись в кабинете дядюшки Оуэна и остались с глазу на глаз, тот не стал заботиться об изысканности речи:
— Ваше поведение по отношению к юной Петси недвусмысленно дает мне понять, что вы еще не созрели для такой трудной профессии, как наша, Игэн. Здесь вам придется иметь дело с клиентурой, более склонной рассказывать вам о своих трудностях, чем о физических болезнях. Племянник, вам еще предстоит узнать, что люди охотней выставляют напоказ свою душу, чем свою ж… В моральном кодексе общества обывателей это называется целомудрием. Уверен, что за время учебы в Дублине перед вашими глазами предстали все виды задниц, которые только сотворил Господь, но приходилось ли вам хоть раз видеть живую душу?
После секундного замешательства О'Мирей признался:
— Пожалуй, нет, дядя.
— Я так и думал. Если сегодня я брошу вас в объятия Петси Лэкан, она погубит вас в самое короткое время.
— Но ведь я люблю ее!
— И ваша любовь настолько сильна, что вы не разлюбите ее через два года?
— Через два года?
— Да, через два года, которые вы проживете у моею старого друга, работающего в канадской провинции Саскечеван. Думаю, там вы станете настоящим мужчиной.
Игэну пришлось смириться с решением дядюшки Оуэна, в причастности к которому он подозревал Нору Нивз. Иначе, он остался бы без гроша в кармане. Как ни были сильны его иллюзии в отношении Петси, он больше не думал, что она согласится выйти замуж без твердой уверенности в его солидном заработке. С помертвевшей душой наш влюбленный направился к Лэканам сообщить о своем отъезде.
Старшие одобрили решение доктора Дулинга. Шон и Кевин завидовали своему другу, едущему в Канаду. Кэт долго плакала при мысли о том, что целых двадцать четыре месяца она не сможет видеть Игэна. Петси вначале рассердилась, но затем быстро утешилась, узнав, что по возвращении племянника дядюшка пообещал передать ему свою практику. Она поклялась не забывать будущего мужа и пообещала писать ему каждую неделю. К этому она добавила, что меха в Канаде не должны стоить очень дорого и она была бы рада получить такой подарок.
Накануне отъезда Игэна О'Мирея в Саскечеван дядюшка Дулинг, Нора Нивз и семейство Лэканов устроили небольшой семейный праздник, в завершение которого было единогласно решено считать Игэна и Петси женихом и невестой.
Это было два года назад. За эти два года Игэн действительно окреп и многому научился, успешно сражаясь с болезнями, облегчая страдания себе подобных, помогая им рождаться на свет и умирать. Он также понял, что меха здесь столь же дороги, как и в Дублине, и что ирландские ветры унесли куда-то обещание Петси писать ему каждую педелю. Нора постоянно сообщала ему о новостях из Бойля. Кэт не менее регулярно рассказывала в своих письмах о том, что происходило в доме у Лэканов. При этом она никогда не забывала подчеркнуть, что Петси с нетерпением ожидает возвращения своего жениха. Все реже и реже Петси отправляла ему открытки и, иногда, письма, в которых говорилось о ее томительном ожидании переезда в прекрасный дом дядюшки Дулинга. Между тем, во второй год их разлуки Петси прекратила писать о том, как они вместе заживут в Бойле, затем письма стали приходить совсем редко. Кэт по-прежнему продолжала писать, но она постепенно перестала подолгу рассказывать о сестре, которая, как она прежде утверждала, постоянно и с большой нежностью думает о том, кого никогда не
сможет забыть.
Читая эти письма, О'Мирей не мог удержаться от приступов накатывающей на него хандры. Он запирался у себя в комнате и пытался оживить воспоминания о последних часах своего пребывания в Бойле. Тогда он назначил Петси свидание на берегу озера Лаф Кей, полагая, что такой романтический пейзаж лучше всего подойдет для прощания и торжественных клятв, короче говоря — для всего того, что влюбленное сердце переживает в минуты надвигающейся разлуки. Но Петси не пришла, а прислала вместо себя Кэт. От этого он пришел в ужасное замешательство. Младшая сестренка попыталась объяснить:
— Петси стало нехорошо как раз в тот момент, когда она уже выходила… Она очень сожалеет, знаете… Ей не хотелось, чтобы в разлуке вы вспоминали ее заплаканное лицо… Она еще просила передать, что ей не хотелось бы видеть ваше лицо в том состоянии, в каком оно находится сегодня… Она просила вас дать ей клятву никогда и ни под каким предлогом больше не драться… Когда она вас целует, у нее такое ощущение, словно она прикасается губами к рубленому мясу…
И, опустив глаза, Кэт добавила:
— Но у меня это не вызовет неприятных ощущений… Если… Если вы не против, можно я вас поцелую вместо нее?
* * *
И вот, после двух лет стажировки, Игэн О'Мирей возвращается в Бойль, столицу графства Роскоммон.
Глава 1
Когда летевший через океан самолет оказался над западным побережьем Ирландии, Игэн О'Мирей ощутил, охватившее его глубокое волнение: наконец-то он возвращается на родину! В иллюминатор был виден целый каскад озер, утопающих в различных оттенках зелени… Зеленый цвет Ирландии… Для настоящего ирландца на свете не существует цвета, лучше этого. В Шенноне Ион сел на поезд и через Инис, Эсентри, Эслоун, Муллингер и Лонгфорд добрался до Бойля. За все время столь длительного переезда ему ни разу не стало скучно: глядя на проплывающие мимо деревья и фермы, ему казалось, что они по-дружески приветствуют его и что вся Ирландия радуется его возвращению.
Сойдя с поезда на вокзале в Бойле, Игэн пожал руку начальнику вокзала, который, выразив свою радость по поводу его возвращения, внимательно осмотрел О'Мирея с ног до головы и заключил:
— Кажется, из вас вышел бы неплохой полутяжеловес, а, доктор?
— Это время навсегда ушло, Дуглас. Я приехал сюда заниматься серьезными делами.
— А я всегда считал бокс очень серьезным делом, доктор!
Обиженный, начальник вокзала сухо попрощался со своим пассажиром, который тут же дал себе слово впредь держать язык за зубами. Конечно, Игэн не рассчитывал, что его будет встречать все население Бойля, но то, что к поезду никто не пришел, ему показалось странным. Особенно его задело отсутствие на вокзале Петси. Ведь он же ей сообщал о дне и часе своею прибытия! Может быть, заболела… Но почему в таком случае не пришла Кэт, чтобы объяснить случившееся?… О'Мирей оставил вещи в камере хранения и неторопливым шагом направился к дому дядюшки. Зачем ему было спешить, если никто не торопился поскорее его увидеть? Он вышел на главную улицу города, и здесь его внимание привлекла одна афиша. Она содержала объявление о финальном бое за звание чемпиона графства Роскоммон среди боксеров тяжелого веса, и против имени чемпиона Слайго он вдруг увидел имя Шона Лэкона! Шон… Бой через две недели… К Игэну вернулось доброе расположение духа. Старый добрый Шон продолжал раздавать тумаки своим сверстникам и не был привязан чувствами ни к какой девушке, как О'Мирей. У Шона даже не было невесты. Он слишком любил бокс, чтобы тратить время на что-то другое.
Осмотревшись вокруг, Игэн вдруг почувствовал, что в Бойле что-то изменилось. Эти тишина и покой прежде не были для него привычны… Ему казалось, что два года назад жизнь здесь была более оживленной. Словом, вернувшись в Ирландию, он не обнаружил прежних ирландцев. Он уже собрался было идти дальше, как рядом с ним возник незнакомый крепкого вида парень и спросил, указывая на афишу:
— Думаете, матч получится интересным?
— Уверен… Я еще не видел этого парня из Слайго, но ему будет нелегко устоять перед Шоном Лэканом!
— Вы в самом деле так считаете? Так вот! Говорю вам, что ваш Лэкан будет валяться на ринге еще до того, как поймет, что с ним произошло!
— Что-то не верится!
— Не верится? А в это вам верится?!
Застигнутый врасплох боковым ударом справа, Игэн прилип спиной к стене дома и стал по ней сползать вниз, пока не сел на тротуар. Вокруг сразу же собрались люди и стали оживленно комментировать случившееся. Сквозь легкую дымку, мешавшую ему ясно видеть их лица, О'Мирей слышал их рассуждения:
— Ничего не скажешь, отличный правый!
— Да, но вы ведь не станете возражать, что он его нанес прежде, чем тот был готов к бою?
— Ну, теперь-то он знает, что делать! Помните этого парня? Он — племянник старика Дулинга, Игэн О'Мирей!
— Не может быть? Прежде он был отличным бойцом!
— Да еще каким! Сейчас увидите, что будет, старина!
Но они ничего не увидели. Правда, сначала Игэн приготовился было рассчитаться с обидчиком, но во время вспомнил о клятве, данной Петси, и о своем положении доктора. Он был рад встрече с ирландцами и улыбался, несмотря на полученный правый.
Когда стало ясно, что О'Мирей не станет драться, его противник, пожав плечами, направился прочь, бормоча на ходу не совсем лестные слова в адрес жителей Роскоммона вообще и жителей Бойля в частности. К сожалению, поблизости не оказалось ни одного молодого человека, способного доказать всю несправедливость этих суждений. Проходивший мимо сержант Саймус Коппин, узнав о случившемся, направился к Игэну.
— Привет, доктор! Мне сказали, что вас поколотил парень из Слайго?
И О'Мирей начал объяснять как он оказался жертвой агрессии. По мере того, как он продолжал рассказ, выражение лица полисмена становилось все более растерянным:
— Да… Ясно… Значит, он вас ударил, а вы ему не ответили?
— Доктор не дерется на людях!
— Конечно… А ведь раньше вы так не думали, а?
— Что было, то было, и навсегда ушло, сержант.
— Да!.. Все меняется… Если хотите знать мое мнение, не в лучшую сторону, не в лучшую, доктор… И все же, рад вас поздравить с возвращением домой.
— Спасибо…
Ошарашенные зрители, сожалея об упущенном бесплатном представлении, расступились, давая ему дорогу. Полисмен собрался было уходить, но О'Мирей окликнул его:
— Сержант, вы давно видели моего дядю?
— Вашего дядю? Еще сегодня утром!
— Как он выглядит?
— Отлично!
— А… А что с Лэканами?
— Шон скоро будет участвовать в матче за звание чемпиона, а Кевин будет его секундантом… Подождите, кажется начинаю припоминать… Вроде мне кто-то говорил, что вы были женихом Петси Лэкан?
— Я и сейчас ее жених, сержант!
Тот взглянул на Игэна округлившимися глазами.
— Что вы сказали, доктор?
— Я сказал, что Петси Лэкан — по-прежнему моя невеста.
— Да?…
— А в чем дело? Вас это удивляет?
— Нет, скорее всего это меня не касается… До свидания, доктор. Надеюсь, мы увидимся в субботу на матче?
— Не думаю.
Саймус Коппин вздохнул.
— Жизнь в Канаде вас сильно изменила… Ладно, каждый живет, как хочет… Пока, доктор!
Игэн не понимал, что произошло в ею отсутствие, но в нем крепла уверенность, что случилось что-то непоправимое. Иначе, почему этот полисмен так удивился, услышав, что Петси — по-прежнему невеста О'Мирея?
Чтобы решить эту неожиданно возникшую загадку, молодой доктор зашел по пути в «Лебедя с короной». Он давно был хорошо знаком с его владельцем, Ленноксом Кейредисом. Но тот не сразу узнал ею. Только наполняя заказанный бокал пива, он еще раз внимательно присмотрелся к вошедшему и воскликнул:
— Боже мой! Да это же Игэн О'Мирей!
— Как ваши дела, Леннокс?
— Превосходно, и я чертовски рад вас видеть!
Они подкрепили радость встречи крепким рукопожатием над бокалом доктора. Бармен добавил:
— Вообще-то заметьте: ваш приезд меня не очень удивил! Знаете, еще вчера вечером, перед тем, как ложиться спать, я сказал Морин: «Теперь Игэн О'Мирей скоро появится…»
— Я два года стажировался в Канаде… В Саскечеване. А теперь вот вернулся помогать дяде. Надеюсь видеть вас среди своих клиентов, если вы вдруг решите заболеть, Леннокс!
— Можете на меня рассчитывать, доктор! Если вы умеете делать хоть половину того, что доктор Дулинг, у вас здесь будет полно клиентов! Значит, вы вернулись, чтобы помогать дяде?
— Да.
Кейредис зачем-то подмигнул и хитро улыбнулся, что немало удивило молодого человека.
— Похоже, вы вернулись еще кое за чем?
— О чем вы…
Тот опять так же хитро подмигнул.
— Понял! Сохранение тайны — действительно необходимое качество для того, кто хочет приобрести хорошую клиентуру. И все же, доктор, хочу, чтобы вы знали: мы с Морин — целиком на вашей стороне! А сейчас поговорим о других вещах, верно?
Они поговорили еще о каких-то пустяках. Игэн все не решался задать интересующий его вопрос, а Кейредис, как нарочно, говорил о том, что его меньше всего интересовало. Когда доктор уже собрался уходить, бармен еще раз крепко пожал ему руку и проникновенным голосом повторил:
— Что бы вы не делали, можете рассчитывать на нас с Морин!
О'Мирей поблагодарил его, поскольку не знал, что еще он мог сказать в ответ.
Проходя мимо универмага «Браун энд Браун», куда хоть раз на день заходили все домохозяйки Бойля, он издали заметил Кэт Лэкан. По правде сказать, он не сразу ее узнал, так как прежняя худенькая и неприметная девчушка превратилась в красивую девятнадцатилетнюю девушку. О'Мирею вначале даже показалось, что он видит перед собой Петси. Он был рад встретить Кэт и еще издали по-дружески помахал ей рукой. К его большому удивлению, она неожиданно повернулась к нему спиной и скрылась в магазине. Он готов был поклясться, что видел именно ее! Ускорив шаг, он вслед за ней тоже зашел в универсальный магазин, но там проще было найти иголку в стоге сена. Обескураженный, он вышел на улицу. Узнала ли его Кэт? И если да, то почему она поспешила скрыться? А ведь когда-то она так его любила… Теперь Игэн был уверен, что в его жизни произошло какое-то несчастье, о котором знали все остальные и не знал только он один. Ему вспомнились книги его детства, в которых он читал о мореплавателях, возвращавшихся после долгих странствий и попадавших на похороны тех, кто их любил и ждал. О'Мирей с трудом проглотил слюну. Петси… Неужели она умерла?!.. Почему ему никто не сообщил! Разве что несчастный случай с ней произошел на последней неделе, когда он готовился к отъезду и не получал писем из Ирландии… Понемногу в нем росла уверенность в том, что он никогда не сможет жениться на столь давно желанной для него Петси, потому что она лежит на кладбище, в могиле, на которую каждый день приносят цветы. Со слезами на глазах, романтичный ирландец уже отчетливо видел, как сам идет туда, на свидание с любимой. Несчастная Петси… А как должны раскаиваться все те, кто так клеветал на нее и особенно ее тетя Нора Нивз, никогда не понимавшая своей племянницы! С каким-то мрачным удовлетворением погрузившись до конца в свое горе, Игэну приятно было думать, что он оказался единственным, кто сумел оценить все благородство сердца дорогой, бедной, маленькой Петси, погибшей в двадцать три года в самом расцвете своей красоты… Словом, слезы текли у него из глаз ручьем, когда он наконец постучался в дверь дома, где жил и работал дядя Оуэн.
* * *
— Игэн, мальчик мой, как я рада снова вас видеть!
Он строго, почти со злостью посмотрел на старую женщину, фигура которой с возрастом становилась все больше похожей на мужскую. Время стерло с нее все то, что называется женскими прелестями, и теперь спереди она стала похожа на доску. О'Мирей, испытывая некоторый стыд от такого сравнения, подумал, что Нора Нивз стала похожа на огородное пугало с материнской теплотой в глазах. Но как она может говорить о радости тогда, когда ее племянница… Что за огрубевшие сердца у этих стариков! В свою очередь, гувернантка, до этого восхищавшаяся красотой своего возмужавшего мальчика, только теперь обратила внимание на выражение отчаяния на его лице.
— Входите, маленький мой… Говорите, почему вы так плачете? От радости или от горя?
От радости?!.. От такого чудовищного эгоизма у Игэна вырвался бесконечно горестный стон. Она с беспокойством стала осматривать его.
— Мальчик мой, с вами случилась какая-то неприятность?
Нет! Не может быть, чтобы она стала так бесчувственна к человеческому горю! Он взял ее за руку и дрожащим голосом попросил:
— Мамми… Скажите мне правду!.. Я обещаю крепиться… Я буду крепиться изо всех сил…
Норой овладело смущение.
— Маленький мой!.. Вы… Вы уже все знаете?
— Да… Я догадывался…
— Мне жаль вас, дитя мое… От всего сердца…
— Почему мне не сообщили?
— Никто не решался… Мы с вашим дядюшкой плохие писатели… А это такой деликатный вопрос…
— Но разве Кэт не могла…
— Я просила ее, но она не захотела, чтобы вы получили такой жестокий удар от ее руки… Кажется, она любит вас так же сильно, как и прежде…
От этих слов Игэн пришел в шоковое состояние. Петси едва только успела отойти в мир иной, а ему уже пытались навязать Кэт взамен! Это было до крайности отвратительно! Он сделал попытку спросить как можно суше:
— Давно… Давно это… Это случилось?
— Думаю, пять или шесть месяцев тому назад.
— А я узнал только теперь!
— Игэн, от этого ничего бы не изменилось.
— Конечно, по если бы я был здесь, рядом, ей было бы легче уйти…
У Норы Нивз вдруг отвисла челюсть и, судя по внешним проявлениям, она пришла в неописуемое волнение. Ей с трудом удалось овладеть собой и она, задыхаясь, сказала:
— Игэн О'Мирей… Вам должно быть стыдно!.. Неужели вы научились всему этому в Канаде?
Появление дяди Дулинга на пороге кабинета избавило племянника от ответа.
— Игэн! Что-то вы не торопились! Идите, скорее обнимите своего дядю, если еще не совсем его забыли!
О'Мирей пожалел, что не смог броситься дяде на шею, но его остановили перемены, произошедшие с доктором, поразившие его настолько, что он не сумел скрыть своих чувств. Доктор Дулинг ужасно похудел, и от его прежних габаритов остался один живот, такой огромный, что невольно напрашивалось сравнение с женщиной, которая вот-вот должна разродиться. Изумление племянника не скрылось от глаз Оуэна.
— Ну что, сильно я изменился?
Игэн совершенно потерял дар речи, ибо с этого момента он понял, что дни дядюшки сочтены. Жидкость, наполнившая брюшную полость, говорила молодому доктору о том, что цирроз печени у его старшего коллеги перешел в последнюю стадию. Дулинг меланхолично улыбнулся:
— Не нужно так удивляться, Игэн… Я прекрасно понимаю, в каком состоянии нахожусь, и как раз поэтому хотел, чтобы вы поскорее приехали… Вам очень скоро придется занять мое место, слышите, племянник?… Очень скоро… Пройдемте в мой кабинет и немного поболтаем… Приготовьте нам, пожалуйста, хороший обед, Нора.
Гувернантка отвернулась, не говоря ни слова, она тоже заплакала. Сознание приближающейся смерти дяди Оуэна опять вернуло О'Мирея к его горю по поводу безвременной кончины Петси. Если так будет продолжаться и дальше, все те, кого он так любит, скоро окажутся на кладбище!
— Дядя… Нора мне сказала… О Петси… Почему вы не сообщили мне правду?
— Я опасался, что вы можете пасть духом, а там, где вы были, я знаю, этого нельзя было допустить… И потом, мой мальчик, чем больше вы взрослеете, чем больше становитесь похожи на свою мать и мою сестру, и мне показалось, что в романтическом порыве вы стали испытывать неосознанное желание страдать; короче говоря, я стал опасаться, что в порыве необдуманных чувств вы можете отказаться от главного: например, от своей цели… Не обижайтесь на меня, если я ошибся.
— Она очень мучилась?
— Кто?
— Петси!
— Честное слово, не ожидал от вас такого вопроса!
— Разве вы не считаете его совершенно естественным в подобном случае?
— Конечно, нет!
— Вы сами присутствовали при этом?
— Кто — я? Ничего себе! Только этого мне не хватало! Игэн, да вы в своем уме, если говорите мне такие вещи?
О'Мирей в приступе охватившей его злости сухо заметил:
— Если только правы Ирландии не изменились в мое отсутствие, то когда-то было принято приглашать доктора к человеку, которого он лечил, чтобы облегчить его мучительную кончину!
Дулинг обеими руками схватился за голову.
— Вроде бы я сегодня еще не успел напиться! Игэн, объясните же, наконец, о чем вы говорите?
— О смерти Петси Лэкан!
Дядюшка чуть не подпрыгнул на месте.
— Неужели Петси умерла?
— Не станете же вы утверждать, что впервые об этом слышите?
— Но… Когда случилось это несчастье?
Игэн скорбно покачал головой. Бедный дядюшка!.. Неужели он уже успел дойти до такой крайности! Осторожно, словно разговаривая с больным ребенком, он начал объяснять:
— Только что Нора и вы сами сказали, что у вас не хватило духа сообщить мне ужасную весть о смерти Петси…
Лицо Оуэна прояснилось.
— А, так вот в чем дело! Вы подумали, что мы хотели скрыть от вас ее смерть? И сразу же схватились за лиру, чтобы воспеть свое горе? Так вот откуда у вас слезы на лице, да?
— Глумиться над таким несчастьем…
— Племянник, к моему великому сожалению, должен вам сообщить, что Петси здорова, как буйволица…
— К сожалению?
— … и живет с Кристи Лисгулдом, сыном коннозаводчика из Роскоммона, обесчестив всю свою семью, предав всех своих друзей и, в первую очередь, — вас, Игэн!
— Не может быть?!! Это неправда!!!
— Не хватало только, чтобы вы назвали меня лжецом, и сейчас вы это сделали!
— Простите… Я… Я совсем растерялся… Чтобы Петси могла меня предать… Да еще так…
— Должен вам напомнить, Игэн: мы с миссис Нивз предупреждали вас, что для этой девицы важны только деньги. У Лисгулдов мною денег… Она не стала гоняться за журавлем, имея в руках синицу. Томас и Мив Лэканы запретили своей дочери ногой ступать в их дом. И лучше не произносите этого имени при Норе, иначе она закроется у себя в комнате и гам напьется. В свое время ей была несносна мысль о Голгофе только по пятницам, поступок же Петси сделал для нее несносными все дни недели… К счастью, в эти остальные дни у нее не так много времени для размышлений, как по пятницам.
— Дядя Оуэн, а как Петси оказалась у Кристи Лисгулда?
— Он переехал в Бойль, чтобы жить здесь во грехе. Эта бесстыжая Петси нарочно гуляет по городу, чтобы все видели ее новые платья и украшения. Она поступает так со злости, потому что большинство тех, кто встречается ей на пути, делают вид, что не замечают ее. Она прячется только от братьев. В первый раз, когда она попалась на глаза Шону, он в присутствии всех влепил ей пару оплеух. Кристи пошел с ним разбираться и после этого провел восемь дней в больнице, а ведь этот Лисгулд — крепкий парень. Надеюсь, что, встретив Петси, вы сумеете от нее отвернуться?
Теперь Игэну стало понятно поведение начальника вокзала, полисмена, Кейредиса. Каждый из них был уверен, что он вернулся для того, чтобы жестоко отомстить за измену Петси. И, безусловно, он их разочаровал. Но почему он должен драться с совершенно незнакомым ему человеком, с которым они даже никогда не виделись? В чем провинился этот Кристи Лисгулд? Вся вина в измене ложилась на Петси.
На ферме Лэканов первой его встретила Кэт. Он поцеловал ее и слегка отстранил от себя:
— Знаешь, теперь ты ставишь меня в неловкое положение, Кэт. Ты стала чертовски красивой девушкой! Уверен, что у тебя полно поклонников!
Вся в слезах и с улыбкой на лице она ответила ему дрожащим голосом:
— Канада вас так и не изменила, Игэн О'Мирей: вы остались по-прежнему недотепой!
Поскольку им предстоял разговор, о котором они оба думали, они помолчали, и затем Кэт сказала шепотом:
— Вы… Вы знаете… о Петси?
— Да.
— Мне стыдно, Игэн… Нам всем здесь стыдно.
— Вы поэтому убежали от меня около «Браун энд Браун»?
— Да. Я знала, что доктор и тетя ничего вам не сообщали. Мне не хотелось быть первым человеком, который должен был вам рассказать об измене моей сестры.
— Она расписана с этим Лисгулдом?
— Я… Не думаю…
Когда О'Мирей вошел в дом, Томас и Мив молча встали, словно обвиняемые в ожидании приговора суда.
— Простите нас, Игэн. Мы с Мив не сумели воспитать дочь, которая отныне для нас потеряна… Она была так красива, и мы думали, что у нее такая же красивая душа… Мы ошиблись… Просим у вас прощения.
Работавшие в поле Шон и Кевин смутились при появлении своего друга и не знали куда девать глаза.
— Да ладно, ребята, перестаньте! Вы здесь ни при чем… Петси уже в том возрасте, когда решают сами за себя…
Кевин грубо и беспрекословно отрезал:
— Она — шлюха! И, если хотите знать мое мнение, старина, — вам повезло, что вы на ней не женились!
Шон проворчал, показывая свои огромные кулачищи:
— Вам уже рассказывали, какой я сделал свадебный подарок Кристи Лисгулду?
— Да, и я вам благодарен за это, Шон.
* * *
В течение последующих восьми дней Игэн делал все, чтобы забыть о Петси. Он старательно помогал дядюшке принимать больных, и тот, в свою очередь, представлял им будущего доктора и делал все, чтобы научить его своей манере работы, которая находила горячую поддержку у жителей Бойля, но иногда приводила в замешательство О'Мирея. Ему навсегда запомнилось то, как доктор лечил своего самого старого клиента Брайана Кейхера. Этот тип был совершенно пьян, когда предстал перед доктором, который и сам в этот день немало выпил.
— Так что у вас болит сегодня, старая каналья?
Старая каналья беззвучно рассмеялась и ответила:
— Я набр-рался, док!.. По г-горло… В с-стельку… Н-не могу двиг-гаться, иначе ви… виски потечет из но… носа!.. Вот т-так на… набрался!..
— Если хотите знать мой диагноз, Брайан, вы — свинья!
— Пр-равильно! Не-ельзя быть большей свиньей, чем я: это не… возможно!
— Ложитесь на кушетку: я осмотрю вас…
Кейхер подчинился, приговаривая:
— Это годится, док; по пр-равде с-сказать, я бы пос-спал…
— Да? Хорошо! Только в другом месте, Брайан Кейхер! Черт возьми! Я не могу найти у вас печени! Что с ней?
— То же, что и с вашей, будь она пр-роклята! Они от н-нас ушли… Кроме того, вы тоже плохо выглядите, до-октор…
Дулинг присел на кушетку рядом со своим пациентом, который сумел приподняться.
— По-моему, я пропал, Брайан…
— Перестаньте, док, не распускайте нюни!
— Я сказал, что пропал, Брайан, и скоро меня заменит племянник.
— Сын вашей покойной сестры Грэнн?
— Да.
Кейхер с чувством вздохнул.
— Эта Грэнн была красивой малышкой… Кажется, я когда-то бегал за ней…
И он махнул рукой.
— …очень давно… А в-вам, док, н-нужно креп-питься… Бе… ерите пример с… с меня!
— Знаете, вы сами не в лучшем состоянии!
— Пусть, но зато я в-выпиваю по бутылке в день и две бутылки по суб-ботам! Что вы на эт-то с-скажете?
— А я — по полторы бутылки ежедневно!
Брайан долго раздумывал. Чувствовалось, что он был сражен таким аргументом. И вдруг, найдя выход, он вскинул голову.
— Воз-зможно, док, н-но у вас же о…образование!.. Болтаем, болтаем, и у м-меня г-горло пересохло…
Дулинг достал бутылку виски, из-за которой, собственно, и зашел к нему этот пациент, и они вдвоем выпили за прежние добрые времена, когда они оба находились еще только у истоков полноводной реки спиртного, от которой решили не отрываться до последнего вздоха. Кейхер достал из кармана обрывок газеты, положил его на стол и разгладил ладонью.
— Похоже, появилось новое лекарство, которое возвращает печень на место. Что вы об этом думаете, док?
— Что оно такое же, как и все остальные, и чтобы его опробовать, нужна печень, а у нас с вами ее больше нет, дружище…
Брайан подмигнул ему.
— Если ее больше нет, так чего о ней заботиться, а? Я бы еще немного выпил, или лучше оставить этот стаканчик на следующий раз?
Доктор наполнил стаканы:
— В нашем возрасте и в нашем состоянии, Брайан, лучше не рассчитывать на следующий раз.
Они опять выпили, и Кейхер, поднявшись, заявил:
— Я, естественно, не спрашиваю, сколько вам должен, док… Меня вы принимаете как друга, а не как пациента, верно? Если бы я стал вам платить, боюсь что между нами что-то изменилось бы…
— Я давно уже не испытываю таких опасений!
На следующий день после визита Брайана Кейхера дядя Дулинг слег в постель. Игэну пришлось его заменить, но все же в нем зрела уверенность, что он никогда не сможет стать преемником доктора Дулинга. Жить в одном городе с Петси, которая принадлежит другому и всеми в городе презираема, было выше его сил. Чтобы не встречаться с ней, он нигде не бывал и, когда его вызывали к больному, он ехал на машине, даже если это было в двух шагах от дома. Нору Нивз это расстраивало, но она не подавала виду. Молодой человек был ей чересчур близок, чтобы она не понимала причин такого его поведения. Но она надеялась, что его вылечат время и работа.
Чем дольше Игэн заменял доктора, тем больше поражали его странные привычки его клиентуры. Во время приема мисс Этни О'Брайен, на которую была возложена обязанность по присмотру за состоянием росписей в церкви и которая пришла к нему с жалобой на боли в животе, когда он поднял ей платье, чтобы ощупать живот, старая дева завизжала с такой силой, что Нора Нивз бросилась в кабинет, решив, что произошло что-то страшное. Там она увидела покрасневшую до ушей дылду Этни и совершенно обескураженного Игэна.
— Что у вас здесь случилось?
Мисс О'Брайен, указуя на О'Мирея перстом обвинителя, с негодованием заявила:
— Он хотел меня обесчестить!
Нора недоверчиво посмотрела на своего любимца.
— Не может быть, Игэн!
— Это неправда, Нора!
Этни вошла в раж.
— И он еще врет! Ах, миссис Нивз, когда вы мне только что сказали, что племянник доктора Дулинга такой хороший врач, как и он сам, я, дура, вам поверила! Миссис Нивз! Как вы, такая уважаемая женщина, могли так меня обмануть!?
В бессилии Игэн развел руками.
— Она сошла с ума… Иначе не может быть, Нора, она действительно сошла с ума!
— Он меня оскорбил! Нора Нивз, я потребую вашего свидетельства перед судом!
Гувернантка слыла весьма рассудительной женщиной, когда не злоупотребляла виски. В этот день ей представился случай это доказать. Она усадила мисс О'Брайен.
— Послушайте, Этни, давайте все втроем перестанем говорить глупости… Я уже давно вас знаю, чтобы подтвердить, насколько вы достойная женщина и насколько весь Бойль вас уважает…
Старая дева важно надулась.
— Я тоже вас считаю порядочной и безупречной женщиной, Нора Нивз…
— Насколько вам известно, я сама воспитывала Игэна О'Мирея. И никогда не замечала за ним грубых манер!
— И все же, этот распутник не побоялся потребовать, чтобы я подняла платье!..
— Господи! А для чего?
Мисс О'Брайен стыдливо опустила глаза.
— Я хотела бы, чтобы мне не задавали таких вопросов…
О'Мирей, в отчаянии, вмешался в разговор:
— Я сам отвечу на ваш вопрос, Нора! Я действительно попросил эту девицу снять или приподнять платье, потому что она жаловалась на боль в животе!
Обозленная, Этни воскликнула:
— Ну и что? Разве это повод, чтобы приказывать мне раздеваться, как шлюхе?
— Будьте же благоразумны, ведь это действительно достаточный повод! Как же я мог бы вас ощупать в одежде?
— Слышите, миссис Нивз? Нет, вы слышите? Разве это не бесстыдство? Стоило ли мне доживать до таких лет, чтобы со мной так обращался молодой человек, которому я могу годиться едва ли не в матери! Почему же вы набросились именно на меня, маньяк вы бесстыжий!?
Вместо ответа О'Мирей схватил со стола стеклянную мензурку и изо всех сил швырнул ее об пол, и она разлетелась на мелкие осколки. Эта своеобразная реакция, доведенного до крайнего раздражения Игэна, заставила всех замолчать. Появился дядя Оуэн в комнатном халате. Он весело заметил:
— Скажите, Игэн, разве можно отдохнуть во время ваших консультаций! О! И вы здесь, Нора? Что случилось?
Его ввели в курс дела. Выслушав обе стороны, он незаметно подал Игэну знак молчать и изрек:
— Мисс О'Брайен, не нужно обижаться на моего племянника. Он недавно приехал из Канады. Можете мне поверить: он превосходный врач, но еще не успел привыкнуть к нашим манерам… Понимаете, там они еще немного диковаты и, естественно, с ними приходится обращаться с… как это лучше сказать?… довольно бесцеремонно… Страна такая большая, что на приличия докторам не хватает времени…
Пока Игэн в ярости грыз ногти, уверовавшая в слова доктора Этни произнесла уже смягчившимся голосом:
— И все же это не повод, чтобы бесчестить меня!
— Уверен, мисс О'Брайен, что доктор О'Мирей не собирался вас бесчестить… Он был слишком… прямолинеен. Прошу вас его простить.
— Ладно… Но только из уважения к вам, доктор Дулинг… Я хорошо знаю, что могу вызвать определенные чувства у лиц мужского пола, но объясните вашему племяннику, что для того, чтобы забраться на ту, которая ему небезразлична, нужен совершенно другой подход… Я не какая-то там индианка!
Буквально засунув голову в шкаф, Игэн поднес ко рту бутылку виски, лишь бы не задушить эту идиотку О'Брайен. Спиртное привело его в чувство и, когда он, наконец, обернулся, то увидел самую необычную за свою жизнь консультацию. Этни объясняла, какие боли она чувствует. Дядя Оуэн поинтересовался мнением Норы и задал тот же вопрос Игэну. Презрев профессиональную тайну, они обсуждали, как это было с мисс такой-то или с мистером таким-то, у которых наблюдались схожие симптомы или которые проходили лечение по подобному поводу. Ошалевший О'Мирей не верил своим ушам. Естественно, ни о каком осмотре не было и речи. Дулинг дал свое заключение, Нора — свое и, вовлеченный в общую игру, Игэн тоже высказал свое мнение, на которое, впрочем, никто не обратил внимания. Мисс О'Брайен покинула их счастливой, с подробным рецептом в руках. Как только Нора вышла вслед за посетительницей из кабинета, молодой врач напустился на Дулинга:
— Как вас понимать, дядя?! Она же сумасшедшая!
— В определенном смысле — да.
— А вы пляшете под ее дудку, потакаете ее мании!?
— В Бойле многие прислушиваются к словам мисс О'Брайен. Она за несколько часов распугала бы всю вашу клиентуру!
— Но если у нее действительно боли в животе, как же ее можно вылечить, не установив, что с ней на самом деле?
Дядюшка красноречиво поднял руку.
— Мисс О'Брайен и некоторые люди вроде нее приходят сюда не для того, чтобы вылечиться, а чтобы лечиться и чувствовать к себе внимание. Поняли, что я хочу этим сказать? Я составлю вам список тех, кого нужно лечить так же, как мисс О'Брайен. А теперь я иду отдыхать, что-то я себя неважно чувствую…
Однажды вечером, после срочного вызова к умирающему старику, О'Мирей, выйдя из дома пациента и подойдя к машине, услышал окликавший его из темноты голос:
— Игэн…
Он сразу понял, что это была она и стал медленно оборачиваться. На него смотрела Петси, но вовсе не та Петси, которую он ожидал встретить. В ней не было ничего от того вызывающего облика, о котором говорила Нора. Наоборот, насколько он мог увидеть при вечернем освещении, ее лицо выражало одну кротость. Она не переставала повторять сквозь слезы:
— Игэн… Игэн… Игэн…
И тогда, потеряв голову, он схватил ее в объятия и стал покрывать ее лицо поцелуями. Затем он втащил молодую женщину в машину и там опять стал горячо ее целовать. Когда она перевела, наконец, дух, то прошептала:
— Ох, Игэн!.. Неужели вы можете любить меня по-прежнему?
— Я так давно вас люблю, дорогая!
— Несмотря на то, что я сделала?
— Не будем больше никогда об этом говорить!
— Не будем говорить?
— Вы ведь не останетесь с этим парнем, верно?
Она покачала головой:
— Это невозможно…
Он весь напрягся и немного отодвинулся от нее.
— Вы любите его?
— Я? Я его ненавижу! Это такой негодяй! Ох, Игэн!.. Какая это была глупость с моей стороны!.. Я настолько к вам привыкла… что… что до сих пор даже не понимала, насколько вас люблю… насколько вас любила… любила только вас одного…
По ее голосу он понял, что она говорила правду и что он опять обрел свою Петси, настоящую, ту самую, правду о которой знал только он один.
— Тогда почему вы не хотите перебраться ко мне?
— Потому, что я боюсь Криса… И потом, Игэн, общественное мнение никогда не позволит нам стать мужем и женой… Я не достойна носить ваше имя… И мне… Мне очень жаль… дорогой мой.
— Я не собираюсь оставаться в Бойле… Хотите, уедем отсюда вместе, Петси?
— Куда?
— В Канаду.
— Игэн, неужели я действительно вам нужна?
Вместо ответа он крепко прижал ее к себе, и они договорились о новой встрече.
* * *
В последние дни настроение Игэна улучшилось, тем более, что дядюшка, похоже, стал чувствовать себя лучше. У него сжималось сердце при мысли о том, что ему придется покинуть старого доктора в таком состоянии, покинуть Нору Нивз, но он чувствовал себя не в силах пожертвовать ради них Петси. Поскольку ему и в голову не приходила мысль исчезнуть, никого не предупредив, он все еще не знал, как сообщить о своем решении, не нанеся жестокого удара своим близким. Такой случай ему представился во время осмотра хорошенькой Брайди Клонгарр, для которой, в отличие от мисс О'Брайен, раздеваться было сущим удовольствием. Поговаривали, что она была женщиной, так называемого, легкого поведения, несмотря на то, что вот уже три года, как она вышла замуж за бакалейщика, набожность которого подвигала в вере всех жителей Бойля, втайне жалевших молодую жену и открыто ею восхищавшихся. Брайди тоже жаловалась на боли в животе, и, наученный горьким опытом, Игэн не знал, что ему делать, пока пациентка сама не предложила:
— Может, я разденусь, доктор, чтобы вы могли меня осмотреть?
Игэн вздохнул. Наконец-то появилась пациентка, поведение которой не напоминало правы прошлого века.
— Прошу вас, миссис Клонгарр… Пройдите за ширму…
Скоро послышался ее голос:
— Я уже готова, доктор.
— Да, жду вас.
И Брайди предстала совершенно обнаженной перед ошарашенным О'Миреем, который только и сумел, что пробормотать:
— Но… Но…
Как раз в этот самый момент в кабинет, без стука, ворвалась Нора Нивз и замерла, увидев Брайди в костюме Евы. От неожиданности, у нее только вырвалось:
— Вот это да!
Миссис Клонгарр от удивления вскрикнула и попыталась прикрыть свою наготу. Гувернантка стала ее успокаивать:
— Не беспокойтесь, Брайди, вы не первая, кого я вижу в таком виде…
Обернувшись к Игэну, она слащавым тоном спросила:
— Она на головку жалуется, да?
— Вас не касается, на что я жалуюсь!
Доктор поспешил на помощь своей пациентке.
— Она права, Нора…
Миссис Нивз ехидно парировала:
— Конечно… Красивая женщина, да еще в таком виде, всегда права!
— Во всяком случае, вы могли бы постучать, прежде чем войти!
— Только не тогда, когда ваш дядя при смерти!
— При смерти?
Позабыв о размолвке, они оба бросились вон из кабинета, оставив одеваться изумленную и обозленную Брайди Клонгарр.
К счастью, тревога оказалась ложной. Укол камфоры позволил доктору вновь бороться за жизнь. Он поблагодарил племянника и спокойно уснул.
Спустившись вместе с гувернанткой к себе вниз, Игэн не стал скрывать, что ему никак не удается привыкнуть к образу жизни врача в Бойле. Он надеялся на другое. С опущенной головой Нора слушала его невнятные доводы. Потом спокойным голосом она спросила:
— Вы виделись с Петси?
— По… Почему вы мне задаете этот вопрос?
— Потому, что вы очень изменились за последние дни, мой мальчик. Зная вас, как никто другой, я понимаю, что только одно обстоятельство могло вам вернуть такое расположение духа… Встреча с той, которая была моей племянницей… Ваше неожиданное желание уехать из Бойля, оставив меня с больным дядей на руках… Повторяю, только одна Петси могла толкнуть вас на такой поступок!
Он настолько привык во всем подчиняться миссис Нивз что больше не стал ничего от нее скрывать.
— Я люблю ее, Нора… И всегда буду любить…
— А она вас?
— Она тоже… Она мне сама это сказала!
— То же самое ей приходилось говорить и Кристи Лисгулду, иначе она не жила бы с ним.
— Она совершила ошибку!
— Это не оправдание!
— Из-за этой ошибки она еще не лишилась права на уважение!
— Тогда, почему бы вам не жениться на пей и не сделать ее хозяйкой этого дома?
— Потому, что в Бойле нет достаточной широты взглядов! Мы уедем в Канаду, где никому не будет дела до нашего прошлого! Там мы сможем забыть все, что случилось, и будем счастливы!
— Хорошо бы, мой мальчик… Ваше счастье всегда было целью моей жизни.
— О, мамми!.. Я всегда знал, что смогу на вас положиться!
Обретя прежнюю детскую доверчивость, он рассказал ей о своем плане. В следующую субботу Игэн и Петси воспользуются тем, что многие пойдут ни матч с участием Шона Лэкана. О'Мирей возьмет напрокат машину и оставит ее на одной из соседних с домом Лисгулда улиц. Когда Игэн увидит, что тот уже пришел на матч, он незаметно выйдет из зала, доберется до своей машины, где подождет Петси, и — хоп! — в путь на Шеннон, а оттуда — в Канаду. Оставленную в гараже машину вернут в Бойль, но уже после того как они окажутся по другую сторону Атлантического океана.
— Что вы об этом скажете?
— Мне нечего сказать… А ваш дядя… Правда, что он скоро умрет?
— Да.
— Сколько времени ему еще осталось жить?
— Не больше месяца.
— Вы не могли бы повременить, чтобы он был уверен в вашей готовности его заменить? Наконец, чтобы закрыть ему глаза, а?
Как и в детстве, когда он не хотел подчиняться, О'Мирей потупился.
— Петси хочет, чтобы мы уехали как можно скорее…
— Если вы уверены, мой мальчик, что сможете прожить без угрызений совести, — это ваше дело…
— Как только дядя… как только дяди не станет… Я вышлю вам денег, Нора, и вы приедете к нам.
— Не думаю, чтобы это понравилось моей племяннице.
— Потому, что продолжаете плохо о ней думать! А я уверен, что она будет рада… А потом, когда все позабудется, мы вернемся обратно!
Взять напрокат машину не составило никакого труда, и, поскольку речь шла о племяннике доктора Дулинга, владелец гаража счел своим долгом не требовать с него денежного залога, что вполне устраивало финансы Игэна. Заключив эту выгодную сделку, он зашел по пути в «Лебедя с короной», чтобы освежиться. Он был так доволен, что не обратил внимания на воцарившееся сразу же после его прихода молчание в зале. Он направился прямо к стойке и попросил Кейредиса налить ему виски, расспрашивая того о жене, видеть которую ему еще не представилось случая со времени его приезда в Бойль. Каким-то необычно громким голосом бармен ответил:
— Благодарю вас, мистер О'Мирей, миссис Кейредис чувствует себя превосходно и очень благодарна за вашу заботу о ней…
И тут же шепотом быстро добавил:
— Прошу вас во имя дружбы, Игэн О'Мирей, не устраивайте скандала в моем заведении… В последнее время у меня были небольшие неприятности с полицией, и мне не хочется видеть ее здесь опять!
Племянник доктора Дулинга поперхнулся и едва не подавился виски. Почему, черт возьми, Леннокс Кейредис решил, что он собирается скандалить? Разве он дал ему повод для такого обвинения?! Возможно, прежде, когда-то давно, но теперь…
— Ладно вам, Леннокс, неужели вы думаете, что говорите с прежним мальчишкой, который лез в любую драку?
Кейредис, с бегающим взглядом, прошептал:
— Неужели вы не заметили, что весь зал смотрит только на вас?
Игэн обернулся. Став спиной к стойке, он обвел взглядом присутствующих. Действительно, все перестали разговаривать и смотрели в его сторону. Он опять обратился к бармену:
— Что это с ними?
— Они думают, что вы сейчас будете драться!
— Я? Драться? Да почему же я должен драться, черт возьми?
— Потому, что здесь Крис Лисгулд… Уходите, Игэн О'Мирей, как друга прошу вас, уходите!
Игэн помедлил. Ему было бы проще не знать, как выглядит тот, кто держал Петси в своих объятиях, но из страха прослыть трусом, он не мог отступить. Он извинился перед Кейредисом:
— Не обижайтесь на меня, Леннокс, но я не могу поступить по-другому…
И снова обернувшись к залу, он громко спросил:
— Похоже, Крис Лисгулд находится здесь?
По столам пробежала волна оживления. Из-за одного из них поднялся здоровый парень и так же громко ответил:
— Меня зовут Крис Лисгулд.
— Рад вас встретить, чтобы лично сказать вам: вы — законченный негодяй!
В зале прошелся одобрительный шепот. Лисгулд, не торопясь, вышел из-за стола и подошел вплотную к обидчику.
— Вы оскорбили меня из-за Петси Лэкан?
— Да, потому что нужно быть бесчестным человеком, чтобы поступать, как вы!
Лисгулд злобно процедил:
— Вам, наверное, кажется, что я увел ее силой. А известно ли вам, что она совершеннолетняя? И у нее есть полное право выбрать настоящею мужчину, а не такого хлюпика, как вы, способного только на вздохи!..
Удар кулака О'Мирея, угодивший ему прямо по зубам, не дал ему договорить. Это была отличная драка, в которой племянник доктора Оуэна, обретя былую форму, наносил удары с каким-то радостным облегчением. Крис оказался крепышом, и драка в самом деле вышла интересной, но более ловкий О'Мирей сумел нанести несколько решающих ударов. Кейредис молил святого Пэтрика, чтобы тот не привел сюда сержанта Саймуса Коппина.
Через четверть часа, после прямого справа в подбородок и сразу же последовавшего за этим бокового слева в печень, Крис Лисгулд растянулся на полу, потеряв сознание. Игэну О'Мирею дружно аплодировали. Старичок, продававший газеты, по-дружески хлопнул победителя по плечу:
— На вашем месте я бы его убил за то, что он сделал!
О'Мирей пожал плечами.
— За что? Он ведь верно сказал… Он не брал Петси силой, так? По логике вещей, если я должен кого-то убить, то, скорей, — Петси Лэкан, которая давала мне клятву!
Старичок долго думал и, почесав в затылке, заключил:
— Возможно, вы и правы, но о таких вещах никогда не говорят…
* * *
В назначенную субботу, вопреки всем ожиданиям, Нора Нивз никак не выдала своих чувств, застав «своего»
мальчика за укладкой вещей. Она даже помогла ему незаметно перенести их в машину, стоявшую у дверей дома. Это равнодушие, хоть и укрепило О'Мирея в его планах, однако было для него слишком непривычным. Когда он вернулся из «Лебедя с короной» с синяками на лице, миссис Нивз не стала ни кричать, ни читать ему нотаций. Она лишь с улыбкой заметила:
— Однако же! Мы прямо-таки помолодели!
Дядя Оуэн, несмотря на свою болезнь, печальный конец которой был ему хорошо известен, высказал неподдельную радость по поводу того, что племянник остался настоящим ирландцем, о чем свидетельствовали следы ударов на его лице. Немного сдавленным от подходившей к самому горлу наполнившей его тело жидкости он спросил:
— Вам кто-то не понравился, Игэн?
— Крис Лисгулд.
— Надеюсь, он остался там лежать?
— Он еще не приходил в себя, когда я ушел из «Лебедя с короной».
— Отличная работа, племянник… У вашей клиентуры теперь появится к вам больше доверия… А мне будет спокойней уходить…
То, что клиентура доверяет больше тому врачу, который сам умеет наносить калечащие удары, могло привести в изумление и не такого новичка, как Игэн О'Мирей, но сейчас он был настолько занят мыслями о дядюшке и об ожидающем его тяжелом разочаровании из-за его бегства, что не мог рассуждать о других вещах. Ему становилось стыдно, и он уже начал испытывать угрызения совести, хоть и не хотел себе в этом сознаться.
Когда наступил вечер, Нора Нивз сама проводила его до двери. Охваченный противоречивыми чувствами, он не знал, что сказать. Тогда она, как и прежде, видя отчаяние «своего» мальчика, принялась руководить его действиями.
— Значит… Вы идете на матч по боксу?
— Да… Я дождусь когда начнется бой с участием Шона, чтобы незаметно выйти… Примерно через полтора часа… Нора… Я вас очень люблю… Я хотел бы, чтобы в этом у вас не было сомнений…
— У меня их нет, мой маленький.
— Мне было бы легче, если бы вы дали мне слово переехать к нам, когда я смогу вас вызвать.
— Даю вам слово…
— А дядя… Постарайтесь ему объяснить… Скажите, что мне было очень трудно уехать… Что я знал, что поступаю скверно… но не смог отказаться от Петси, а… а остаться в Бойле — значит отказаться от нее…
— Я все ему объясню, Игэн… Во всяком случае, доктору осталось теперь недолго страдать…
Она поцеловала его.
— Удачи вам, мой мальчик…
Игэн отвел машину в условленное место, оставил ее там и пришел на матч. Он купил себе дешевый билет и устроился на видном месте, прямо у выхода. Когда он вошел в зал, до начала боя Шона Лэкана с чемпионом Слайго оставалось еще добрых полчаса. О'Мирей огляделся вокруг и не заметил поблизости ни одного знакомого лица. Это его устраивало. Без всякого интереса, он стал наблюдать за боем боксеров легкого веса, как вдруг на его плечо легла чья-то рука, и кто-то тяжело присел рядом с ним. Это был сержант Саймус Коппин.
— Зачем вы сели здесь, среди голодранцев, док?
— Я не хотел бы повстречать друзей… Они обязательно пригласят меня выпить, и, поскольку я не смогу отказаться, не обидев их, получится крепкая попойка!
— Да… Кстати, похоже вы крепко поколотили Криса Лисгулда?
— Мне пришлось это сделать, сержант…
— Хоть я и не должен так говорить, но все же рад был об этом узнать. Я боялся, что гам, в Канаде, вас испортили… А эта драка, естественно, — из-за Петси Лэкан?
— Естественно.
— Вам эта особа по-прежнему правится?
— Нет… У нее свой путь, у меня — свой… Очень жаль, ею ничего не поделаешь…
— Мудро сказано, док… И все же, вы подрались именно из-за Петси Лэкан.
— Нет, сержант, слово чести, нет!
Толстый сержант крепко хлопнул его по спине.
— Правильно, я рад был убедиться, что вы наш человек! Ах, да! Один совет, док… Я видел Криса Лисгулда… Он сидит с парнями из Слайго в таком крикливом пиджачке… Лучше не ходите в ту сторону, ладно? Пусть сегодня вечером бокс будет только на ринге! Хорошо?
— Хорошо, сержант.
Сержант поднялся и стал ходить между рядами, чтобы вовремя вмешаться, если болельщики какой-либо из cтopoн в спорах перейдут к физическим аргументам.
Когда Шон Лэкан, сопровождаемый своим братом Кевином, поднялся на ринг, зал приветствовал его невероятными овациями, но они утонули в криках болельщиков из Слайго, когда те стали приветствовать своего чемпиона, что говорило о примерном равенстве симпатий среди болельщиков. Игэн пожелал своему другу победы и, так как всеобщее внимание было приковано к рингу, незаметно выскользнул наружу.
Meнee чем через четверть часа Петси будет в назначенном месте. Сердце его сильно билось. Впереди его ждала новая жизнь, на которую он возлагал такие надеждьы.
Глава 2
Игэну виделось, как он привел Петси к Ниагарскому водопаду, и она кричит от восторга. Крики были настолько громкими, что он окончательно проснулся. Потребовалось некоторое время, чтобы он сообразил, что находится в своей комнате, а не в гостинице напротив водопада. На улице кричали дети, по дороге в школу избавляясь от переполнявшей их энергии. Почти сразу же Игэн ощутил боль во всем теле. Поднеся руки к лицу, он увидел на них свежие ссадины. Когда он ощупал лицо, ему и без зеркала стало ясно, что похож он сейчас на кого угодно, только не на интеллигентного человека. В тот же момент всем существом своим, в дополнение к физическим, он ощутил невыносимые душевные страдания. Теперь он все вспомнил. Вместе с болью к нему вернулась память, и он понял, что отныне ему придется всю жизнь нести на себе этот тяжкий крест отчаяния. Желая не думать об окружающем его мире, в котором Петси никогда больше не будет рядом с ним, он нырнул с головой под одеяло, закрыл глаза и попытался вновь забыться сном, но это ему не удалось. Картины вчерашнего вечера сами собой всплывали в его памяти.
Игэн пришел всего за пять минут до назначенного времени туда, где стояла его машина с выключенными габаритными огнями. Он сел за руль и постарался как можно глубже устроиться на сиденье, чтобы его не узнал и, хуже того, — не окликнул какой-нибудь запоздалый прохожий. Риск, конечно, был невелик, поскольку основная часть населения Бойля, знающая доктора, находилась в это время на матче. Ну, а женщины не привыкли появляться на улице с наступлением темноты. Когда подошло назначенное для встречи время, Игэн взглянул в сторону улицы, откуда должна была появиться с вещами Петси. Десять минут спустя он продолжал ожидать появления своей возлюбленной. Беспокойство пришло к нему не сразу. Когда же, наконец, прошла четверть часа, а Петси все не появлялась, племянник доктора Дулинга заволновался. Петси отлично знала, что у нее была только одна возможность выйти: пока Крис находился на матче, а тот мог закончиться в любую минуту. Возможно, он даже завершится досрочно, нокаутом.
Не выдержав больше неизвестности, презирая всякую осторожность, Игэн выскочил из машины и бросился к дому Лисгулда. С самого начала его поразило то, что изнутри, несмотря на открытые ставни, не пробивался ни единый луч света. Не могла же Петси собирать чемоданы в полной темноте! Не помня себя, он все звонил, звонил и звонил в дверь, больше не думая ни о каких предосторожностях, но в ответ так и не услышал ни малейшего шороха. Тогда до него дошло: дом был пуст. Что это могло значить? Он попытался подыскать для Петси любые оправдания, но обмануть себя ему больше не удавалось: в последний момент Петси отказалась от замысла… Возможно, она не была уверена в нем или в себе самой? Возможно, она решила избавить его от жертвы своим будущим, раз она так с ним обошлась? В любом случае, его план провалился. В отчаянии, Игэн все же успел обрадоваться, что не попрощался с дядюшкой… Ну, а Нора с радостью примется его утешать.
Целиком предавшись горю по поводу улетучившейся прекрасной мечты, О'Мирей больше не обращал внимания на то, что происходило вокруг, и, проходя через садик перед домом Петси, на полном ходу столкнулся с какой-то женщиной, едва не свалив ее на тротуар. Он сразу же рассыпался в извинениях, и мисс О'Брайен (а это была она), узнав его, воскликнула:
— Боже, как вы меня напугали, доктор! Я уж было подумала о маньяках, которые дожидаются темноты, чтобы удовлетворить свои постыдные страсти. Заметьте, я никогда не возвращаюсь домой так поздно одна, но сегодня вечером господин кюре должен был сделать выбор относительно самой благочестивой девушки нашего города. Хвала Небу, кандидаток хватает! Знаете, доктор, однажды в молодости меня тоже выбрали…
— Нет, и мне на это наплевать!
Не выдержав этой глупой болтовни, О'Мирей оставил на месте пораженную мисс О'Брайен и быстрым шагом направился прочь. Еще долго он слышал за спиной проклятия старой девы. Мысль о том, что он только что потерял свою пациентку, на минуту освободила его от переживаемой боли.
Вернувшись к машине, он поехал обратно к залу, где проходил матч, и оставил машину недалеко от выхода.
Когда О'Мирей вернулся на свое место в зале, как раз начинался седьмой раунд. Оба бойца были к этому времени уже серьезно потрепаны. В ходе последовавшего обмена ударами Игэн понял, что Шон был физически сильнее своего соперника, но тот боксировал намного лучше. Единственным шансом для Шона было решить бой в свою пользу одним ударом. Однако, было не похоже, чтобы это ему удалось, и болельщики Шона, убедившись в этом через несколько минут, примолкли, тогда как их соперники из Слайго, предвкушая близкую победу своего чемпиона, кричали все громче.
Во время очередного перерыва к рингу подошел один из зрителей и обратился к рефери, который склонился над канатами, чтобы лучше его слышать:
— Господин судья, вы собираетесь сегодня вечером возвращаться домой?
— Естественно! Сразу же после матча.
— Не думаю, чтобы это вам удалось.
— Почему же?
— Потому, что если парень из Слайго победит, вам не удастся найти своей машины, или вы найдете ее в таком виде, что сможете собирать запчасти лопатой!
— Да вы что! Угрожаете?!
— Что вы, господин рефери, как вы могли о гаком подумать? Просто еще один совет… У вас, конечно же, есть жена… дети?…
— И что из этого?
— Надеюсь, их будет нетрудно найти?
— А зачем вам понадобилось их находить?
— Чтобы они знали, в какой больнице смогут вас проведать… если Шон Лэкан сегодня вечером не будет объявлен победителем.
Прежде чем судья успел оправиться от удивления, зритель скрылся в толпе, а удар гонга не позволил рефери сообщить о том, что он стал жертвой угроз. Невольно продолжая о них думать, Джек Дромин (так его звали) стал допускать ошибки в судействе. Буря криков и ругательств, вызванная несвоевременными решениями, вообще заставила его потерять голову, и он стал судить из рук вон плохо. Он позволил Шону нанести удар ниже пояса и не заметил, как чемпион Слайго в ближнем бою нанес удар коленом, чтобы разорвать дистанцию. Со всех сторон слышалось улюлюканье, ругательства, и публика стала выходить из себя. В зале то там, то здесь вспыхивали потасовки, и сержант Саймус Коппин уже не знал, как предотвратить массовое побоище.
На ринге происходила самая настоящая уличная драка при полном безучастии Джека Дромина, способного в этот момент думать лишь о жене и детях, которых ему будет так не хватать, если эти дикари приведут в исполнение свои угрозы. Совершенно не сознавая, что делает, он достал из кармана плоскую бутылку виски и поднес ее к губам. В Бойле, где виски считали единственной панацеей от всех бед и болезней, в этом жесте ничего бы не было скандального, как вдруг один из зрителей поднялся с места и, показывая пальцем на судью, при полном молчании зала, крикнул:
— Он — предатель! Он пьет английский виски!
Объединившиеся в едином порыве негодования, жители Бойля и жители Слайго издали такой крик, что он стал похож на рев моря во время шторма. Этот ужасный крик окончательно добил Джека Дромина, решившего, что теперь он уж никогда не увидит жены и детей. И тогда он решил спастись любой ценой, даже ценой неподкупной судейской чести. В ту же минуту боксер из Слайго, получив не совсем чистый удар в печень, опустился на одно колено, чтобы прийти в себя. Рефери сразу же принялся считать:
— Один… два… три… четыре… пять и пять — десять! Нокаут!
Не теряя ни секунды, на глазах у пораженных зрителей, которые не успели разобраться в том, что произошло, Джек Дромин схватил Шопа Лэкана за руку, высоко ее поднял и выкрикнул:
— Победил Шон Лэкан!
Затем одним прыжком он оказался среди болельщиков из Бойля, которые устроили ему овацию. Оставшийся на ринге чемпион Слайго, которого лишили победы, ревел, как бык, и рвался продолжить бой. К боксерам с обеих сторон уже спешило подкрепление, и вскоре в схватке уже участвовали человек двадцать. Что началось в зале! Даже понимая всю несправедливость решения Джека Дромина, Игэн, нервы которого были напряжены до предела, не смог удержаться, чтобы не заехать по физиономии первому же попавшемуся под руку зрителю, который выкрикнул оскорбительное слово в адрес рефери. Он наносил удары, чтобы таким образом отомстить за предательство Петси, он наносил удары, чтобы не думать о крушении своих надежд, он наносил удары, чтобы позабыть о том, что она предпочла ему Криса Лисгулда, и в этот вечер некоторые из зрителей, чьи глаза не открывались из-за синяков, так и не поняли, что они их заработали благодаря девице, о существовании которой они даже не подозревали. Два или три раза О'Мирей сам падал на пол после тяжелых ударов, но после этого поднимался и продолжал борьбу с еще большим ожесточением, и в глазах его светилась жажда мести. Все, кто попадался ему под руку, были для него воплощением Криса, укравшим у него счастье.
Несмотря на подкрепление, прибывшее из участка, сержанту Коппину никак не удавалось установить порядок. В считанные минуты десяток полицейских были втянуты в драку. Сам он от удара чьего-то кулака оказался сидящим на полу. Вдруг из громкоговорителя послышался чей-то встревоженный голос:
— Внимание! Внимание! Умер человек!
В одну секунду восстановилось спокойствие… Умер человек, а того, кто об этом объявил невозможно было заподозрить во лжи, поскольку это был отец О'Донахью. Человек умер… Безусловно, он погиб где-то в драке. С этой минуты каждый думал только о том, чтобы поскорее добраться домой и не быть замешанным в этом деле. Пока зрители разбегались из зала кто куда, священник по громкоговорителю звал доктора. Саймус Коппин, вспомнив о том, что О'Мирей в зале, нашел его без чувств под телами двух или трех парней из Слайго, которых сержант заставил подняться пинками в зад. Затем он склонился над Игэном, поднял его на ноги и стал трясти, приговаривая:
— Ну же! Док! Очнитесь!
— От… Отвалите!..
— Никак невозможно! Здесь умер человек и требуется врач!
— Не имею права на освидетельствование умерших… Это старик Фрэнк Клоф…
— Знаю, но не могу его позвать.
— Почему?
— Потому что он-то и умер!
На самом деле Фрэнк Клоф умер от обычного инфаркта миокарда, но, чтобы успокоить публику и заставить ее прекратить побоище, отец О'Донахью не счел нужным это уточнять в мегафон. Таким образом, он одновременно избежал лжи и, прибегнув к хитрости, совершил доброе дело.
* * *
Нора Нивз, которую, казалось, невозможно было застать врасплох, не выразила ни малейшего удивления, открывая Игэну дверь. Она лишь спросила:
— Вы изменили свое решение?
— Не я, а она…
Поняв, что сейчас не время радоваться новому проступку Петси Лэкан, она воздержалась от всяких комментариев. Чтобы прервать тягостное молчание, она перешла к другой теме:
— Если судить по вашему лицу, вы провели не самый спокойный вечер?
— Я был на матче по боксу.
— Не думала, что вы станете участвовать в этом матче.
Ему было не до шуток, и он ничего не ответил.
— Думаю, я правильно поступлю, если распакую чемоданы… Вы еще ничего не говорили дяде?
— Нет.
Он облегченно вздохнул.
— Тем лучше!
Прежде всего она помогла ему выгрузить все из машины, потом — раздеться и, прежде чем его накормить, принялась промывать его рапы, дезинфицировать их, накладывать мази, пытаясь по мере возможности поправить ущерб, причиненный местным шовинизмом лицу «ее» мальчика. Несмотря на протесты, она заставила его выпить тополиной настойки и принять таблетку легкого снотворного. Сделав все это, она осторожно закрыла за собой дверь и направилась прямо в комнату доктора Дулинга, пытаясь проникнуть туда без шума. Из темноты послышался сдавленный голос старого доктора:
— Это его машина, Нора?
— Да.
— Он здесь?
— Лег спать.
— Что он сказал?
— Что Петси, естественно, не явилась.
— И что он об этом думает?
— Он ничего не сказал, но, думаю, на этот раз он сумеет выбросить ее из головы.
— Будем надеяться, Нора.
— Уверена! Все в порядке, доктор, можете спокойно отдыхать…
Она мелко, со скрипом рассмеялась.
— Как раз сейчас мне совершенно не хочется отдыхать, Нора, потому что скоро мне придется чертовски долго это делать!
Когда сержант Саймус Коппин позвонил у двери доктора Дулинга, Игэн О'Мирей еще лежал в постели. Полисмен объяснил открывшей ему дверь Норе:
— Миссис Нивз, я к вам по очень неприятному делу…
— Что?…
— Да… И, если хорошенько подумать, даже по двум неприятным делам.
Гувернантка взяла сержанта под руку.
— В таком случае, Саймус, проходите скорее в дом, иначе у вас скоро наберется для меня целых полдюжины неприятных дел!
Она провела его в приемную, где обычно посетители рассказывали друг другу о своих болезнях, прежде чем поговорить о них с доктором.
— Теперь, Саймус, можете мне сказать, что там у вас на душе.
Толстый полисмен, сидя на краю стула, мял в руках фуражку. Нора поспешила ему на помощь.
— Неужели это настолько сложный вопрос?
— Речь идет о вашей племяннице, миссис Нивз.
— О племяннице? Которой?
— О Петси Лэкан…
— О Петси? Что же еще могла натворить эта беспутница?
— Миссис Нипз! Не произносите слов, о которых будете потом-сожалеть!
— Я стану сожалеть? Не смешите меня, Саймус Коппин! О девице, ставшей позором для нашего очага? И вы еще хотите, чтобы я отзывалась о ней с почтением?
— По крайней мере, с тем почтением, с которым говорят о мертвых, миссис Нивз.
— О?…
Она пристально посмотрела ему в глаза и медленно произнесла:
— Неужели вы хотите сказать, что Петси?…
— Да, миссис Нивз, этой ночью Петси не стало.
Нора Нивз вовсе не принадлежала к числу тех женщин, которые плачут по поводу или без него, ни к числу тех, которые лишаются чувств, узнав о постигшем их горе. Она стала медленно оседать на стул напротив полисмена, держа на переднике свои большие руки. Неизвестно почему, эти руки, искореженные ежедневным трудом, больше всего поразили полисмена. Он тихо сказал:
— Сочувствую вам, Нора Нивз… От всего сердца, потому что очень вас уважаю…
— От чего она умерла?
Полисмен завертелся на стуле.
— Так! Значит, вот что… Ее задушили.
— Не может быть?!
Она вскочила с места, и сержант медленно поднялся за ней.
— Увы! Да… Ее… Ну, парень, с которым она жила, Крис Лисгулд, обнаружил ее мертвой вчера вечером, вернувшись с матча по боксу.
Нора вздохнула:
— Бедная Петси… У нее была скверная жизнь, и смерть получилась скверной… Кто ее убил?
Саймус пожал плечами.
— Этого мы пока не знаем… Комиссар Майк О'Хегэн занят поисками убийцы… Я стараюсь, чем могу, помочь ему, но все же такая история, не стану от вас этого скрывать, может любого выбить из колеи…
— Там, на ферме, они уже знают?
— Да… Ваш брат так и сказал, что эта Петси его не интересует… что у пего когда-то была дочь с таким именем… но он не знает, что с ней потом случилось, и не желает этого знать… Не очень-то по-христиански, а, миссис Нивз?
— Томас поступает так, как подсказывает ему честь, сержант… А ваше второе дело тоже касается чьей-то смерти?
— В некотором смысле, да.
— Неужели же этой ночью произошла настоящая резня?
— Нет, поскольку старик Фрэнк Клоф, как установил мистер О'Мирей, умер от инфаркта… Если я правильно понял, у него просто остановилось сердце.
— Кажется, ему было что-то около восьмидесяти?
— Семьдесят девять.
— Тогда, он свое отжил!
— Согласен, миссис Нивз, но ведь он был врачом-анатомом…
— Ну и что из этого?
— Совершено убийство Петси Лэкан. Мы должны произвести вскрытие.
— Зачем?
— У нее на голове имеется рана от тупого предмета… Комиссару и мне необходимо узнать, был ли этот удар смертельным, и если да, то был ли он нанесен до или после того как ее задушили…
— Зачем все это?
— Чтобы знать, кого судья должен отправить на виселицу в случае, если наносил удар и душил не один и тот же человек. После смерти доктора Клофа у нас больше некому производить вскрытие… Сами понимаете, нам трудно обратиться за этим к доктору О'Мирею… Все знают о его чувствах к покойной…
— О прежних чувствах, которых из-за поведения моей племянницы больше не существует!
— Да… Комиссар считает, что было бы бесчеловечным требовать от доктора О'Мирея резать несчастную девчонку на части… Не говоря уже о том, что такая просьба прозвучала бы некорректно… Верно?
— Кажется… в самом деле… И что же?
— И вот я зашел посмотреть, в состоянии ли будет доктор Дулинг…
Гувернантка довольно сухо прервала его.
— Не может быть и речи! Бедняге осталось совсем немного…
— Даже так?
— Это вопрос нескольких дней, сержант.
— В таком случае, нам придется вызвать патологоанатома из Слайго или из Роскоммона, если они захотят приехать… До свидания, миссис Нивз… Еще раз примите мои соболезнования, ладно?
После ухода полисмена Нора немного подумала, а затем, все еще пребывая в задумчивости, постучалась в дверь комнаты доктора Дулинга. Доктор не спал.
— Здравствуйте, Нора… Я провел очень скверную ночь… Когда Игэн проснется, попросите его зайти ко мне… Я хотел бы, чтобы он сделал мне укол…
Гувернантка села в единственное во всей комнате кресло.
— В эту ночь некоторым было еще хуже, чем вам, доктор… Например, Петси Лэкан…
— Вашей племяннице? Что с ней случилось?
— Ее убили.
— Не может быть?!
— Да!
— Бедная девчонка… Надеюсь, она недолго страдала.
— Кто это может знать?
— А известно ли, как?
— Вот именно, что нет… Возможно, ее задушили или чем-то ударили по голове… Это решать патологоанатому из Слайго или из Роскоммона.
— А почему не Клофу?
— Потому, что он сам умер, и тоже вчера вечером.
— Вот это да! Однако же, Нора, я ухожу не один!
Эта шутка при известии о смерти других людей убедила Нору лучше всякого диагноза или прогноза в том, что доктор доживает последние дни.
— Нора… Игэн уже знает?
— Еще нет.
— Будьте с ним поделикатнее, ладно?
Он на минуту задумался и продолжил:
— Он будет страдать, но останется в Бойле… В общем, своей смертью бедняжка Петси, безусловно, искупила грехи своей жизни.
Как и следовало ожидать, новость о смерти Петси быстро распространилась в Бойле. На улице, в барах, мастерских, магазинах и кабинетах только об этом и говорили. Естественно, каждый общественный обвинитель выдвигал свое собственное предположение о возможном преступнике. Имя Игэна О'Мирея чаще всего слышалось в этих разговорах. За стойкой бара в «Лебеде с короной» Леннокс Кейредис отказывался отвечать на вопросы относительно недавней драки Игэна и Криса в его заведении. Он отказывался это делать прежде всего потому, что ему не хотелось хоть немного быть замешанным в деле об убийстве, к тому же, ему казалось диким, что врача можно заподозрить в бандитизме, и, наконец, находясь под влиянием своей жены Морин, он считал, что человек, любивший Петси Лэкан так, как ее любил Игэн О'Мирей, мог бы ее убить. Если даже врач не может оставаться хладнокровным в своих поступках, кто же тогда на это способен? Рассудительный и воспитанный в традиционном духе, Леннокс Кейредис не мог допустить подобного предположения.
Поскольку Нора долго не решалась сообщить эту новость Игэну О'Мирею, он последним узнал о смерти Петси Лэкан. За завтраком молодой доктор заметил, что Нора о чем-то переживает.
— Что случилось, Нора?
Вместо ответа, она расплакалась. Это было так необычно, что потрясенный Игэн сразу же подумал о дяде. Побледнев, он встал и, взяв миссис Нивз за руку, шепотом спросил:
— Он… Он умер?
Она тряхнула головой.
— Тогда в чем же дело? Что с вами? Что могло вас так расстроить?
— Это… Из-за Петси…
Он недоверчиво взглянул на нее.
— Из-за Петси?
— Этой ночью ее не стало.
— Не стало?!!
О'Мирей откинулся на спинку стула. Перед глазами у него все поплыло. Петси не стало… Неужели это правда?
Видя его страдание, гувернантка позабыла о своем собственном горе и обняла его.
— Крепитесь, Игэн… Для нее вы уже ничего не сделаете.
— Так вот почему она не пришла на встречу со мной…
— Да, мой мальчик.
— Уверен, что иначе она бы не нарушила данного мне слова!
— И я тоже уверена.
На глазах у него все еще не было слез, потому что в глубине души он все еще никак не мог поверить в смерть Петси.
— Мамми… Как она?…
Она прижала его покрепче к себе и прошептала ему на ухо:
— Ее убили.
Он резко отстранился от нее.
— Что вы говорите? Что вы сказали?
— Этой ночью ее кто-то задушил.
— Задушил? Но зачем? Почему?
Она пожала плечами, давая ему понять, что не может ответить на этот вопрос. А он проговорил дрожащим голосом:
— Ее убили, чтобы помешать оказаться со мной…
— О вашем плане знала только я одна.
Он раздраженно воскликнул:
— Но Лисгулду, может быть, захотелось узнать о наших планах, а когда она не захотела ему о них говорить, он ее убил! Уверен, что это так и было! Я пойду скажу им!
— Кому?
— Полиции!
— Вы расскажете им о том, что собирались удрать с Петси из Бойля? Что они подумают, как вы считаете? Не говоря уже о том, Игэн О'Мирей, что доносить на ближнего вам не к лицу… Пусть Саймус Коппин и Майк О'Хегэн занимаются своей работой, хоть они в ней и не так уж много смыслят. Если мою племянницу убил Крис Лисгулд, уверена, что у них хватит ума, чтобы вывести его на чистую воду.
Только теперь чувства полностью овладели им, и О'Мирей, схватившись за голову, упал на стул. Он плакал. Нора Нивз осторожно гладила его волосы.
— Уверен, что она любила меня, мамми!
— Да, мой мальчик…
— Если бы мы начали там новую жизнь, она была бы мне хорошей женой… Никто не знал ее так хорошо, как я!
— Конечно, Игэн…
— Мамми… Ее, возможно, убивали как раз в те минуты, когда я ее ждал!
— Постарайтесь больше никогда об этом не вспоминать.
— Подумать только: ведь я подходил к ее двери, стучался… И я еще разозлился за то, что она мне не отвечала… А она не могла мне ответить, бедная моя Петси… Она уже не могла мне ответить…
— Нужно обязательно взять себя в руки, Игэн… Петси уже мертва… Теперь она больше не страдает… Наше дело — думать о тех, кто еще жив… Ваш дядя весь исстрадался… Похоже, он провел скверную ночь…
— И он тоже…
— Да, но он все еще продолжает страдать…
— Он знает о Петси?
— Да… Он не велел мне будить вас, хотя нуждался в вашей помощи.
О'Мирей медленно и тяжело встал.
— Хорошо… Я сейчас к нему поднимусь.
Слушая, как тяжело он ступал по лестнице, миссис Нивз поняла, что с этого момента Игэн больше себе не принадлежит. Он принадлежит медицине.
Саймус Коппин шел, опустив голову, потому что знал, что все встречные будут его расспрашивать о смерти Петси Лэкан, а он не мог об этом рассказывать, прежде всего потому, что был полицейским, а образцовый полицейский никогда не болтает о ходе следствия, и еще потому, что смерть Петси в каком-то смысле потрясла его. Глядя на мостовую, чтобы не видеть людей, приветствовавших его, Саймус вспомнил, как когда-то заходил к Мив Лэкан, которая в то время еще была Мив О'Каллагэн, и думал, что сложись все так, как он хотел, у него могла бы быть дочь такого же возраста, как Петси. Несмотря на внешность гиганта с седой головой, в груди у Коппина билось сердце, всегда способное откликнуться на горе других. В глубине души он был уверен, что Петси, о которой все говорили лишь неприятные вещи, была не так уж плоха. И потом! Никто не имеет права посягать на жизнь своего ближнего! При мысли о той минуте, когда он схватит убийцу, его большие руки сами собой сжимались в кулаки. Тому придется быть смирным, иначе… Недаром, говоря о сержанте в Бойле, его называли «толстым Саймусом». Конечно же, он весил двести фунтов, но при этом рост его был около шести футов, и у него почти не было живота. Он весь состоял из мускулов и внешне был похож на гориллу, с такими же длинными, как у гориллы, руками… или почти такими же. Коппину было около шестидесяти лет, и те, кто знал его в молодости, признавали, что второго такого силача не было во всем графстве. Покойная жена Саймуса, Джанет, рослая женщина с заячьей губой, за двадцать лет совместной жизни так допекла своему мужу, что он чувствовал себя человеком только в полицейском участке или в баре, и это были два единственных места, между которыми он разделял свое существование. После смерти Джанет Коппин опять вернулся к нормальной жизни.
Комиссар О'Хег'эн и сержант давным-давно были знакомы друг с другом и между ними не было принято церемониться. Входя в кабинет своего начальника, дверь к которому он пинал ногой, Саймус обычно говорил:
— Привет, Майк! Как дела?
Затем он усаживался в кресло напротив стола, вытягивал свои длинные ноги и слушал то, что ему предстояло узнать, или сам о чем-нибудь докладывал.
В это утро после обычного приветствия Саймус сразу же начал:
— Нужно позвонить врачу из Слайго, Мик… Малыш О'Мирей знать ничего не хочет… Впрочем, так оно и должно было быть… Не очень-то приятно резать на куски женщину, которую ты любил… Особенно поначалу… Потом!..
Сержант пожал плечами, как бы в знак того, что он не очень бы возражал, если бы ему, в случае необходимости, пришлось производить вскрытие собственной супруги.
— Вы говорили с самим О'Миреем?
— Нет, с миссис Нивз… Это одно и то же.
— Ладно, сейчас позвоню в Слайго.
За несколько минут комиссару удалось связаться с патологоанатомом из соседнего графства, который обещал быть в Бойле после обеда.
— Должно быть, в городе только об этом и болтают, а, Саймус?
— Да…
— А что слышно у Лэканов?
— Похоже, это едиственное место, где о Петси ничего не говорят… Дико, а? Даже если дочь совершила бы все глупости на свете, от этого она не перестает быть вашей дочерью, не так ли, Майк?
— Думаю, да…
— Похоже, в доме у Лэканов Томас дал свои указания. Они все делают вид, что Петси как бы никогда не было на свете. От такого отношеньица можно потерять голову, Майк!
— Не беспокойся, не все Лэканы такие, как их отец.
— Не может быть!
— Можешь заглянуть в камеру, если не веришь.
Желая удостовериться, сержант открыл дверь в единственную камеру, которая имелась в участке, и застыл от удивления. Закрыв дверь, он вернулся к О'Хегэну.
— Там Лэканы? Вы заперли Шона и Кевина? Зачем?
— Потому, что они едва не прибили насмерть Криса Лисгулда.
— Всего лишь едва?
— Вам не нравится этот Крис, а?
— Нет, Майк, не нравится, и я считаю его отпетым негодяем. Не могу ему простить то, что он сделал с Петси…
— Но ведь с согласия малышки?
— И все же это не оправдание, Майк! Так что с этими ребятами?
— Они поработали над ним вдвоем… Говорят, что после лого у Лисгулда не совсем приятный вид. Возможно, они даже его покалечили.
— И все из-за Петси?
— Приведите сюда этих дикарей, Саймус, и давайте их допросим!
Саймус пошел за преступниками и довольно грубо вытолкал их из камеры.
— Вам не кажется, что у ваших родителей и без вас достаточно горя, дураки вы этакие?
Они ничего не ответили. Сержант втолкнул их в кабинет комиссара, который предложил им сесть.
— Ну что, довольны собой, а?
Шон тряхнул головой.
— Нет. Жаль, что мы его не до конца пристукнули, этого негодяя!
Майк О'Хегэн пожал плечами.
— От тебя я не ожидал услышать ничего другого, Шон. Ты никогда не слыл хитрецом. Господь не обидел тебя мускулами, но посчитал, что этой его милости достаточно. Мозгов у тебя, пожалуй, не так много… Но ты, Кевин? Неужели ты не понимаешь, что вы оба едва не стали убийцами?
— Крис Лисгулд не должен жить на этом свете!
О'Хегэн с силой стукнул кулаком по столу и прорычал:
— Кевин Лэкан, ты кто такой, чтобы решать, кто должен жить, а кто нет?
— Человек, семью которого обесчестил один мерзавец, но вы, комиссар, кажется, таких вещей не понимаете.
— Если ты будешь продолжать в таком же тоне, мой мальчик, я тебе покажу, что я понимаю, а что нет! Ты вздумал учить меня? Семья настоящих ирландцев не теряет своей чести из-за того, что какая-то девчонка ищет себе приключений на стороне!
— Попробовали бы вы объяснить это отцу!
— Я знаю Томаса больше тебя и могу сказать, что он тоже был неплохим гусем!
Шон проворчал:
— У меня дикое желание заехать вам в морду, комиссар!
О'Хегэн ничуть не удивился.
— Только попробуй, желторотый, и это будет последним ударом в твоей жизни! Когда ты выйдешь из тюрьмы, ты никогда больше не сможешь подняться на ринг! Кевин… Послушай меня: мне не нравится Крис Лисгулд, и все же я не могу позволить убить его из-за того, что он плохо обошелся с вашей сестрой! И потом… Между нами говоря, ведь он ее не выкрал? Она сама к нему пошла, разве не так?
— Ладно, комиссар, Петси действительно была ничтожеством, и в каком-то смысле она заслужила то, что с ней случилось.
Сержант с отвращением втянул носом воздух.
— Только за эти слова, если бы я не был полисменом, несмотря на возраст, я бы тебе так врезал, как не врезал никто за всю твою паскудную жизнь, Кевин Лэкан! Если хочешь знать, мой мальчик, человек, который говорит о покойной сестре, как ты, не может считаться мужчиной!
Немного смущенный, младший из Лэканов ничего не сказал в ответ. За него ответил Шоп:
— Не лезьте не в свои дела, Саймус Коппин. Ни вы, ни кто другой не может нам запретить говорить, все, что мы думаем о Петси и Крисе Лисгулде!
Комиссар снова стукнул кулаком по столу.
— Слушайте меня, Лэканы… Я отпущу вас сегодня вечером, когда вы немного поостынете, но клянусь: если до того, как я схвачу за шиворот убийцу, я увижу вас в Бойле, то засажу вас в камеру до самого конца следствия, даже если оно будет длиться десять лет!
Помогая дядюшке, который чувствовал себя все хуже и хуже, Игэн не думал о Петси. Вернувшись в кабинет, он сел за стол и, обхватив голову руками, дал волю чувствам. Помимо потери любимой, О'Мирея мучило чувство вины: если бы он не задумал этот романтический побег, Петси, безусловно, осталась бы жить. Он не сомневался, что убийцей был Крис Лисгулд. Должно быть, он застал Петси как раз в тот момент, когда она собиралась идти на встречу с Игэном. Они поссорились, и, будучи вне себя, видя, что женщина ускользает от него, возможно, сам того не желая, Крис убил ее.
* * *
Доктор Дулинг, чтобы больше расположить пациентов, повесил в кабинете зеркало, чтобы женщины, выходя от него, могли поправлять шляпки. Поскольку ни один порядочный человек в Бойле не выходил на улицу без головного убора.
Случайно взглянув в это зеркало, Игэн был поражен, и от увиденного у него перехватило дыхание. Неужели же эта ужасная маска была его лицом? После всеобщего побоища накануне вечером в спортивном зале лицо О'Мирея так распухло, что его черты невозможно было узнать и, кроме того, оно было украшено синяками всевозможных цветов. Слезы отнюдь не придавали ему красоты. Смущенный О'Мирей не мог понять, каким образом молодой доктор, высокое положение которого в обществе, если верить общественному мнению, было бесспорным, мог повести себя так отвратительно! В любой другой стране после случившегося у врача не осталось бы ни единого клиента. Но в Ирландии, а тем более в Бойле, настолько привыкли к синякам на лицах мужчин, что не обращали на них внимания. Перевязывать легкие раны, оказывать первую помощь при рассеченных бровях, распухших носах, накладывать повязки на вывихнутые суставы и легкие переломы — было первым делом, которому обучали здесь девочек с самого раннего возраста «по хозяйству». По этой причине каждая женщина в Бойле была медсестрой, и, несмотря на свое немногочисленное население, город занимал одно из ведущих мест по потреблению лейкопластыря, мазей, ваты и прочих перевязочных материалов, способных укреплять или поддерживать человеческое тело, приведенное в довольно жалкое состояние. По просьбе жителей и с разрешения отца О'Донахью, с субботы до понедельника аптеки работали круглосуточно. Дочери двух городских аптекарей были самыми богатыми невестами Бойля.
Посмотрев на свое лицо, Игэн подумал, что лицо Петси в эту минуту представляло собой не лучшее зрелище. Ему вспомнилось, как на последнем курсе он видел в морге лицо человека, умершего от удушья. Ужасная картина еще долго оставалась у него в памяти. Мысль об обезображенной красоте лица Петси приводила его в расстройство и в ярость одновременно. Ему хотелось встретиться с глазу на глаз с этим Крисом Лисгулдом и драться с ним до тех пор, пока не удастся прибить его до смерти своими собственными руками. Вскоре, за этим возбуждением, последовало чувство глубокого отчаяния. Без Петси жизнь для него утратила всякий смысл. Почему бы не вернуться в Канаду? Конечно, есть еще дядя Оуэн, который скоро умрет, и Нора Нивз, которая останется совершенно одна, если оба они покинут ее, но сейчас Игэн был слишком несчастен, чтобы думать о горе других.
В это воскресное утро отец О'Донахью, который вовсе не отличался терпеливостью, вдруг заметил, что его паства невнимательно следит за ходом мессы. Это его злило, и, если бы он уступил своему вспыльчивому характеру, то обязательно повернулся бы к присутствующим и высказал бы им все, что он о них думает. Но он вовремя вспомнил, что проводит службу Божью, а также о клятвах, данных Богу и самому себе относительно надежд на перемены в своем несдержанном характере. И все же, когда подошло время проповеди, он позабыл все слова, которые так тщательно подбирал для нее целую неделю, и бросился в яростную импровизацию на тему рассеянности, которая разрушает человеческий рассудок, а в церкви становится настоящим предательством. Господь не обращает внимания на молитвы, идущие не от чистого сердца. А что, как не спасение души, может привлекать внимание грешников? Держась обеими руками за край кафедры, отец О'Донахью громогласно вещал, ревел, вглядывался в лица и все больше раздражался, замечая, как, впрочем, и все ораторы, независимо от того, божественные слова они произносят или нет, что его не слушали. Он почувствовал себя глубоко оскорбленным, что, конечно же, не улучшило его настроения. От угроз он перешел к ругательствам. По тому, как некоторые из присутствующих поглядывали на него, он понял, что кое-кто совсем непрочь внушить к себе большее уважение и, с другой стороны, напомнить, что у слов церковной проповеди есть свои границы, даже если ее произносит всеми любимый священник. Поняв, что он зашел слишком далеко, кюре сменил тему, и, поскольку по этому поводу он испытывал истинное сожаление, его голос смягчился, когда он говорил этим безбожникам о смерти Петси Лэкан. Все сразу же смолкли и, казалось, прекратили дышать. Его слушали.
Отец нашел нужные слова, чтобы представить образ девушки, которую знал каждый. Он рассказал, какой она была смешливой, беззаботной, не способной, как и они, сосредоточить свое внимание на самом главном, чтобы всем пожертвовать ради ближнего своего. Благодаря превосходному ирландскому воображению ему удалось нарисовать трогательную картину этой несправедливой смерти. Он еще сказал, что, если убийца избежит людского суда, Господь никогда ему не явит своего прощения, потому что отнять жизнь у своего ближнего — непростительный грех. Женщины плакали, а у мужчин сдавило горло. Еще никогда двое певчих, Сэмюэль и Руэд, так не фальшивили, настолько они были в плену охвативших их чувств. Эти чувства были так сильны, что по окончании службы они зашли в заведение Леннокса Кейредиса и там совершенно сознательно напились, чтобы не думать о Петси Лэкан. И, как это бывало раньше, когда оба набирались до какого состояния, призрак бедной, хорошенькой Петси возродил в их памяти образ той девушки, за которой вместе ухаживали Сэмюэль и Руэд. Руэд первым затронул эту опасную тему.
— Сэмюэль, старина, знаете, о ком меня заставила подумать эта бедняжка Лэкан?
— Да, Руэд, знаю!
— Святой Патрик, откуда вам это может быть известно?
— Потому что я познакомился с ней еще до вас!
Все посетители бара дружно смолкли, чтобы еще раз послушать бесконечную ссору двух старых пьяниц. Это был ритуал, который все знали наизусть. Все понимали, что Леннокс вмешается и не даст закончить драку после первого же удара кулака, но были готовы поспорить о том, кто же из них первым расквасит другому нос.
— Должен сообщить вам одну вещь, Сэмюэль: вы бесстыжий враль! Я лично, а не кто другой, представил вам Мери Форд в то весеннее воскресенье 1908 года! И вы сами, Сэмюэль, сказали мне, что я самый удачливый парень на целом свете, потому что вам еще никогда не приходилось видеть такой блондинки с таким приятным цветом кожи!
Сэмюэль что-то долго ворчал, и это было так оскорбительно, что у его напарника сжались кулаки.
— Мне трудно говорить это, Руэд, но с прошлого воскресенья вы очень сильно сдали!
— Вы так считаете, Сэм?
Дрожь в голосе Руэда говорила о том, что начало военных действий уже не за горами.
— Да, я так считаю!
— Могу я вас попросить сказать, на чем основано ваше утверждение?
Такая необычная вежливость свидетельствовала о том, что взрыв вот-вот наступит.
— Да на том, старина, что эта прекрасная девушка была не блондинкой, а брюнеткой, что звали ее не Мери, а Кэтлин, и это я вам ее представил в одну осеннюю субботу 1909 года!
После стольких лет непрерывных ссор по одному и тому же поводу, им еще ни разу не приходило в голову, что они говорят о двух совершенно разных девушках.
— Значит, Сэмюэль, вы хотите сказать, что Мери Форд считала вас своим лучшим другом, а на меня не
обращала никакого внимания?
— Если хотите знать, Руэд, моя маленькая Кэтлин просто обожала меня. А о вас она говорила, что во всем графстве не было такого глупого задаваки, и что она предпочла бы остаться старой девой, чем взглянуть в вашу сторону! Что вы на это скажете, старина?
— А что вы скажете на это, Сэм?
В ту же секунду, кулак прямой правой руки Руэда врезался в нос напарника, из которого потекли две струйки крови. Леннокс Кейредис, следивший за началом поединка, тут же схватил обоих противников за шиворот и, как только они заплатили ему за виски, сразу же вышвырнул их вон. Там они сцепились в яростной схватке, которая собрала немалую толпу знатоков кулачного боя, и продолжалось это до тех пор, пока двадцатипятилетняя рослая внучка Руэда не разогнала противников при помощи зонтика и не потащила за собой дедушку, который на ходу пытался ей объяснить, что под угрозой полного бесчестия он не мог допустить оскорбления памяти Мери Форд.
* * *
Когда миссис Нивз принесла Игэну его завтрак, она застала его с затуманенным взором, оторванного от всех земных дел. Она поставила яичницу с ветчиной прямо ему под нос. Запах еды вернул О'Мирея на землю, но лишь затем, чтобы сказать:
— Я не хочу есть…
— Нужно заставить себя, Игэн!
— Не понимаю, Нора, как вы можете говорить о еде, когда Петси погибла?
— Если вы не станете есть, это все равно не сможет ее воскресить, мой мальчик. Смерть моей племянницы — это одно дело, а ваше здоровье — другое.
— Какие ужасные вещи вы говорите!
— Не ужасные, а благоразумные.
О'Мирей не стал объяснять Норе, что до ее прихода, он прекрасно себя чувствовал в окружении образов Петси самого разного возраста, бок о бок с которыми шли Игэны, одни в коротеньких штанишках, другие — в брюках. Как же можно есть, когда в сердце такая глубокая рана? Однако Нора по-прежнему стояла над ним и не собиралась выходить из комнаты, пока он не поест. Наконец, чтобы его оставили в покое, Игэн покорился судьбе. После завтрака миссис Нивз спросила:
— Ну что, вам лучше?
Он только пожал плечами, не в состоянии ответить на такой глупый и несвоевременный вопрос. Унося тарелки на подносе, гувернантка объявила:
— К вам пришел Иоин Клонгарр.
— Муж этой…
— Да, этой бесстыжей Бьюди.
— И что он хочет?
— Раз в неделю он приходит на укол.
— По воскресеньям?
— Он может приходить только по воскресеньям.
Игэн отыскал в дядюшкином списке имя Иоина Клонгарра, и по названию назначенного ему препарата определил, что речь шла о простой внутримышечной инъекции.
— Ладно, давайте его сюда, чтобы побыстрее со всем этим покончить.
Нора Нивз продолжала стоять на месте, словно собиралась еще что-то сказать. О'Мирею это показалось странным.
— Что еще?
— Я по поводу этого Клонгарра… Он немного странный.
— Странный?
— О, это надо слишком долго объяснять… Во всяком случае, если вам понадобится моя помощь, можете меня позвать.
— Ваша помощь?
Не ответив, миссис Нивз вышла и вскоре ввела в кабинет Иоина Клонгарра, вид которого поразил врача. Это был маленький человечек, страдавший нервным тиком, лицо которого каждую секунду искажалось в жутких гримасах, а руки и ноги дергались так, словно по ним пропускали электрический ток.
— Так вы — новый док?
— Да.
— Значит так, в силу обстоятельств, вы — племянник старого дока?
— Да. Судя по вашей карточке болезни, я должен вам сделать укол?
— Как тот говорил, в силу обстоятельств…
— Хорошо… Ладно! Снимайте брюки и ложитесь на кушетку, пока я продезинфицирую иглу.
— Разве… Разве обязательно пользоваться иглой?
— Чтобы сделать укол? Не вижу, как это можно сделать по-другому?
— Как тот говорил, в силу необходимости, так?
— Именно так.
— Ладно… Значит, снимаю штаны, в силу обстоятельств…
Когда О'Мирей со шприцом в руках вернулся к своему пациенту, то при виде его маленького, размером с кулак, зада испытал к нему чувство жалости, и ему вспомнился один мудрый профессор, который говорил, что может установить характер человека по его заду.
— В левую или в правую?
— Простите, не понял?
— Сделать вам укол в левую или в правую ягодицу?
— Вы считаете, что обязательно должны мне сделать укол?
— Разве вы не за этим пришли?
— Как тот говорил, в силу обстоятельств. В правую!
Игэн протер участок тела, куда намеревался сделать укол, ваткой, смоченной в спирте, и уже собирался вонзить иглу, как Клонгарр сделал настоящий пируэт, оттолкнув О'Мирея, и, придерживая брюки одной рукой, позабыв вновь их надеть, стал носиться по комнате визжа, словно поросенок. Пораженный, Игэн неподвижно наблюдал это зрелище. Нора Нивз, которая, должно быть, подслушивала за дверью, строгим голосом призвала к порядку разбушевавшегося пациента:
— Вы опять начали свои выходки, Иоин?
Тот, все так же придерживая брюки одной рукой, захныкал:
— Ничего не могу с собой поделать, миссис Нивз!.. Как только чувствую, что меня сейчас уколют, удираю… Как тот говорил, в силу обстоятельств!
И он опять стал носиться по комнате и визжать, пока врач пытался понять, не стал ли он сам жертвой галлюцинации. Когда Клонгарр пробегал мимо Норы, она схватила его за шею, уложила на диван и, придавив его спину коленом, распласталась на нем. Игэн от удивления едва не выпустил шприц из рук. Гувернантка, закатив Иоину рубашку, торжествующе приказала:
— Давайте, мой мальчик!
Пораженный увиденным, Игэн только и понял то, что в Бойле практикуется не совсем обычная техника уколов.
Когда Клонгарр вышел от них, исполненный радости от того, что перенес укол без нервного кризиса, племянник доктора Дулинга спросил:
— Нора… Таких, как он, много?
— К счастью, нет… Но вы ведь знаете, маленький мой, что, в случае осложнений, вы всегда можете позвать меня на помощь.
Вопреки всем представлениям Игэна, воскресенье в Бойле отнюдь не являлось выходным днем для врача, поскольку воинственные настроения мужского населения города особенно активно проявлялись субботними вечерами. До самого обеда Игэн накладывал швы, делал перевязки и ставил компрессы, пока Нора непрерывно сновала между комнатой доктора Дулинга и кабинетом, в котором его заменял племянник. К часу дня, наконец, ушел последний пациент, Игэн мог с облегчением вздохнуть. Он уже собрался было сесть за стол, когда пришла Кэт Лэкан и оживила в нем на секунду забытую боль. Не говоря ни слова, они поначалу смотрели друг на друга, а затем все так же молча бросились друг другу в объятия, и слезы полились у них из глаз. Отстраняясь, сестра Петси прошептала:
— Я пришла потому, что подумала о вашем горе.
— Благодарю вас, Кэт… Когда вы пришли, мне на секунду показалось, что вы опять мне скажете, что любите меня!
Девушка была слегка шокирована.
— Сейчас не время для этого!
И с удивительной простотой добавила:
— Не знаю, зачем еще раз повторять то, что вы давно уже знаете?
Игэн не сразу ответил, почувствовав искренность в ее словах. И все же говорить о любви с тем, кто так горячо любил Петси, было непростительным пренебрежением по отношению к покойной. И он грубо об этом напомнил:
— Вы даже не хотите подождать, пока вашу несчастную сестру похоронят, так торопитесь занять ее место? Никогда от вас этого не ожидал, Кэт!
Она удивленно посмотрела на него.
— Занять ее место? Но… Ведь я люблю не Криса Лисгулда, а вас, Игэн!
Возвращенный столь бесцеремонным образом к действительности и не желая остаться в долгу, он прибег к совершенно грубому тону.
— Не разыгрывайте из себя идиотку, Кэт! На самом деле ни вы, ни кто-либо другой не беспокоился о Петси, и то, что какой-то негодяй ее убил, вам совершенно безразлично! Признайтесь, ведь вы довольны, что избавились от той, которую считали позором вашей семьи?
По щекам Кэт потекли слезы. Она прошептала:
— То, что вы говорите, Игэн, некрасиво и… и несправедливо. Петси была любимицей нашей мамми… С тех пор, как мы узнали об этом несчастье, мамми, не поднимаясь, лежит в постели и ничего не ест… Отец ни с кем об этом не говорит, но чувствуется, как это гложет его изнутри… Игэн, я для того и пришла к вам… Чтобы хоть с кем-то поговорить… Чтобы разделить свое горе… Что бы вы ни думали, я любила Петси… Я злилась на вас, а не на нее…
— А ваши братья?
— Они в тюрьме.
— Что?
— Сегодня утром, как только они узнали о смерти Петси, они избили Криса Лисгулда… Это чудо, что они его не убили… Я осталась совсем одна, Игэн…
О'Мирей испытал жгучий стыд за то, что упрекал Лэканов в безразличии к покойной. Он обнял Кэт и прошептал ей на ухо:
— Я зайду к вам… Попрошу дядю одолжить мне денег и схожу к комиссару, чтобы он выпустил под залог Шона и Кевина… Я очень рад, что вы не бросили Петси… Уверен, что всем вместе нам удастся узнать, кто ее убил, и, да простит мне Бог, если убийцей окажется Крис Лисгулд! Тогда я доведу до конца то, что не успели сделать ваши братья.
После ухода Кэт, Игэн поел с таким аппетитом, о котором еще час назад не могло быть и речи. Визит младшей дочери Лэканов вернул ему хорошее настроение. Он знал, что теперь в борьбе с неизвестным врагом он не одинок и сможет отомстить за Петси. О'Мирей не питал никаких иллюзий насчет детективных способностей комиссара Майка О'Хегэна и сержанта Саймуса Коппина, в чем он, впрочем, ошибался. Он не стал бы есть с таким аппетитом, если бы мог в эту минуту оказаться в полицейском участке. О'Хегэн вместе с сержантом сидел у себя в кабинете и курил трубку, тогда как Шон и Кевин, как разъяренные тигры, мерили шагами свою камеру.
Коппин, покачиваясь на стуле, с которого он мог упасть каждую секунду, вынул свою трубку изо рта, выбил ее о каблук башмака и лишь затем спросил:
— Что будем делать, Майк?
— Прежде всего, нужно зайти в больницу к Лисгулду и попросить его не заявлять на Лэканов. У Томаса и Мив и так достаточно горя, нет надобности добавлять им еще.
— Я сам пойду к Лисгулду и обещаю, что он не станет писать этого заявления!
О'Хегэн подозрительно посмотрел на своего подчиненного.
— Только не будьте идиотом, Саймус… Не хочется помещать вас в камеру вместо Шона и Кевина.
Именно в этот момент торжественным шагом, подобно тем плохоньким актрисам в лондонском предместье, которые так стремятся сыграть леди Макбет, в участок вошла мисс Этни О'Брайен. Оба полисмена были так поражены этим появлением, что даже не подумали встать. Голосом, напоминавшим скорее крик совы, чем женский голос, она произнесла:
— Движимая любовью к истине и тем, что каждому порядочному гражданину или гражданке Независимой Республики Ирландии полагается оказывать содействие полиции в выполнении ее задач, с единственной целью способствовать правосудию, чтобы преступник был наказан, а жертва отмщена…
Озадаченный Майк посмотрел на Саймуса, который в ответ сильно нахмурил брови в знак того, что тоже ничего не может понять. Комиссар протянул было руку к телефону, чтобы вызвать доктора, но мисс Этни О'Брайен, наконец, удалось перевести дух и она сказала:
— Я пришла заявить на убийцу Петси Лэкан и прошу правосудие не обижаться на меня за то, что не сделала этого раньше!
О'Хэген тут же пришел в ярость и, встав, изо всех сил треснул кулаком по столу:
— Да вы отдаете себе отчет, насколько эта комедия неуместна, мисс О'Брайен?! Мне так и хочется вас арестовать за насмешку над правосудием!
Мисс О'Брайен задрожала с ног до головы, словно парусник, застигнутый шквалом при полных парусах.
— Насмешка над правосудием в то время, как я сама предлагаю ему свою добровольную помощь? Разве что вы откажетесь арестовать преступника, потому что в Бойле он занимает солидное положение?
Майк О'Хегэн взревел:
— Ну все, хватит, мисс О'Брайен! Мы здесь не для того, чтобы выслушивать бредни истеричных старых дев! Говорите быстро, если вам действительно что-то известно об убийстве Петси Лэкан! А если нет, убирайтесь вон отсюда, пока я по-настоящему не рассердился!
Обиженная до крайности, старая дева всхлипнула:
— Вы заслуживаете того, чтобы я оставила вас барахтаться в этом деле вместе с этим придурком, который скалится, глядя на меня!
Сержант, которого только что обозвали придурком, тяжело поднялся, подошел к мисс О'Брайен, наклонился к пей и зловещим тоном процедил ей прямо в лицо:
— А вы знаете, что мы с Майком можем сделать с теми, кто смеет над нами издеваться, мисс?
С перепугу Этни икнула и поспешила принять меры к отступлению.
— Достаточно! Я поняла! Я ничего не знала! Мне не известна ни одна подробность! Я же не знаю, что вы не хотите узнать имени убийцы Пэтси Лэкан!
Никто и подумать не мог, что толстый Саймус был способен на такой быстрый прыжок, а мисс О'Брайен — тем более Но тем не менее, он схватил старую деву, когда та была уже на пороге участка, и буквально поднес ее к столу О'Хегэна.
— А теперь, мисс, мой последний совет: рассказывайте!
— Мне больше нечего сказать!
— В самом деле? В таком случае я вынужден буду вас арестовать! Ваши руки, чтобы я мог надеть на них наручники!
Этни едва не упала в обморок и пролепетала:
— Вы… Вы не имеете… права!
— Вы здесь издевались над нами, говоря, что знаете убийцу Петси Лэкан!
— Но ведь я действительно его знаю!
— И кто же это?
— Доктор Игэн О'Мирей!
Глава 3
От этих слов у Майка О'Хегэна выпала трубка изо рта, и красные искорки рассыпались по пиджаку. Ругаясь, он стал их стряхивать, а мисс О'Брайен, услышав брань, воскликнула:
— О, мистер О'Хегэн, не забывайте, что вы находитесь в присутствии дамы!
Комиссар обошел вокруг стола и остановился напротив старой девы.
— А вы, мисс, не забывайте, что еще никто не смел насмехаться надо мной!
Саймус Коппин к этому добавил:
— Не забывайте также, мисс, что клеветнические обвинения могут повлечь за собой ответственность и возмещение морального и материального ущерба!
Она вздрогнула, посмотрела на них обоих и повторила:
— Убийца Петси Лэкан — доктор Игэн О'Мирей! И если вы не захотите меня выслушать, я буду это кричать на всех улицах Бойля!
Комиссар тяжело вздохнул и вернулся за стол.
— Мисс О'Брайен… Вдумайтесь, что вы говорите… Сержант вас предупредил… А теперь рассказывайте, на чем основываются ваши обвинения доктора О'Мирея?
— Прежде всего, на его нравах!
— На чем?
— Прошу вас, мистер О'Хегэн, не будем говорить о деталях! Пожалейте мое целомудрие!
— Ну нет! Представьте себе, мисс О'Брайен, мне наплевать на ваше целомудрие! Извольте дать объяснения и поскорее!
Таким образом, старой деве пришлось рассказать о том, что произошло в кабинете у доктора. Оба полицейских пораженно слушали ее рассказ, и их удивление росло по мере того, как он приближался к концу. Этни подвела итог:
— Я никогда не могла бы подумать, что в моем возрасте могу подвергаться подобной опасности! Конечно, я выгляжу моложе, чем на самом деле, но все же! Раздеваться перед мужчиной! Мне?! Ох, джентльмены, от одной этой мысли я до сих пор еще краснею!
Исполненный отвращения, О'Хегэн обернулся к сержанту.
— Она что, сошла с ума?
Саймус Коппин попросил уточнить.
— Значит, мисс О'Брайен, если мы вас верно поняли: доктор О'Мирей попросил вас раздеться в его присутствии?
— Ведь я вам уже говорила.
— Но… под каким предлогом?
— О сержант! Несмотря на полное отсутствие опыта в этой области, мне кажется, что в такие моменты мужчины не очень стремятся что-либо объяснять! С меня оказалось достаточно одного его взгляда!
— Оказалось достаточно… Но для чего?
— Чтобы попять, что меня ожидает! Это был взгляд похотливого животного!
Сержант осторожно заметил:
— Но ведь доктор О'Мирей лет на тридцать моложе вас, мисс О'Брайен.
— Ну и что?… Я вовсе не уверена, что возраст — помеха для разнузданных страстей!
О'Хегэн вновь вернулся к разговору:
— Во всяком случае, не он пришел к вам, а? Вы сами к нему пришли!
— Насколько мне известно, в случае болезни приходят к доктору, а не к нотариусу?
— И чем же вы были больны?
— Ваше непонятное любопытство, комиссар…
— Черт подери всех чертей в аду, мисс О'Брайен! Я начинаю серьезно сердиться! Когда речь идет об обвинении в убийстве, со всеми вытекающими отсюда последствиями, ваши маленькие тайны мало что значат! Так вы скажете нам, наконец, зачем вы приходили к доктору О'Мирею?
Ужасно смутившись, Этни опустила глаза и стеснительно прошептала:
— Прошу прощения… У меня болел живот…
О'Хегэн взревел:
— И вам кажется необычным то, что врач просит вас раздеться, чтобы осмотреть живот? Или вы думаете, что ему достаточно было посмотреть на ваш нос? Да вы что?! Вы в самом деле дура или только разыгрываете нас?!
— Послушайте, комиссар…
— Вон отсюда!
— Я не позволю вам…
— Сержант, вышвырните эту дуру на улицу, или я отправлю ее в больницу!
Коппин взял старую деву за руку.
— Пойдемте, мисс О'Брайен.
Этни поднялась и, прежде чем показать комиссару спину, с достоинством произнесла:
— Может быть, ваши законы позволяют вам обращаться со мной таким диким образом, но они вряд ли позволят изменить что-либо из того, что я видела, как Игэн О'Мирей выходил вчера вечером из дома Петси Лэкан как раз в то время, которое в газетах названо временем убийства!
Сказав это, она отвела руку сержанта Саймуса Коппина и гордо направилась к выходу. О'Хегэн закричал:
— Сержант! Верните ее!
После ухода мисс О'Брайен сержант по приказу комиссара направился за Шоном и Кевином и, прежде чем ввести их в кабинет, спросил:
— Шон и Кевин, осознали ли вы, что едва не совершили преступление, избив до такой степени Кристи Лисгулда?
Старший тряхнул головой.
— Ну и что? Ведь это же он убил Петси!
— Как раз, нет. Он не убийца!
Более смышленый Кевин, в глазах которого сверкнул огонек, спросил:
— А вы знаете, кто это сделал?
— У нас есть один след… Один свидетель видел, как этот человек выходил из дома вашей несчастной сестры как раз в то время, когда предположительно было совершено убийство.
Сжав кулаки, Шон проговорил глухим голосом:
— Если бы только вы были так любезны назвать нам его имя…
— Вот это уж нет! Мне вовсе не хочется, чтобы сыновья моего друга Томаса отправились в тюрьму на долгие годы. Возвращайтесь домой и молитесь святому Патрику, чтобы Крис Лисгулд не подал заявления о нападении на него!
Братья ушли, не сказав ни слова… Когда они вышли из кабинета, Майк вздохнул.
— Саймус, остается одна грязная работа…
— И ею должен заняться именно я?
— Если бы это было не так, то не я, а вы были бы моим начальником, старина.
— С кого мне начать?
— Забегите в больницу и постарайтесь успокоить Лисгулда.
— Это будет не очень просто.
— Если бы это было просто, Саймус, я направил бы туда не вас, а кого-нибудь другого.
— Хоть за это спасибо!
Сержант взял в руки старую грязную шляпу и, по традиции, прежде чем надеть ее на голову, с отвращением посмотрел на нее.
— Придется все же купить себе новую…
— Да ну же, не будьте так расточительны, старина! Ведь вашей шляпе не больше пятнадцати или двадцати лет, верно?
Оставшись наедине с собой, Майк О'Хегэн стал обдумывать го, что произошло. Зачем О'Мирею понадобилось убивать Петси, которую он любил настолько, что был готов за нее драться? И насколько можно доверять словам этой неврастенички О'Брайен? Видела ли она на самом деле, как Игэн выходил от Петси, или это только ей показалось? Ведь показалось же ей, что доктор мог так обойтись с ней! Расследование этого дела нужно было проводить крайне осторожно.
Крис Лисгулд, лежавший в отдельной палате, не очень любезно встретил сержанта Коппина.
— Вы арестовали этих двух негодяев?
— Конечно.
— Значит, вы пришли за моим заявлением?
— Я здесь как раз по этому поводу.
Крис осклабился:
— А я думал, чтобы справиться о моем здоровье!
— И за этим тоже…
— Не старайтесь, сержант. Я знаю, что не нравлюсь вам… Саймус бросил тяжелый взгляд на больного.
— Не боясь ошибиться, вы могли бы даже сказать, что я вас ненавижу, Лисгулд… Петси Лэкан погибла из-за вас. Если бы вы оставили ее в покое, ничего этого не было бы… Так вот, пока мы здесь одни, Крис Лисгулд, я должен вам сказать, что если вы напишете заявление на братьев Лэканов, я постараюсь сделать так, что вы будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. А теперь, я слушаю вас…
Крис отнюдь не обладал исключительно благородной душой. Он принялся кричать:
— А убийцу Петси вы тоже собираетесь оставить в покое?
— Когда я схвачу его за шиворот, он пожалеет, что появился на белый свет.
— Да, но когда это будет?
— В ближайшие сорок восемь часов.
Лисгулда это заинтересовало.
— Значит, вы знаете, кто это?
— Думаю, да. Кстати, Лисгулд, вам чертовски повезло, что вчера вечером вы не выходили из зала, где проходил матч.
— Вам очень хотелось бы повесить это убийство на меня, верно?
— Даже не можете себе представить, как хотелось бы!
В голосе сержанта послышались такие нотки, что Крис с трудом проглотил слюну.
— Так что с вашим заявлением, Лисгулд?
— Я передумал, сержант… Такой человек, как я, не пишет заявления из-за полученных ударов. Он их возвращает обратно.
— Отлично… Я так и запишу, а вы подпишете. Идет?
— Идет.
— Кроме того, Лисгулд, я уверен, что вы благоразумно последуете моему совету: после выхода из больницы, возвращайтесь к себе в Роскоммон и не появляйтесь здесь до тех пор, пока я не схвачу убийцу.
— Почему?
— В Бойле слишком много людей, которые с радостью объяснились бы с вами… Поняли?
— Отлично понял. Через два часа меня здесь не будет.
Саймус составил рапорт, содержащий высокопарное высказывание Криса, и предложил ему подписать его. Поставив подпись, Лисгулд спросил:
— Как вы считаете, сержант, теперь я стал хорошим человеком?
Коппин медленно поднялся, взял шляпу и отчетливо произнес:
— Я считаю вас совершенно ничтожным человеком, Кристи Лисгулд. Если хотите знать, что я думаю до конца, то скажу вам, что глубоко сожалею о том, что вчера вечером вас не убили вместо Петси Лэкан. Пока!
Хоть ему и не хотелось лгать миссис Нивз, к которой он питал добрые чувства, сержанту Коппину необходимо было застичь О'Мирея врасплох, чтобы, таким образом, заставить его сознаться. Следуя этому плану, на следующий день он пришел в дом доктора в качестве пациента. Открывшая ему дверь Нора удивилась.
— Опять вы, сержант?
Саймус хотел было перевести все в шутку, но на сердце у него было неспокойно, потому что он испытывал чувство настоящего уважения и дружбы по отношению к доктору Дулингу и его племяннику.
— Что-то вы сегодня не очень любезны?
— После… после вчерашнего я стала опасаться вас с вашими новостями!
— Не беспокойтесь, миссис Нивз, я пришел к вам в качестве пациента…
Несмотря на то, что Коппин постарался это сказать как можно более уверенным тоном, он покраснел, тем более что Нора, которая не всегда умела скрывать свою склонность к старому дорогому Саймусу, всерьез обеспокоилась.
— Скажите, по крайней мере, с вами не случилось ничего серьезного?
— Нет, нет… Всего лишь легкое недомогание… Ведь я уже в том возрасте, когда приходится следить за здоровьем, миссис Нивз…
— Замолчите! Вы покрепче многих молодых! Сейчас я скажу Доктору О'Мирею…
— Нет! Нет! Прошу вас!.. Я — простой пациент, самый простой пациент и спокойно подожду своей очереди. Я сейчас не на службе, так что привилегии мне ни к чему…
Его голос-слегка дрожал потому, что ему было действительно стыдно обманывать эту бедную Нору.
— Сейчас у доктора на приеме мисс Аннаф, так что, думаю, это ненадолго.
— Вот это да! Скажите, пожалуйста, мисс Аннаф!.. Рад видеть, миссис Нивз, что ваш воспитанник пользуется уважением и доверием!
Семья Аннаф была одной из самых знатных в Бойле, но не благодаря накопленному состоянию, а вследствие долгих лет безупречной службы городу, графству и всей стране, что обеспечивало им почет и уважение в глазах сограждан. Единственную наследницу семьи звали Аннабель Аннаф. Это была красивая двадцатисемилетняя девушка с настолько утонченными манерами, что всякий, оказавшийся рядом с ней, казался неотесанным мужланом. Она была глубоко верующей, если не сказать набожной, и в Бойле она слыла примером женского благочестия. Ухажеров у нее не было. Это никого не удивляло, так как трудно было себе представить, что наследница Аннафов может повстречать достойного себя в моральном плане человека. Несмотря на абсолютную безупречность и вышеуказанные достоинства, мисс Аннабель все же не была болезненно целомудренной, как какая-то там Этни О'Брайен.
Когда Саймус Коппин прошел в приемный покой, Аннабель находилась в кабинете. Лежа в прозрачной комбинации на кушетке, она старалась не смотреть в лицо Игэну О'Мирею, который склонился над ней, чтобы очень осторожно ощупать ее. Молодой врач ни за что на свете не хотел бы повторения истории с мисс О'Брайен, поскольку повторение подобной истории с Аннабель Аннаф грозило куда большими неприятностями для его личной репутации и для работы в Бойле.
И все было бы хорошо, но злому року было угодно, чтобы в приемном покое ко времени прихода сержанта Коппина уже находился Терренс Барнетг со своей женой Мод, страдавшей анемией. Они пришли за лекарствами для Мод. Барнетт, маленький человечек, характером был похож на собаку, которая никогда не лает, но может укусить. Насколько флегматичной была Мод, настолько неуравновешенным был Терренс. Вопреки всем предположениям, супруги отлично ладили, поскольку Барнетт привносил необходимый огонек в семейный очаг, а Мод, благодаря врожденному спокойствию, удавалось гасить внезапные вспышки гнева своего супруга. Ей удавалось это почти всегда. Это «почти» прибавлялось потому, что по отношению к полиции Терренс был непреклонен. Он ненавидел всех представителей закона вообще, а комиссара О'Хегэна и сержанта Коппина в частности. За что? Возможно, он и сам не смог бы ответить на этот вопрос. Эта ненависть была чем-то заветным, к чему никто другой не смел прикасаться.
Итак, как только Саймус вошел и сел в кресло, со стороны Терренса последовала незамедлительная реакция.
Терренс вдруг стал громко принюхиваться и затем обратился к жене:
— Вам не кажется, Мод, что здесь дурно запахло?
Та, хорошо зная своего супруга, попыталась его успокоить.
— Вы не дома, Терренс!
— Знаю, Мод, знаю… У нас все убрано так, что помои не могут отравлять воздух!
Поскольку кроме Саймуса в комнате никого больше не было, тот понял, что это оскорбление относится именно к нему. Сжав кулаки и стиснув зубы он продолжал сидеть с закрытыми глазами, чтобы не задать этому грязному ничтожеству взбучку, которой тот заслуживал. Не подозревая об опасности, Терренс продолжал:
— На приеме у врача, Мод, существует то неудобство, что здесь бывают люди, которых не хотелось бы встречать.
Глухое рычание сквозь плотно сжатые губы сержанта окрылило Терренса Барнетта. Опьяненный близкой победой, он пошел еще дальше:
— Кстати, Мод, многие из этих людей заблуждаются, приходя к доктору. Им следует обращаться к ветеринару.
Со слезами на глазах, понимая неизбежность конфликта, Мод впервые в жизни не выдержала и воскликнула:
— Это черт знает что такое, Терренс Барнетт! Вы не можете попридержать за зубами ваш проклятый язык?
Но в ответ Терренс еще больше распалился.
— Мод, дорогая, как вы могли подумать, что это может относиться к вам? У вас, по крайней мере, лицо человека! А некоторые совершенно похожи на животное… от которого они смогли унаследовать силу, но даже примитивного разума животных им не хватает!
— Вы ищете приключений, Барнетт?
Муж Мод с наигранным удивлением взглянул на полисмена.
— Это вы мне?
— Вам и больше никому другому!
Барнетт обернулся к жене, которая бледнела на глазах.
— Эта штуковина действительно умеет разговаривать или мне только показалось?
«Эта штуковина» медленно поднялась, подошла к Терренсу, схватила его крепко за шиворот и приподняла с места.
— Или вы сейчас же извинитесь передо мной, или, поскольку я сейчас не на службе, я набью вам морду, Барнетт!
Задыхаясь от сдавившего горло воротника рубашки, Барнетт все же ответил:
— Идите… к… ко всем чертям! Нич… ничтожный шимпанзе!
Вместо ответа огромный кулак Саймуса заехал Барнетту прямо в лицо. Отлетев от удара в сторону, он по инерции на полном ходу попятился и, открыв задом двустворчатую дверь, оказался в кабинете врача. Перелетев через весь кабинет, он наткнулся спиной на противоположную стену.
На перепуганный крик Мод: «Вы убили его!» эхом отозвался крик ужаса Аннабель Аннаф, которая впервые в жизни оказалась почти без одежды в присутствии сразу двух незнакомых джентльменов.
Крик Аннабель вернул сознание Барнетту, который, с трудом опираясь о стену, поднялся на ноги. Как и всякий порядочный джентльмен, не замечающий того, что ему не положено видеть, он снял с себя кепку и раскланялся с несчастной мисс, которая не знала, чем прикрыть свою едва ли не полную наготу. Игэн же просто остолбенел от неожиданности и в оцепенении наблюдал эту сцену. Терренс Барнетт поклонился пациентке:
— Здравствуйте, мисс Аннаф… Как вы себя чувствуете? А ваша дорогая мамочка, которую я, к сожалению, не смог увидеть сегодня утром в церкви?
Аннабель в ужасе вскрикнула и стала умолять доктора:
— Ради Бога, чего вы ждете, выставьте вон этого типа!
Обидевшись, Барнетт в ответ сухо сказан:
— Не беспокойтесь, мисс, я ухожу! Я оказался здесь только потому, что моя жена Мод заболела и еще потому, что одна горилла застала меня своим ударом врасплох. Сейчас я ему верну то, что должен!
Исполненный жажды мести, он ринулся из кабинета, где Игэн принялся приводить в чувства мисс Аннаф, упавшую в обморок. Придя в себя, она тут же заявила, что у доктора будут неприятности с мистером и миссис Аннаф, с ее дядей Окни и кузеном Галленом, короче говоря, со всей семьей, которая сумеет сплотиться, чтобы отомстить за поруганную честь. Игэн не стал объяснять пациентке, что в этой смешной ситуации он был ни при чем, и лишь холодно заметил:
— А не одеться ли вам наконец, мисс?
От удивления рот Аннабель красиво округлился, и очень скоро глаза ее потемнели, а ноздри расширились, нервная дрожь пробежала по всему ее телу. Она уж собралась высказать доктору все, что думает о нем, его манерах и мыслях, как безжалостным ударом справа сержант отправил Барнетта в кабинет, где он, как ракета, пролетел между доктором и его пациенткой. На этот раз у почти оглушенного мужа Мод, с трудом различавшего предметы вокруг себя, не хватило сил, чтобы разыгрывать великосветского человека. В его затуманенном рассудке сидело лишь одно яростное желание продолжить поединок. Он рванулся к двери, где находился сержант, но по пути натолкнулся на мисс Аннаф, которая, в свою очередь, задом вылетела в приемный покой, и ее появление в таком виде вызвало бурные эмоции со стороны Саймуса и Мод. Обезумев от ревности, та набросилась на мужа:
— Так вот зачем ты все это затеял? Тебе захотелось попасть к этой твари?!
У «твари», оказавшейся в руках сержанта, который этим был озадачен не меньше, чем она сама, потемнело в глазах. Но на этом приключения того памятного дня не закончились. Поскольку мистер Барнетт не смог сдержаться, услышав от жены такие глупые и несправедливые упреки, он ударил ее кулаком в нос, и она растянулась на диване. Потом вскочила, схватила китайскую вазу и изо всех сил ударила ею супруга по голове отчего ваза разбилась, а он рухнул на пол, не успев сказать ни слова. Затем она бросилась к раздетой женщине. Она уже собиралась было выплеснуть в ее адрес все известные ей ругательства, как вдруг, неожиданно для себя, узнала ее. Лицо Мод сразу же просветлело и, грациозно поклонившись, она спросила:
— Как вы себя чувствуете, мисс Аннаф?
Вместо ответа Аннабель издала какое-то кудахтанье. Невнятно простонав, она обмякла в руках бесконечно смущенного сержанта, не выдержав слишком сильных эмоций, свалившихся на нее.
Не отходя от доктора Дулинга, у которого опять начались боли, миссис Нивз поначалу не обратила внимания на шум в доме. Как только до нее долетели заключительные аккорды боя, она сразу же поспешила в приемный покой.
Спустя много лет, став древней старухой, она все еще рассказывала всем, кто хотел ее слушать, что в тот момент, спустившись в приемный покой для пациентов, ей показалось, что она стала жертвой галлюцинации при виде всеми уважаемого сержанта Коппина, державшего в объятиях самую благовоспитанную девушку Бойля почти без одежды, тогда как миссис Барнетт говорила ей комплименты, словно они пили вместе чай, не обращая внимания на лежавшего на полу мужа, у которого с головы, из ноздрей и из рассеченной щеки текла кровь.
При помощи Игэна, которого Нора вытащила из кабинета, где он предавался чувству обиды, Барнетту была оказана помощь по устранению нанесенного его внешности ущерба, а мисс Аннаф усилиями Норы была одета и скрыта от любопытных глаз в укромном уголке на кухне. Там, за чашкой чая она пыталась понять, каким образом, придя на прием к врачу, она оказалась в приемном покое, в одной комбинации, на глазах у малознакомых людей и в объятиях полисмена, который годился ей в отцы. Перевязанный и взбодренный хорошей дозой виски, Терренс Барнетт отправился домой, держа под руку жену, которая, позабыв о хронической анемии, дрожала при мысли о том, с каким удовольствием она сможет рассказывать всем невероятную историю, случившуюся с Аннабель Аннаф, пользовавшейся такой безупречной репутацией. Когда все, наконец, разошлись по домам, миссис Нивз заметила сержанту:
— От вас я такого не ожидала, Саймус Коппин!.. Вы меня разочаровали!
Черз несколько дней стало известно, что мисс Аннаф находится в одной из больниц Слайго по поводу нервного потрясения.
После того, что он услышал от миссис Нивз, сержант не мог произнести ни слова, находясь в оцепенении от несправедливых обвинений, услышанных от женщины, глубоко им уважаемой. Затем он прибег к красноречию, пытаясь разъяснить эту пикантную ситуацию. Поначалу Нора не верила, но потом поняла, что полисмен говорил правду, особенно после того, как его слова подтвердил доктор, который сам пришел поинтересоваться, все ли пациенты его дяди страдают психическими расстройствами. Мало-помалу страсти улеглись, и Игэн, которого предупредили, что Саймус пришел с ним переговорить, пригласил его в кабинет.
Молодой врач начал сомневаться, что когда-либо сможет заменить дядюшку. У него никогда не хватило бы сил каждый день встречаться с пациентами, вроде мисс О'Брайен или мисс Аннаф, не говоря уже о таких, как Терренс Барнетт, не усматривавшими разницы между его кабинетом и боксерским рингом, или о таких, как Иоин Клонгарр, за которым нужно было охотиться, чтобы сделать ему укол!
— Надеюсь, сержант, что вы пришли ко мне по поводу настоящей серьезной болезни и я смогу помочь вам, не прибегая к помощи пожарных?
— Мне очень жаль, доктор, но я… не болен.
— Серьезно?
— Абсолютно.
Игэн хлопнул себя по колену.
— Хорошенькая шутка! Черт побери, сержант, помогите мне понять, как дяде Оуэну удавалось заработать себе на жизнь в Бойле? И, кроме того, сержант, могу ли я спросить, не шокируя вас, что же вас тогда привело в этот кабинет?
— Я хотел бы поговорить с вами о смерти Петси Лэкан.
Напоминание об этом вернуло О'Мирею чувство утраты, и он пробормотал:
— Это так необходимо?
— Совершенно необходимо.
— Но зачем?
— Вот уже час или два, как вы находитесь в числе подозреваемых.
— Это что, тоже шутка, сержант?
— О таких вещах не шутят, доктор.
— Значит, меня подозревают в убийстве моей Петси?
— Не торопитесь, доктор! Просто я хотел бы вам задать несколько вопросов и получить на них достаточно ясные ответы. Попробуем?
— Попробуем!
— Доктор… Позавчера вечером, в субботу, вы были на матче по боксу?
— Разве мы там не встречались?
— Встречались, но я хотел бы узнать, оставались ли вы там до самого конца матча?
— Разве вы не припоминаете, как разыскали меня для того, чтобы констатировать кончину моего коллеги? Вы мне даже помогали, потому что я был в довольно скверном состоянии.
— Я не так выразился… Я хотел бы услышать от вас, доктор, не покидали ли вы зал в ходе матча?
Игэн на секунду заколебался, и это не ускользнуло от внимания полисмена.
— Нет, я никуда не выходил.
— Удивительно…
— Что именно?
— Один человек, который прекрасно вас знает и вряд ли станет клеветать, видел, как вы выходили из дома Лисгулда приблизительно в то время, когда была убита мисс Лэкан.
— И кто же это?
— Мы не называем имен свидетелей до того, как они предстанут на суде, доктор. Значит, вы считаете, что этот человек намеренно лжет или просто ошибается?
— Конечно!
Наступило довольно долгое молчание, во время которого сержант сделал вид, что задумался, и затем сказал:
— Самое неприятное в этой истории то, что как раз перед главным боем я хотел с вами переговорить и не обнаружил вас на своем месте, доктор.
— Значит, я находился в другом месте!
— Вот именно, вот именно, доктор! Не могли бы вы мне сказать, в каком именно?
— Откуда мне помнить? Возможно, я пересел поближе к Лисгулду?
Саймус покачал головой.
— Нет, доктор, я проверял. Видите ли, мне так не хотелось, чтобы у вас с Лисгулдом произошла новая стычка, что целый вечер следил, чтобы вы не оказались рядом… Я не спускал с Лисгулда глаз. В черно-белом клетчатом пиджаке и светлосерой шляпе его было видно издалека… Предположим, вам я доверял больше и не гак следил за вами… Возможно, я был неправ. Почему вы не сели в первый ряд, доктор?
— Потому… Потому что…
— Потому что вам нужно было сидеть у выхода? Док гор, в этот день вы брали напрокат машину?
— Да.
— Тогда зачем вы ее поставили недалеко от улицы, где жили Кристи Лисгулд и Петси Лэкан?
Поняв, что попался, Игэн промолчал. Саймус Коппин почти нежно сказал:
— Думаю, вы поступите разумно, если все мне расскажете, доктор.
И О'Мирею пришлось все рассказать. Он говорил о своей любви к Петси, о постигшем его разочаровании, когда по возвращении в Бойль он узнал о ее измене. Затем о встрече с Лисгулдом, о драке. О том, как однажды вечером Петси вновь оказалась в его объятиях и как они вместе решили уехать отсюда во время матча по боксу, где, как было известно Петси, обязательно должен был присутствовать Крис. И, наконец, Игэн рассказал о своей обиде, злости и негодовании, когда после того, как он безуспешно пытался войти в дом Петси и долго звонил у двери, так и не дождавшись никакого ответа, ему пришлось с камнем на сердце вернуться в зал, где его друг Шон Лэкан участвовал в бое за звание чемпиона.
— Кроме погибшей, кто-то знал о ваших планах побега?
— Миссис Нивз.
— Да?… И она одобряла их?
— Нет.
— Но вы все же решили уехать?
— Я давно любил Петси.
— Да… Самое неприятное, доктор, состоит в том, что Лисгулд, обнаружив труп своей подруги, не заметил ни единого чемодана или пакета, которые могли бы свидетельствовать о готовности к побегу… Как вы это объясните?
— Не вижу объяснений.
— А я вижу… Допустим, поразмыслив, Пеки Лэкан решила никуда не уезжать из Бойля? В таком случае, все могло произойти приблизительно так: вы приезжаете на место встречи. Затем вы звоните в дверь. Вам не открывают. Петси не решается открыть вам дверь, чтобы сообщить о своем новом решении, и не включает свет, надеясь, что вы решите, будто ее нет дома. Но, вопреки ее ожиданиям, вам удается войти. Ей становится страшно. Она уже была в постели. Она включает свет и видит вас. Вас охватывает злоба, когда вы видите, что в доме нет ни одного приготовленного в дорогу чемодана. Она опять возвращается в постель и начинает над вами издеваться, потому что ваша реакция льстит ей. Она уверена в своей власти над вами, потому что до сих пор все было так, как ей этого хотелось. Она объясняет вам, почему она передумала ехать с вами. И в этот момент, доктор, вы теряете голову и наносите ей удар. Одного удара в висок оказалось достаточно. После этого вы выходите из дома. И в этот момент вас заметил наш свидетель… Вам не кажется, что это близко к вашему признанию в убийстве, доктор?
— Я не входил к Лисгулду… Мне ничего не было известно о гибели Петси, когда я встретил эту дуру О'Брайен.
— Так говорите только вы, доктор, и этого никто не может подтвердить.
— Но как бы я мог попасть в дом Лисгулда?
— До того, как стать прислугой вашего дяди, миссис Нивз когда-то жила в этом доме, а в ходе следствия оказалось, что замки в нем не менялись со времени постройки… У миссис Нивз мог остаться ключ…
— И она его хранила все тридцать лет?
— Почему бы и нет? У меня в погребе есть старье еще со времен моего детства.
— Сержант, вы не только хотите обвинить меня в убийстве, но и сделать Нору моей соучастницей?
— Вовсе нет. Вы могли завладеть этим ключом без ее ведома, а она могла вовсе позабыть о его существовании.
— А я, естественно, хорошо знал, что где-то на чердаке, в каком-то закоулке, Нора положила ключ от своего прежнего дома? Вам не кажется, сержант, что это попросту смешно? И чем бы я мог нанести удар Петси?
— Этого я не знаю.
— Ага! Значит, вы все же допускаете, что можете чего-то не знать о моих поступках в тот вечер?
— Но у меня есть одна догадка… Вы не могли бы показать мне инструменты, которые берете с собой, идя на вызов к больным?
Не говоря ни слова, Игэн пошел за своей сумкой, принес ее и вытряхнул содержимое прямо на стол. Сержант тут же схватил молоточек для проверки рефлексов.
— Вот этим вполне можно было бы сделать дело…
— Какое дело?
— Знаю, какое!
Саймус Коппин медленно поднялся.
— Только из-за дружбы с вашим тяжелобольным дядей и из уважения к миссис Нивз я не требую, чтобы вы немедленно прошли со мной в участок, доктор. И все же, не покидайте Бойль ни под каким предлогом, иначе нам придется выписать ордер на ваш арест.
Игэн ничего не ответил. Как и несколько минут назад, в истории с мисс Аннаф, он оказался игрушкой в руках случая,
против которого разум был бессилен. В самом деле, почему его не могли подозревать в убийстве Петси Лэкан, если только что им пришли на ум определенные мысли о поведении Аннабель, оказавшейся почти раздетой в руках сержанта? Бывают удары судьбы, которые невозможно предотвратить или хотя бы смягчить. Игэн чувствовал, что сержант может истолковать его молчание, как признание, но не мог говорить. И потом, что он мог добавить к сказанному?
Он не заметил, как полисмен вышел из кабинета.
За дверью кабинета дорогу Саймусу преградила миссис Нивз. Она была очень бледна, и Коппин понял, что она все слышала.
— Вы подслушивали?
Она утвердительно кивнула.
— Никогда бы не подумал, что вы способны подслушивать под дверью, миссис Нивз.
— Я всегда так делаю… Иначе, как бы мне удавалось утешать больных, которых не смог утешить доктор?
— Да, кстати, как там Дулинг?
— Он хотел бы вас видеть.
— Меня?
— Черт возьми, Саймус Коппин, я же вам уже сказала! Мне кажется, что в последнее время у вас голова забита черт знает чем, или я ошиблась?
Он ничего не ответил и стал подниматься по лестнице. Нора не провожала его до комнаты Дулинга. Сержант отлично понимал, что обвинение, которое он только что предъявил Игэну О'Мирею, потрясло всех обитателей сего дома. От этого ему было тяжело на душе. Он знал, что в дальнейшем ему будет еще труднее, но при этом он был человеком долга, и ничто и никто не могли его заставить изменить этому долгу. Даже по голосу, которым доктор Дулинг ответил на его тихое постукивание в дверь и просьбу войти, сержант понял, что его старый друг скоро умрет. Он уже давно не виделся с Дулингом, и его поразили перемены, происшедшие за это время с доктором. Один заострившийся нос достаточно красноречиво говорил о близкой кончине. Саймус попытался изобразить радость от встречи:
— Ну что, док, потихоньку скрипим?
— Садитесь, Саймус, и не будьте ребенком. Мы оба знаем, что я скоро умру, так что не стоит об этом говорить, ладно? Здесь мы не в силах ничего изменить. Кстати, мне немного жаль, что все должно случиться так скоро, потому что хотел бы пожить еще несколько педель, хотя бы для того, чтобы не дать вам натворить глупостей!
— Каких глупостей, док?
— Саймус… Я вас уже давно знаю… И всегда вас считал компетентным в своей профессии человеком…
— К чему вы клоните, док?
— Мне очень неприятно было узнать, что, достигнув почти пенсионного возраста, вы глупо себя ведете…
— В самом деле? И в чем же, скажите на милость?
— В деле об убийстве Петси Лэкан.
— Ах, вот в чем дело! Сначала миссис Нивз…
— А кому же еще?…
— Мне очень жаль, док, но с вашим племянником не все так просто.
— Сколько вам лет, Саймус?
— Скоро будет шестьдесят.
— И вы никогда в жизни по-настоящему не влюблялись?
— Конечно, да!
— Значит, это было слишком давно!
— Почему вы так считаете?
— Потому, что вы уже не помните, что может думать и как может поступать безумно влюбленный человек. Игэн любил Петси с тех самых пор, когда человек перестает думать только о соске во рту. Он никогда не представлял себе жизни без нее.
— Пытаясь его выгородить, вы только еще больше доказываете его вину, док. Эта страсть вполне может служить объяснением слепой ярости, возникшей у него после того, как он понял, что та, которой он больше всего верил, обманула его!
— Такое случается либо в дешевых романах, либо с людьми, не получившими образования, Саймус, но не с врачом, который, кроме всего прочего, научился сам бороться за жизнь других, и, тем более, не с гинекологом, который помогает новым жизням появляться на свет…
Коппин смущенно проворчал:
— Это все россказни, док!
— Саймус, не заставляйте меня сожалеть об уважении, которое я к вам испытываю всю свою жизнь. Я — старый пьяница, сержант, но за всю жизнь ни разу не совершил недостойного поступка… Во всяком случае, для личной пользы. Если бы я хоть на секунду мог допустить, что Игэн — убийца, то сам бы выдал его вам… Я ненавижу убийц… И моя прогрессия тоже к этому обязывает.
— Но Игэн сам мне признался, что в субботу вечером договорился бежать вместе с Петси!
— Вы сами льете воду на мою мельницу, Саймус. Племянник хорошо знал, что произошло с Петси, и доказательство тому — его драка с Лисгулдом в заведении Леннокса, но все же он по-прежнему продолжал ее любить…
— Это как-то непонятно.
— Как раз наоборот. Потому что Петси, которую он любил, все это время жила в его сердце и его мечтах, и эта Петси не могла с ним плохо поступить…
— Слишком сложно для меня, док… Я всего лишь полисмен в небольшом городке…
— Ладно, скажем так: Игэн слишком любил Петси, чтобы желать ей какого-бы то ни было несчастья, и никогда не смог бы ей причинить малейшей боли или страдания. Подобный тип влюбленных прощает все проступки потому, что постоянно думает, что та, которая изменила, опять станет для него такой же, как была прежде… Убить ее — значит лишить возможности возврата к прежнему, и, тем самым, навсегда ее потерять в материальном и духовном смысле. Вы понимаете?
— Не знаю… Что-то не совсем… Наверное, я слишком прост, док, чтобы постичь эти тонкости… Мне кажется, ваш племянник простил Петси ее скандальное поведение… В этом я с вами согласен. А ей кажется, что она по-прежнему любит своего друга детства… И, кроме того, профессия врача обеспечивает неплохое положение в обществе, верно? И тогда, поскольку она боится Лисгулда, а он боится скандала, они решают удрать поздним вечером… Игэн разрабатывает план побега и приходит на матч по боксу, чтобы никто ни о чем не мог догадаться… С этой точки зрения ему удалось обмануть меня. Затем, когда подходит назначенное время, Петси меняет решение… По какой причине? Не знаю… К ней приходит Игэн, и в приступе гнева и ревности, имея под рукой медицинский молоточек, он его хватает и наносит удар, но делает это слишком сильно. Увидев, что наделал, он пытается скрыться, но волей судьбы сталкивается с этой дурой О'Брайен… Вот и все. Мое предположение, док, основывается не на психологии, а на опыте и образе жизни жертвы.
— Петси не была настолько хитрой и испорченной, Саймус. Воплощением порока ее сделала обывательская мораль Бойля, потому что она вела себя не так, как все.
— Это еще нужно будет объяснить присяжным, а я думаю, это будет нелегко сделать.
— Невозможно, потому что присяжные сами находятся в плену у этой обывательской морали… Скажите, Саймус, я правильно понял, Петси была убита ударом в голову?
— В висок. Удар был нанесен… чем-то наподобие медицинского молотка для проверки рефлексов.
— Почему именно им? Разве его нашли на месте преступления?
— Нет, но ведь не я обнаружил тело. Однако форма раны, ее глубина как раз соответствуют такому молотку.
— И поскольку мой племянник — врач, этот предполагаемый молоток должен обязательно принадлежать ему?
— Не станете же вы говорить, что вас это удивляет?
— Меня удивляет то, Саймус, что он пошел на матч по боксу, захватив с собой такой неудобный инструмент. А вас — нет?
Задумавшись, сержант спускался по лестнице вниз, где его ждала Нора.
— Ну что?
— Что вы имеете в виду?
— Ему удалось убедить вас в том, что вы взяли неверный след?
— Для этого требуются другие доказательства, миссис Нивз… И все же эта история с молотком кажется мне выясненной не до конца…
— Хоть это!..
Саймус открыто посмотрел Норе в глаза.
— По многим причинам, миссис Нивз, я от всей души желаю, чтобы ваш воспитанник оказался невиновен… Я думаю, что это сделал он, но пока у меня будет хоть малейшее в этом сомнение, я не стану его арестовывать… Мне не хотелось бы огорчать доктора Дулинга, особенно в такую минуту… И потом, я… дорожу вашей дружбой, миссис Нивз.
Она была тронута, и по ее голосу это было заметно.
— Саймус, постарайтесь, пожалуйста, не допустить ошибки, о которой вы будете потом сожалеть всю свою жизнь. Я вырастила Игэна, и он неспособен ничего от меня скрывать — что бы с ним ни случилось… Когда я ему сообщила о смерти Петси, я сама видела, каким это было для него горем и как внезапно оно на него свалилось, следовательно, он ничего не знал… Знаете, Саймус, в двадцать семь лет человек не настолько отличается от мальчишки, детскую ложь которого я без труда разгадывала.
— Дети меняются незаметно для родителей…
— Но только не Игэн… Он остался таким же наивным, порядочным, верным… Вы даже не можете себе представить, сколько раз мне приходилось его ограждать от тех ненормальных, которые под предлогом консультации у врача приходят, чтобы его соблазнить как мужчину!
Слегка смущенный, сержант пробормотал:
— Кое-что мне тоже известно… Никогда в жизни мне не приходилось выслушивать таких дурацких вещей!
Чтобы между ними не возникло чувство взаимности, которое ни к чему бы все равно не привело, Нора Нивз встала и в заключение сказала:
— А если вам повстречается мисс О'Брайен, передайте ей, чтобы она не попадалась на моем пути!
Эта история с убийством Петси Лэкан совершенно не нравилась Саймусу Коппину. Опыт полисмена говорил ему о виновности Игэна О'Мирея, но все то, что он знал об этом молодом человеке, и особенно привязанность к дорогой миссис Нивз, заставляли его сомневаться в причастности Игэна к этому убийству. Ах, как бы он был рад, если бы в убийстве можно было заподозрить этого обольстителя, Кристи Лисгулда! Но об этом не могло быть и речи: пока продолжался матч, то есть в то время, когда Петси была убита, клетчатый пиджак Лисгулда маячил у Саймуса перед глазами.
Недалеко от участка сержанту повстречался Томас Лэкан, ставший таким же стариком, как и он сам, ведь они были ровесниками.
— Привет, Томас…
Тот посмотрел на него невидящим, отсутствующим взглядом, и Коппин невольно вздрогнул. Его голос исходил тоже как-будто издалека.
— Привет…
— Томас, старина, рад вас видеть… Мы ведь старые друзья… Я поэтому вполне разделяю ваше горе, во всяком случае, в большей мере, чем если бы оно постигло более молодого человека, чем вы или я…
— Какое горе?
Сбитый с толку подобным вопросом, Саймус не сразу подобрал нужные слова.
— Но, как же, Томас, ведь у вас погибла дочь?
— Вы, должно быть, ошиблись, сержант, моя дочь Кэтлин чувствует себя превосходно. Сейчас она на ферме и готовит для своего отца паштет, а я с возрастом все больше люблю вкусно поесть… Кэтлин — отличная дочь, сержант.
— Безусловно, Томас, но… я ведь говорю о другой вашей дочери — Патриции, Петси!
— Вы ошибаетесь, сержант, у меня нет дочери с таким именем!
И, оставив стоять на месте недоумевающего полисмена, Томас Лэкан пошел дальше по своим делам. Понимая, что за этим упорством скрываются невероятная боль и горе, гигант Саймус Коппин стоял и чувствовал, что на глаза ему наворачиваются слезы, чего с ним не бывало уже очень давно.
Майк О'Хегэн курил свою неизменную трубку, когда в кабинет вошел сержант. Они так давно работали вместе, что зачастую не нуждались в словах, чтобы понять друг друга.
— Что-то не так, Саймус?
— Я только что встретился с Томасом Лэканом.
— Как он воспринял то, что произошло?
— Он никак это не воспринял, Майк. Он утверждает, что Петси — не его дочь и ничего не хочет знать.
— Немного мальчишеская защитная реакция, но… она вызывает симпатию, верно?
— Лисгулд отказался от жалобы.
— Тем лучше!
— Я побывал у О'Мирея.
— Ну и как?
— Все это глупо, Майк… Если бы я был помоложе, то написал бы рапорт об отставке.
— До такой степени, Саймус?
— До такой, Майк.
Они еще с минуту помолчали, а потом сержант добавил:
— Старик Дулинг скоро умрет… Это вопрос нескольких дней, а, может, и часов.
— Он знает об этом?
— Он сам мне это сказал.
— Как он держится?
— Как порядочный ирландец.
Они опять помолчали. Вдруг, как бы говоря с самим собой, комиссар прошептал:
— Может, пока не стоит арестовывать его племянника, пусть с миром закончит последние дни…
— Не думаю, Майк, что он сможет умереть с миром, если мне не удастся схватить за шиворот убийцу Петси Лэкан.
— Но…
— Он уверен, что Игэн здесь ни при чем, и у него нашлись веские аргументы, Майк.
— И они оказались настолько вескими, что вы сами теперь верите в невиновность О'Мирея?
— Почти, Майк.
* * *
Не встретив Этни О'Брайен, сержант не мог ей передать предупреждение Норы, и поэтому на следующий день пути этих женщин сошлись в бакалейном магазине Дайона О'Нейла.
Уже три поколения О'Нейлов царствовали в мире пакетов чая, коробок с порриджем и кульков с конфетами. Следует сказать, что эта почтенная семья бакалейщиков принадлежала к цвету населения Бойля, и О'Нейлы, прекрасно зная настоящее и прошлое почти всех жителей города, допускали в магазин только тех из них, которых считали порядочными людьми. Итак, стать клиентом О'Нейла, значило, в какой-то мере, получить удостоверение о порядочности, и ради этого многие были способны пуститься на любые низости.
В те дни, когда весь город говорил о смерти Петси Лэкан, семидесятипятилетний старик Дайон О'Нейл, сидя за кассой, наблюдал, чтобы ни одна паршивая овца не могла затесаться в стадо избранных. Обладая совершенно фантастической памятью, он приветствовал каждого клиента по имени и фамилии и никогда не ошибался, расспрашивая их о здоровье двоюродных братьев, тетушек или дядюшек, их супругов. Мисс О'Брайен была в числе привилегированных клиентов, так как еще ее мать делала покупки в магазине О'Нейла, а миссис Нивз, из уважения к доктору Дулингу, пользовалась теми же правами.
Этим утром мисс О'Брайен, сделав нужные покупки, как раз расплачивалась у кассы, когда на пороге магазина появилась Нора. Всех покупателей в магазине охватило какое-то непонятное волнение, а Дайон О'Нейл так и застыл с приподнятой рукой, позабыв положить в кассу монеты, которые он в ней держал. Его внучка Брайди, отпускавшая мелассу[115], пролила ее мимо пакета, а сын и наследник Дайона Фрэнк, наливавший в бутылку технический спирт, не заметил, что она давным-давно полна, и спирт льется прямо на пол. Поняв по взгляду миссис Нивз, что ей не избежать неприятного объяснения, мисс О'Брайен, совершенно уверенная в своей правоте, первой перешла в наступление, чтобы обеспечить, как она надеялась, окончательное преимущество в споре. В тишине, которая наступила с появлением Норы, мисс О'Брайен громко сказала:
— Позвольте вам заметить, мистер О'Нейл, что я вас считала более строгим в выборе своей клиентуры.
В этом была ее ошибка, потому что обиженный Дайон О'Нейл сразу же оказался на стороне миссис Нивз. Но пока он подыскивал достойный ответ, чтобы наказать мисс О'Брайен за наглость, та успела добавить:
— Я бы никогда не поверила, если бы прежде мне сказали, что в магазине О'Нейла мне придется встречаться с женщиной, вырастившей убийцу!
Дайон О'Нейл едва не задохнулся от ярости.
— Мисс О'Брайен!
Миссис Нивз поставила на пол сумку, приставила к прилавку зонтик, закатала правый рукав пуловера, подошла к ничего не подозревавшей мисс О'Брайен, спокойно наблюдавшей как она это проделывала, и изо всех сил ударила ее кулаком в нос. Этни свалилась на пол, от удивления даже не почувствовав боли и не успев вскрикнуть. Покупательницы, мужья и братья которых наносили друг другу удары едва ли не с самого рождения, с восхищением оценили силу и точность этого прямого попадания. Презрев элементарные правила благородного искусства бокса, миссис Нивз налетела на лежавшую жертву, схватила ее за волосы, заставила подняться и левой рукой нанесла апперкот, вызвавший шепот одобрения у зрительниц и заставивший Этни выплюнуть вставную челюсть. Она чуть было снова не оказалась на полу, но гувернантка доктора Дулинга поймала ее на лету, чтобы затем нанести удар справа в желудок. С долгим шипением, похожим на звук пробитого баллона, Этни упала на пол и больше не поднималась. Миссис Нивз, бросив презрительный взгляд на свою жертву, строго посмотрела на всех присутствующих.
— Пусть это будет уроком для тех, кто вздумает клеветать! Игэн О'Мирей — отличный парень, и он глубоко страдает, так что нужно быть последней из последних, чтобы очернять страдающего человека… Мистер О'Нейл, я зайду позже, когда из магазина уберут мусор, и еще я вам очень благодарна за понимание.
Старик встал и перед покупателями, ожидавшими его реакции, заявил:
— Миссис Нивз, я всегда испытывал к вам чувство глубокого уважения, и сегодня вы еще раз убедили меня в моей правоте. Я уверен, что доктор Игэн О'Мирей — прекрасный человек. Кроме того, он не мог бы быть иным, поскольку его воспитали вы. Вам есть чем гордиться, миссис Нивз, и я благодарен вам за то, что вы посещаете мой магазин, в котором я всегда буду рад вас обслужить!
Потребовалось немало труда, чтобы привести в чувства мисс О'Брайен. Пришлось растирать ей виски, накачивать ее плохоньким виски, совать ей под нос ватку с уксусом, чтобы она наконец соизволила вернуться к действительности. Когда она пришла в себя, то расплакалась и принялась выкрикивать различные угрозы, которые из-за отсутствия вставной челюсти превратились в шамканье. И тогда Дайон О'Нейл вновь взял слово.
— Ваша мать, мисс О'Брайен, была почтенной женщиной, а ваш отец — человеком, которому я с удовольствием пожимал руку. Если бы они могли вас сейчас увидеть, то, как и я, были бы возмущены вашим поведением. С сожалением должен вам сообщить, что отныне вам придется делать покупки в другом месте.
В результате этого безапелляционного заявления весь Бойль вскоре узнал, что Этни О'Брайен больше не считалась порядочным человеком.
Глава 4
Майк О'Хегэн и Саймус Коппин читали и комментировали заключение патологоанатома из Слайго, приезжавшего для вскрытия трупа Петси Лэкан. И если выводы врача заставили полицейских отказаться от некоторых предположений, например, использование в качестве орудия преступления медицинского молоточка, то обвинений с О'Мирея они вовсе не снимали, скорее — наоборот. Отодвинув от себя бумаги, комиссар проворчал:
— Не понимаю, как и почему мы должны обходиться без вызова О'Мирея для допроса сюда.
— И я тоже этого не понимаю, Майк.
Вошел полицейский, который настолько торопился, что забыл постучать в дверь, и тем самым оторвал их от грустных размышлений.
— Господин комиссар!
— Что там у вас, О'Рурк?
— Скандал! Ужасный!
— Где?
— В магазине Дайона О'Нейла.
— Не может быть?!
Если бы О'Хегэну и Коппину сказали, что в обители Господа, при полном попустительстве отца О'Донахью, какие-то бесстыжие люди предаются развратным танцам, это произвело бы на них точно такое же впечатление.
— Вы соображаете, что говорите?
— Соображаю, господин комиссар! Нора Нивз так избила мисс О'Брайен, что та осталась лежать почти мёртвой!
— А как отреагировал старик О'Нейл?
— Он заверил миссис Нивз в своем уважении и попросил мисс О'Брайен больше никогда не посещать его магазин.
О'Хегэн посмотрел на своего заместителя:
— Мнение О'Нейла выражает общественное мнение, Саймус… В предстоящем деле нам придется быть максимально осторожными.
Сказать, что Коппин улыбался перед визитом к О'Мирею, значило бы солгать.
— Хорошо!.. Ладно… Я пошел… Попробую успокоить миссис Нивз, прежде чем сказать пару слов О'Мирею… Привести его сюда?
— Придется.
Здесь в разговор вмешался О'Рурк:
— Сержант, если вы собираетесь к доктору Дулингу, то должен предупредить, что к нему уже вызвали отца О'Донахью… Мне кажется, что теперь конец совсем близок…
* * *
Они обменялись недоверчивыми и почти ненавидящими взглядами. Несмотря на приближение последнего вечера, Оуэн Дулинг был при полном сознании. Он злился оттого, что ему пришлось позвать своего давнего противника — отца О'Донахью. Ну, а тот, позабыв о христианском милосердии, радовался, предвкушая долгожданный реванш. Господь внял, наконец, его молитвам и призвал к этому потерянному грешнику, который лежит в страхе перед смертью, и покаяние которого станет известно всему Бойлю, что укрепит веру в Господа в сердцах всех заблудших. Оуэн первым перешел в наступление.
— Радуетесь, да?
Святой отец, состроив на лице гримасу сочувствия, попытался вложить в свой голос как можно больше смирения:
— Сын мой…
— Не обращайтесь ко мне так! Из-за вас мне станет хуже! Я не хотел бы иметь такого отца, как вы!
Священник закрыл глаза, чтобы про себя прочесть «Аве», успокоить свою необузданную ирландскую кровь и еще раз внушить себе, что он пришел сюда для утешения умирающего. И все же он не удержался от замечания:
— Неужели вы думаете, что я рад был бы иметь такого сына!
— Ну и отлично! Хоть раз мы пришли к единому мнению! Так когда вы там отпустите мне грехи?
— Простите?
— Тогда зачем же вы пришли?
— Чтобы выслушать долгий рассказ о ваших отвратительных грехах, из которых один ужасней другого, и если ваше раскаяние покажется мне искренним, отпустить их от имени Всевышнего, который призовет вас на свой суд. Приступим! За работу! Скорей!
Доктора Дулинга едва не хватил удар, и он чуть не умер от прихлынувшей крови. Когда он обрел дар речи, то прорычал громко, насколько еще был способен:
— Идите к черту!
— Ни за что!
— Уходите отсюда!
— Нет! Меня сюда привел Господь! Господа нельзя выставить за дверь, даже такому безбожнику, как вы, Оуэн Дулинг, самому большому безбожнику во всем графстве! А теперь помолчите!
— Так вы даже не хотите дождаться моей смерти, чтобы командовать мной?
— Я имею дело с вашей душой, а она бессмертна, так что мне все равно, буду ли я беседовать с живым или с мертвым!
— Мне не о чем с вами говорить!
— Зачем же вы тогда за мной посылали?
— Чтобы не огорчать миссис Нивз… Я обещал удовлетворить ее просьбу.
— Попасть в ад рискует не миссис Нивз, а вы!
— Об этом я еще побеседую с вашим патроном. И не премину шепнуть ему пару слов о том, как отец О'Донахью подходит к решению своей задачи!
— Довольно! Мне надоели ваши шутки! Вы собираетесь исповедоваться, да или нет?
— Нет!
— Ах, вот вы как!
Не сумев сдержать припадка гнева, лишившего его всякого контроля над собой, священник схватил Оуэна Дулинга за ворот рубашки и с силой тряхнул его:
— Нет, вы сейчас же раскаетесь, чертов грешник! Так что, исчадье ада? Вы собираетесь перечислить ваши грехи?
Оуэн едва не задохнулся, захрипел, и святому отцу пришлось его отпустить.
— У… У… Убий…ца!
— Не преувеличивайте! У вас у самого богатое прошлое!
Именно в этот час сержант и пришел в дом доктора. Он уж было собрался объяснить миссис Нивз причину своего прихода, как вдруг с верхнего этажа послышался одновременно шум падения, дребезжащий, но еще вполне отчетливый смех, звон разбитого стакана и шум ссоры. Полицейский удивленно спросил:
— Что там происходит?
— Отец О'Донахью исповедует доктора.
— Вы уверены в этом?
— Почему вы спрашиваете?
— У меня такое впечатление, что это больше похоже на матч по кетчу.
Святой отец и умирающий обменялись гневными взглядами и вдруг, сами не понимая почему, залились смехом. Священник признался:
— Мне вас будет не хватать, Оуэн!
— Так в чем же дело? Давайте воспользуемся предстоящим путешествием, и я захвачу вас с собой?
— Я не имею права предвосхищать волю Господа!
— Лучше скажите, что боитесь!
— Признаюсь, да… Удивительно, что вам не страшно!
— Я видел столько смертей, святой отец… И потом, интересно ведь узнать, насколько правдивы ваши россказни!
— Нечестивец!
— Послушайте, святой отец, если мы опять начнем ссориться, я, по вашей вине, могу умереть, так и не очистившись от смертельного греха!
— Ладно, молчу… А теперь можете облегчить себе душу и рассказать о своем неправедном существовании.
— Обязан ли я вам рассказывать обо всех дамах Бойля, проявлявших ко мне интерес за всю мою долгую жизнь?
— В общих чертах, не вдаваясь в детали, пожалуйста.
Доктор Дулинг говорил около получаса. По правде говоря, ему определенно нравилось воскрешать события давно ушедших дней. Он с удовольствием рассказывал о своих похождениях, о том, как все больше пил виски. Иногда он на секунду умолкал, вновь испытывая настоящее удовольствие от давних событий, одно воспоминание о которых продолжало согревать ему сердце. Покраснев до ушей, с каплями пота на лбу, отец О'Донахью слушал его рассказ, иногда прерывая его вздохами возмущения, недовольным ворчанием и короткими жалобными восклицаниями, в которых можно было разобрать призыв к Божьей милости. Когда Оуэн Дулинг, наконец, замолчал, священнику показалось, что он очнулся от долгого кошмара, и с сожалением произнес:
— Не знаю, как вам из всего этого выпутаться, даже если у Господа будет превосходное настроение! Кроме того, мне кажется, что вы еще не все выложили? Ведь вы ничего не сказали о Норе Нивз!
— О Норе? Что вы хотите услышать о Норе?
— В том состоянии, в котором вы сейчас находитесь, ничего не должно вас удерживать на пути к истине… Если ваши… Как это сказать?… Если ваши отношения не всегда бывали такими, как между хозяином дома и служанкой, вы должны в этом покаяться!
— Святой отец, да вы на этом свихнулись! Нора была мне самой преданной служанкой! И больше ничего!
— Наконец-то я вижу хоть один чистый поступок в вашей жизни! Вы правильно сделали, что не воспользовались ее доверием.
— Что вы, дело не в этом!.. Если бы она стала моей любовницей, то обязательно постаралась бы прибрать меня к рукам, а, между нами говоря, я всегда любил виски больше, чем женщин. А вы?
Святой отец даже подпрыгнул.
— Неужели я должен напоминать вам об уважении к моему сану, Оуэн Дулинг?
Закрыв глаза, доктор вытянулся и прошептал:
— Если уж и пошутить нельзя, то лучше мне уйти как можно скорее…
— Задержитесь еще на секунду, Оуэн, я дам вам отпущение грехов. Вы, конечно, этого не заслужили, но я всегда испытывал к вам слабость… Как бы мне это потом не было поставлено в упрек… Кстати, скажите, старина, может, воспользуемся моментом, и я совершу миропомазание?
— Вы не можете этого сделать…
— Почему же?
— Я еще не во всем вам исповедался… Не сказал самого главного…
— Боже мой!
— Если вы уже сейчас начинаете стонать, что вы скажете, когда узнаете?
— Ладно… молчу. Слушаю вас. Чем скорее мы с этим покончим, тем лучше!
— Наклонитесь ко мне, святой отец…
Священник склонился над больным, который прошептал ему несколько слов на ухо, и святой отец сразу же отшатнулся, словно увидел змею.
— Не может быть?!
— Может!
— Несчастный!.. Теперь я не знаю, могу ли отпустить вам грехи… Скажите, вы, по крайней мере, раскаиваетесь в содеянном?
— Нет.
— В таком случае, ничего не выйдет!
Пока шла эта странная исповедь, сержант пытался очень осторожно объяснить миссис Нивз, что подозрения против Игэна становятся все более серьезными. Но гувернантка только пожимала сильными плечами:
— Саймус, чтобы совершать подобные ошибки, вовсе не требуется такого богатого опыта, как у вас. Перед Богом и людьми могу поклясться, что мой мальчик так же невинен, как новорожденный ягненок! Если вы его арестуете, то совершите не только ошибку, но и акт недоброй воли, которой я никогда не смогу вам простить!
— Но ведь, Нора, моя профессия как раз и состоит в том, чтобы арестовывать преступников!
— Безусловно, но только не людей, которые ни в чем неповинны!
— Мисс О'Брайен не считает, что он невиновен.
— Ну, эта особа больше не будет вмешиваться в то, что ее не касается!
— Я уже давно восхищаюсь вами, миссис Нивз, но… сам начинаю вас бояться…
Она улыбнулась.
— Не знаю, каким образом я могла бы испугать такого гиганта, как вы, Саймус Коппин?
— Если бы я вас не побаивался, Нора Нивз, то давно бы уже сказал, что мне хотелось бы провести остаток дней вместе с вами.
— Это предложение, если я вас правильно поняла?
— Кажется, да, Нора.
— И, чтобы я дала согласие, вы хотите арестовать моего мальчика? Неужели же вы так глупы или считаете дурочкой меня, Саймус Коппин?
Не догадываясь, что самим фактом своего существования он мог разрушить еще не сложившуюся супружескую пару, Игэн постучался в дверь фермы Лэканов. Он узнал голос Кэт, которая пригласила его войти.
Все семейство было в сборе и сидело за столом. Когда он вошел, только одна Кэт встала и подошла к нему:
— Как ваш дядя… Игэн?
— Это конец…
Они на минуту оторвались от еды, и Томас Лэкан сказал:
— Нас покинул хороший человек… Да примет Господь его с милостью!
Они перекрестились, а Мив и Кэт вытерли заплаканные глаза. Томас указал на свободное место:
— Садитесь, Игэн, и попейте с нами чаю… Мы ведь почти что ваша семья, мой мальчик, с тех пор, как моя сестра заменила вам мать, верно?
— Я не имею права сидеть рядом с вами за одним столом…
Томас перестал жевать. Даже Шон, которого обычно невозможно было оторвать от еды, выпрямился и посмотрел на старого друга. Томас спокойно вытер губы и спросил:
— Что вы хотите этим сказать?
— Саймус Коппин предъявил мне обвинение в убийстве Петси.
На этот раз молчание было более продолжительным и более тягостным. Никто не хотел показывать своих настоящих чувств. Все неподвижно уставились на отца. Тот прокашлялся и сказал:
— Я раз и навсегда запретил произносить в моем доме имя этой бесстыдницы. Гнев Господа дал ей кончину, которую заслуживают все те, кто становится позором семьи. Но тот, кто посмел вообразить, что может заменить собой гнев Божий, будет нами наказан, если попадется нам в руки до того, как его схватит полиция. Вы ведь не совершали этого преступления, верно, Игэн?
— Клянусь, что нет!
— Почему же сержанту в голову пришла эта дикая мысль?
И тогда Игэн О'Мирей рассказал об их плане побега, о том, как он напрасно стучал в двери Петси, о случайной встрече с мисс О'Брайен и о том, как подумал, что Петси опять его предала.
Они внимательно выслушали его рассказ. После чего Томас сказал:
— Не могу найти объяснений вашим поступкам, мой мальчик, потому что, с одной стороны, вы едва не допустили большой глупости! А с другой, вы дурно поступили бы по отношению к дяде и к Норе…
— Она все знала… Она приехала бы к нам с Петси в Канаду.
Узнав о таком, Томас проворчал:
— Женщины и в самом деле все сумасшедшие!
Тогда вмешалась Мив.
— Просто у них есть сердце, Томас Лэкан. Это то, чего вам не хватает! Вы говорите о своей дочери так, как нельзя говорить даже о проститутке! Это просто ужасно! Если вы можете так говорить, значит вы не любите своего же ребенка!
Побелев, как снег, Томас глухим голосом приказал:
— Замолчите, Мив, или в первый раз в жизни я вас ударю!
Шон поджал под себя ноги, готовый броситься на отца, если тот поднимет руку на мамми. Мив не могла остановиться:
— Вот перед вами парень, который по-настоящему любил вашу дочь и знал, что любовь намного выше всех этих грязных историй! Он смог простить! Он готов был забыть обо всем! Он решился все начать сначала!
В эту секунду Мив заметила отчаяние на лице младшей дочери, и ее сердце не выдержало. Она обняла ее и, покрывая поцелуями, плача вместе с ней, прошептала ей на ухо:
— Простите, Кэт… Но ведь, знаете, время стирает все…
Когда отец О'Донахью вышел от доктора Дулинга, помимо довольно растрепанного вида, у него было такое лицо, что сержант не удержался и спросил, что же все-таки произошло в комнате больного.
— Я исповедовал этого безбожника Оуэна, и мне удалось привести его к Богу… Как это было трудно!
— Заметно!
— У нас были разные точки зрения. Мы обменялись аргументами… Кстати, миссис Нивз, доктор просил передать вам, что вы можете сказать Коппину все, что посчитаете нужным… Он сказал, что его больше не интересует земное, и отныне он устремлен только к Небесам!
Миссис Нивз подозрительно посмотрела на священника.
— Он так и сказал насчет Небес, господин аббат?
— Скажем так: мне удалось заставить его высказать эту мысль, разумеется, для его же спасения, дочь моя…
Отец О Донахью привычным для себя движением плеч поправил сутану и довольно странно подвел итог:
— Это был превосходный боксерский матч, который выиграл Господь Бог!
Саймус задумчиво кивнул и, когда священник отошел от них, заметил:
— На его месте я не был бы так самоуверен! Так что вы должны мне сказать, Нора?
Она не сразу решилась.
— Я… Я не знаю, и потом… боюсь, что это нехорошо…
— Нехорошо?
— Несмотря на полученное разрешение, мне кажется, что я предаю его.
— Что это еще за история?
— Это по поводу ночи, когда была убита моя племянница…
— Ну, и в чем же дело?
— В ту ночь, около одиннадцати часов, я испугалась за доктора…
— За которого?
— За доктора Дулинга, конечно! Я встала и поднялась в его комнату, тихонько приоткрыла дверь и прислушалась. Его Дыхания не было слышно. Тогда я испугалась, включила свет и…
— … И?
— В кровати его не было!
— Возможно, он был в…
— Я заглянула и туда. Потом я поняла: доктор ушел из дома!
— Ушел из дома!
— Кроме того, на вешалке не было его теплого пальто, фетровой шляпы и трости.
— Что вы предприняли?
— Я стала ждать его возвращения. Он вернулся к полуночи.
— Он видел вас?
— Конечно! Я не стала скрывать всего, что думала о его поведении! И тогда…
Слова застыли у нее на губах. Она села, и руки ее дрожали, а Саймус стоял, опустив руки по швам, не зная, чем может помочь при виде такого горя.
— … И тогда он признался, что был у Криса Лисгулда… Он нашел у меня ключ от моего прежнего дома, который я хранила, как многие старики хранят массу ненужных вещей… У него произошла ссора с моей племянницей… Он просил ее оставить Игэна в покое… Она, кажется, рассмеялась ему прямо в лицо! И тогда он ее ударил… К несчастью, гнев на секунду вернул ему прежнюю силу… Похоже, Петси тотчас же умерла на месте…
— Оуэн Дулинг — убийца?!
Вся сжавшись в комок, Нора беззвучно плакала. Саймус долго и недоуменно смотрел на нее.
— Нора, вы, естественно, никогда бы не решились на лжесвидетельство?
Она отрицательно качнула головой.
— И если потребуется, вы будете готовы поклясться на Библии?
— Конечно, Саймус.
— В таком случае, мне нужно повидаться с Дулингом.
При виде входящего сержанта доктор Дулинг приподнялся на локте.
— Привет, Коппин, сколько можно вас ждать?… В моем положении я не могу себе позволить ни одной лишней минуты.
— Вы думали, что я должен придти?
— Я разрешил Норе переговорить с вами, если она сочтет это нужным.
— Итак, доктор Дулинг, вы признаете себя виновным в убийстве Петси Лэкан?
— Признаю.
— Зачем вы это сделали?
— Чтобы знать, что моя жизнь не прошла напрасно.
— Что-то не могу понять, док?
— Саймус, старина, поймите, что после смерти отца Игэна я почувствовал, что должен помочь моей овдовевшей сестре, но это чувство долга не простиралось настолько далеко, чтобы самому отказаться от жизни, брака, собственных детей. Но когда умерла Грэнн, оставив после себя маленького ребенка, для меня все было кончено. Я решил посвятить свою жизнь Игэну. Мне необычайно повезло, и на своем пути я встретил исключительную женщину — Нору Нивз… Таких людей очень мало, сержант…
— Знаю, док, знаю!
— И, поскольку мое положение таково, что позволяет мне не заботиться больше об общественных правилах, то позволю себе вам сказать, что если Нора согласится, то станет для вас превосходной спутницей жизни… Не нужно так краснеть, сержант, в вашем возрасте это просто смешно!
— Прошу вас, давайте вернемся к делу, доктор.
Перед тем, как продолжить, Дулинг выпил глоток сладкой воды.
— Вы правы, Саймус, мне нужно торопиться, если я хочу рассказать вам эту историю до конца.
Приличия ради, полисмен возразил:
— Перестаньте, док, вы не так уж плохо выглядите!
Оуэн строго посмотрел на него.
— Неужели же вы думаете, что если бы я не умирал, то стал бы пить воду… тем более сладкую?
Саймус смущенно поник головой. Существуют доводы, против которых трудно возражать.
— Вместе с Норой мы посвятили свою жизнь Игэну. Я очень надеялся, что он тоже захочет стать врачом и заменит меня здесь, в Бойле. Таким образом, в нем я как бы найду свое продолжение. К несчастью, он давно был влюблен в Петси, которая не заслуживала его любви. Я попытался было разъединить их. Я почти радовался проступку малышки, полагая, что этим она оттолкнула Игэна от себя. Но он любил ее по-настоящему, Саймус, и никто бы не смог заставить его забыть об этой Петси, без которой он не мог представить себе будущего. Затем произошла настоящая катастрофа… Игэн встретился с Петси, которая была не очень счастлива с другим, и предложил ей удрать вместе с ним в Канаду. Они должны были уехать в ночь с субботы на воскресенье и собирались выехать из города во время матча по боксу.
— Как вы об этом узнали?
— От Норы, которой Игэн все рассказал. Я не мог смириться с этим побегом, который разрушал все мои планы. С другой стороны, я был уверен, что по своей слишком легкой натуре Петси не сможет стать такой женой, какая нужна была Игэну… Зная, что скоро умру, я задумал убийство Петси Лэкан, чтобы спасти племянника и свои мечты, сержант! Я знал, что у миссис Нивз остался ключ от дома, где жили Лисгулд и Петси. Я дождался, пока Нора уснула, и вышел из дома. С собой я взял молоточек, потому что мне не хотелось пользоваться скальпелем.
— Если я верно понял, док, это тянет на заранее спланированное преступление?
— Как вам угодно.
— Похоже, миссис Нивз другого мнения?
— Я не счел нужным признаваться ей в своих истинных намерениях… Ведь речь шла о ее племяннице, сержант! Петси очень удивилась, когда я вошел в комнату, тем более, что она уже легла спать. Я сказал, что пришел потребовать от нее объяснений по поводу их плана побега с Игэном. По правде говоря, сержант, меня очень удивило, что я не заметил ни одного чемодана или пакета. Мне казалось, что я стал жертвой самого скверного розыгрыша.
— Какова была ее реакция?
— Самая неприятная и грубая, сержант! Она сказала, что я — старый дурак, а мой племянник — ничтожество! Что она вовсе не собиралась уезжать с ним в Канаду и что ей незачем забивать себе голову мыслями об Игэне, потому что она добьется от него всего, чего захочет, и столько раз, сколько ей этого захочется. От матери я унаследовал вспыльчивый характер, Саймус. Если бы у меня было достаточно сил, я, как и всякий порядочный ирландец, так бы поколотил эту шлюху, что ей бы это надолго запомнилось, но — увы! В моем состоянии мне не удалось бы ее одолеть. И тогда, недолго думая, я схватил молоточек и ударил ее изо всех оставшихся сил. Вот так я убил Петси Лэкан, сержант.
— Красивая история, док… Еще чуть-чуть, и я бы расплакался!
— Скажите, Саймус, вы случайно не смеетесь надо мной?
— Вовсе не случайно, док!
— Могу ли я узнать, почему же?
— Потому что вы — самый большой лжец во всем графстве!
— Я вам не позволю…
— Ладно вам, док, не становитесь на дыбы, бесполезно меня пугать! Вам удалось надуть отца О'Донахью, но со мной — другое дело, Оуэн Дулинг! Да, вы — в самом деле самый большой враль, а внизу, у лестницы, меня ждет самая большая лгунья! Ну, я ей еще скажу пару слов! Могу вас поздравить, док, вы хорошо придумали! И исповедались в этом бедному священнику, который легко клюнул на такую наживку… Доверили ему как бы тайну и тут же сказали, что ваша сообщница, если захочет, может облегчить свою душу… А эта несчастная притворщица думает, что у старого доброго сержанта нежное сердце и поэтому можно разыгрывать с ним комедию… Она больше не может молчать… Должна все рассказать мне… Но ей неловко… Она боится совершить предательство после стольких лет безупречной службы… Давай, сержант, глотай наживку! Еще немного, и он поверил бы в виновность умирающего и оставил бы в покое настоящего убийцу, Игэна О'Мирея! Ваш спектакль провалился, док, хоть вы с Норой так старались!
— Но скажите же, наконец, Саймус, почему вы считаете, что я не мог убить Петси ударом молоточка в висок?
— Потому, что ее задушили! Вот так! Я помню, что говорил вам, будто бы ее могли убить ударом молоточка в висок, но тогда я не знал еще результатов вскрытия, а там ясно сказано, что Петси умерла не от удара в висок, а была задушена. Что вы на это скажете, док?
— Я хотел вас избавить от ошибки, в которой вы сами будете потом раскаиваться, но мне это не удалось. Тем хуже для меня и для вас.
— А, может быть, для вашего племянника?
— Я не думал, что вы такой дурак, Саймус… Вы еще раз мне напомнили о том, что на земле власть сосредоточена в руках самых больших дураков. А теперь можете идти делать вашу грязную работу, я на вас достаточно насмотрелся. Прощайте!
Полисмен был настолько зол и расстроен, что в ответ не нашел нужных слов. Ему не хотелось расставаться со старым доктором, поссорившись с ним. Эта ссора за одну секунду разрушила долгие годы крепкой дружбы. Он уже выходил на улицу, когда его остановила миссис Нивз.
— Что это вы, Саймус! Уходите, не попрощавшись?
— Я не хочу с вами разговаривать, миссис Нивз!
— Вот как! Значит, ничего не вышло?
— Нет!.. Не вышло! А вам должно быть стыдно!
— За что, мистер Коппин?
— Во-первых, за то, что вы обманули человека, который испытывал к вам определенные чувства и бесконечно вас уважал!
— Значит, вы их больше не испытываете?
— После того, как вы меня обманули?!
— В таком случае, сержант, мне не о чем жалеть, потому что этот человек — дурак!
Не прошло и пяти минут, как полисмена во второй раз обозвали дураком. Это начинало его серьезно раздражать. И все же, в память о своей былой привязанности, он сдержался.
— Во-вторых, за то, что вы всеми доступными вам средствами пытаетесь оградить преступника от правосудия!
— В самом деле? И кто же, по-вашему, преступник?
— Вы это знаете не хуже меня: Игэн О'Мирей!
Он ждал, что за этим последуют возмущенные крики протеста, но миссис Нивз лишь пожала плечами.
— Мой бедный Саймус, надеюсь, вы не станете отрицать, что мы сделали все возможное для вашего прозрения! Конечно, теперь это ваше дело, но знайте: я никогда не
позволю вам набрасываться на моего мальчика для удовлетворения черт знает какой мести! И если потребуется, я всю страну возьму в свидетели, чтобы доказать, что вы не беспристрастны!
— Такого я мог ожидать от кого угодно, но от вас?! Честное слово, не могу вас понять!
— Потому, что Игэн — не ваш сын!
— Возможно… Но, поступив на службу в полицию, я дал клятву всегда выполнять приказы… Вопреки тому, что вы здесь говорили, я не испытываю никакого удовольствия, скорее — наоборот. Но для меня существует долг, миссис Нивз, и этот долг превыше всего! Поступая так, как поступили вы с доктором Дулингом, вы лишь подтвердили мои предположения о виновности доктора О'Мирея… А кстати, не могли бы вы мне сказать, где он сейчас находится?
— На ферме Лэканов.
— На ферме Лэ?… Но зачем?
— Возможно для того, чтобы объяснить моему брату, его жене, сыновьям и дочери, как он убил Петси, и принять от них поздравления?
Саймус грязно выругался.
Кэт вызвалась проводить Игэна, хотя он и не просил ее об этом. Шон хотел было пойти с ними, но более понятливый Кевин удержал его. Кевин очень любил младшую сестру и испытывал яростное желание наброситься на Игэна с кулаками, чтобы открыть ему глаза. Томас Лэкан, утративший ко всему интерес после смерти Петси, не обратил внимания на выходку младшей дочери, а Мив, которой очень хотелось, чтобы доктор О'Мирей обратил внимание на ее маленькую Кэт, сделала вид, что не заметила, как та вышла вслед за ним. Она лишь по-заговорщицки подмигнула Кевину.
Кэт мешала Игэну. Ему было странно, что она до сих пор не поняла, что как любимая девушка она ему совершенно безразлична и что он смотрел на нее как брат, и как брат был готов сделать для нее все, что было в его силах. Она догнала его и какое-то время молча шла рядом. Затем, наконец, решившись, она осторожно спросила:
— Вы действительно думаете, что они могли решить, будто вы убили Петси… Игэн?
— На это у них ума хватит!
— Значит… они могут посадить вас в тюрьму?
— Если им так захочется!
— Но это же несправедливо!
— То, что Петси умерла такой смертью, — тоже несправедливо, и все же…
— Игэн… Вы по-прежнему думаете только о Петси?
— По-прежнему.
Находясь в возрасте, когда еще верят в вечность данных клятв, она в полном отчаянии прошептала:
— Что же тогда будет со мной?
— С вами? Вы ведь можете выйти замуж?
— Это невозможно, Игэн.
— Отчего же, Кэт?
— Потому что я смогу выйти замуж только за вас, а вы никогда не захотите на мне жениться!
— Будьте благоразумны, Кэт… Существуют вещи, которыми невозможно управлять, чувства, которые нельзя только разыгрывать.
— Вы считаете, что я не так красива, как Петси?
— Не будем больше говорить о Петси… Это неприлично!
— Мамми говорит, что я так же красива, как и она!
— Тише! Идите сюда!
Он схватил ее за руку и потащил за забор, приложив палец к губам. Сквозь ветви деревьев на дороге был виден Саймус Коппин, который тяжелым шагом шел в сторону фермы.
Лэканы лишь посмотрели поверх чашек с чаем на пришедшего. Для того, чтобы понять, что атмосфера была не очень дружественной, вовсе не требовалось шестого чувства. Смутившись, Саймус бросил наугад:
— Привет!
Ему никто не ответил.
— Мне… мне нужен Игэн О'Мирей.
Томас на секунду перестал жевать свой кекс и сказал:
— Это ваше дело.
Было непохоже, чтобы дело начинало улаживаться. Полисмен предпринял еще одну попытку.
— Томас, ваша сестра, миссис Нивз, сказала, что я смогу найти О'Мирея здесь.
— Нора уже давно достигла совершеннолетия, и я не могу отвечать ни за ее слова, ни за поступки.
— Вы не видели О'Мирея?
— Видели.
— Давно?
— Не очень.
— Он уже ушел?
— Кажется, это заметно.
— Да… Не очень-то вы сегодня разговорчивы, а?
— Я делаю то, что мне нравится, а те, кому это не по вкусу, не обязаны оставаться в моем доме.
Саймуса Коппина бросило в жар. Он не любил, когда с ним разговаривали подобным тоном, особенно люди, которых он считал своими друзьями. Этот заговор, который складывался для защиты О'Мирея, только убеждал лишний раз сержанта в его виновности.
— Позвольте мне, Лэкан, выразить свое удивление по поводу того, что вы делаете все возможное для защиты человека, который, возможно, убил вашу дочь!
Томас оттолкнул от себя чашку.
— А мне, сержант, позвольте заметить, что с большим сожалением, как человек, давно вас знающий, я вынужден констатировать, что преждевременная старость уже успела размягчить ваши мозги!
— Должен вам напомнить, Лэкан, что я нахожусь при исполнении служебных обязанностей!
— А я, Коппин, напоминаю вам, что вы находитесь в моем доме, где никто не смеет приказывать, пока я еще жив!
— А что, если я вас задержу за создание помех следствию?
Томас улыбнулся и посмотрел на сыновей:
— Думаю, вам придется трудно… и больно!
Хотя перспектива долгого пребывания в больнице не воодушевляла Саймуса, он встал со стула, на который сел без приглашения, поскольку, кроме долга, для него ничего не существовало. Поглядывая краем глаза на Шона и Кевина, он уже было открыл рот, чтобы объявить Томасу о том, что он должен следовать за ним во имя закона, как тут вмешалась Мив:
— Не смешите людей, Саймус! А вам, Томас, должно быть стыдно за то, что вы так обращаетесь со старым другом!
Коппин присел на стул. Томас не сдавался:
— По какому праву вы повышаете голос, Мив? И кто вам позволил вмешиваться в разговор?
К большому удивлению мужа и сыновей тихая Мив не успокоилась.
— Вы еще спрашиваете, по какому праву я говорю в своем доме, у своего очага? Да вы, случайно, не сошли с ума, Томас Лэкан? Или вы думаете, что мы все еще живем в Средневековье? По какому праву я говорю? По праву женщины, родившей вам сыновей, каких не всякая в Бойле способна была бы произвести на свет! Эги сыновья в старости прокормят вас, Томас Лэкан! И эти сыновья однажды поймут, что вы не имели права так обращаться с их матерью!
Сержант вновь увидел прежнюю Мив в этой отяжелевшей, возмущенной женщине, и, вспомнив о Норе, он подумал, что женщины в Бойле были намного лучше мужчин. Не дав мужу ответить, миссис Лэкан обернулась к полисмену.
— А о вас, Саймус, я бы никогда не подумала, что вы позволите так себя одурачить! Я считала вас одним из самых умных людей во всем графстве! Неужели вы думаете, что если бы мы хоть на секунду заподозрили Игэна в убийстве дочери, то позволили бы ему ступить на порог нашего дома? Могли бы позволить Кэт говорить с ним? Неужели вы считаете нас дикарями, Саймус Коппин?
— Мне кажется, Мив, вы не могли располагать всеми данными, чтобы составить верное мнение?
— Нам наплевать на ваши данные, если они бросают хоть тень подозрения на Игэна!
— Послушайте меня, Лэканы, и постарайтесь понять, что не все можно решить при помощи кулаков! Хоть вам так и не кажется, по сам я симпатизирую Игэну, прежде всего потому, что он племянник человека, которого я очень уважаю, затем потому, что его воспитала женщина, которой я восхищаюсь, и, наконец, потому, что мне будет очень жаль, если такой отличный парень, как он, проведет в тюрьме всю свою жизнь. Только это все чувства, а правосудию нет дела до чувств. Оно требует доказательств и, кроме доказательств, ничего другого не признает. Итак, против Игэна сейчас все, и Нора Нивз, задав взбучку Этни О'Брайен, этим еще не лишила силы ее показаний, указывающих на виновность Игэна!
С тех пор, как пришел полисмен, Шон впервые проявил заинтересованность.
— Настоящую взбучку, сержант?
— Кажется…
Тот тряхнул головой и заявил:
— Тетя Нора — замечательный человек!
Коппин, которому не правилось, если кто-то другой восхищался Норой, поскорее вернул разговор к убийству и его последствиям.
— Не думаю, Томас, что вы верно поступаете, пытаясь защитить О'Мирея без доказательств… Наоборот, этим вы скорее наносите ему еще больший вред… Вот и доктор Дулинг…
Он рассказал им о хитрости умирающего доктора и о том, как ему удалось втянуть в свою игру отца О'Донахью и заставить того, при помощи Норы, служить своему замыслу. Они внимательно его выслушали, а после этого Мив расплакалась, и Томас, незаметно вытерев слезу, поднялся и сказал:
— Таких людей, как Оуэн Дулинг, больше нет! Да отведет ему Господь в раю место, которое он заслужил!
Они единогласно повторили:
— Аминь!
Не вдаваясь в подробности, каким образом грешник может заслужить место в раю тем, что одурачил священника, сержант обратил внимание на допущенную доктором Дулингом по отношению к нему тактическую ошибку и на то, как она усилила его подозрения. Тем не менее, Томас Лэкан продолжал упорствовать.
— Итак, Коппин, вы считаете, что не только Игэн мог превратиться в убийцу, но еще и доктор Дулинг и моя сестра Нора могли бы разделить ответственность за совершенное им преступление, назвав себя его соучастниками? Может, мне стоит вам напомнить, что моя бывшая дочь была ее племянницей?
Прежде, чем полисмен успел ответить, Мив добавила резким тоном:
— Что с вами могло случиться, Саймус? Чтобы такой умный человек вдруг стал таким дураком…
Сержант грубо выругался, поднялся и заявил, что ему надоело терпеть, как его то одни, то другие обзывают дураком, и что дурак он или нет, а все же сумеет показать, на что способен, всем тем, кто не собирается считаться с законом! Он арестует Игэна О'Мирея и отправит в тюрьму! И если потребуется, он засадит под замок всех тех, кто становится на сторону человека, подозреваемого в совершении убийства!
Мив Лэкан вздохнула:
— Вам бы следовало ставить себе клизмы в межсезонье, Саймус!
Сержант был очень стыдлив и не мог допустить, чтобы о таких вещах говорили при всех.
Он грубо ответил:
— А вы — беспардонная и бесстыжая женщина, миссис Лэкан!
Не успел он еще окончить фразу, как великолепным правым, способным восхитить такого большого знатока этого искусства, как Саймус Коппин, если бы он сам не стал жертвой этого удара, Томас Лэкан отправил его за порог. А Кевин, перед этим успев добежать до двери, открыл ее перед ним. Саймусу показалось, будто, улетая от каких-то расплывчатых силуэтов, он, словно волчок, несколько раз крутонулся, потом услышал какой-то возглас, наткнулся на что-то мягкое и лишь затем утратил всякое ощущение действительности.
Шон подошел к отцу и пожал ему руку:
— Вы были великолепны, отец!
Супруги Стоквеллы, которые по-соседски направлялись в это время к Лэканам в гости, неподвижно застыли на месте при виде этой странной сцены. Будучи крепким человеком, Саймус Коппин быстро пришел в себя. Поначалу ему было очень трудно собраться с мыслями, и он не понимал, почему Стоквеллы разглядывают его, как какого-то диковинного зверя. Затем к нему постепенно возвратилась память, и он рявкнул на них:
— Чего уставились! А вы, Лэкан, черт вас возьми! Вы арестованы!
В этот момент раздался нежный голосок:
— Вы не могли бы встать, сержант? Знаете, вы очень тяжелый!
Полисмен только тогда понял, что лежал поверх бедной Кэт Лэкан, покрасневшее лицо которой свидетельствовало о крайнем смущении от такого положения и одновременно о том, что она вот-вот задохнется. Чтобы еще больше загнать Коппина в угол, негодяй Томас вместе с сыновьями подошел к нему поближе и обратился к Стоквеллам:
— Видели, как эта скотина Саймус обращается с девушкой, почти ребенком?
Стоквеллы, обрадованные тем, что смогут обязать соседа к ответной услуге, стали выражать негодование по поводу поведения Коппина. Томас лукаво добавил:
— Не знаю, возможно, мне придется вас заставить просить руки Кэт, которую вы публично скомпрометировали!
Сержант вскочил и потряс кулаком в сторону Лэканов.
— Вы!.. Ах вы!..
Но он вовремя понял, что действительно попал в щекотливую ситуацию, которой такие безнравственные люди, как эти проклятые Лэканы, не замедлят воспользоваться. Чтобы дать себе время на размышления, он стал старательно стряхивать с кителя пыль, а затем, взяв Кэт под руку, вернулся на ферму Лэканов. Стоквеллы поняли, что пришли не вовремя и вернулись обратно.
Лэканов не очень заботили последствия стычки, так как им хорошо была известна отходчивость Коппина. Когда дверь за ними закрылась и в комнате наступило глубокое молчание, Саймус неожиданно резко скомандовал:
— А теперь, все садитесь!
Они подчинились. Сержант отпустил руку Кэт.
— Садись и ты, малышка. Тебе не очень больно?
— Нет, мистер Коппин.
Полисмен посмотрел Томасу в глаза.
— Для своего возраста у вас еще крепкий удар!
— Я… Я прошу… меня извинить… Когда вы сказали Мив такое, то я…
— Признаю, что был с вами невежлив, миссис Лэкан, и прошу прощения…
— И я у вас, Саймус…
— В таком случае, может нам лучше объединиться вместо того, чтобы ссориться?
Кевин спросил:
— Чтобы схватить Игэна?
— Если он действительно виновен, то да. А, если нет, то чтобы вместе попробовать помочь ему выбраться из этого дела… Кажется, вы только что были вместе с ним, Кэт?
— Да.
— Куда вы ходили?
— Я проводила его до дома.
— Зачем?
— Я боялась, что по пути ему могут встретиться люди, которые будут говорить разные гадости…
— О'Мирей способен за себя постоять!
— Этого мне и не хотелось, мистер Коппин… Игэну нужен покой, пока вы не поймаете убийцу.
После короткой минуты молчания Саймус признал справедливость ее слов:
— Томас, а ведь у вашей дочери мозгов больше, чем у нас всех! Вам, случайно, никто не встречался из недоброжелателей О'Мирея?
— Нет, но мы видели одного из них издалека.
— То есть?
— Мы едва не столкнулись с Кристи Лисгулдом. Он шел впереди нас. К счастью для пего, он зашел в «Лебедя с короной».
— Этого не может быть! Лисгулда нет в Бойле. Почему вы решили, что это был он?
— Его узнал Игэн, а не я. Кажется, по пиджаку: он у него очень приметный.
— Верно. Ладно, пойду скажу пару слов Лисгулду. Мне не хотелось бы, чтобы он оставался здесь, пока эта история не прояснилась… Не хотелось бы, чтобы подозреваемые прикончили друг друга.
После ухода сержанта, Томас Лэкан подвел итоги:
— Этот Саймус — неплохой человек… И все же он сильно сдал. Раньше он лучше держал удары… Вы видели, как он вылетел отсюда?
Шон высказал свое непредвзятое мнение:
— Вы застигли его врасплох, отец. Он не был готов к нападению.
— Вы неправы, сын. Полисмен должен всегда быть ко всему готов. Ведь с вами бы такого никогда не могло случиться, верно Шон?
— Конечно, нет, отец.
Едва он успел произнести последнее слово, как отец опять ударил с правой, но Шон был к этому готов. Он легко уклонился от удара и ответил боковым левым, от которого Томас вместе со стулом едва не свалился в огонь. Все сразу же замолчали, ожидая, что сделает отец. Томас поднялся, секунду постоял и спросил у жены:
— Вам не кажется, Мив, что дети перестали уважать своего старого отца?
Глава 5
Саймус Коппин чувствовал непреодолимое желание отыграться на ком-то или на чем-то за те унижения, которые ему пришлось пережить за последние несколько часов. Кому-то придется за все это заплатить. Этот Лисгулд, который посмел не сдержать данного слова, узнает, чего это будет ему стоить! Охваченный яростью, сержант направился прямо в «Лебедя с короной», где в это время Лэннокс Кейредис медленно протирал стаканы, размышляя о все сильнее донимавшем его циррозе — результат его профессии. Приход полисмена не очень его обрадовал. Давняя неприязнь не позволяла ему доверять представителям закона.
— Привет, сержант! Налить вам стаканчик?
— Нет. К вам заходил Крис Лисгулд где-то с полчаса назад?
— Лисгулд? Кажется, вы ошибаетесь, сержант.
— Перестаньте, Кейредис! У меня сейчас такое настроение, что мне не до шуток, предупреждаю вас! Один человек, которому я полностью доверяю, видел, как сюда входил Лисгулд менее часа назад!
— Этого не может быть, сержант! Я не ВИДЕЛ Лисгулда с того дня, как он подрался здесь с доктором О'Миреем.
Похоже, бармен был совершенно откровенен.
— Послушайте, Леннокс, мой информатор не мог ошибиться! Он в точности описал мне пиджак, который носит Лисгулд!
Лицо Леннокса прояснилось.
— А, так вот в чем дело!.. Понял!.. Ваш информатор видел пиджак, а не Лисгулда!
— Что это значит?
— Что Фокси Питерс носит такой же пиджак, как и Лисгулд!
— Фокси?… Но где и на что он мог его купить?
— Где? Точно не знаю, сержант, но похоже — где-то в Слайго, там и Лисгулд купил свой. На что? У него полные карманы денег.
— Не может быть?
— Может!
— А он не говорил вам, откуда у него деньги?
— Я пробовал было его об этом спросить, но он отправил меня подальше.
— Надеюсь, что со мной он не станет упрямиться и будет поразговорчивее. Где сейчас этот Фокси?
— Кажется, он снимает комнату у мамаши Свинберн, на Сент-Пэтрик Лэйн. Но, по-моему, у вас больше шансов встретить его в одном из баров, которые он, похоже, собирался обойти все, без исключения.
Узнав, что ему предстояла подобная задача, Саймус вздохнул, и, пожалев его, Леннокс пришел на помощь.
— На вашем месте я бы зашел сначала в «Яблоко и виноград», а потом обошел бы «Поющую свинью», «Серебряную узду», «Свистящий кнут» и «Зеленую лошадь», а после этого направил бы свои поиски в обратном направлении. Черт возьми, если он вам не встретится, когда вы будете идти туда или обратно!
Саймусу очень хотелось узнать, откуда у такого голодранца, как Фокси Питерс, взялись полные карманы денег и почему он решил израсходовать немалую долю из внезапно свалившегося на него состояния на покупку такого же эксцентричного пиджака, как у Криса Лисгулда. Но сержант напрасно искал Фокси почти целых полдня, ему так и не удалось переговорить с ним. Эта лиса успела улизнуть в какую-то нору. Такой оборот дела вовсе не способствовал улучшению настроения Саймуса, и, когда он вошел в кабинет комиссара, тот удивился его усталому выражению лица.
— Сначала выпейте виски, Саймус, а потом мне расскажите…
Коппин выпил два стакана виски и лишь после этого принялся рассказывать о своих приключениях. Выслушав его, О'Хегэн заключил:
— Если бы не эта странная история с Фокси Питерсом, я готов был бы поспорить о виновности О'Мирея. С одной стороны, старина, меня это устраивает: мне хотелось бы позволить Дулингу отойти с миром.
Комиссар также посмеялся хитрости умирающего.
— Следует признать, что он выиграл последний раунд в матче, который длится у него со святым отцом вот уже тридцать лет! Идите отдыхайте, Саймус, сейчас вам это необходимо. И позабудьте о Петси Лэкан до девяти часов завтрашнего утра. Это приказ!
Саймус с удовольствием исполнил бы приказ своего шефа, но в пять часов утра его вытащили из постели и рассказали, что при выезде из Бойля, на пути к Слайго, был обнаружен труп Фокси Питерса. События начинали разворачиваться с возрастающей быстротой. Саймус тут же решил, что Фокси погиб из-за того, что вчера он проявил к нему интерес. Пока еще причины убийства Питерса были ему неясны, но он был убежден, что, так или иначе, приближается к разгадке обстоятельств смерти Петси Лэкан.
* * *
Сержант осмотрел жалкие останки Фокси Питерса. Печальный конец невеселой жизни. Карманы его были пусты, и на нем больше не было нового пиджака в клетку. Вскоре к сержанту присоединился О'Хегэн.
— Ну что, Саймус, похоже, все преступники нашего графства сговорились между собой в том, чтобы не дать нам поспать? Кажется, они хотят взять нас измором! Вы уже вызвали врача?
— Которого?
— Ваша правда…
— Пойду схожу за О'Миреем.
Не дожидаясь ответа, сержант вскочил в машину и помчался к дому Оуэна Дулинга. К его превеликому удивлению, несмотря на столь ранний час, Нора почти сразу открыла ему дверь и была полностью одета, словно и не ложилась спать. Он уже было собрался спросить ее о причине ее бессонницы, как вдруг заметил, что глаза ее сильно покраснели. Он все понял.
— Оуэн?…
Она склонила голову и разбитым голосом прошептала:
— Еще и часа не прошло… Мы как раз только что его переодели. Игэн сейчас у пего. Он не выходил оттуда со вчерашнего вечера.
Саймус был рад, что получил нужные ему сведения, не задавая вопросов. Он вошел в комнату покойного. Лежа на кровати со сложенными на груди руками, доктор Дулинг, казалось, улыбался, словно только что проделал последнюю шутку со своими друзьями. У его изголовья беззвучно плакал доктор О'Мирей. Полисмен подошел и осторожно положил ему руку на плечо:
— Извините, доктор, но вы нам нужны… На дороге лежит еще один покойник.
* * *
В жалкой комнатушке, которую снимал Фокси Питерс, не нашлось следов ни от его денег, ни от клетчатого пиджака. Тело Фокси отнесли в один полупустой дом, который, в случае необходимости, служил моргом. О'Мирей установил, что смерть наступила от ударов ножом приблизительно в два или три часа ночи.
Не говоря, зачем ему это понадобилось, Саймус попросил у комиссара О'Хегэна разрешения съездить в Слайго. Прибыв в соседний город, сержант направился в полицейский участок и расспросил коллег, где он мог бы купить себе пиджак, описание которого весьма позабавило его собеседников. Один из них пошутил:
— Надеюсь, он вам нужен не для того, чтобы за кем-то следить, сержант? В такой одежде вас заметят еще издалека!
Благодаря этому замечанию незнакомого коллеги, сержанту стало ясно, кто убил Петси Лэкан. Ему оставалось это лишь доказать.
Владелец магазина, оказавшегося в городе единственным, торговавшим такими пиджаками, очень любезно принял полисмена. Не без гордости он заявил, что в моде придерживается авангардного направления и пока что продал лишь два таких пиджака разных размеров одному заезжему покупателю. Он считал его заезжим потому, что до этого никогда не встречал его в городе, и еще потому, что у того был акцент. Саймус описал ему того, кого он подозревал, и хозяин магазина рассмеялся:
— А, так я вижу, вы хорошо знаете этого джентльмена?
Вернувшись в Бойль, сержант вошел в первую же попавшуюся ему по пути телефонную кабину и позвонил О'Хегэну:
— Все в порядке, Майк! Я уже знаю имя убийцы, но пока что мы еще не можем его арестовать… Иду собирать улики. Буду держать вас в курсе дел. Майк, пожалуйста, никуда не выходите из кабинета до того, как мы с вами увидимся.
— Хорошо, Саймус, жду вас.
Коппин принялся опять обходить бары, в которых он бывал вчера, разыскивая Питерса. В каждом из них он расспрашивал владельца о том, какой была реакция Питерса на сообщение о том, что им интересуется полиция. Необходимые ему сведения он получил в «Серебряной узде». Как только Фокси узнал, что его разыскивает сержант, он поспешил к телефону и попросил связать его с одним номером. Даже не открывая телефонной книги, сержант догадался, что это за номер.
В тот же вечер Саймус Коппин и Майк О'Хегэн сидели и мирно беседовали в кабинете комиссара, стараясь ничем не выдать все больше охватывавшего их нетерпения.
— Устали, Саймус?
— Не очень… Перед тем, как прийти сюда, Майк, я заходил на ферму Лэканов… Я должен был им сказать, что ошибался насчет О'Мирея… И сообщить им о смерти старого дока… Я еще сказал Кэт, что ее тетушка была бы рада, если бы она находилась рядом с ней в такой момент…
— Саймус… Вы имеете в виду миссис Нивз?
— Конечно, а кого же еще, Майк?
Около семи вечера в дверь кабинета постучались. Друзья обменялись быстрым взглядом, и О'Хегэн сказал:
— Входите… Здравствуйте, Лисгулд…
Тот вошел и поздоровался с комиссаром и сержантом.
— Я спешил, как только мог… Случилось что-нибудь серьезное?
— Очень серьезное.
— Вот как?
— Нам стало известно, кто убил Петси Лэкан.
— В самом деле?
— В самом деле!
— Вы очень любезны, если решили первому или почти первому сказать об этом мне.
Коппин ласково заметил:
— Вы нам льстите, Лисгулд. Ведь вы это знали задолго до нас.
— Я? Откуда?
— Да ведь это вы сами убили Петси Лэкан.
Крис вскочил с места.
— Что это вы говорите? Вы что, с ума сошли?
— Ее убили вы, Лисгулд! Когда так тщательно готовится убийство, не стоит доверять своих планов какому-то Фокси Питерсу, который за несколько шиллингов и мать родную готов продать… Его вы тоже убили, но было слишком поздно!
— Клянусь вам, вы сошли с ума! Я не знаю никакого Питерса!
— А вот он, узнав вчера, что я его разыскиваю, сразу же позвонил именно вам. У нас есть справка с почты. А знаете, что направило меня по верному следу, Лисгулд? Одна фраза моего коллеги из Слайго по поводу вашего нового пиджака в клетку. Он сказал мне, что если кому-то нужно быть на виду, именно такой пиджак и стоит носить.
— Ничего не могу понять в ваших сказках!
— Я попался на вашу удочку, Лисгулд. Мне казалось, что человек, вынашивающий план убийства, не станет надевать такой заметный пиджак. А вам как раз требовалось, чтобы вас видели издалека…
— Это еще зачем?
— Потому, что такой пиджак привлекает больше внимания, чем тот, кто его носит, особенно, если его видят издалека, как видел на матче я, и, видя ваш пиджак, был полностью уверен, что вижу вас. Вы сидели среди болельщиков боксера из Слайго. Я подумал, что это из-за враждебного отношения к жителям Бойля. А речь шла просто-напросто о том, чтобы находиться среди незнакомых людей, которые не могли вас узнать и не могли знать Фокси, который во время матча подменил вас, пока вы уходили, чтобы убить Петси.
На лбу у Кристи Лисгулда заблестели капельки пота. Как загнанный зверь, он оглядывался по сторонам. Но все еще пробовал защищаться.
— Зачем мне было убивать Петси?
— Вы знали, что она собиралась уйти от вас… И тогда вы приготовили ей ловушку. Вы застали ее в тот момент, когда она заканчивала собирать вещи. Естественно, у вас произошла ссора, и вы задушили ее ее же платком, которого мы не нашли на месте… Падая, она виском ударилась о медную шишечку на спинке кровати. После этого у вас хватило духу, чтобы раздеть ее, уложить в постель, разложить по местам все вещи и вернуться на матч, где вы опять заменили Фокси. Да, Лисгулд, вам не повезло с сообщником! Даже он не доверял вам и оставил Сэму О'Тулу записку, которую тот должен был передать мне в «Серебряной узде» на случай, если с ним что-нибудь произойдет… Сэм исполнил последнюю просьбу покойного.
Когда зазвонил телефон, Саймус Коппин испытал огромное облегчение. Трубку снял О'Хегэн и сразу же передал ее сержанту:
— Это вас, Коппин.
— Алло?… Да… Это вы, Билл?… Ну что там?… Вы их нашли? Оба?… Отлично, можете возвращаться и захватите их с собой. До скорого, старина.
Ничего больше не говоря, Саймус повесил трубку и неожиданно резко повернулся к Лисгулду.
— Я вытащил вас из дома, Крис, для того, чтобы за это время произвести у вас обыск. Там наши люди нашли оба пиджака…
— Этого не может быть! Вы не могли найти пиджака Питерса, потому что…
Он застыл на месте, поняв, что сам себя выдал. Сержант спокойно докончил за него незавершенную фразу:
— … Потому, что вы его уничтожили? Ну вот вы и сознались, Лисгулд! Дело сделано!
Комиссар О'Хегэн встал и торжественным голосом произнес:
— Кристи Лисгулд, вы арестованы за убийство Патриции Лэкан и Сэма Питерса по кличке Фокси!
Лисгулд быстро выхватил из кармана револьвер.
— Того, кто двинется с места, я застрелю первым… Ладно, я действительно задушил эту шлюху, чтобы она поняла, что надо мной не смеются, и еще до того, как вы меня возьмете, я прикончу О'Мирея!
— Не торопитесь, Лисгулд!
У сержанта в руке тоже был револьвер и, качнувшись от пули, которая попала ему в плечо, Саймус быстро выстрелил в ответ. Прошитый тремя пулями, одна из которых, похоже, угодила ему прямо в сердце, Лисгулд уткнулся носом в пол.
После того, как труп убийцы убрали, а сержанта наскоро перевязали перед отправкой в больницу, О'Хегэн спросил своего друга:
— Вы вооружились потому, что догадывались о его реакции?
— Я думал, что так все и будет.
— Вы рисковали жизнью, Саймус.
— Я мог стрелять только обороняясь, Майк.
— Похоже, вы очень хотели его убить, а?
— Да.
— Но почему?
— Мне было очень жаль малышку Петси, Майк.
— И, естественно, этот мерзавец Фокси не оставлял никакой записки?
— Естественно, нет.
В больничной палате, после того, как у него из плеча вынули засевшую там пулю, Саймус Коппин чувствовал себя героем. Первым, кто навестил его, был отец О'Донахью, который сообщил о том, что в доме доктора О'Мирея все в порядке и туда, под предлогом помощи тете, заходит каждый день Кэт, которая особенно долго остается там по пятницам, потому что несчастная женщина все хуже переносит неизбежный приход этого дня недели.
— Если хотите знать мое мнение, Саймус, Нора Нивз — прекрасная женщина, и если бы ей удалось найти себе спутника, чтобы достойно дожить оставшиеся годы, она смогла бы позабыть о пятницах… Что вы об этом думаете, Саймус?
— Вполне с вами согласен, святой отец.
— Могу ли я передать это ей?
— Если считаете, что это будет ей приятно.
— Уверен в этом.
Улыбаясь, святой отец потирал руки, и сержант не удержался от вопроса:
— Почему вы так стараетесь женить всех лучших друзей, святой отец?
Священник хитро подмигнул:
— Может быть, для того, чтобы еще раз доказать себе великую милость Господа нашего, служа которому я дал обет целибата[116]!
ЛЮБОВЬ И ЛЕЙКОПАЛСТЫРЬ
Глава 1
Медсестра склонилась над бледной молодой женщиной, освежила ей лицо ватным тампоном, смоченным в лавандовой воде, и объявила, что у нее родился чудный мальчуган. Когда Мод Бессетт услышала эти слова, радость переполнила ее настолько, что серое ливерпульское небо, проглядывавшее сквозь окно Уолтонской больницы, показалось ей голубым. Такое с ней случилось первый раз в жизни. До нее долетел крик ребенка, которого обмывали, и она улыбнулась, твердо зная, что еще ни один маленький англичанин не кричал так красиво и что, дав жизнь сыну, она совершила единственный в истории Объединенного королевства такого рода подвиг. Мод Бессетт протянула руки, и в них вложили что-то красное, дергающееся и захлебывающееся от яростного крика, в котором молодая мать с радостью признала восьмое чудо света.
Что касается Билла Бессетта, грызшего ногти в маленьком покое для будущих папаш, то он пребывал в негодовании по поводу безразличия персонала больницы к великому событию, совершающемуся в палате мисс Бессетт. Его нетерпение и беспокойство постепенно перешли в глубокомысленные философские рассуждения о безразличии людей в целом по отношению к себе подобным. На свет должен был появиться маленький или маленькая Бессетт, и совершенно никого это не волновало! Далее его мысль от разочарований в человеческой солидарности перешла к опасности, которой подвергалась Мод. А если она умрет? Кто, кроме него, может позаботиться о пей? У Бессеттов не было даже дальних родственников, и в случае несчастья некому было прийти им на помощь. При мысли о возможности вдовства Билл расплакался, ибо он очень любил Мод, на которой женился два года назад. Призвав на помощь все свое хладнокровие, он поклялся себе, что если произойдет несчастье, он никогда не женится во второй раз, чтобы не изменить памяти той, которая отдала ему все. Подобное величие собственной души настолько его растрогало, что по его щекам опять покатились слезы. Он был в восторге от себя. Затем к Биллу пришло убеждение, что если никто не приходит к нему с новостями, то это — от того, что его жена умерла во время родов, и никто не решается ему об этом сообщить. Тогда он решил тоже умереть. Как только ему официально сообщат об этом, он вернется домой, напишет письмо домовладелице, где объяснит причины своего поступка, примет ванну и направится прямо к Мерсей, чтобы броситься в воду. Подумав еще немного, он решил, что принимать ванну вовсе не обязательно. Его программа действий была остановлена старым доктором Джоном Э. Хиллом, который торжественно объявил ему, что он — счастливый отец мальчика весом в восемь фунтов. Сразу же позабыв о своих пессимистических мыслях, Билл Бессетт схватил врача за руку и крепко пожал ее, заявив, что отныне его жизнь приобрела смысл. Доктор Джон Э. Хилл, которому его долгий опыт подсказывал не только радужные, но и скептические мысли по этому поводу, посмотрел на него поверх очков.
— Конечно, мистер Бессетт, и еще, поверьте, вам понадобится много усердия и даже храбрости!
* * *
Этих качеств у Билла Бессетта было больше всего. По правде говоря, все его состояние складывалось исключительно из них одних, и, поскольку его супруга принесла с собой такое же приданое, то их двухкомнатная квартира в пригороде Уолтон-он-зе-Хилла была полна больше опьяняющими мечтаниями, чем удобными реалиями.
Мод и Билл, удостоверившись в полном успехе относительно новорожденного, дружно решили не повторять подобный прецедент и посвятить своему единственному ребенку всю свою жизнь, чтобы в один прекрасный день он смог занять заметное место в Ливерпуле и никогда не знать материальных проблем, с которыми сталкивались его родители. В духовные родители сына они призвали двух великих людей, которыми гордился город, — Фрэнсиса Бэкона и Уильяма Гладстоуна, и, таким образом, малыш получил имя Фрэнсис У. Бессетт. На восьмой день после рождения Мод и Билл записали Фрэнсиса Уильяма в Итон с дальней перспективой поступления в него наравне с золотой молодежью Великобритании. Молодая чета стала экономить каждый пенни, чтобы набрать сумму, обеспечившую бы их наследнику изысканное воспитание, обещавшее хорошую должность. Это было нелегко, поскольку у Билла Бессетта был чересчур скромный оклад помощника бухгалтера в конторе по импорту-экспорту Клайва Лимсея. Однако последний, узнав о записи в Итон еще очень молодого Фрэнсиса и сам собираясь записать туда своего сына, которому было шесть лет, вызвал Билла Бессетта и поблагодарил его за привязанность к традициям. Желая внести свой вклад в воспитание будущего джентльмена, Клайв Лимсей объявил ему, что повышает его месячный заработок на два фунта и шесть пенсов. С этого времени Билл Бессетт голосовал только за консерваторов и сменил свою кепку на фетровую шляпу, с которой не расставался до конца своих дней. Каждое воскресенье, садясь за стол, он провозглашал тост за короля Эдуарда VIII и герцога Ланкастерского, поскольку все это происходило в 1936 году.
* * *
Двадцать три года спустя Фрэнсис Уильям Бессетт, удобно растянувшись на траве Гроува, гордости Мэгдейлен Колледжа, — самого красивого и дорогого в Оксфорде, — меланхолично размышлял о том, что уже через несколько недель заканчивается его обучение в Университете, и ему придется объявить своим родителям, что их радужные мечты в отношении его будущего не совсем сбылись. Действительно, с первого дня занятий в Итоне Фрэнсис оказался совершенно не способен к учебе. В то же время, как только он достиг возраста, необходимого для занятия столь нелегким видом спорта, как гребля, он зарекомендовал себя одним из лучших «уэт боб»[117], которых когда-либо видела среди своих учеников эта старая школа. Итак, благодаря, скорей, своим атлетическим способностям, чем научным познаниям, Фрэнсис Бессетт был принят в Оксфорд, цвета которого уже трижды защищал на традиционных соревнованиях от Патни до Мортлейка, где каждый год состязаются представители Оксфорда и их соперники из Кембриджа. В этом, 1959 году, Фрэнсис привел экипаж своей восьмерки к победе, за что весь Оксфорд был ему благодарен.
В тишине Гроува Фрэнсис Уильям Бессетт подводил неутешительные итоги годов своей учебы. Конечно, он стал джентльменом, умевшим изъясняться с особым оксфордским акцентом, правильно носить зонтик и отменно представляться изысканному обществу. Это были серьезные шансы на то, чтобы преуспеть в Англии, но все же недостаточные, чтобы надеяться на карьеру, о которой мечтали его родители. Он на самом деле жалел Билла и Мод, которых любил по-настоящему. Самому ему не были присущи большие амбиции, он был в некотором роде даже застенчив, что не позволяло ему, например, применять свою физическую силу против кого бы то ни было и при любых обстоятельствах. Он был бы рад даже невысокой должности в конторе Клайва Лимсея и сына. Но в этом он ошибался, поскольку, дав ему отличное образование, его родители тем самым изолировали его от мира, в котором он был призван жить. В то же время он не обладал ничем таким, что возвысило бы его над этим миром. Короче говоря, для Фрэнсиса Уильяма существовала реальная угроза прожить жизнь неудачником, поскольку он не мог быть до конца своим ни в одном из кругов общества. Самого его это не особо заботило, поскольку он рассчитывал, что дружба с Бертом Лимсеем, шесть лет назад окончившим Мэгдейлен Колледж, облегчит его дела. Главным теперь было втолковать все это родителям, которым нелегко будет смириться с тем, что их отпрыск, как и его отец, каждое утро будет отправляться по Грейсон Стрит в направлении конторы Лимсея. Фрэнсис как раз думал, каким образом смягчить для них этот удар, когда в тишине Гроува, под тенистыми сводами парка, послышалось его имя. Он поднялся и, в свою очередь, издал воинственный клич студентов колледжа. Ему ответили точно таким же. Тогда он направился в ту сторону, откуда слышался голос. Через несколько минут, переходя мост, соединяющий Гроув с лугом, подходящим к Черуэллу, он увидел бегущего и размахивающего руками парня. Поначалу Фрэнсис не узнал его и лишь, когда тот приблизился, определил, что это был Берт Лимсей. Визит был, по крайней мере, неожиданным, и Бессетт остановился в нерешительности. Они с Бертом считались друзьями, даже не будучи приятелями. Разница в возрасте и положении сглаживалась тем, что оба учились в одном и том же колледже. Лимсей никогда не заходил к Фрэнсису, а в Ливерпуле во время каникул их отношения сводились к разговору за стаканом вина или рюмкой виски о преподавателях колледжа, у которых прежде учился Берт. Бессетт почувствовал опасность уже по тому, как Берт подходил к нему, стараясь при этом как можно сильнее выказать признаки братства и дружбы. С замирающим сердцем Фрэнсис ждал удара, который должен был обрушиться на него.
— Хэлло, Фрэнсис!
— Хэлло, Берт!.. Каким ветром?
— Желание повидать вас, мой друг, и еще раз побывать в старых стенах…
— …?
Не обращая внимания на удивление собеседника, Лимсей взял его под руку и потянул за собой. Они прошли почти весь путь, разговаривая только о самых обычных вещах, и Фрэнсис уже стал удивляться всему этому, как вдруг Берт, крепче сжав локоть своего друга, перешел на серьезный тон:
— Фрэнсис… постарайтесь крепиться… будьте мужественным… У меня для вас плохая новость… Я подумал, что если сам расскажу вам обо всем, вам будет не так больно…
С пересохшим от волнения горлом Бессетт прошептал:
— Родители?…
Лимсей стал напротив него, взял за плечи и тихо сказал:
— У вас больше нет родителей, Фрэнсис…
— Что вы сказали?!
— Вчера утром недалеко ог Стретфорда-на-Эйвоне, на перекрестке с Эттингтонской дорогой, они погибли в аварии. Какой-то тип, ехавший на полной скорости из Эттингтона, вынудил вашего отца резко повернуть руль, и машина врезалась в дерево…
— Они?…
— Да, оба, на месте… Фрэнсис, зная ваших родителей, я уверен, что если бы у них было право такого выбора, они предпочли бы покинуть нас вместе… Я хотел приехать к вам вчера вечером, но сам попал в небольшую аварию недалеко от Формби…и потом, я хотел, чтобы у вас была еще хоть одна спокойная ночь…
Бессетт еще не совсем понял, что остался один на свете. Он думал только об аварии и еще не воспринимал последствий известия о гибели Билла и Мод. Сквозь сжатые зубы он спросил:
— Кто это сделал?
— Какой-то мерзавец, который сразу же удрал, Фрэнсис. От одного крестьянина, который работал в поле и видел аварию, стало известно, что он был на темном, возможно зеленом Остине»[118], вот и все. Не стоит строить иллюзий: только чудо может помочь его найти. Я об этом весьма сожалею: прежде чем судить его, мне очень хотелось бы съездить ему по физиономии.
Только теперь Фрэнсис заплакал, и Берт нежно прижал его к себе, как это делают старшие, чтобы утешить младших.
— Не нужно сдерживаться, старина…
* * *
Берт помогал Фрэнсису собирать вещи в маленькой комнатушке, которую тот занимал все три года учебы в Мэгделейн Колледже. Друзья Фрэнсиса приходили один за другим, чтобы выразить свое сочувствие и сожаление по поводу его отъезда. Преподаватели, в свою очередь, считали нужным пожать ему руку. Товарищи по команде в память о совместной победе принесли лопасть весла. Один лишь Брайан Уошберн, сосед Фрэнсиса по комнате, почему-то не показывался на глаза, и Бессетт испытывал по этому поводу глубокое разочарование: все три года они отлично ладили друг с другом.
По поручению отца Берт объявил Фрэнсису, что он может поступить к ним на службу и после нескольких месяцев стажировки у Джошуа Мелитта, старейшего заведующего отделом Южной Америки, возглавит европейский отдел. Предложение было неожиданным и обещало то положение в обществе, которое вознесло бы до небес Мод и Билла. Солидарность выпускников Оксфорда сыграла свою роль, а дружеские чувства Клайва Лимсея к навсегда ушедшим оказались не пустыми словами. Эти доказательства дружбы немного смягчали горе Бессетта. Он был не так одинок, как того опасался.
Проходя через ворота колледжа к машине Лимсея, которая стояла на Хай Стрит, Фрэнсис обернулся и бросил последний взгляд на то, что его окружало все эти счастливые годы. Над его молодостью опускался занавес, и он понимал, что ему никогда больше не придется испытать подобного счастья. Когда он проходил мимо привратника, тот поприветствовал его и выразил свое сочувствие по поводу горя, постигшего одного из тех, как он выразился, о ком всегда приятно вспомнить. Уложив багаж на крышу и в багажник, Бессетт уже устроился с Бертом, сидевшим за рулем, когда в окне показалось побледневшее лицо Брайана Уошберна.
— Фрэнсис,… извините, что я не смог прийти вместе со всеми остальными… когда я узнал, что случилось… и ваш отъезд… я искал для вас подарок, чтобы вы вспоминали обо мне… и о счастливом времени, что мы провели здесь… Вы отличный парень, Фрэнсис, и я вас никогда не
забуду…
Прежде, чем Бессетт успел что-либо ответить, Брайан бросил ему на колени какой-то пакет и убежал.
* * *
Машина быстро ехала по дороге к Стретфорду-на-Эйвоне. Друзья не разговаривали. Берт с уважением относился к молчанию своего спутника. Прошло немало времени, пока Фрэнсис задал вопрос:
— Где они, Берт?
— В стретфордской больнице…
— Они… очень искалечены?
— Да… Мы с отцом ходили на опознание, — во-первых, для полиции… ну и чтобы избавить вас от этого испытания…
— Спасибо.
Чтобы хоть немного отвлечь Фрэнсиса от его мыслей, Лимсей предложил:
— Давайте посмотрим подарок вашего друга?
Бессетт развернул пакет и вынул красивую репродукцию по дереву портрета Анны де Болейн, несчастной королевы, супруги Генриха VIII, которую ее более удачливая соперница Джейн Сеймур приказала обезглавить в лондонском Тауэре. Лимсей не смог скрыть своего удивления:
— Анна де Болейн? Странная мысль! Вам чем-то нравится эта дама, Фрэнсис?
Берт, конечно же, не мог знать того, что давно уже знал Брайан Уошберн: Бессетт был почти влюблен в Анну де Болейн. Его прирожденная застенчивость мешала ему ухаживать за девушками, да и занятия спортом не оставляли для этого времени, так что все запасы романтизма Фрэнсиса были отданы Анне де Болейн с того самого момента, как он узнал ее печальную историю. Эта молодая женщина, заключенная в Тауэр, золотистые волосы которой обрезал палач, чтобы освободить доступ топора к ее нежной шее, наполняла его искренним состраданием, несмотря на дистанцию в три века. Как только его чувства к образу Анны прояснились, Фрэнсису удалось легко убедить себя в бесполезности поисков другой свитхерт[119], которая все равно окажется хуже драгоценного призрака. В этом отношении его лень и склонность к мечтаниям попали на благодатную почву. Он с любовью снова завернул картину в бумагу и положил к себе на колени. Он повесит этот портрет над кроватью, и Анна будет его встречать своей неизменной улыбкой и в горе и в радости. Подумав, что Мод и Билл живут теперь в том же мире, в который несчастная королева попала в двадцать девять лет, Фрэнсису показалось, что они стали ему еще ближе.
* * *
В полицейском участке Стретфорда-на-Эйвоне Бессетт услышал полное подтверждение рассказа Лимсея. Ему пообещали сделать все возможное, чтобы найти преступника, но в то же время никто не скрывал, что сделать это будет очень трудно. В заказанный Лимсеями катафалк погрузили останки Мод и Билла, и он тронулся в путь по направлению к Ливерпулю вслед за машиной Берта и Фрэнсиса, которые пытались не думать об экипаже, следующим за ними.
От последующих дней, прошедших для Бессетта в многочисленных заботах и не оставивших ему времени даже на мысли о погибших, у него остались только воспоминания о трогательной заботе соседей, для которых его траур частично стал их собственным. Еще у него в памяти остались церемонии и ритуалы, которые обязывали выставлять свою боль для удовлетворения всеобщего любопытства и высоко, словно знамя, держать ее. На приходском кладбище отец и сын Лимсеи находились рядом с Фрэнсисом. Джошуа Мелитт, который когда-то устраивал его отца на работу, тоже пожелал прийти. Старый пуританин, над привычками которого смеялась молодежь, решив дать понять Фрэнсису, что сердцем он с ним, не нашел ничего другого как сказать:
— Помните, что то, что произошло с вашими родителями — предупреждение Неба всем нам, великим грешникам. Труба Ангела, зовущая нас к Господу, может прозвучать в любую минуту. Постараемся быть к этому готовыми и избежать риска уйти в грязной одежде.
Фрэнсис отвел себе месяц на то, чтобы устроиться и приступить к работе у Лимсея. Для начала ему пришлось привыкать жить в одиночестве маленькой квартирки, которая из-за отсутствия Мод и Билла сгала казаться огромной. За каждой дверью Бессетту слышались шаги отца, и иногда он даже прерывал работу из-за послышавшегося ему смеха Мод. Затем призраки постепенно растворились, оставив после себя опустевшую квартиру, в которой они оба были так счастливы своими надеждами на великое будущее своего сына. Единственным утешением для Фрэнсиса было то, что родители покинули этот мир, так и не узнав о провале этих надежд. Они, по крайней мере, избежали хоть этого. Старая Мери Планкетт, бывшая старухой уже тогда, когда Бессетты только устраивались в Уолтон-он-зе-Хилл, предложила свои услуги по ведению хозяйства, за что Фрэнсис был ей весьма признателен: от Берта, рано оставшегося без матери, он знал, какие проблемы могут создавать хозяйственные стороны жизни для одиноких мужчин. Мери Планкетт оказалась весьма приятной женщиной, если не считать ее привычного для старых дев стремления всех переженить. Она сразу же стала убеждать Фрэнсиса в том, что намного приятнее иметь свой семейный очаг, чем бегать по ресторанам и проводить вечера в одиночестве. Фрэнсис делал вид, что одобряет эту болтовню, но когда речи о разделенных на двоих чувствах становились чересчур навязчивыми, Бессетт поглядывал в сторону комнаты, где его ждала молчаливая и неизменно верная Анна де Болейн.
За день до того, как Фрэнсис должен был предстать перед Джошуа Меллитом и начать обучаться искусству управления европейским отделом дома Лимсеев, телефонный звонок оторвал его от приготовления чая. Ему не понравилось, что его отрывают от одного из важнейших для всякого англичанина дела, но, будучи от природы вежливым человеком, он ответил. Чей-то дребезжащий голос, напрочь отсутствующий в его памяти, спросил:
— Я говорю с Фрэнсисом Бессеттом?
— Да… С кем имею честь?
— Гарри Осли…
— Гарри Осли?… Простите, но я не могу припомнить…
— Я друг вашего отца… Мы познакомились во время войны… Я хотел позвонить вам, как только узнал о смерти Билла, но был болен… Знаете, я старый человек и только сегодня утром вышел из больницы Брод Грин… Извините, но мне трудно передвигаться…
— Что вы, мистер Осли, с вашей стороны весьма любезно, что вы позвонили…
— Я очень любил вашего отца, мистер Бессетт…
— Благодарю вас…
— Я хотел бы встретиться с вами как можно скорей…
— Не беспокойтесь об этом, пожалуйста…
— Накануне своей гибели ваш отец оставил у меня письмо, которое я должен был передать вам, если с ним случится несчастье.
— Что вы сказали?
Фрэнсис услышал на другом конце провода астматическое дыхание, затем Осли повторил слово в слово ту же фразу. Бессетт забеспокоился:
— Вы хотите сказать, что у отца было предчувствие смерти?
Осли немного помолчал, а затем твердо произнес:
— Все это куда более серьезно, мистер Бессетт… Уверен, что ваш отец знал о грозящей ему опасности.
— Но ведь этого не может быть! Кто и почему мог угрожать моим родителям?
— Не знаю, мистер Бессетт, но смею вас заверить, что накануне своей гибели ваш отец заходил на Лодор Роут, в дом миссис Гарриссон. Это мой адрес…
— И что?
— Он сообщил мне, что случайно узнал об одном опасном секрете и что, если догадаются, что он его знает, — его жизнь будет в опасности.
— Догадаются? Кто догадается?
— Этого он не сказал, мистер Бессетт.
— Но почему же он тогда не сообщил в полицию?
— Он сомневался, что ему поверят.
— А вы случайно не знаете, что это за секрет?
— Нет, мистер Бессетт. Он только вручил мне это письмо, в котором, наверное, постарался все объяснить.
— Послушайте, мистер Осли, я весьма признателен вам, но мне кажется, что гибель моих родителей произвела на вас чересчур сильное впечатление и вы, скорее всего, преувеличиваете причину этого поступка отца.
— Ваш отец, мистер Бессетт, опасался, что его убьют, и он погиб, не так ли?
— В дорожной аварии, мистер Осли, в аварии!
— Это не первый случай, когда преступлению придают вид обычной аварии!
— Преступлению?!
— Почему же тогда этот водитель смылся?
Пораженный Фрэнсис не знал, что возразить, и Осли продолжал:
— Вы слушаете, мистер Бессетт?
— Да, да, простите, то, что вы рассказали, настолько невероятно…
— Возможно, вы найдете всему объяснение в письме, но вам нужно поторопиться, — время не ждет!
— Почему?
— У меня создалось впечатление, что за мной следят с тех пор, как я вышел из больницы, где, кстати, мои вещи перерыли, вероятно, в надежде найти письмо… Но я ношу его при себе, под повязкой на теле.
— Извините меня, мистер Осли, но я не был подготовлен к такому известию… Вы уверены, что не преувеличиваете? Зачем кому-то за вами следить?
— Возможно из-за того, что слежка за вашим отцом уже велась, когда он заходил ко мне… Так что поспешите, мистер Бессетт, поспешите, как только сможете!.. И будьте сами осторожны…
— Сам?
— Убийцы вашего отца не остановятся перед новым убийством, если догадаются, что вы знаете то, что я вам рассказал.
— А как же вы сами, мистер Осли?
— Я? Мне и так-то недолго осталось. Сейчас главное, — кто успеет первым: вы или они.
— Где находится Лодор Роут?
— Позади Уокхилл Парка, на Уокхилл Роут.
— Я сейчас буду, мистер Осли, но, по-моему, вам все же нужно предупредить полицию.
— Я не люблю лягавых. Вам нужно будет найти миссис Гарриссон, и она покажет, где моя комната. Поспешите…
Фрэнсис держал трубку в руке, хоть из нее уже слышались короткие гудки. Весь его грустный мир, более меланхоличный, чем беспокойный, за одну минуту перевернулся и стал миром насилия и ужасов, то есть тем миром, для которого он совершенно не был создан. Ему казалось невероятным, что Билл и Мод могли быть замешаны в какой-то грязи, зачастую являющейся уделом больших городов и, особенно, — больших портов. Какие дела могли связывать его мать с бандитами? Каким образом путь его отца мог пересечься с грязной дорогой ночных джентльменов удачи? Став перед задачей, которую предстояло решить, и понимая, что сделать это у него не было сил, Бессетт инстинктивно решил прибегнуть к чьей-нибудь помощи. Он дозвонился Берту в бюро. Лимсей, узнав в чем дело, поначалу просто не поверил во все это. Он попытался убедить своего друга, что тот стал жертвой плохой шутки или фантазий одного из тех наполовину сумасшедших, которыми полны большие города. Но все же, не желая отказывать Фрэнсису в помощи, он попросил дать ему несколько минут, чтобы предупредить отца об отсутствии на работе.
Высунувшись из окна, Бессетт вглядывался в Сидардейл Роут, с отчаянием думая об убегающих минутах. Напрасно он пытался убедить себя в правильности мнения Лимсея, — его грызло беспокойство. Даже если в рассказе Осли была хоть сотая доля правды, это следовало проверить. Когда же мисс Планкетт сказала, что она прекрасно знает Гарри Осли, который раз в месяц, по воскресеньям, заходил к его родителям, Фрэнсис больше не сомневался, что этот человек сказал ему правду. Его нетерпение перешло в горячку, и он уже решил, не дожидаясь Берта, взять такси, когда появился синий «ягуар» Лимсея. Бессетт сбежал по лестнице и сел в машину.
К несчастью, Берт ошибся, перепутав Оукхилл Парк с Сендфилд Парком, и они едва не направились в Вест Дерби в поисках нужной им улицы. На эту ошибку они потратили более часа времени. Когда они остановились перед домом миссис Гаррисон на Лодор Роут, на его крыльце почти тот час же показалась сама владелица. Бессетт, стараясь сдерживать свое беспокойство, спросил:
— Мистер Осли, Гарри Осли, дома?
— Вы тоже из полиции?
— Почему из полиции?
— Потому, что ваши коллеги уже приезжали!
Берт, чтобы успокоить Фрэнсиса, взял его за руку.
— Мы вовсе не из полиции, мэдэм,… Гарри Осли — наш друг и…
— Вот оно что! Не могу вас поздравить с такой дружбой! О, я уверена, что он сумел обмануть вас, как и меня… А казался таким честным, так хорошо воспитанным… и что же? в чистом омуте черти водятся! Представьте себе, он жил здесь почти двадцать лет, и, я готова поклясться своей дочерью, я никогда не поверила бы, что в один прекрасный день за Гарри Осли приедет полиция!
Дама была слишком взволнована, и друзьям потребовалось применить немало дипломатических приемов, чтобы понять, что же произошло на самом деле. Оказалось, что час назад из полицейской машины вышли трое человек в форме. Даже не спросив дороги у миссис Гарриссон, они поспешили в комнату Гарри Осли и быстро вывели его оттуда.
— А откуда были эти полисмены?
— Откуда мне знать? Наверное, из участка на Сент Освальд'с Стрит…
* * *
В участке на Сент Освальд'с Стрит сержант поначалу подумал, что его разыгрывают, но когда Берт представился, он еще раз серьезно выслушал рассказ. Нет, полиция не проводила никакой операции на Лодор Роут. Чтобы подтвердить сказанное, он продемонстрировал чистые листы книги рапортов за этот день. Фрэнсис настаивал:
— Не могли ли полицейские, приехавшие за Осли, быть направлены из другого места?
— Нет… разве только из центра, но в таком случае нужен очень серьезный повод. Подождите, я позвоню на Центральный пост…
Оттуда ответили, что по их указанию на Уокхилл не производилось никаких арестов и что сообщивших об этом просят прибыть как можно скорей и связаться с инспектором Брайсом Хеслопом. Бессетт больше не питал никаких иллюзий: Гарри Осли был похищен. Как и опасался этот старик, кто-то опередил Фрэнсиса, из чего следовало, что Мод и Билл погибли не в аварии, а стали жертвами преступления.
Глава 2
Инспектор Брайс Хеслоп был похож на мелкого лавочника с Черч Стрит. Слегка полысевшая шевелюра, цепочка часов на жилете, выпирающем на животе, придавали почтенному инспектору вид человека, которого легче было представить сидящим за бухгалтерской книгой, чем в погоне за преступниками. Но его собеседники очень быстро убеждались в обманчивом внешнем добродушии, а коллеги знали, что ничто не могло отвлечь Хеслопа от намеченной цели и заставить отступить. Инспектор принял Бессетта и Лимсея очень вежливо. Узнав буквально в нескольких словах об исчезновении Осли, он немедленно отправил на место происшествия наряд в надежде найти какой-нибудь след, который смог бы указать преступников, а также отыскать заветное письмо. Фрэнсису, заметившему, что это ему кажется маловероятным, поскольку похищенный держал письмо при себе, инспектор возразил, что если у Осли было время, он мог спрятать его где-то в комнате, и преступники могли его не найти. Ведь судя по рассказу домохозяйки, они очень быстро вышли оттуда и увели несчастного жильца. После того, как были приняты первые меры, Хеслоп попросил Бессетта в деталях рассказать всю историю. Когда Фрэнсис окончил рассказ, он спросил у Берта, в чем заключается его роль в этом деле. Выслушав ответ, инспектор заключил:
— Мистер Бессетт, вам не стоит питать особых иллюзий. Слишком мало шансов, что нам что-то удастся. Конечно, это вовсе не значит, что мы не сделаем все возможное, однако, судя по фактам, похоже мы имеем дело с отлично организованной бандой. Было бы чудом найти Осли не только живым, но еще и с письмом ваших родителей. Признаем, что это весьма маловероятно. Преступники знают, чего хотят, и не останавливаются ни перед чем, чтобы заполучить желаемое. Я съезжу в Стретфорд-на-Эйвоне, чтобы просмотреть рапорт о происшествии, в котором погибли ваши родители, и допросить крестьянина, ставшего его свидетелем. Уже сейчас я уверен, что это — преступление, и совершено оно с таким с расчетом и хладнокровием, которые красноречиво свидетельствуют об опытности преступников. Сразу можно предположить, что убийца отлично водит машину, поскольку он сам рисковал жизнью, а также, что он воспользовался украденной машиной. Думаю, что поиск, в первую очередь, следует направить на Гарри Осли. Мистер Бессетт, кто знал, что вы собираетесь на Оукхилл?
— Никто, инспектор, кроме Берта, которому я позвонил, и, возможно, моей домработницы, мисс Планкетт.
Лимсей вмешался:
— Вы что же — начинаете меня подозревать, инспектор?
— Когда я занимаюсь расследованием, мистер Лимсей, я подозреваю всех.
— Но ведь я же все время был с Фрэнсисом, как же я мог похитить Осли?
— Это не довод, — существуют дела, которые можно поручить другим.
— Если я правильно вас понял, то должен радоваться, что я еще не в тюрьме?
— Не будем преувеличивать. Я помню все, что мне рассказал мистер Бессетт. У Гарри Осли было впечатление, что за ним следят с момента его выхода из больницы. Попытка кражи письма, предпринятая в больнице, доказывает, что они достаточно долго находились рядом с ним. Возможно, что его похищение напрямую и не связано с разговором по телефону. Мистер Бессетт, я сделаю все, что в моих силах, чтобы прояснить эту историю. Как только у меня что-нибудь появится, я вам дам знать. Оставьте мне, пожалуйста, ваш адрес.
Фрэнсис записал адрес, уточнив, что с завтрашнего дня его можно будет легко найти в бюро Лимсея на Крейсон Стрит, номера телефонов которого дал Берт.
Выйдя от Брайса Хеслопа, Лимсей решил, что им необходима разрядка, и увлек своего друга на Дайл Стрит, где Боб Лейтон содержал бар «Дерево и лошадь», в котором подавали шотландский виски, получивший одобрение у знатоков.
* * *
В течение последующих недель у Фрэнсиса почти не было времени думать о преступлении, жертвами которого стали Билл и Мод, поскольку Джошуа Мелитт совершенно не оставлял ему времени для размышлений. За исключением короткого перерыва на обед, начальник отдела Латинской Америки заставлял его бегать из одного кабинета в другой, встречать всех клиентов, обращавшихся в бюро, изучать старые дела и писать по ним отчеты. Когда его ученик начинал уставать, Джошуа прибегал к запрещенному приему: он призывал на помощь память о Билле Бессетте, который был бы счастлив увидеть своего сына на видном посту в бюро, которому он посвятил всю свою жизнь. Фрэнсис старался изо всех сил, не желая уступить в трудолюбии мистеру Мелитту. По просьбе Джошуа для начинающего подобрали опытного секретаря, мисс Скрю, напоминавшую молодому человеку учительницу, которая некогда учила его читать. Мисс Скрю была бескомпромиссна и разбиралась в работе бюро почти столь же хорошо, как и их патрон, Клайв Лимсей.
Каждое утро, в половине десятого Клайв Лимсей проводил своего рода совещание правления, на котором бывал его сын, заведовавший отделом Востока и Дальнего Востока, Джошуа Мелитт — ответственный за работу в Латинской Америке и он сам, обычно занимавшийся Северной Америкой, но сейчас прибавивший к своим делам и Европу, поскольку заведующий этим отделом, умерший в начале года, еще не был заменен. Исходя их того, что Бессетт должен был в самом скором времени занять эту должность, Клайв Лимсей требовал от него присутствия на этих утренних собраниях.
Сидя в мягком кресле, больше располагающем к отдыху, чем к активной деятельности, Фрэнсис Бессетт, исполняя роль молчаливого наблюдателя, изучал этих людей, среди которых ему предстояло провести большую часть своей жизни, если, конечно, Господу это будет угодно.
Клайв Лимсей был воплощением типичного англо-саксонского бизнесмена, такого, каким его представляют себе европейцы. Высокий, широкоплечий, с квадратным лицом и ежиком седых волос, всегда одетый в светлый твидовый костюм, он производил впечатление силы и здоровья, способных обеспечить ему долгую жизнь. А ведь, как известно, жители Миддланда славятся во всем Объединенном Королевстве своей продолжительностью жизни. Разговаривал он сухим, беспристрастным голосом и подтверждал каждое свое утверждение заключающим жестом руки. Всем сразу же становилось понятно, что возражать ему бесполезно.
Берт почти совсем не был похож на отца. Ростом он был поменьше, его нежное лицо говорило о том, что он создан скорей для наслаждения жизнью, чем для работы. Он был единственным сыном, и было понятно, что когда-то ему придется возглавить дело, что вовсе не радовало, а скорее огорчало Клайва Лимсея. Сын был расточителен, не пропускал ни одного бара и слишком часто взывал к пониманию со стороны Томаса Вудклиффа, главного кассира, который докладывал о финансовых затруднениях наследника патрону, и тот, пожурив своего отпрыска, предоставлял ему все, что требовалось. Несмотря на отцовскую щедрость, у Берта было полно долгов, что приводило в негодование Джошуа Мелитта, который молил Небо о том, чтобы не пережить Клайва Лимсея. Старый служащий не мог без ужаса думать о работе под руководством этого симпатичного шалопая Берта и вовсе не хотел участвовать в развале предприятия, к которому был привязан настолько, словно оно принадлежало ему лично.
Джошуа Мелитт, казалось, сошел со страниц одного из романов Диккенса. Он был очень высоким и очень худощавым, даже летом одевался во все черное, носил целлулоидный воротничок и перчатки, так что от него сразу же веяло скукой. Фрэнсису трудно было себе представить, какими могли быть его жена и дочь, вынужденные жить с этим аскетом, который отрывался от своих бумаг лишь для чтения Библии. Трудно было себе представить более разных людей, чем эти трое, и все же Фрэнсис испытывал к ним нечто большее, чем дружбу и благодарность. Они были для него чем-то вроде семьи, и он прекрасно понимал, что обязан им всем.
Однажды утром, придя на работу, Бессетт узнал от мисс Скрю, что некий инспектор Хеслоп просил его заглянуть к нему вечером. Со времени их последней встречи прошло три недели. Рабочий день показался Фрэнсису бесконечно длинным, и, как только часы пробили пять вечера, он сразу же поспешил в направлении полиции, где его уже ждал Брайс Хеслоп.
— Мистер Бессетт, мы сделали все, что могли, но это ничего не дало. Осли не найден. Судя по всему, мы его никогда не найдем.
— Где же он может быть?
— Безусловно, на дне Мерш с бруском бетона, привязанным к ногам. Что же касается дела о гибели ваших родителей, то я уверен, что они стали жертвами преступления, хотя не могу это доказать перед законом.
— Значил, вы закрываете дело?
— Мистер Бессетт, мы гак быстро не закрываем дел, но только теперь все будет зависеть от вас.
— Что вы хотите этим сказать?
— Выслушайте меня. Ваши родители погибли. Похоже, что Гарри Осли последовал за ними. Арест преступников их не оживит. Вы получили страховую сумму за жизнь матери и отца, вас ожидает прекрасное положение в обществе, словом — спокойное и легкое существование, если вы согласны забыть о прошлом.
— Никогда!
Хеслоп взглянул на него и улыбнулся.
— Другой ответ разочаровал бы меня, мистер Бессетт. Но понимаете ли вы, что поиски убийц ставят под угрозу вашу собственную жизнь? Я ведь не смогу обеспечить вас постоянной охраной.
— Мне это безразлично!
— Отлично… Мистер Бессетт, ваш отец погиб потому, что он обнаружил какой-то секрет… Если бы вы смогли попять, что это было, тогда это вынудило бы преступников попытаться вас убрать. Мне кажется, что только в таком случае мы можем их схватить.
— Но как мне…?
— Если бы у меня была бы хоть какая-то идея, я не нуждался бы в вашей помощи, мистер Бессетт. Мне кажется, нужно сделать гак: постарайтесь узнать все о ежедневных привычках вашего отца и подражайте ему во всем. Возможно тогда случай и выведет вас на след, найденный покойным Биллом Бессеттом…
Детально расспросив обо всем мисс Планкетт, соседей Мод и Билла, его товарищей по работе, Джошуа Мелитта, Берта и Клайва Лимсеев, Фрэнсис сумел приблизительно восстановить распорядок времени его отца на неделю. Он следовал ему в течение двух месяцев. Каждую субботу он заходил в бар «Бык и роза», где его отец обычно играл в дартс. По воскресеньям он слушал проповедь, стоя на том же месте, что и Билл. По вечерам он ходил в кино и садился на места, предназначенные для завсегдатаев. Покупки он делал в тех же магазинах, что и отец, стараясь бывать там ко времени притока покупателей с единственной целью прислушиваться к их разговорам. Все это оказалось пустой тратой времени. Через два месяца он предстал перед Брайсом Хеслопом и доложил ему о своей неудаче.
— Меня это не удивляет, мистер Бессетт. Удача — это один шанс из тысячи. Ничего не поделаешь. Но смею вас заверить, что дело не закрыто. Постарайтесь больше не думать обо всем этом и живите так, как живут люди в вашем возрасте. Я вам сразу же сообщу, если появится что-то новое. Рад был с вами познакомиться, мистер Бессетт.
Фрэнсису пришлось опять искать утешение в работе. Но он никак не мог смириться с мыслью, что убийца его родителей чувствует себя вполне спокойно. Дружба Берта, любезность Клайва Лимсея, самоотдача Джошуа Мелитта смягчали его боль. Он часто обсуждал свои личные заботы со своим наставником. Добряк Джошуа, несмотря на свою пуританскую мораль, понимал и часто одобрял его.
— Я очень любил вашего отца, Фрэнсис, и если он действительно погиб несправедливой смертью, преступник должен быть наказан. Я буду молить об этом Господа.
— Благодарю вас, мистер Мелитт, но все же я не могу себе представить человека, способного такое сделать, и утверждаю, что он не мог знать родителей, иначе ему было бы трудно их убить…
— Как знать? У сегодняшней молодежи нет уважения и сострадания ни к чему! Она думает только об удовольствиях, а труд считает рабством. И увы! — даже у нас в конторе есть тому пример…
Бессетт не смог сдержать улыбку:
— Что вы, что вы, мистер Мелитт, Берт не такой уж плохой, как вам кажется.
— Я не говорю, что он плох, Фрэнсис, хотя скверному человеку, как правило, присуща сила воли. Берт Лимсей лишен ее начисто. Ему вполне достаточно пить, волочиться за сомнительными девицами и сидеть за рулем красивой машины, чтобы чувствовать себя совершенно счастливым. Он совершенно законченный эгоист. Не кажется ли вам, что в тридцать лет ему стоило бы подумать об устройстве семейного очага, как это подобает человеку, на котором впоследствии будет лежать большая ответственность? Но он, вместо того, чтобы готовиться к будущей серьезной работе, предпочитает избегать ее. Я весь дрожу при мысли, что когда-то судьба этого дома будет в его руках. При его бесконечной трате денег мы долго не протянем! Я рад отметить, Фрэнсис, что вы не похожи на него и что, несмотря на ваш возраст, вы — серьезный человек, на которого можно рассчитывать. Я часто рассказывал о вас жене и дочери. Они будут рады познакомиться с вами. Не согласитесь ли прийти к нам на чай, если вы свободны в следующую субботу?
Бессетт, застигнутый врасплох, не смог отказать.
— С удовольствием, мистер Мелитт.
Берт, которому Фрэнсис несколькими минутами спустя рассказал обо всем, громко рассмеялся:
— Ну вот, очередь дошла и до вас, Фрэнсис! Старик Джошуа любым способом хочет пристроить замуж свою дочь Клементину, и сегодня вы стали его жертвой! Упрям же старый черт!
Слегка обеспокоенный, Фрэнсис потребовал уточнений:
— Какая она из себя?
— Что-то вроде большой клячи с пожелтевшим лицом… Немного же смог дать папаша Джошуа своей дочери! С ней вас не покинет впечатление, что вы находитесь в обществе скелета, на который набросили накидку…
— Какой у вас злой язык, Берт! А все-таки, откуда вы так хорошо ее знаете?
— Невинное дитя! Несколько лет назад папаша Джошуа попытался поймать меня в свою сеть. С меня хватило одного сеанса. С тех пор я стараюсь объезжать стороной Эдинбург Роут, где проживает племя Мелиттов. И именно с тех пор Джошуа считает меня ни на что не способным. Да, Фрэнсис, кажется Клементина по крайней мере лет на пять старше вас! Старик не церемонится! Однако, в конце концов, как знать… Быть может, ваше сердце и поразит удар молнии? Знаете, о вкусах не спорят…
Бессетт не смог удержаться от смеха.
— Берт, я уверен, что вы преувеличиваете и что картина не настолько мрачна, как вы ее изображаете!
Лимсей скорчил рожу раскаяния.
— Вы правы, Фрэнсис… Я был необъективен, поскольку у Мелиттов все же есть одна хорошая вещь…
— Вот видите! И что же это?
— Черри!
И, сделав пируэт, Берт исчез.
Выйдя от Мелиттов, Фрэнсис полной грудью вдохнул свежий воздух. Этот визит надолго ему запомнится! Все получилось еще хуже, чем говорил Берт! Два часа смертельной скуки, когда каждый не знает, что сказать, и подыскивает слова, чтобы произнести самую отвратительную банальность. К счастью, мисс Рут Мелитг пустилась в бесконечный монолог по поводу несравненных достоинств своей дочери — швабры, которая, слушая мать, становилась похожа на девочку, платьице которой только что похвалили, в то время как ее папочка подтверждал слова жены торжественными кивками. Бедная Клементина… Неужто ее родители в самом деле вообразили, что сумеют ее пристроить? В этом темном зале с похоронного цвета стенами и мебелью викторианского стиля, где помимо воли начинаешь говорить шепотом, Фрэнсис только что выдержал трудное испытание. Он решил, что после всего этого ему необходима разрядка, иначе накопившееся раздражение может помешать ему насладиться отдыхом. Фрэнсису захотелось развлечь Берта подробным рассказом о своем визите и попросить у пего прощения за обвинение в сгущении красок. О черри он ничего не мог сказать, поскольку, к сожалению, ему попросту его не предложили.
Через час прогулок по городу Бессетт обрел, наконец, спокойствие. Самым сложным теперь будет отказываться от следующих приглашений. Старику Джошуа, конечно, это будет неприятно, но лучше сразу же избавить его от иллюзий. Пусть придержит Клементину для себя. Как это ни парадоксально, но образ мисс Мелитг вызвал в его памяти лицо Анны де Болейн, и Фрэнсиса это растрогало. Углубившись в свои мечты, он наугад брел по улицам и вернулся к действительности, лишь едва не попав под колеса автомобиля, шофер которого не преминул обругать его. Фрэнсис никак не мог понять, где находится. Он не знал этого района, во всяком случае, не сразу узнал его. Указательная доска на первом же перекрестке сообщала, что он шел по Харроуби Стриг и находился довольно далеко от своего дома. Он решил зайти в первый попавшийся ресторан. Небу, предначертавшему его судьбу, было угодно, чтобы Бессетт безо всяких причин перешел на другую сторону улицы и попал в «Герб Дублина», где, сама того гге ведая, его ждала Морин О'Миллой.
* * *
В этот субботний вечер клиентура Майкла Данмора, владельца «Герба Дублина», была более шумной, чем обычно. Посетители обсуждали результаты футбольных матчей, прошедших накануне, и не торопились домой, собираясь подольше отдохнуть в воскресное утро. Морин О'Миллой ненавидела субботние вечера, поскольку люди, сидевшие за столиками, которые она обслуживала, подолгу не уходили, что задерживало ее собственный уход с работы. Майклу даже несколько раз пришлось незаметно делать замечания официантке, которая проявляла слишком явное нетерпение. Морин очень плохо восприняла его слова, и прежде всего потому, что она была ирландкой, а всем известно, каким непокорным характером обладают ирландцы. Кроме того, она очень устала. Майкл Данмор уже давно предложил бы своей раздражительной официантке поискать работу в другом месте, если бы она не была дочерью его друга Пэтрика О'Миллой и не была бы столь красивой, что само по себе всегда привлекает посетителей.
А Морин и в самом деле была красавицей! Миниатюрная девушка ростом в полтора метра, с вьющимися черными волосами и зелеными глазами цвета Атлантического океана побережья Аранских островов, она, казалось, была наполнена радостью, которая передавалась другим. К этому следует прибавить исходившую из всего ее существа непреодолимую энергию. Чувствовалось, что ей легче погибнуть, чем подчиниться приказу, который придется ей не по вкусу. В данный момент дочь ностальгической Ирландии, прислонившись к стойке, на которой громоздились блюда, которые еще предстояло поставить в холодильник, смотрела ненавидящим взглядом на всех этих англичан, никак не желавших расходиться по домам. Когда вошел Фрэнсис, на него не обратил внимания ни один человек, кроме Морин, с тоской подумавшей о том, что он может сесть за один из десяти ее столиков. И, естественно, он сделал это! Морин едва не заплакала. Не дав Бессетту даже времени, чтобы удобно устроиться за столом, она сунула ему меню под нос и сухо спросила:
— Что закажете?
Слегка удивленный тоном, Фрэнсис поднял глаза, но, увидев Морин, так и остался с раскрытым ртом, не в состоянии произнести хоть одно слово. На Седердейл Роут тень Анны де Болейн поняла, что потеряла своего последнего поклонника.
— Ну? Так что вы закажете?
Теперь Фрэнсис был далек от мыслей о еде. Он не мог оторвать взгляда от этой привлекательной девушки. Заикаясь, он пробормотал:
— Мисс… О, мисс!..
Удивленная Морин подумала, что имеет дело с ненормальным, и в целях предосторожности немного отступила назад.
— Что-то не в порядке?
— О, нет… Это прекрасно! Все прекрасно… Я так счастлив…
— Ну и ладно! Тем лучше для вас! А пока, что вы закажете?
— Заказать? Но я не голоден! Почему я должен есть?
Хоть Морин и была ирландкой по отцу, от своей матери англичанки она унаследовала сдержанность и привычку к логике.
— Знаете ли, здесь ведь ресторан?!..
— Это прекрасно…
— А в ресторан ходят для того, чтобы есть! Так что же вам принести?
— Что хотите…
— Скажите, вы, случайно, не смеетесь надо мной?
— Вы замужем?
От этого вопроса у Морин перехватило дыхание. Либо этот тип был сумасшедшим, либо — полным идиотом! Но как бы там ни было, он все же не казался опасным.
— Какое вам дело до моей личной жизни?
— Она меня очень интересует!
— Вы, случайно, не спутали меня с другой?
— Неужели вы думаете, что вас можно с кем-то спутать? Меня зовут Фрэнсис Бессетт.
— Я в этом не виновата! А теперь решайте: вы будете что-то заказывать?
— Сначала скажите: вы замужем?
Это стало уже надоедать Морин. Раздражение обычно у нее появлялось очень быстро. Из-за посетителей она все-же сделала над собой усилие, чтобы оставаться спокойной.
— Нет, я не замужем, и когда мне встречаются такие типы, как вы, очень рада этому! Принести вам суп?
— Мне все равно…
Сдержав ругательство, которое способно было облегчить ее душу, она прошла на кухню, где работал Майкл Данмор.
— Один суп!
— Какой?
— Не имеет значения, мне попался какой-то придурок!
Она поставила тарелку перед Бессеттом.
— Вы довольны?
— А у вас есть жених?
— Вы опять за свое? Послушайте: у меня есть папа, мама, три брата, нет ни мужа, ни жениха, мне двадцать два года, мой рост почти пять футов и вес около ста фунтов! Ах да, я забыла: мое имя Морин О'Миллой, у меня есть три прививки от оспы, и я никогда не находилась под следствием. Этого вам достаточно?
— Это великолепно!
— Было бы еще более великолепно, если бы вы сделали одолжение и доверили мне ваши планы насчет того, что вы закажете после супа.
— После какого супа?
— Того, который у вас в тарелке!
— А что бы вы хотели, чтобы я заказал?
— Я? Да мне на…, хоть крысиный яд с мышьяком!
— Думаю, если бы его принесли именно вы, я бы это съел…
— А, черт! Я больше не могу!
Она ушла на кухню настолько расстроенная, что ей хотелось плакать. Она была почти уверена, что этот тип насмехался над ней и что он решил таким способом за ней приударить. Самым невероятным было то, что она никак не могла решить, стоит ли давать ему отпор: он был далеко не уродлив. К тому же, если не брать во внимание его чрезмерное любопытство, он был похож на хорошо воспитанного человека. Майкл вывел ее из размышлений.
— Ну, что он хочет?
— Что угодно!
— Странный тип…
Однако, по привычке угождать капризам клиентов, Данмор не стал долго рассуждать и, решив воспользоваться неприхотливостью Бессетта, положил ему на тарелку старое баранье рагу, которое до завтра испортилось бы. С некоторыми угрызениями совести Морин, принеся это блюдо Фрэнсису, которого никак не покидал его экстаз, посоветовала:
— У нас есть превосходный яблочный торт…
— Это прекрасно…
— В общем, все прекрасно?
— Все! Поскольку вы здесь…
Самое главное — при этом он говорил совершенно искренне! Хоть ей и не хотелось в этом признаться, ирландка чувствовала трогательность этого нежного парня, который, увидев ее, пришел в такое состояние. Он почти не притронулся к рагу, как, впрочем, и к супу. Морин было неловко при мысли, что придется приносить ему счет. Быть может, ему все же понравится яблочный торт? Вместо того, чтобы положить порцию торта на блюдце, она вынесла его весь, разрезанный на части, чтобы он смог выбрать себе получше.
— Посмотрите… Какой вы выберете?
Неожиданно он схватил ее за левую руку. Она едва не вскрикнула, но сдержалась:
— Отпустите меня!
— Я не хочу, чтобы вы уходили!
— Отпустите меня, иначе…
— Останьтесь со мной!
Она попыталась вырваться, но безуспешно. Вне себя, она прошипела:
— Вы сами этого добились!
И быстрым движением одела ему яблочный торт на голову. Крик официантки заставил посетителей вскочить, а неожиданный отпор, оказанный Бессетту, наполнил их радостью, вылившейся в громкий смех и крики «ура!». Один из них, тайно вздыхавший по Морин, поспешил ей на помощь.
— Он был с вами невежлив, мисс? Может стоит исправить его манеры?
— Я достаточно взрослая, чтобы самой справляться со своими делами!
Привлеченный шумом, появился Майкл, вытиравший руки о фартук.
— Что происходит?
Его глаза едва не вылезли из орбит при виде Бессетта, к лицу которого был прилеплен яблочный мармелад. У него хватило сил лишь на то, чтобы произнести одно слово «Морин», в котором заключалось все удивление и ужас цивилизованного мира перед варварским актом, случившимся в нем. Смущенная ирландка не знала, что ей лучше сделать: засмеяться или извиниться.
— Он схватил меня за руку и не хотел отпускать!
Данмор, придя в себя, взорвался негодованием:
— Морин О'Миллой, это еще не причина, чтобы вести себя подобно дикарке!
Стряхивая с головы Бессетта остатки торта, о чем никто, даже сам пострадавший, не подумал, он обратился к Фрэнсису:
— Не знаю, как вам объяснить, сэр… но видите ли, это — ирландка… Морин, чего вы ждеге, принесите чистую салфетку!
Девушка принесла белоснежную салфетку, с помощью которой Фрэнсис попытался очиститься. Заметив его неловкость, Морин сказала:
— Пойдемте со мной, постараемся что-то сделать…
Она провела его на кухню, усадила и под недовольными взглядами мойщицы посуды и ученика повара принялась отмывать теплой водой, попросив другую официантку, Пэт, почистить воротник его пиджака.
— Вы очень на меня обиделись?
— О, нет, мисс…
— После всего, что я сделала?
— Это не имеет значения…
— Вы действительно так думаете?
— Да, это не имеет никакого значения, потому что я люблю вас.
Она ничего не сказала, только покраснела, окончательно решив, что у бедного парня не все в порядке с мозгами.
Бессетту пришлось настоять на оплате счета, деньги за который Данмор не хотел у него принимать, решив удержать их из выручки Морин. Фрэнсис вышел из ресторана в сопровождении патрона, который продолжал рассыпаться в извинениях, а сердце ирландки с его уходом слегка сжалось. Жаль, что он оказался сумасшедшим, — он был так вежлив и, потом, она заметила, с какой элегантностью он нес зонтик. Откуда было Морин знать, что он окончил Оксфорд.
* * *
Случай с яблочным тортом, казалось, напомнил клиентам Данмора, что пришло время отправляться по домам. Почти все сразу они стали расходиться. И все же только около десяти часов вечера, сделав всю необходимую работу, Морин вышла из ресторана и направилась в родительский дом на Спарлинг Стрит, недалеко от доков.
Она шла быстрым шагом, надеясь поскорей добраться до дома и принять душ, когда на углу Харроуби Стрит и Парк Вей какой-то человек, выглядывавший из подворотни, почти набросился на нее. Но крик ужаса замер на губах Морин, когда она узнала налетчика.
— Опять вы? Что вам от меня еще нужно?
— Я хотел бы вам сказать, что у вас очень красивое имя.
— И для этого вы поджидали меня на улице?
— А где еще я мог вас ожидать?
— Послушайте… я очень устала и к тому же опаздываю… Мне нужно возвращаться домой…
— Позвольте немного вас проводить?
— Если вам так хочется!
И они не спеша пошли рядом. Морин стало казаться, что она уже не так торопится вернуться домой. С трудом подбирая слова и заикаясь, Фрэнсис, который находился в необъяснимом состоянии, рассказывал своей спутнице, почему он ее полюбил. Хоть Морин и считала эти слова явно преждевременными, ей нравилось слушать этого парня, чувства которого казались искренними. Во всей этой истории было что-то магическое, необъяснимое, что незаметно действовало на гаэльскую[120] сентиментальность девушки. Теряя голову, как и все девушки при подобных обстоятельствах, она только сумела спросить:
— Вы часто рассказываете это девушкам?
— Нет, я любил только Анну.
— Да? И вы ее сразу разлюбили только потому, что встретили меня?
— Да.
— Как же можно доверять человеку, который так непостоянен в своих увлечениях?
— Но я очень долго любил Анну.
— И вам безразлично, что вы ее бросаете? Вы все одинаковы! Вы хоть подумали о том, что причиняете ей горе?
— Горе? Кому?
— Ну, этой — Анне… Она что — ваша любовница?
Он рассмеялся.
— Анна никогда не была моей любовницей и, потом, все это не имеет никакого значения, поскольку она умерла.
— О… простите… давно?
— Чуть больше четырехсот лет тому назад…
Ответ был настолько неожиданным, что она умолкла. Возможно, он все-таки сумасшедший… Тогда Фрэнсис стал рассказывать о своих чувствах к Анне де Болейн и о ее истории, поскольку образование Морин умещалось в рамки начальной школы. Практичная англичанка, не приемлющая подобных фантасмагорий, давно бы направила Фрэнсиса к его призракам, но ирландка могла только преклоняться перед человеком, имеющим связи с загробным миром. К тому же девушка предпочла, чтобы ее соперницей была мертвая королева, чем живая и в добром здравии какая-нибудь Долли или Маргарет. Это была уже британская черта ее характера.
Когда они оказались на Спарлинг Стрит, Морин сказала:
— Вот я и дома… спасибо, что проводили…
Она протянула ему руку. Он ее взял и больше не отпускал. В этот раз у ирландки под рукой не было яблочного торта, к тому же во второй раз она явно не воспользовалась бы им. Не узнавая саму себя, Морин прошептала:
— Отпустите, пожалуйста, мою руку.
— Прежде скажите, когда я смогу вас увидеть?
— А почему вы думаете, что я хочу вас
видеть?
Это выбило его из колеи.
— После всего, что я вам рассказал?
Она лицемерно вздохнула.
— Ладно… Я не хочу, чтобы вы меня обвиняли в злоупотреблении доверием… Завтра, после обеда — подходит?
— Конечно! Мне за вами зайти?
— Лучше не надо… Встретимся в три часа в Пиерхеде перед входом в Кунард…
— Я буду там в два часа!
— До свидания, Фрэнсис…
— Очень любезно с вашей стороны, что вы запомнили мое имя… До свидания, Морин.
Ему хотелось поцеловать ее, но он не осмелился: она, безусловно, плохо восприняла бы такую попытку.
Вот таким образом и родились взаимные чувства Морин О'Миллой и Фрэнсиса Бессетта.
Глава 3
Вот уже тридцать лет Бетти О'Миллой напрасно задавала себе вопрос, за какие грехи, допущенные ею или ее родителями, Господь заставил ее расплачиваться, дав в мужья ирландца. Вот уже тридцать лет, как в доме на Спарлинг Стрит привыкли к стонам Бетти по поводу ее несчастной судьбы, толкнувшей ее в руки Пэтрика О'Миллой. Все знали уже наизусть ее жалобную молитву о грешнице, вынужденную жить в обществе четверых мужчин, которые в жизни ищут только ран и синяков, и дочери, которая считает себя, по крайней мере, королевой Мэб. Бетти говорила, что она проклята навеки, поскольку Бог никогда не простит ей того, что она увеличила на четыре человека количество ирландцев на этой земле. Но, несмотря на эти жалобы, проклятия и вспышки ярости, на Спарлинг Стрит все знали, насколько мисс О'Миллой обожала своего мужа, троих сыновей и дочь, которые, впрочем, отвечали ей тем же. В квартире, где тридцать лет удары сыпались справа и слева, никто не смел поднять руку на мать, которую любили и уважали тем больше, что каждый из ее детей с радостью отмечал, что с ирландской кровью их отца в их венах течет частица английской крови их матери. К ггесчастью для покоя Бетти, все О'Миллой рождались с жаждой схватки. Они учились орудовать кулаками прежде, чем стали говорить. Пэтрик часто приводил в пример подвиг старшего сына, который в возрасте двух лет ни за что разбил нос пятилетнему мальчишке. И все же О'Миллой не были злыми людьми, вовсе нет. По правде говоря, не было сердец лучше, чем у этих четверых гигантов, у которых редко случалась неделя, чтобы они не участвовали в драке с кем-то, кто неправильно обращался с ними или же между собой, если не находился внешний противник. По субботам и воскресеньям, когда матери семейств видели проходящих О'Миллой, они заставляли своих сыновей прятаться, а владельцы баров в кварталах около доков, когда эти крепкие ирландцы появлялись у них, прятали подальше самые дорогие для них бутылки. Никто на Спарлинг Стрит не мог припомнить лиц О'Миллой без лейкопластыря. И если четверо мужчин частенько отлеживались в больнице, то еще чаще они бывали гостями тюрьмы, что, впрочем, никак не влияло на их престиж и окружавшую их симпатию. В тюрьму они никогда не попадали без признания своей вины. Честность была их религией, их вера была прочна, а трудолюбие повсюду ставилось в пример. Но вот беда! — они не могли противостоять влечению к схваткам. Видеть, как два человека в споре переходят к кулакам, и не принять участия в драке, истинных причин которой они порой даже не знали, было выше их сил.
Бетти О'Миллой, возраст которой уже наводил на размышления, говорила, что судьба ее решилась в то воскресенье 1928 года, когда она торопилась в кино и ее едва не задавили перед Сентрал Стейшн. В этот день Бетти Филд, кухарка мистера и мисс Уоррен с Тагаррт Авеню решила посмотреть фильм Чарли Чаплина. Переходя через Рейнилэг Стрит, она подвернула ногу и едва не упала на колени перед проходившим автобусом. Мужчина, который шел позади, успел схватить ее за талию и оттащить на безопасное от колес расстояние. Спасатель и спасенная вместе убежали от толпы любопытных. С тех пор у них не было причин, чтобы расстаться, особенно принимая во внимание тот факт, что с первых минут они очень понравились друг другу. Нельзя было сказать, чтобы Бетти была красива со своими рыжими волосами, большим носом и чересчур широким ртом, но от нее веяло здоровьем и честностью. Пэтрик, наоборот, был очень красивым мужчиной ростом более шести футов. Его голубые глаза в сочетании с черными волосами заставляли думать, как говорится в дешевых романах, о множестве приятных вещей. Человеку, спасшему вам жизнь, нельзя отказывать в свидании, особенно если у него голубые глаза. С тех пор Бетти и Пэтрик встречались каждую неделю. Они узнали друг о друге, что она работала прислугой у богатых буржуа, отошедших от дел, а он — докером. Бетти была сиротой и приехала из Лидса по рекомендации пастора, знавшего Уорренов, которые были родом оттуда же. Пэтрик прибыл из графства Корк, из Югхела, но он не посмел сказать ей, что его сердце не лежит к англичанам и что в Ливерпуле он находится лишь потому, что в бедной Ирландии становилось все трудней найти работу.
Через две недели самых невинных идиллий католический ирландец сумел преодолеть недоверие английской протестантки и даже поклялся, что их дети вырастут в вере их матери. Бетти, в свою очередь, согласилась пойти с Пэтриком прежде в церковь, а уж затем потащила его к пастору. Бедная мисс не знала, что нет обманщиков больших, чем ирландцы. Она поняла это только после рождения их первенца, замечательного мальчугана. Пэтрик не высказал никаких возражений, когда жена, сославшись на принятое совместно решение, заявила, что их сын будет зваться Дэвид и что он будет крещен у пастора, как только она будет в состоянии выходить на улицу. Когда же такое время пришло, ирландец вынужден был признаться, что тайком уже крестил мальчика и дал ему имя Шон О'Миллой. Это произошло во время короткого отсутствия матери и при соучастии приходского кюре, который был рад оставить с носом его протестантского коллегу и приобрести еще одну душу для католической церкви. Бетти была вне себя от гнева, но поскольку она любила Пэтрика, на время смирилась, решив привести в исполнение свою клятву при рождении следующего ребенка. Уж его-то она непременно назовет Дэвид или Рут и приведет к лучам света протестантской церкви.
На следующий день после рождения их второго мальчика Пэтрик заявил жене, что если не даст ему имени своего отца, ему будет трудно встречаться со старым О'Миллой на том свете. Бетти не уступала. Тогда муж напился и заявил, что потерял вкус к жизни, поскольку он предает всех О'Миллой. Он отказался принимать еду, лег в постель и, казалось, стал угасать. Перепуганная Бетти вызвала врача, который заявил мисс О'Миллой, что болезнь ее мужа душевного свойства и что он ничем не может помочь. Несчастная женщина, чтобы не стать вдовой, уступила. К Пэтрику сразу же вернулось его здоровье, и их второй сын был крещен под именем Лаэма О'Миллой. Смирившаяся Бетти присутствовала на этой церемонии, думая о будущем реванше.
Реванша не произошло, потому что после рождения их третьего сына муж сказал, что малышу придется трудно быть отделенным в вероисповедании от своих братьев и что из-за своего упрямства она рискует расколоть семью. Потеряв всякое упорство в борьбе, Бетти больше не сопротивлялась, и Руэд О'Миллой присоединился к своим братьям в сени католической церкви.
К большому удивлению мисс О'Миллой, супруг даже не заговорил о крещении четвертого ребенка, когда у них, наконец, родилась дочь, и Бетти с радостью подумала, что маленькая Рут с годами станет ее союзницей и ей не придется одной ходить в протестантскую церковь. Несмотря на восемь лет замужества за ирландцем, несчастная женщина еще не поняла, сколько в нем может быть от Макиавели, когда речь идет о борьбе, в которой он участвует всем сердцем. В этот раз Шон, которому уже исполнилось семь лет, наученный должным образом отцом, сказал матери, что если его сестричку не отнесут в католическую церковь, он будет ее ненавидеть и бить незаметно от родителей. Возмущенная Бетти рассказала обо всем супругу, но Пэтрик нашел оправдание словам сына и лицемерно предоставил супруге право самой отвечать за все последствия. Ему же все это было якобы безразлично. «Но тогда, дорогая, не упрекай меня, если братья возненавидят свою сестричку», — сказал он. Растерявшаяся Бетти опять уступила, и Рут превратилась в Морин.
Несмотря на различие в вероисповедании и на злые шутки, которые он с ней сыграл, Пэтрик очень любил Бетти, и она отвечала ему тем же. Они составляли чуть ли не самую дружную семью на Спарлинг Стрит. И все же существовало две вещи, которые миссис О'Миллой не могла простить мужу: первое — то, что не проходило и недели, чтобы он не подрался с каким-то типом, чье лицо ему не понравилось, и второе — высокомерное презрение ирландца к овсянке, основе британской флегматичности, которую он считал пищей для ненормальных, начисто лишенных вкуса. Правда и то, что Бетти, со своей стороны, считала «айриш стью»[121], которое обожал ее муж, пищей для дикарей. И, словно для того, чтобы способствовать унижению матери, дети с самого раннего возраста напрочь отказывались съесть хоть одну ложку овсянки. Зато мальчики, переняв всю воинственность отца, вынуждали ее держать в доме целую аптеку, которую приходилось беспрестанно пополнять медикаментами. Иногда Бетти задумывалась, были ли они на самом деле ее сыновьями…
* * *
Следуя установившейся традиции, О'Миллой проводили субботние вечера за игрой в карты, в то время как Бетти занималась шитьем. Сидя в кресле-качалке, купленном на распродаже, она иногда отрывалась от работы, чтобы с гордостью взглянуть на этих четверых сильных мужчин, трое из которых были от ее плоти. Она оставалась в кресле до конца игры, зная, что ее присутствие может предотвратить драку, правда только в том случае, если ее причина не окажется очень серьезной. Пока же они составляли единое целое, и вид их силы успокаивающе действовал на нее. Самый старший и самый большой Шон весил сто два килограмма при росте сто девяносто сантиметров. Он был флегматичен, и его нелегко было раззадорить, но если уж он выходил из себя, остановить его было невозможно. Лаэм, средний брат, ростом был метр восемьдесят сантиметров и довольствовался семьюдесятью восьмью килограммами веса, но был самым вспыльчивым и заядлым из трех братьев. Руэд, почти такой же большой и сильный, как и Шон (метр восемьдесят шесть роста и девяносто четыре килограмма веса), был самым умным. Несмотря на почти шестьдесят лет, Пэтрик с поседевшими волосами, высоким ростом и широкими плечами заставлял чаще биться вечно юное сердце Бетти. Единственное, что ей не нравилось в муже — это то, что он никак не хотел заказать зубные протезы. Рано потеряв зубы либо в драках, либо более естественным образом, О'Миллой поклялся купить протезы только тогда, когда у него не останется ни одного зуба. Наконец, у него остался последний зуб — верхний резец, который выдерживал все. Бетти тайком молила Небо, чтобы хоть раз удар кулака вместо того, чтобы рассечь бровь супруга, разбить губы или закрыть на время глаз, выбил этот последний зуб. Тогда она смогла бы, наконец, отвести его к дантисту, который вернул бы Пэтрику его прежнюю улыбку. Но пока что Небо оставалось глухим к ее мольбам.
Игроки обсуждали удачную комбинацию Лаэма, обнявшего отца за плечи, когда вошла Морин. Поздоровавшись со всеми и поцеловав мать, девушка поспешила первой воспользоваться пока еще чистой ванной. Когда, одев халат, она вернулась в комнату, отец и братья, оставив карты, обсуждали планы на вечер. Пэтрик сказал, что пойдет сыграть в петанку[122] со своим другом Кристи Гэллагером. Шон собирался пойти со своей невестой, Молли Грейнаф, в кино. Романтично настроенный Лаэм хотел прогуляться со своей невестой, Шейлой О'Греди, по Энтри Руэд и зайти к друзьям. Не догадываясь о буре, которую может вызвать ее вопрос, мисс О'Миллой спросила Морин:
— А у вас, дорогая, есть свои планы?
— Да, мамми, у меня назначена встреча с одним молодым человеком.
Братья тут же забросали ее шутливыми вопросами по поводу принца, до которого снизошла их самая младшая из семьи. Пэтрик счастливо улыбался. Затем он вмешался в разговор, покольку не переносил оставаться в стороне от чего бы то ни было.
— Не могли бы вы назвать нам имя этого соблазнителя, Морин?
— Фрэнсис Бессетт.
Наступило молчание. Шон осторожно заметил:
— Это не ирландское имя…
Затем он смолк и взглянул на отца, лицо которого напряглось. Предчувствуя бурю, Бетти отложила работу. Наконец Пэтрик решился:
— Если мы вас правильно поняли, Морин, он — англичанин?
— Именно так!
О'Миллой стукнул кулаком по столу с такой силой, что соседи, вероятно, подумали: «Опять из-за этих ирландцев нам не скоро удастся уснуть…»
— Слушайте внимательно, Морин, хоть вам и двадцать два года, но я не потерплю, чтобы вы обесчестили нашу семью и вышли замуж за англичанина!
Одобрительными кивками братья подтвердили, что они полностью разделяют мнение отца, но Морин тоже была настоящей О'Миллой и редко отступала перед угрозами. Дрожа от испуга, Бетти восхищалась дочерью и думала, что будь у нее самой подобная сила воли в прежние времена, ее дети были бы такими же добрыми протестантами, как и она сама.
— Во-первых, пока что речи о свадьбе еще быть не может, а во-вторых, отец, почему я не могу, в случае чего, выйти замуж за англичанина, раз вы сами женились на англичанке?
Это было тем, что ирландец называл ударом ниже пояса. Сыновья дружно уставились на Пэтрика, ожидая, как он отреагирует. Он сделал это крайне неудачно.
— Как вам не стыдно, Морин, попрекать вашего старого отца единственной ошибкой, которую он совершил за всю свою жизнь!
Задыхаясь от негодования, Бетти что-то пробормотала и расплакалась. Несколько смущенный Пэтрик продолжал:
— И вам не стыдно, Морин, доводить мать до такого состояния?
— Но это же вы довели ее, посмев сказать, что сожалеете о вашем браке!
Ирландец в искреннем негодовании прорычал:
— Как я мог такое сказать? Морин, если вы будете продолжать лгать, то получите самую большую трепку в вашей жизни.
Тогда Бетти смело бросилась в схватку.
— Только троньте мою дочь, Пэтрик О'Миллой, ничтожный ирландец, и, будь я проклята Господом, если сразу же не уйду навсегда из этого дома, в котором, как вы сказали, вам стыдно за мое присутствие!
Пэтрик, загнанный в угол, сделал попытку извиниться перед женой, но так, чтобы не уступить дочери.
— Не расстраивайтесь, Бетти… Я случайно оговорился из-за вашей дочери… Вы очень хорошая и добрая жена, Бетти… и… и я очень счастлив, что женился на вас…
Мисс О'Миллой была на седьмом небе от этой неожиданной победы.
— Благодарю вас, Пэтрик О'Миллой…
Но он уже опять кричал на Морин:
— То, что я женился на единственной англичанке, достойной войти в ирландскую семью, вовсе не причина испытывать судьбу во второй раз, Морин! Дважды чудес не бывает. И еще запомните: никогда я не буду дедушкой для маленьких англичан!
— В свою очередь, вы, отец, вбейте себе в голову: я сделаю так, как считаю нужным! Спокойной ночи!
Она повернулась на каблуках и хотела выйти из комнаты. Пэтрик почти визгливым от ярости голосом прокричал ей вслед:
— Я запрещаю вам выходить из дома завтра после обеда!
С неожиданной для него ловкостью Шон выпрыгнул из-за стола и схватил сестру прежде, чем она успела закрыться в своей комнате:
— Вам нужно слушать отца, Морин, иначе я сам поговорю с вашим англичанином, если он попадется мне под руку!
— А вас это и вовсе не касается, невежда!
* * *
Фрэнсис Бессетт проснулся в девять утра. Проглотив завтрак, приготовленный со старательностью старого холостяка, он чуть позже обычного зашел в ванную. Весело насвистывая марш «Мост над рекой Кваи», он думал, как лучше воспользоваться этим на редкость солнечным весенним днем для первого свидания с Морин. Перебрав множество вариантов, Фрэнсис решил, что сначала они направятся по Мерси до Брикенхеда, потом сядут в поезд до Честера и уже оттуда отправятся кататься на лодке по Ди. О личном лучше всего говорить на воде и, возможно, сердце воинственной ирландки смягчится от нежной романтики пейзажа. Перед выходом Фрэнсис осмотрел себя в зеркало и решил, что он вовсе неплох. Некоторая демократичность его серого костюма уравновешивалась солидностью мягкой фетровой шляпы, что вместе придавало ему вид настоящего джентльмена. С радостью в сердце он подумал, что, пожалуй, мог бы сойти за самого элегантного в Объединенном Королевстве мужчину и возблагодарил Небо за встречу с самой красивой на свете ирландкой, а уж за одно и за то, что он живет при правлении самой лучшей из королев, в самой благородной стране, и за весеннее солнце в это великолепное воскресенье. И все же, как и подобает приличному англичанину, окончившему Оксфорд, Фрэнсис захватил с собой зонтик.
* * *
Выйдя из дома, Бессетт зашел к Дикки Найвену, продавцу конфет. Его магазин в воскресенье, для соблюдения традиций, естественно, был закрыт; но Бессетт давно знал Дикки и, зайдя с черного хода, объяснил старому другу, что не может идти с пустыми руками на свидание с красивой девушкой. Найвен понял чувства друга и за тринадцать шиллингов и восемь пенсов подобрал для него коробку конфет, которую завернул в красивую бумагу и перевязал золотистой лентой. У Дика было нежное сердце, и он питал тайное пристрастие к любовным историям.
С коробкой в руках Бессетт поспешил на работу, где Клайв Лимсей проводил внеочередное собрание по поводу одной очень важной поездки в Мексику, назначенной на следующий день. В виде исключения, в этот день помимо обычных участников собраний, то есть Берта, Мелитта и Фрэнсиса, в нем участвовала еще красавица мисс Сара Кольсон, личный секретарь Клайва Лимсея, каждое движение которой источало запах дорогих духов, в котором Фрэнсис признал «Амбр Руаяль». Мисс Кольсон, несмотря на свой элегантный костюм, более чем топкие чулки и прекрасные туфли, была чем-то недовольна. Безусловно, на это утро она планировала более приятные дела, чем ведение записей. Бессетт в пол-уха слушал распоряжения Лимсея: он пристально изучал Сару, чтобы решить, красивей она Морин или нет. Он долго взвешивал все плюсы и минусы и пришел к выводу, что в Морин было больше природной привлекательности, которой недоставало мисс Кольсон, бывшей несколько стереотипной.
Дав все необходимые указания, Клайв Лимсей отпустил своих заместителей. Мисс Кольсон исчезла, словно молния, чем вызвала недовольство со стороны Джошуа Мелитта, который все время ворчал, пока брал пальто со стола, на который приглашенные сложили свои вещи, прежде чем войти в кабинет патрона. Берт тоже быстро исчез под предлогом встречи, не позволявшей ему дождаться Фрэнсиса. Последний, из вежливости, не хотел уходить с работы раньше Джошуа, который сказал ему на ухо:
— Посмотрите, как они оба спешат… Я не удивлюсь, если он сейчас ее догонит…
— Берт — мисс Кольсон?
— Они созданы друг для друга… У обоих мозгов не больше, чем чувств!
Бессетт был готов проклясть свою реплику, вызвавшую у Мелитта поток нравоучений, великим мастером которых он был. Вначале на лестнице, а затем на улице воздыхатель Морин был вынужден выслушать все, что его наставник думал об этой Саре, которая для того, чтобы гак одеваться, должно быть имела очень богатых и не очень пекущихся о морали друзей, поскольку ее доходы явно не позволяли покупать вещи, о которых могли только мечтать мистер и миссис Мелитт. Бессетт, конечно же, не решился заметить, что даже костюм Сары на Клементине выглядел бы, словно купленный у старьевщика.
— Я не приглашаю вас на обед, Фрэнсис, — кажется у вас другие планы?
Молодой человек покраснел, и, дабы выйти из затруднительного положения, не обидев своего спутника, пролепетал:
— У меня назначена встреча с друзьями…
— Хорошо, хорошо, я не настаиваю, но позвольте дать вам один совет: не очень увлекайтесь искусственным светом и помните, что настоящие достоинства не сразу видны… До свидания.
— До свидания, мистер Мелитт.
* * *
Фрэнсис пообедал в маленьком ресторанчике на Дейл Стрит, где по поводу воскресенья его заставили очень дорого заплатить за неважный обед, поданный, впрочем, с большой торжественностью. В половине второго он вышел оттуда, придумывая, как бы убить время до прихода Морин. Он улыбнулся при мысли, что в этот самый момент девушка, должно быть, готовится, чтобы предстать перед ним в лучшем свете. Как раз в этом он ошибался, поскольку атмосфера в доме О'Миллой была не такой уж и радостной.
За столом, где все заканчивали есть фруктовый пудинг, говорили очень мало, помня о сцене, происшедшей накануне. Пэтрик замкнулся в своем оскорбленном отцовском достоинстве и старался не смотреть на дочь, которая за обедом не произнесла ни единого слова. Бетти ничего не говорила, опасаясь пуститься в ненужные в данный момент упреки и вызвать одну из ссор, приближение которых она всегда болезненно чувствовала. Шон был занят исключительно едой. Лаэм, лучший друг Морин, хотел попросить за нее, но не решался. А Руэд, проглотив последний кусок, тотчас же исчез, радуясь возможности покинуть эту сгущающуюся атмосферу, где попахивало грозой. Поев, Шон гоже поднялся и вышел. Лаэм сделал попытку.
— Отец… может вы разрешите Морин встретиться с этим парнем? Может все-гаки…
Побледнев от негодования, Пэтрик оттолкнул от себя тарелку.
— Лаэм О'Миллой, идите на свидание с Шейлой О'Грейди и не вмешивайтесь не в свои дела! Мне очень жаль, что вам безразлична честь семьи, но вы еще очень молоды, чтобы поучать старого отца, который еще в состоянии вас поколотить, дабы призвать к долгу!
Лаэм вышел, бросив взгляд отчаяния на сестру, которая улыбкой поблагодарила его. Как только за ним закрылась дверь, Бетти, собрав всю свою храбрость, заявила:
— Вы, кажется, гордитесь собой, Пэтрик О'Миллой?
— Почему это мне нужно гордиться собой, скажите на милость?
— Потому, что вы разыгрываете из себя тирана, — если хотите знать мое мнение.
— Меня оно как раз не интересует, Бетти.
Пока отец раскуривал трубку, Морин стала убирать со стола. Мисс О'Миллой поднялась и, указав пальцем на супруга, заявила:
— Принадлежать к народу, который Господь в наказание для Англии поселил в нескольких милях от нее и который все время борется за свою независимость, — это не повод, чтобы быть диктатором в своем собственном доме!
О'Миллой показалось, что мундштук трубки сейчас треснет, настолько сжались его челюсти. Он медленно поднялся.
— Запомните, Бетти: пока я жив, все, кто живет под моей крышей, будут слушать меня или вылетят в дверь!
Морин, у которой больше не было сил сдерживаться, бросилась в драку.
— Чего вы добиваетесь, отец? Чтобы я ушла?
— Если вы настолько испорчены, Морин, что не уважаете родителей, вам здесь не место!
Чтобы не случилось непоправимое, Бетти закричала:
— Да вы же — чудовище, Пэтрик О'Миллой! Вы что же, хотите выставить на улицу вашу собственную дочь? Вспомните Писание: «Всяка гордыня человеческая — это путь в Ад; и да не останется она безнаказанной». А ваше сердце преисполнено гордыни, Пэтрик О'Миллой!
Не сказав ни слова, он вышел из комнаты. Ему было нелегко, поскольку он очень гордился сыновьями, а еще больше — дочерью, но он скорей позволил бы разрубить себя топором на части, чем сознался бы в этом.
Упав на стул, Бетти расплакалась. Никогда ей не жить в покое! Что за причуда — выходить замуж за ирландца?! Ни за что на свете она не согласится, чтобы ее дочь оказалась в такой ловушке! Она одна уже расплатилась наперед за всех женщин в своем роду! Морин подошла к матери.
— Успокойтесь, мамми… Это я во всем виновата! Простите, пожалуйста… Если хотите, мы проведем это время вдвоем.
И погасшим голосом она добавила:
— Только жаль Фрэнсиса.
Но мисс О'Миллой, неожиданно сбросив с себя вес тридцатилетнего рабства, воскликнула:
— Нет, Морин, вы ни в чем не виновны! Во всем виноват этот проклятый ирландец! Если вы действительно хотите доставить радость матери, Морин, быстро наденьте платье с цветами и поспешите на встречу с английским парнем. Я буду молить Бога о взаимопонимании между вами и за то, чтобы наступил день, когда в нашей семье дикая ирландская кровь будет разбавлена порядочной, английской!
— Но, мамми…
— Слушайтесь меня, Морин, и если отец посмеет что-то сказать, — он будет иметь дело со мной.
* * *
Чтобы убить время, которое никак не хотело двигаться с места, Фрэнсис, устав прогуливаться по Дейл Стрит, зашел в бар «Дерево и Лошадь», — тот самый, куда завел его Берт в день похищения Гарри Осли. Приближалось время закрытия, и посетители спешили заказать новые напитки, словно собираясь поглотить как можно больше жидкости перед наступающей засухой. Бессетт подошел к стойке, положил коробку с конфетами рядом с собой и попросил бармена налить один джин-фиц. Следя за стрелками стенных часов и попивая мелкими глотками джин, Фрэнсис не обращал особого внимания на то, что происходило вокруг. Он совершенно не заметил высокого полного мужчину, который сел рядом с ним и заказал двойной виски. Вдруг сосед, наклонившись, прошептал Бессетту на ухо:
— Привет…
Фрэнсис от неожиданности слегка подпрыгнул. Незнакомец смотрел прямо на него, значит, он все же обратился именно к нему. Совершенно машинально Бессетт ответил:
— Как ваши дела?
Тот улыбнулся:
— Вы пришли чертовски рано, не так ли? И почему я вас не знаю?
— Я в первый раз…
— Вот оно что… Все-таки вам не стоило приходить так рано… Когда долго сидишь, на тебя могут обратить внимание. Другое дело я, — давно уже здесь бываю…
Бессетта это забавляло, и он был рад хоть такому развлечению до встречи с Морин в Пиерхеде. Правда, собеседник казался ему чересчур вульгарным. Его клетчатый костюм придавал ему вид постоянного посетителя скачек на ипподроме. Он несколько выделялся среди посетителей «Дерева и Лошади», которые, не будучи снобами, в основном все же были приличными на вид людьми. Не догадываясь об этих сравнениях, тот продолжал:
— Обычно, — это без пяти три… Вам лучше следовать этому правилу… Как знать, что может случиться, а? Вы подходите прямо к закрытию, когда в баре полно народа, на вас никто не обращает внимания, и — оп! — вас никто не увидел, не узнал, и вы успели раствориться!
Фрэнсиса это рассмешило, а у того округлились глаза.
— Вы, случайно, не сумасшедший? Я не люблю работать с психами! С ними всегда набьешь себе шишек…
Какой-то проблеск появился в его глазах; и он склонился к соседу.
— Скажите, а вы, случайно, сами не пробовали?
— Чего не пробовал?
Незнакомец ошалело посмотрел на него.
— Вы что, надо мной издеваетесь? Ладно, покончим с этим… но сразу же хочу вам сказать, что вы мне не нравитесь!
Говоря это, он сошел со своего табурета, слегка толкнув Фрэнсиса, и удалился. Увидев, как он уходит с коробкой конфет под мышкой, Фрэнсис автоматически поискал взглядом свою и не увидел ее. Этот тип ее унес! Подарок для Морин! Он сразу же вскочил и крикнул вдогонку уходящему:
— Эй вы, вы взяли мою коробку!
Мужчина, который уже дошел до двери, резко остановился и обернулся. Он стал мертвенно-бледным. Фрэнсис догнал его.
— Это что, у вас такое развлечение? То, что у вас в руках — принадлежит мне.
Тот не мог даже сглотнуть слюну, видя, как на него уставился весь зал. Он пробормотал:
— Извините…
И очень быстро добавил шепотом:
— …Нет, честное слово, вы сошли с ума! Что с вами? Вы хотите, чтобы нас сцапали? — и громко, — если вы уверены, что коробка ваша?…
— В ней конфеты. Если хотите, я могу открыть!
— Нет, нет! Возьмите коробку, и еще раз — тысяча извинений…, — шепотом, — эта шуточка вам дорого обойдется!..
И он ушел прежде, чем удивленный Фрэнсис сумел что-либо понять.
Глава 4
Когда Фрэнсис увидел ее такой красивой и сверкающей, ему, чтобы выразить переполнившее его счастье, захотелось спеть «God save the Queen»[123], но он вовремя остановился, вспомнив, что Морин — наполовину ирландка, и ей это может не понравиться. Восхищение, которое девушка увидела в его глазах, наполнило ее сердце приятной теплотой. Фрэнсис сразу же увлек ее на ферри-бот[124] через Мерси, и они устроились на скамье у левого борта. Глядя на удалявшиеся высотные здания Пиерхеда и доки Ливерпуля, они представили себе, что вдвоем отправляются в дальнее путешествие и что там, на пристани, уже скрытые расстоянием, их родственники размахивают платками. Фрэнсис взял руку Морин и нежно сжал ее. Она улыбнулась ему в ответ. Он с увлечением заговорил:
— Морин, мы проведем прекрасный день… день мечтаний и поэзии!..
Как настоящая ирландка, она была согласна помечтать, но вот насчет поэзии… Она незаметно бросила быстрый взгляд на своего спутника, вдохновение которого ей льстило и все же немного беспокоило. В своей шляпе он действительно был похож на джентльмена и к тому же был так нежен и образован… Если ей однажды придется привести его на Спарлинг Стрит, как он найдет общий язык с Пэтриком, Шоном, Лаэмом и Руэдом? Быть может, только мать сумеет поговорить с ним, но ее слово так мало значит в решении семейных вопросов…
Морин прогнала беспокойные мысли. Было солнечно, она сидела рядом с очень симпатичным парнем, на которого, казалось, произвела глубокое впечатление, ее платье имело успех, чего же еще желать?
Они сошли в Биркенхенде и пошли по длинной аллее от причала к вокзалу. Держась за руки, как тысячи и тысячи влюбленных во всем Объединенном Королевстве, они считали, что в это воскресенье они совершали что-то такое, что еще никому до них не удавалось. Как только они оказались в конце небольшого спуска, перед Фрэнсисом возник незнакомый мужчина и приложил ладонь к его груди, чтобы остановить Бессетта. Фрэнсис в этот момент был настолько в другом мире, что не сразу узнал типа из «Дерева и Лошади», который хотел взять его коробку. Толпа обтекала остановившуюся троицу со всех сторон, словно ручей, разбегающийся на многие струи, когда он не может преодолеть препятствие. Фрэнсис и Морин еще не оправились от удивления, как человек в клетчатом проворчал:
— Ну что, шутки окончились? Достаточно представления?
Наверняка этот человек был сумасшедшим! Но будь он сумасшедшим или нет, Фрэнсис не мог ему позволить так вызывающе себя вести в присутствии Морин. Он очень сухо спросил:
— Что вам угодно, наконец? Кажется, я вас не знаю?
Лицо того стало пунцовым:
— Значит, все продолжается? Мистеру угодно устраивать этот балаган?
Вмешалась Морин:
— Кто это, Фрэнсис?
Незнакомец слегка обернулся к ней:
— А вам, детка, я не советую вмешиваться!
Дочь Пэтрика О'Миллой очень не любила подобное обращение и, позабыв о том, что она здесь находится в качестве скромной девушки в сопровождении рыцаря, слегка отступила, чтобы лучше размахнуться, и носком туфли произвела мастерский удар в колено толстяку, который завопил от боли. Мисс О'Миллой сказала:
— С наилучшими чувствами от детки…
Обрадованный таким поворотом дела, Бессетт не счел нужным извиняться:
— Старина, оставьте нас в покое, ладно?
— Вам лучше лечь и выпить настойки ромашки с джином, если только вы выносите спиртное!
Молодые люди, не думая об этом хулигане, поспешили к Биркенхедскому вокзалу, чтобы успеть на поезд в Честер, оставив на произвол судьбы Блади-Джонни, у которого на совести было семь или восемь убийств и который считал виски сиропом для престарелых дев. Не обращая внимания на толпу, совершенно огорошенный, Блади-Джонни повторял: «…если только вы выносите спиртное… если только вы выносите спиртное…» И вдруг, поняв всю нелепость случившегося, он, словно бык, с яростным ревом, бросился вслед за этой парой. На маленькой привокзальной площади его ожидал худощавый человек, одетый во все черное.
— Ну что?
— Малышка дала мне ногой пинка в колено, посоветовала выпить настойки и прилечь…
— Оказывается, они сильней, чем я думал… Интересно, они работают на себя или на кого-то?…
— Я одного не могу понять, Марти, — как это хозяин мог доверять им?…
— Я тоже не все здесь понимаю… Во всяком случае, Джонни, желаю вам успешно вернуть товар, иначе у вас могут быть большие неприятности… Хозяин не любит людей без способностей…
Его собеседник от возмущения даже подпрыгнул.
— Я — без способностей?! И это с моим прошлым? С моим «послужным списком»?
Марти критично осмотрел его.
— Быть может, это все в прошлом?
Это замечание погрузило Джонни в мрачные мысли, и собеседник притронулся к его плечу.
— Не время раскисать — нужно вернуть товар.
Толстяк в отчаянии поднял руки к небу.
— Да где же я их теперь найду?
— Они взяли билеты до Честера и обратно.
— Честер большой…
— Только не для влюбленных. Ставлю десять фунтов против одного, что они катаются на лодке по Ди.
— Почему?
— Потому что, если бы я был молодым и у меня была бы красивая девушка, то в Честере, да еще при таком солнце, я предложил бы ей прогулку по Ди…
* * *
Уложив пиджак на заднюю скамью лодки, Фрэнсис положил сверху шляпу и коробку со сладостями для Морин, сел за весла и стал быстро грести, чтобы достичь середины реки. Искусно разложив на коленях платье и опустив в воду правую руку, Морин, вопреки себе самой, старалась быть похожей на мифические создания, которыми мы восхищаемся, глядя на киноэкран. Работая веслами, Бессетт рассказывал о своей жизни, профессии, о взлетах и падениях, о своем будущем материальном положении и попытался ненавязчиво осведомиться у ирландки, насколько реально ему думать о создании семейного очага. Ее ответ был утвердительным. Затем наступила ее очередь рассказывать. Она сделала это абсолютно правдиво, ничего не скрывая от Фрэнсиса: ни своего низкого культурного уровня, ни реализма жизни в семье О'Миллой, не позабыв, однако, рассказать об их честности, единстве и любви друг к другу. Не упустила Морин и лицемерного замечания о том, что руководитель европейского отдела конторы Лимсея и сына, вероятно, должен будет найти себе спутницу жизни из своей среды. К великой радости Морин он возразил, что женитьба — дело слишком серьезное, чтобы решиться на него, не прислушиваясь к доводам сердца. На утонченно заданный вопрос она ответила спутнику, что, получив достаточно строгое воспитание, у нее никогда не было «друга» и что она вообще не склонна к флирту. Она считает, что сразу же нужно добиваться всего или ничего. Предупредив таким образом своего поклонника о невозможности различных в таком случае иллюзий, Морин окунулась в радость настоящего момента. Лодка тихо плыла по воде. Навстречу плыли другие лодки с влюбленными, считавшими себя единственными на свете. При встрече самые веселые из них шутливо приветствовали друг друга. Наконец, лодка Фрэнсиса и Морин приблизилась к правому берегу у рощи, деревья которой уходили корнями прямо в воду. Они причалили, привязали лодку, и Фрэнсис, взяв пиджак, шляпу и коробку, отвел Морин в тень. Они выбрали небольшую поляну и устроились на ней. Бессетт одел пиджак, следуя традиционным британским правилам хорошего тона. Сев как можно ближе к девушке, он стал ее уверять, что чувствует себя самым счастливым человеком на земле, и когда, со своей стороны, она сказала, что он ей тоже симпатичен, ему захотелось попросить разрешения поцеловать ее, но он не решился. Тогда он, наконец, передал ей коробку с конфетами.
— Вот, Морин… я кое-что купил для вас сегодня утром…
Она слегка покраснела, словно он подарил ей драгоценное украшение. Исключая семейные, это был первый подарок, который она получала за свою жизнь. Она рассматривала упаковку, не решаясь развернуть ее.
— «Брогби и Пауэлл»… Я не знаю такого магазина…
— Простите?
— Я сказала, что не знаю магазина «Брогби и Пауэлл».
— И я тоже.
Морин рассмеялась, подумав, что Фрэнсис из-за нее потерял голову настолько, что не помнил места своей покупки.
— Как это, ведь вы же купили эти конфеты там?
— Вовсе нет! Я купил их у Дикки Найвена на Седардейл Роут…
Говоря это, он склонился над коробкой и удостоверился в надписи на ней: «Брогби и Пауэлл». Что это могло значить? Вдруг он воскликнул:
— Но значит… этот тип был прав? Это его коробка! О!..
Он рассказал своей спутнице о случае в баре, который впервые свел его с Джонни. Она внимательно его выслушала и затем сказала:
— Если эта коробка принадлежит невежде, которого мы недавно встретили, где же тогда ваша? И если он действительно владелец коробки, то как объяснить, что он так легко вам ее отдал?
— В самом деле… Кроме того, она была у меня в руках, когда я зашел в бар, а на стойке, рядом с рюмками, больше ничего не было… Да, я совсем ничего не могу понять!
Более практичная Морин решила:
— Не проще ли открыть ее и посмотреть, что там?
Развязав ленту и сняв бумагу, они увидели коробку конфет, а когда подняли крышку, — среди ваты, которой была наполнена коробка, очевидно, чтобы избежать тряски, — круглую металлическую коробочку, похожую на те, что продают в аптеках с драже от кашля. У молодых людей вырвался вздох разочарования.
— Морин… я глубоко сожалею…
Коробочка была наполнена мелким белым порошком.
— Ну и ну!.. Сахарная пудра?…
— В такой прочной упаковке? Что это, чья-то шутка?
— Не похоже, чтобы тот тип способен был шутить!
Они попробовали немного порошка, и у Морин скривилось лицо от горечи, наполнившей рот. Мысли Фрэнсиса быстро заработали: туманные слова его собеседника в баре, его непонятная фамильярность… Сомнений не было! Из-за коробки с этой надписью «Брогби и Поуэлл» тот его спутал с кем-то другим.
Сдавленным от волнения голосом Бессетт прошептал:
— Морин… боюсь, что я нечаянно вовлек вас в неприятную историю…
Он взял коробочку, аккуратно закрыл ее, а затем уложил и увязал все, как было прежде.
— Вы нечаянно взяли коробку сахарной пудры?
— Эта пудра похожа на кокаин, героин или еще какую-то гадость…
— Боже мой…
— Думаю, что лучше всего отнести ее моему другу, инспектору Хеслопу.
Не желая портить их первого дня, Морин предложила:
— Может быть, отложим это до вечера?
— Конечно, целые горы наркотиков не заставят меня лишиться вашего общества.
Это был самый подходящий момент. Они поцеловались, и это произошло само собой, поскольку теперь у них был общий секрет. Затем, позабыв о случившемся, они пустились в мечты о будущем и с восхищением отметили, что они полностью совпадают. Неизвестно, как долго бы продлились их мечты, если бы их не оборвал грубый голос:
— Ну что, голубки, вернемся на землю?
Перед ними стоял человек в клетчатом костюме. Снизу он казался гигантом. Фрэнсис и Морин вскочили.
— Опять вы? Однако, наглости вам не занимать!
— А по-моему, молодой человек, именно у вас ее предостаточно! Вы берете деньги и еще, вдобавок, уносите товар, чтобы еще раз перепродать его?! Это уже серьезно, очень серьезно… Это может вам стоить неплохого нырка в Мерси… Ну, ладно, хватит шутить… Отдайте мне вещицу… Мне это уже надоело!
Этот человек был крайне неприятен Морин, которая, как и все О'Миллой, не умела скрывать своих чувств. Она сразу же взяла инициативу в свои руки:
— Скажите, куча жира, а вам не хотелось бы искупаться в Ди, чтобы освежить мозги и научиться приличиям?
Тот с минуту разглядывал ее с восхищенным любопытством завсегдатая аукционов, собирающегося купить молодую кобылку, а затем, обернувшись к Фрэнсису, не удержался от замечания:
— А ваша подружка — ничего, а?
Бессетт как благовоспитанный человек ответил:
— Не могли бы вы подыскивать другие выражения по отношению к мисс О'Миллой?
Слегка растерянный Джонни еще раз внимательно посмотрел на них и сказал себе под нос:
— Черт возьми!.. Честное слово, они сошли совсем с другого конвейера!..
Морин молчала слишком долго. Она поспешила наверстать упущенное время.
— Не все же могут родиться, как вы, — в зоопарке, — чертова горилла!
Обиженный Джонни обратился к Фрэнсису:
— Ваша куколка очень невоспитанна, милорд! Только ей лучше заткнуться, иначе я поставлю ей такой горчичник, что она, уже будучи бабушкой, все еще будет помнить о нем!
Эта угроза не испугала, а, наоборот, раззадорила ирландку, которая в детских баталиях с братьями научилась хорошо пользоваться ударами ног. Она подошла к Джонни и, глядя ему прямо в глаза, носком туфли ударила его по ноге. Он издал такой крик боли, что чайки, качавшиеся на волнах Ди, взлетели в воздух. Как только первые минуты недоумения прошли, он взревел:
— Эта дура хочет меня искалечить!
Морин допустила ошибку, оставшись на близком расстоянии от своей жертвы, чтобы порадоваться победе, которую она считала окончательной. Джонни со скоростью, поразительной для его веса, взмахнул рукой и дал ей такую оплеуху, что, потеряв равновесие, она упала на спину.
— Вы ударили женщину! Вы — не джентльмен!
Пока Фрэнсис помогал Морин подняться, Джонни подумал, что ему все это мерещится. В его полной приключениями жизни его обзывали как угодно и обвиняли во всех грехах на свете, но впервые человек, желавший сказать ему что-то неприятное, высказал предположение, что он мог быть джентльменом! Следующие слова, вежливо произнесенные Фрэнсисом, окончательно выбили его из колеи:
— Я сейчас буду с вами боксировать, если только вы немедленно не попросите прощения у мисс О'Миллой!
Более прозаичная Морин подталкивала его приступить к драке немедленно.
— Давайте, Фрэнсис, набейте морду этому хаму!
На глазах у Джонни, который никак не мог в это поверить, Бессетт снял и аккуратно сложил пиджак, закатал рукава рубашки и стал в правильную боксерскую стойку, описанную в правилах, продиктованных маркизом Квинсбэрри. Прежде, чем Джонни успел оправиться от охватившей его оторопи, прямой удар левой разбил ему нос и смертельно травмировал его самолюбие. Шутка зашла слишком далеко, и Джонни бросился на Бессетта в нарушение всех правил английского бокса и ударил его коленом в низ живота. Его соперник скорчился от боли, и тогда он нанес новый удар коленом, на этот раз в лицо, одновременно ударив изо всех сил кулаком по голове. Оглушенный Фрэнсис поднял глаза, но увидел только какие-то призрачные тени. Джонни воспользовался этим и нанес удар правой, вложив в него всю свою силу. Получив удар в челюсть, джентльмен из Оксфорда упал на траву. Джонни не удалось долго радоваться победе, поскольку в бой
вступила Морин. Застигнутый врасплох, Джонни поднял лицо, и ногти девушки прошлись по его щекам, оставив кровоточащие борозды. Рассвирепев, он ударил кулаком наотмашь и попал ей в левый глаз. Морин показалось, что она ослепла; это, вместе с болью, заставило ее упасть рядом с Фрэнсисом. В этот момент из-за дерева вышел Марти с револьвером в руке:
— Отличная работа, Джонни…
Колосс пожал плечами, презрительно указав подбородком на распластанные тела.
— Редкие дохляки!
Марти заметил:
— А малышка — молодец!.. Но не будем ждать, когда они придут в себя… Бери коробку, и уходим!
Джонни подчинился, а потом вдруг спросил:
— Деньги тоже заберем?
— Нет. Будем честны. Мы получили наркогики, а он — деньги; наше дело сделано, а он пусть разбирается сам с хозяином, которого я уж постараюсь предупредить!
* * *
Фрэнсис первым пришел в себя. Ему потребовалось несколько минут, чтобы понять, где он… Вид побледневшего лица Морин с опухшим фиолетовым веком, окруженным разноцветным синяком, полностью вернул ему память и наполнил неожиданным горем при мысли о возможной смерти возлюбленной. Влюбленные всегда с удивительной быстротой переходят от оптимизма к пессимизму. Он осторожно погладил свою спутницу по щеке, прикоснулся к руке, стал слегка, очень осторожно похлопывать ее по щекам, а затем поцеловал в губы. Словно в средневековой сказке это возымело действие, и Морин, обведя затуманенным взглядом все вокруг, остановила его на Бессепе. Узнав его, она улыбнулась и прошептала:
— Вы говорили о дне мечтаний и поэзии, дарлинг[125]?
Фрэнсис едва не расплакался от этого нежного упрека, а Морин в этот момент поняла, что то, что она принимала за тени на лице своего друга, было ничем иным, как запекшейся кровью, стекавшей от носа; еще один, более тонкий ручеек, застыл у рассеченной брови. Сразу же позабыв о своей собственной боли, она попросила у Бессетта платок и попыталась как-то привесит его лицо в порядок, а затем, чтобы там не образовался синяк, она приложила к его шее ключ от своей комнаты, который всегда носила с собой во избежание материнских обысков.
Констебль Джек Эйвери, осуществлявший обход берегов Ди вблизи от Честера и напоминавший всем своим видом, что Англия всегда гордилась благонравием, прибыл к недавнему месту сражения, толкая перед собой велосипед. Увидев парочку, которая, по его мнению, явно нарушала моральные устои, констебль срочно окликнул их:
— Эй вы, где вы находитесь?
Морин насмешливо и довольно дерзко ответила:
— На берегу Ди… или мы ошиблись?
Джек Эйвери уже собирался было призвать эту девчонку к уважению по отношению к человеку, носящему форму полиции Ее Величества Королевы, но заметил ее левый глаз, украшенный столь необыкновенным синяком, и слова замерли у него на языке. Он машинально взглянул на парня, сидящего на земле, и ему показалось, что тот дышит с трудом. Констебль побледнел, увидев его раскроенную бровь и кровь, продолжавшую течь из носа. В негодовании Джек Эйвери повысил голос:
— Как же вам не стыдно драться? В вашем то возрасте!
У Бессетта было еще очень мало сил, чтобы отвечать, и за него это сделала Морин:
— Мы не дрались…
Констебль даже вздрогнул от подобного бесстыдства и сказал со злой иронией:
— Это что же, у молодежи появилась новая манера флиртовать?
Ирландка пожала плечами.
— Нужно признать, что папа был прав.
Вмешательство третьего персонажа, который в данном споре был вроде бы ни при чем, удивило полицейского.
— В чем же, интересно, так прав ваш отец?
— Он все время клянется, что на свете нет людей тупее лягавых и что в этом смысле английские лягавые побили все рекорды…
И улыбнувшись с наигранной скромностью, она добавила:
— … знаете, я ему не верила, но после встречи с вами…
У констебля было очень высокое мнение о своей персоне, и соседи по улице в Честере, где он жил, считали его важным человеком, с которым всегда полезно посоветоваться. Никто и никогда не позволил бы себе разговаривать с ним гак, как это делала эта зеленоглазая девчонка. Чтобы не выставить себя на осмеяние, он подавил обиду и почти вежливо сказал:
— Ясно… мисс из молодых людей, которые уважают только грубость…
Джек Эйвери уже собрался произнести красивую речь, как Фрэнсис Бессетт, наконец, придя в себя, предупредил его:
— Сэр, прекратите донимать мисс О'Миллой, иначе мне, к сожалению, придется боксировать с вами…
Констебля от этого даже передернуло.
— Вы будете боксировать с полицейским, который находится при исполнении обязанностей, сэр?
— К сожалению, сэр, с глубоким сожалением…
— Вы с таким же сожалением ударили эту девушку, сэр? Конечно, если она разговаривала с вами, как только что со мной, у вас могут быть смягчающие обстоятельства… И все же позвольте мне заметить, вы вложили в этот удар достаточно сил, а? Могу ли я узнать ваше имя?
— Фрэнсис Бессетт, а это — мисс О'Миллой.
— О'Миллой, вот как?… Следовательно, мисс — ирландка?
Сквозь сжатые зубы Морин спросила:
— А вы имеете что-то против ирландцев?
— Вовсе нет, мисс… Просто я думаю, что если бы ирландцы существовали во времена фараонов, то в Ветхом Завете они вошли бы в историю как восьмой бич Египта. А теперь можете ли вы сказать, почему вы подрались?
Бессетт расставил вещи по своим местам.
— Мы не дрались.
— Правда? Значит, следы на ваших почтенных лицах — обман зрения?
— На нас напали.
— Неужели? И кто же?
— Один гангстер.
— Да ну! И где же он теперь, этот нехороший человек?
— Извините, пожалуйста, но он не знал, что вы должны прийти, иначе обязательно дождался бы вас, чтобы вы смогли одеть на него наручники.
— Очень остроумно… Может вы будете так любезны сказать, почему этот человек привел вас в такое состояние?
— Потому что у нас были наркотики.
— Потому что у вас были наркотики…
До Джека Эйвери, наконец, дошло сказанное. Он почти закричал:
— Что вы сказали? Наркогики? Какие наркотики?
— Не могу точно сказать — кокаин или героин.
Констебль незаметно ущипнул себя и убедился, что это ему не снится. Он решил, что перед ним — либо ненормальные, либо преступники, которые под воздействием полученных побоев потеряли свою бдительность. Он аккуратно сложил блокнот, в который записывал ответы Морин и Фрэнсиса, и сухо приказал:
— Уверен, что сержант будет — очень рад выслушать вас.
— Мы сами будем рады увидеться с ним.
Ничего не понимая, констебль, предоставив Бессетгу вести велосипед, чем вызвал любопытство гуляющих, отвел их в Честер. В это время Морин думала о том, что скажет лодочник, когда они вернутся без лодки.
* * *
Сержант Николас Таккер ненавидел воскресенья, особенно, когда они выпадали на дни его дежурств. Его огорчало то, что сограждане, одев воскресные костюмы, на целых двенадцать часов прерывали обычные дружеские отношения, и никто из них не хотел зайти к Таккеру, чтобы развлечь его простой, ни к чему не обязывающей болтовней, позволяющей напоминать о дружбе. Это значило, что с самого воскресного утра у него было прескверное наст роение, и горе тем, кто нарушал в этот день закон на территории его участка! Итак, когда трио, состоящее из Джека Эйвери, Морин О'Миллой и Фрэнсиса Бессетта, вошло в помещение участка, при виде багрового лица констебля и побоев на лицах тех, кого тот уже считал преступниками, Николас Таккер обрадовался возможности на ком-то отыграться. В нескольких словах Эйвори обрисовал ему дело, и по мере продолжения рассказа очевидность ошибки констебля дошла до Таккера настолько, что он понял, что на этих двоих ему вряд ли удастся сорвать свою злость. Но едва констебль заговорил о наркотиках, его глаза радостно заблестели. Неужели этот придурок Эйвори напал на настоящее дело?
Спросив еще раз у Морин и Фрэнсиса их полные имена, он выслушал от Бессетта весь рассказ о его приключении с момента встречи с Джонни в баре. Нужно отметить, что хотя у Николаса Таккера был трудный характер, он был честным и достаточно умным человеком и сразу же понял, что Фрэнсис говорит чистую правду. Кроме того, он сам рассказал констеблю о наркотиках. И потом следы побоев на их лицах только подчеркивали правдивость истории: сержант достаточно прожил на свете, чтобы только по тому, как они смотрели друг на друга, понять, что у этой пары больше желания целоваться, чем обмениваться ударами. По тону начальника, которым он разговаривал с теми, кого констебль уже считал задержанными, Джек Эйвери понял, что попал не в очень приятную историю и вряд ли в этот раз газеты напишут о нем, как о герое.
— Мистер Бессетт, меня удивляет одна вещь… Этот мужчина говорил о деньгах, которые он, якобы, вам передал?…
— Он лгал, сержант! Он мне ничего не передавал. Кроме того, неужели вы думаете, что я согласился бы взять их от него?!
В доказательство своей невиновности Фрэнсис пошарил по карманам и с удивлением вытащил оттуда незнакомый конверт. Открыв его, он вынул пачку, состоящую из восьмидесяти банкнот по пять фунтов. Констебль удивленно присвистнул. Никогда ему не приходилось видеть столько денег. Пораженный Бессетт, ничего не понимая, вертел в руках банкноты. Таккер улыбнулся.
— Ну вот, мистер Бессетт… мне кажется, что агрессивность вашего обидчика имела свои причины… Вы получили неплохую сумму!
— Но когда?… Как?
Он рылся в памяти и никак не мог припомнить, чтобы он что-то получал от типа в клетчатом костюме, кроме ударов. Вдруг он вспомнил, как тот вставал с табурета, собираясь выйти из бара: он налег на Фрэнсиса, бормоча свои извинения. Должно быть, в этот момент он и засунул конверт в карман Бессетта. Фрэнсис попытался было объяснить все это сержанту, который уже не знал, какое решение ему принять, но вдруг ему пришла в голову счастливая мысль упомянуть о Брайсе Хеслопе. Они с Таккером позвонили в центральное управление, и, к счастью, Хеслоп оказался на месте. Сержант ввел его в курс дела.
— Инспектор Хеслоп хотел бы видеть как можно скорей вас, мистер Бессетт, и вас, мисс О'Миллой. Он просит подписать протокол описи и привезти ему сумму, которая находится у вас. Так что постарайтесь не потерять эти деньги по дороге, иначе вы станете должником Казны Ее Величества, а выплачивать четыреста фунтов — достаточно сложно для молодой семьи, — хитро добавил он.
Фрэнсис покраснел. А Морин подумала, что Николас Теккер был самым симпатичным лягавым, которого ей приходилось встречать.
* * *
Сидя на скамье верхней палубы ферри-бота и держась за руки, Морин и Фрэнсис видели, как в опускающемся над Мерси вечере росли доки Ливерпуля. Под впечатлением вечернего очарования и всех происшедших событий Фрэнсис обнял Морин за плечи и с беззаботностью влюбленных прошептал:
— Дорогая… вам не кажется, что это — самый красивый пейзаж в мире?
Дочь Пэтрика О'Миллой повернула распухшее лицо.
— Не забывайте, дорогой, что я вижу только одним глазом!
Глава 5
— Видите ли, мистер Бессетт, — очень важно, что бы вы вспомнили место, где утром могли перепутать коробки. Фирмы «Брогби и Пауэлл» в действительности не существует. Таким образом, продавцы наркотиков сами где-то изготовили упаковочную бумагу с этим фальшивым названием, и оно, безусловно, играло роль опознавательного знака; я говорю «играло», поскольку ясно, что как только они поймут, что кто-то посвящен в их секрет, они оставят этот пароль и выдумают другой. Мне кажется, что человек, напавший на вас, принял вас за курьера. Значит, передача наркотиков происходит в «Дереве и Лошади», что, кстати, совершенно не означает, что владелец или его персонал участвуют в деле. На всякий случай мы все же установили слежку за баром, но у меня на этот счет нет никаких иллюзий: это место уже провалилось. Вся операция кажется мне достаточно простой. Вначале наркотики упаковывают в различные кондитерские коробки и относят в бар, где один из клиентов незаметно получает такую коробку. Затем начинается этап распределения. Случай, на который я рассчитывал, хоть и не особо верил в него, вовлек вас в эту цепочку, и вы ее расстроили. Думаю, что вам этого не простят…
— Значит, мистер Хеслоп?…
— Вам необходимо быть очень осторожным, мистер Бессетт. Вы не только разрушили цепочку, но еще и унесли четыреста фунтов! Сомневаюсь, чтобы они вам их подарили!..
— Кстати о деньгах?…
— Держите их всегда при себе… Мы записали номера банкнот, и если кто-то потребует их обратно, вы их отдадите. Мы не считаем вас виновным в их получении.
— Это уже лучше!
Инспектор улыбнулся.
— Мне кажется, что вы напали на тот же след, что и ваш отец; такое впечатление, что его тень натолкнула вас на этот путь… Прошу вас, попытайтесь сделать невозможное и вспомнить, где именно вы могли нечаянно обменяться пакетами?…
— Послушайте, инспектор… После работы я зашел пообедать в один ресторан, где никогда до этого не бывал. Он называется «Голубой попугай». За столом нас было четверо. Обслуживали только мужчины-официанты. Вряд ли я смогу описать вам присутствовавших, поскольку я ждал встречи с мисс О'Миллой и не думал ни о чем другом.
Ирландка обрадовалась этому признанию, и полицейский, наблюдавший за ней краем глаза, внутренне улыбнулся важному виду, который она приняла при этом. Они и в самом деле оба были очень симпатичными и, к счастью, не догадывались о подстерегавшей их опасности…
— Куда вы положили свои вещи во время обеда?
— Позади себя, на перегородку между столами.
— Попытайтесь вспомнить, не лежало ли там что-нибудь еще?
— Кажется, да. Помнится, я отодвинул какие-то вещи, чтобы положить коробку и шляпу, но я не совсем уверен в этом.
— Вы вышли первым из-за стола?
— Нет, наоборот, — последним.
— Очень возможно, что обмен произошел именно в это время… Но человек, который ошибся коробками, не понял этого. Что объясняет то, почему он не пришел в бар пораньше, чтобы предупредить вашего спутника о случившейся ошибке… или, быть может, он испугался ее последствий?
Затем инспектор попросил Фрэнсиса и Морин детально описать человека в клетчатом костюме и с тем отпустил их.
— Уже девять вечера, и я не хочу вас задерживать. Благодарю вас за помощь, мистер Бессетт, и вас, мисс О'Миллой. Если Богу будет угодно, мы не только покончим с опасной торговлей, но и отомстим за ваших родителей, мистер Бессетт.
— Вы действительно так считаете?
— Уверен в этом, хоть пока что не могу предоставить вам достаточных доказательств. Если хотите, можете называть это интуицией.
— Что я должен теперь делать?
— Ждать случая. Меня удивит, если они не станут искать встречи с вами хотя бы для того, чтобы вернуть свои деньги. Поскольку они думают, что вы работаете на себя, то вряд ли подозревают о вашей связи с нами. Вам следует все же быть осторожным, а сейчас самое главное — проводить мисс О'Миллой домой, поскольку ее родителей может беспокоить такое долгое отсутствие.
* * *
Если Бетти просто беспокоилась, то Пэтрик был в такой ярости, что все присутствующие боялись произнести лишнее слово. Его дочь посмела не только ослушаться отца, но еще и не пришла на семейный ужин, ставший традицией со времени помолвок Шона и Лаэма. Каждый был в предчувствии драмы, которая должна была произойти, как только Морин вернется в дом. Ожидание того, что должно было случиться, лишило аппетита всех сидящих за столом, кроме Шона, которому даже известие о собственной близкой смерти не помешало бы поесть. Если Пэтрик хотя бы довольствовался супом, то Бетти вообще ни к чему не притронулась. Молли Грейнар, большой рыжеволосой девушке, сложенной, словно мужчина, было неловко за аппетит своего жениха, Шона. Лаэм, вопреки своим привычкам, не притронулся ни к одному блюду, и его невеста, красивая блондинка, Шейла О'Греди, понимая его состояние, полностью разделяла его. Руэд тоже позабыл о своем постоянном голоде и, не дожидаясь десерта, закурил сигарету.
При каждом звуке шагов на лестнице все поднимали головы и сдерживали дыхание. Кроме того, поскольку О'Миллой жили на первом этаже, каждый запоздалый прохожий, задерживавшийся под их открытым окном, приводил их в подобное состояние. Бетти, Шейла и Молли убрали со стола, составили посуду в мойку и вернулись в комнату. Никто даже не подумал предложить сыграть в карты. Наконец, не выдержав, Лаэм осторожно сказал:
— Может быть, с ней что-то случилось? Побледневший от гнева Пэтрик взглянул на своего младшего сына.
— Не знаю, что с ней случилось, но твердо знаю, что еще что-то случится!
— Поосторожней, Пэтрик О'Миллой, предупреждаю вас, что я не потерплю, чтобы…
Повелительный жест мужа оборвал ее на полуслове. Все прислушались. На улице послышался шепот. Пэтрик сел на стул и выпрямился.
* * *
Морин, опасаясь отцовского гнева, не хотела, чтобы Фрэнсис заходил в дом для извинений, но Фрэнсис как настоящий джентльмен считал своим долгом принять на себя всю ответственность за ее позднее возвращение. Не считаясь с доводами Морин, он был уверен, что ее отец все поймет. Разумеется, он не подозревал о нравах, царивших в семье О'Миллой. Проклиная упрямство джентльменов и их непонимание другой жизни, девушка, наконец, уступила и стала подниматься по лестнице со скоростью приговоренного к смерти, идущего на эшафот. Морин была уверена, что ее романтическое приключение доживало последние секунды и что вскоре ее Фрэнсис, как метеорит, перелетит через этот порог, благодаря Небо, что оно не дало ему возможности войти в это дикое племя.
* * *
Молчание, царившее за дверью, показалось Морин зловещим. Свет, который пробивался из-под нее, говорил о том, что все в сборе. Тогда откуда эта гробовая тишина? Когда дверь, наконец, открылась, увиденная картина поразила Бессетта: семь человек мрачно смотрели прямо на них. Он вспомнил об одном авангардистском фильме, который недавно видел в своем клубе. Морин стало не по себе. Она вошла первой и втащила за собой Фрэнсиса, у которого возникло ощущение, что он — диковинный зверь, выставленный на обозрение в зоопарке. Морин закрыла за ним дверь. Он собрал всю свою храбрость и все-же слегка дрожащим голосом объявил:
— Мое имя — Бессетт…
Никакой реакции не последовало. Его продолжали молча изучать.
— Я пришел попросить у вас прощения за наше опоздание…
Опять — ни слова. Фрэнсису показалось, что он произносит речь на кладбище или в музее, среди статуй.
— …и это не по нашей вине… и… и…
Не двигаясь с места, Пэтрик отчетливо произнес:
— Валите отсюда!
Непривычный к такому обращению, Фрэнсис окончательно растерялся.
— Простите?
Пэтрик резко поднялся.
— Вы что, не поняли? Валите отсюда, пока я не вышвырнул вас в окно!
По вечерам в своей комнате Бессетт часто думал о том, как ему придется знакомиться с родителями девушки, которую он полюбит. Во всех романах, которые он прочел по этому поводу, писали о первоначальной стеснительности обеих сторон, но ни один автор не указал, что можно быть принятым таким вот образом. Он совершенно растерялся и не знал что предпринять, чтобы сохранить свое достоинство и, в то же время, не поссориться со своими будущими родственниками. Чувствуя приближение опасности, Морин стала с ним рядом и оказалась в кругу электрического света. Увидев подбитый глаз дочери, Бетти вскрикнула:
— Морин… что с вами случилось?
Все сразу же вскочили с мест, словно материнский крик освободил их от оцепенения. Шон подошел к Бессетту.
— Зачем вы ударили сестру?
— Я?
Но на этом месте воспоминания Бессетта о том, что произошло дальше, оборвались, поскольку старший сын О'Миллой нанес ему удар такой силы, что, выпустив из рук зонтик и шляпу, Фрэнсис влетел в открытый буфет и распластался там, потеряв сознание. Злорадным смехом Пэтрик приветствовал этот мастерский удар. Морин, недолго раздумывая, со всего размаха дала Шону оплеуху, и он ответил ей тем же, да так, что девушка отлетела в угол комнаты. Бетти кричала и призывала Небо себе в помощь. Лаэм, который не мог переносить, чтобы трогали его сестру, ударил Шона кулаком в солнечное сплетение, и тот принялся ловить ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Чтобы защитить честь семьи, Руэд набросился на Лаэма, но в это время Морин схватила вазу с цветами и разбила ее о голову самого младшего брата. Тот, схватившись руками за голову, упал на стул. Почувствовав азарт битвы, Пэтрик взобрался на стол и стал подзадоривать дерущихся. Бетти сбегала на кухню и вернулась оттуда с качалкой для теста. Фрэнсис, придя в себя, начал выбираться из буфета, чтобы поспешить на помощь Морин, которую Молли схватила и держала за волосы, но на пути ему попался Шон, который тоже собирался броситься в драку, и, нарвавшись на удар его правой, Бессетт возвратился в буфет, откуда больше не выходил. Освобожденная Шейлой, которая продолжала объясняться с Молли при помощи пощечин с чисто ирландской добросовестностью, Морин схватила Шона за ноги. Гигант не мог двинуться с места в то время, как Лаэм наделял его ударами, на которые тот не мог ответить. Он очень быстро упал бы, если бы Руэд с еще затуманенной головой не поспешил ему на помощь. Это было всеобщее побоище, в котором участвовали и парни, и девушки, и мебель, и посуда. Как только кому-то удавалось выбраться из свалки, он сразу же хватал что-то из посуды и разбивал ее о первую же подвернувшуюся голову, а затем снова бросался в эту кипящую лаву. Воодушевленный Пэтрик издавал боевые кличи древнего клана из Югхела, а Бетти вся в слезах изо всех сил била качалкой по задам, высовывавшимся из кучи, не заботясь о том, кому они принадлежат. Крики, резкие голоса девушек, ругательства мужчин усиливались звоном разбиваемой посуды, треском разваливающихся стульев и шумом переворачиваемой мебели. Бессетт в это время отдыхал в своем буфете, словно святой в нише собора.
Благодаря ограниченному пространству комнаты, Морин, Шейла и Лаэм еще не пали под напором атак Шона, Руэда и Молли. Внезапно кто-то постучал в дверь. На стук не обратили никакого внимания. Гостю ничего не оставалось, как войти самому. Это был Сэмюэль О'Кейси, сосед О'Миллой сверху. Он очень вежливо снял фуражку и обратился к Пэтрику, который все еще стоял на столе, как Атилла на кургане:
— Сосед, вы скоро закончите? Уже пол-одиннадцатого. Мы с женой хотели бы послушать последние новости…
Несчастный Сэмюэль так и не узнал, что ответил ему Пэтрик, так как в тот самый момент, когда он высказывал свою просьбу о тишине, пришедший в себя Бессетт, опьяненный яростью при виде растрепанной Морин, уцепившейся в Молли, вырвался из буфета, схватил на ходу чудом еще уцелевший чайник для заварки чая и с силой разбил о его лысую голову, приняв его за своего противника. Сэмюэль сразу же потерял всякий интерес к политике и к радио. А разъяренный Фрэнсис даже не обратил внимания на упавшего соседа.
Не дождавшись мужа, Вирджиния О'Кейси решила, что эти ужасные О'Миллой убивают его, хоть фальцет ее супруга и не слышался среди шума, царившего внизу. Уже считая себя вдовой, которой следует немедленно воззвать к справедливости и насладиться местью, Вирджиния позвонила в полицию.
Сержант Мэлколм Пиз страшно раздражал старшего инспектора Элэна Понсонби, который в этот день был старшим по участку на Сент Джеймс Стрит. Это происходило, во-первых, потому что сержанту было двадцать шесть лет, в то время как инспектору — сорок два, а, во-вторых, потому что Пиз никак не хотел считать себя ничтожеством, а, напротив, был уверен в своем высоком предназначении в избранной профессии и посему считал старших по званию либо ни на что не способными, либо погрязшими в рутине, откуда им не суждено было выкарабкаться. У Мэлколма на все случаи были заготовлены свои возражения. Каждое решение становилось предметом для критики с его стороны. Короче говоря, за те восемь дней, что он входил в состав группы, сержант успел надоесть всем, и самые тихие констебли ожидали случая утереть ему нос.
Через приоткрытую дверь кабинета старший инспектор слышал, как Мэлколм Пиз посреди констеблей, вынужденных его слушать, хвастал знаниями приемов дзю-до, якобы позволявшими ему обезвредить любого преступника и при этом не дать ему возможности даже дотронуться до себя. Элэн Понсонби знал приемы дзю-до, и все же его тело было покрыто многими шрамами. Он улыбнулся, подумав, что как только хвастун в первый раз попадет в больницу, у него будет достаточно времени подумать о разнице между теорией и практикой и понять, насколько первая отличается от второй. Как раз в этот момент и позвонила Вирджиния, умоляя полицию Ее Величества прибыть на помощь и избавить ее мужа Сэмюэля от этих ужасных О'Миллой. Инспектор успокоил даму, заверив, что они тотчас же примут все необходимые меры. Он достаточно хорошо знал ирландцев со Спарлинг Стрит и понимал, что лучше всего туда приехать, когда их воинственный запал иссякнет. Он не спеша встал, открыл дверь кабинета и объявил:
— Ребята, у О'Миллой опять потасовка.
Констебли сделали вид, что ничего не услышали. Старший инспектор строго смотрел на них, но никто не выказал желания установить порядок среди этих ненормальных ирландцев.
— Кокс и Стокквелл, пойдите посмотрите, что там у них происходит.
Оба констебля медленно, безо всякого энтузиазма поднялись. Мэлколм Пиз стал подшучивать над ними.
— Вам не нравится задание? Может вы боитесь?
Толстяк Кокс, который уже двадцать лет прослужил констеблем, со злостью ответил:
— Если бы вы знали О'Миллой, вас бы это тоже не обрадовало, сержант!
— Правда? Они такие страшные?
— Да, они умеют орудовать кулаками!
— Ладно! Так уж и быть, я покажу вам, как следует доставлять в тюрьму типов, которые осмеливаются поднимать руку на полицейского в форме. Следуйте за мной и, если хотите, можете туда вообще не входить.
— С удовольствием, сержант!
Когда троица вышла, Элэн Понсонби подморгнул оставшимся и высказал вслух общую мысль:
— Кажется, у него будет возможность заняться любимым спортом…
В ста метрах от дома уже слышался шум драки. Когда трое полицейских подошли к окну квартиры О'Миллой, оттуда вылетела миска для супа и разбилась о тротуар у самых ног Мэлколма Пиза. Он обернулся к своим спутникам.
— Оставайтесь здесь, если вы понадобитесь, я свистну.
Он решительно вошел в дверь подъезда, поднялся по лестнице и открыл дверь квартиры О'Миллой. Увиденная сцена заставила его оцепенеть на пороге. Он не сразу разобрался в этой ревущей массе, которая каталась по полу, и откуда временами высовывалась то нога, то рука, то туловище и голова с лицом, налитым кровью. Сержант также не понял, в чем состояла роль человека, взобравшегося на стол и издававшего воинственные крики, и что делала женщина с седыми волосами и с качалкой для теста в руках. Придя в себя, Мэлколм крикнул:
— Именем закона, остановитесь!
Он с удовольствием увидел, что услышав приказ, они подчинились ему. На его глазах масса распалась на девушек и молодых людей в изорванной одежде и с окровавленными лицами. Он уже был готов обратиться со строгой речью к нарушителям закона, как вдруг его самого вовлекло в этот поток. Вначале ему показалось, что его оглушило бомбой, разрыва которой он не услышал, затем в голове все перемешалось. Он только понял, что его куда-то понесли на руках, и… он вылетел в окно. Удивление и негодование не позволили ему сразу же закричать, а когда он, наконец, это сделал, было уже слишком поздно. Описав ту же самую траекторию, что и миска для супа, он стрелой пролетел через, к счастью, открытое окно и распластался у ног Кокса и Стокквелла, которые, склонившись над ним, с трудом сдерживали злорадный смех.
Растеряв всю уверенность в неприкосновенности полиции, Мэлколм Пиз, приняв вертикальное положение, оправил одежду и, опьяненный жаждой мести, приказал:
— Вперед!
Кокс и Стокквелл вежливо пропустили его первого.
Если бы не тело Сэмюэля О'Кейси, едва начавшее шевелиться, и не следы на лицах только что дравшихся, ничто не смогло бы выдать беспорядка, недавно царившего в комнате, где за столом сидели и мирно беседовали ее обитатели и гости. Мэлколм увидел в этом новое проявление насмешки над его авторитетом. Теряя хладнокровие, он набросился на первого же, кто попался ему под руку. По воле случая им оказался Шон.
— Так это вы позволили себе поднять на меня руку? Это вам дорого обойдется! Я отправлю вас на каторгу, негодяй!
Ирландец поднял на полицейского ангельски невинные глаза.
— Я, сержант? Как вы только могли такое подумать? Я никогда бы себе не позволил…
Если бы Мэлколм не заметил иронических усмешек других, он, возможно, сохранил бы самообладание, но разозленный перенесенным унижением и уверенный, что завтра об этом будут говорить во всех участках ливерпульской полиции, он поднял дубинку и изо всех сил так ударил Шона О'Миллой по голове, что гигант, выдерживавший любые удары, рухнул на пол. Пэтрик, вынув трубку изо рта, заметил:
— А что, если вы его убили?
Пиз понял, что попался на удочку. Допущенную им глупость доказывали и неодобрительные выражения лиц Кокса и Стокквелла. Он попытался поднять Шона, но тот лежал, словно труп. Бетти в искреннем отчаянии воскликнула:
— Он убил моего сына!
Перепуганный Мэлколм не очень уверенно возразил:
— Пожалуйста, не будем ничего преувеличивать!
Но Пэтрик решил расставить все точки над «i».
— Вы ударили его безо всякого повода. Он вам ничем не угрожал и не провоцировал… Я называю это убийством… или покушением на убийство…
И он обратился к неподвижно стоявшим полицейским:
— … думаю… что господа разделяют мое мнение?
Кокс и Стокквелл ничего не ответили, но блеск их глаз выражал восхищение шуткой, сыгранной с сержантом. Пиз вызвал полицейский автобус, который забрал всех; при этом Шона пришлось нести на носилках.
Сержант составил рапорт, в котором было подчеркнуто, как с ним обошлись, при этом, правда, не забыв указать и свою ошибку: он написал, что ударил безоружного человека, не нападавшего на него. Вызванный сразу же доктор сделал заключение, что Шон чувствует себя достаточно хорошо, насколько это возможно после такого количества ударов. Ирландец согласился подняться на ноги, жалуясь на ужасную боль в голове. Инспектор, хорошо знавший семейство О'Миллой, приказал поместить их в камеру до завтрашнего разбирательства в суде. Затем он вызвал Мэлколма Пиза в кабинет и высказал ему свое мнение о случившемся. Инспектор объяснил, что сержант попал в неприятную историю и что старый Пэтрик может потребовать свидетельских показаний Кокса и Стокквелла. Пиз мог получить строгий выговор по службе. С него могли даже снять сержантские нашивки и отправить на перекресток уличным регулировщиком, дабы он понял, что хладнокровие — неотъемлемая часть работы полицейкого.
Опустив голову, Мэлколм выслушал все упреки и вернулся к себе, полный ненависти к Ирландии и ее жителям.
Бетти, Шейла, Молли и Морин, позабыв за решеткой о разногласиях, посмеивались над своими лицами, заклеенными лейкопластырем, благодаря заботам тюремного врача, и пытались, насколько это было возможно в данных условиях, привести в порядок свой туалет и успокоить миссис О'Миллой, которая жаждала лучше умереть, чем переносить позор тюрьмы. Мужчины же обсуждали шутку, сыгранную с сержантом. Один только Сэмюэль О'Кейси не разделял всеобщего оживления. Сидя в углу камеры, он разговаривал с невидимым собеседником:
— Я спустился вниз попросить О'Миллой дать мне послушать новости в пол-одиннадцатого — и вот я в тюрьме… Здесь что-то не так…
И он стал повторять последнюю фразу, словно молитву:
— … здесь что-то не так… здесь что-то не так…
Фрэнсис Бессетт, словно протрезвевший пьяница, никак не мог понять, как могло случиться, что он совершил такой отвратительный поступок, и каким образом он, выпускник Мэгделен Колледжа, рулевой оксфордской восьмерки и будущий начальник европейского отдела конторы Клайва Лимсея и сына, мог оказаться в тюрьме вместе с этими ирландцами, с которыми он дрался, словно обыкновенный забулдыга? Было от чего скептически вспомнить все теории, которые они проходили в Оксфорде и которые говорили об основных различиях между цивилизованными людьми и дикарями. Фрэнсис попытался освежить в памяти кое-что из теорий Фрейда, дабы объяснить свое поведение, но, как и Сэмюэль О'Кейси, он не мог решить эту задачу. Кроме того боль в голове не позволяла ему совершать больших умственных усилий. Полоски лейкопластыря, заклеившие все лицо, придавали ему вид мумии. Внезапно Фрэнсис с ужасом подумал, что если Клайв Лимсей узнает о случившемся, он может попросить его подыскать себе более подходящее для подобных взрывов энергии место. О реакции Джошуа Мелитта он вообще старался не думать. Конечно же, возможные поклонники Клементины не стали бы драться с родителями своей невесты! Настроение Бессетта было намного ниже нуля, как вдруг его взгляд встретился со взглядом Морин. В другом конце коридора, словно львица, заключенная в клетку и вглядывающаяся в своего укротителя, она старалась привлечь его внимание и незаметно махнула ему рукой. Он послал ей воздушный поцелуй. Она ответила ему тем же, и Фрэнсис подумал, что несмотря на все повязки, она была прелестна. Что бы ни говорили Лимсей, Мелитт, полиция, Ливерпуль и все британские джентльмены, он был самым счастливым человеком на свете. Повеселевший Фрэнсис подошел к Пэтрику, сидевшему рядом с Шоном и Руэдом. Лаэм, пребывая в мрачном настроении, сидел на корточках в другом углу камеры. Известно, что тюрьма наводит заключенных на размышления, а ирландцы, когда размышляют, сразу же погружаются в неизлечимую меланхолию. Они вспоминают свою родину, если находятся вдали от нее, или строят фантастические планы побега, если сидят в тюрьме на родине предков. Сыновья Пэтрика никогда не видели Ирландии, но, зная все о ней из рас-сказов отца, тосковали по ней. Когда ирландцы грустят, они чаще всего напиваются, а когда пить нечего, — они поют песни.
Приятным басом старый ирландец затянул жалобную песню о Молли Мейлоун:
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty
I first set my eyes on sweet Molly Malone…[126]
Сыновья хором подхватили, девушки ответили, и прекрасный призрак Молли Мейлоун, рыбачки, умершей от горячки, со своей неизменной тележкой возник в коридоре участка на Сент Джеймс Стрит. Правда, лишь ирландцы умели слышать скрип колес этой маленькой тележки. После Молли Мейлоун Лаэм спел песню о разбойниках из Мэллод, готовых пожертвовать своей жизнью, чтобы понравиться возлюбленной. Морин решила напомнить о себе и высоким голосом запела «Shulle Agra», где девушка плачет по уезжающему возлюбленному и обещает дождаться его возвращения… От этой песни у Фрэнсиса на глаза навернулись слезы.
Пришел констебль Кокс и попросил семейство О'Миллой замолчать, поскольку время было уже за полночь и дежурившим полицейским хотелось отдохнуть. Пэтрик заверил его, что если даже все английские ищейки сдохнут от усталости, он не станет носить по ним траура и что он прекращает петь потому, что на этом его репертуар заканчивается. Чтобы показать, насколько ему наплевать на порядки, установленные в Королевстве, он, вопреки всем запретам, достал и закурил сигарету. Все последовали его примеру, кроме О'Кейси, который все силился понять, что же с ним произошло. Констебль Кокс мог бы вмешаться, но что бы это дало? Пожав плечами, он вернулся к своим сослуживцам и поинтересовался у Стокквелла, спят ли вообще ирландцы по ночам?
В понедельник утром инспектор Понсонби, зайдя взглянуть на задержанных, отметил, что в камере из-за дыма невозможно было дышать. Он позвал Кокса.
— Скажите, Кокс, вам, случайно, не кажется, что задержанные не имеют права курить?
— Вы правы, инспектор.
— Тогда почему же здесь столько дыма?
— У них были сигареты…
— Спасибо за такое логичное объяснение, Кокс. Вот только, как быть с правилом, согласно которому все вещи из карманов задержанных должны быть изъяты? Вы о нем, конечно, не знали?
— Знал, инспектор.
— Тогда, в чем же дело?
— Дело в том, что я — отец четверых детей, еще не способных зарабатывать себе на жизнь…
— Ладно, Кокс, поговорим об этом позже… Приведите Пэтрика О'Миллой в мой кабинет.
* * *
Прежде, чем обвиняемые предстали перед судьей, который должен был решить их дальнейшую участь, у Элэна Понсоби произошел разговор с глазу на глаз со старым О'Миллой. Они договорились между собой, что на суде не будет припоминаться случай выброса в окно сержанта, что повлекло бы строгое наказание для тех, кто это совершил; но взамен ирландцы обязуются молчать о злосчастном ударе, нанесенном Мэлколмом Пизом Шону О'Миллой. Сержанту пришлось переписать рапорт. Затаив злость, он приступил к этой операции и пообещал себе в один прекрасный день взять за все реванш.
Увидев целую толпу людей, вошедших в зал заседаний, судья Джордж Брэнд устало вздохнул: неделя начиналась тяжело. Выслушав рассказ Мэлколма Пиза и почти ничего из него не поняв, он обратился к задержанным:
— Признаете ли вы свою вину?
Пэтрик голосом оратора ответил за всех:
— Нет, Ваша Честь!
Судья хорошо знал ирландцев. Он потребовал, чтобы всех отвели в сторону. Перед ним остались только Бессетт и О'Кейси. Последний при допросе показал, что он спустился к О'Миллой, чтобы попросить их об одной услуге, и, похоже, что-то упало ему на голову. Начиная с этого момента, он ничего не помнил и пришел в себя только в участке.
— Значит, насколько я понимаю, вы — скорей жертва? Сержант, вам не кажется, что не стоило задерживать на ночь пострадавшего?
— Я не знал об этом, Ваша Честь.
— Именно это я и ставлю вам в упрек, сержант Вы будете обращаться с иском, О'Кейси?
— Я?… С иском? На кого?
— На О'Миллой.
О'Кейси взглянул на Пэтрика, вздрогнул и поспешил сказать:
— О нет, Ваша Честь… Это, безусловно, недоразумение… С вашего позволения, я хотел бы вернуться домой… Вирджиния, должно быть, беспокоится…
— Да будет так! Вы свободны…
О'Кейси мгновенно исчез, питая надежду, что жена окажется столь же понятливой, как и судья.
Когда Джордж Брэнд узнал имя и общественное положение Фрэнсиса, он не смог скрыть своего удивления.
— Вы-то как попали в эту историю, черт возьми?
Бессетт объяснил, что у него была встреча с мисс О'Миллой, которую он провожал домой.
— И что же произошло потом?
— Ваша Честь, я не в состоянии объяснить, что случилось после. Припоминаю, что я очнулся в буфете. Думаю, что из него я выбрался, но потом опять оказался там же…
Судья вновь строго посмотрел на Мэлколма Пиза.
— Сержант, к сожалению, вынужден вам сделать еще одно замечание. Вы будете обращаться с иском, мистер Бессетт?
— Нет, Ваша Честь.
— В таком случае, можете вернуться домой, и в следующий раз будьте разборчивей в своих знакомствах.
Разобравшись с женщинами, он отослал их по домам. Остались четверо ирландцев, от которых говорил Пэтрик. Он указал, что вмешательство полиции в семейную ссору — это злоупотребление властью и что закон не воспрещает отцу воспитывать своих детей так, как он сочтет нужным. Джордж Брэнд не попался на эту удочку, по история его позабавила, и, продемонстрировав свое добродушие, он задержал Руэда, Лаэма и Шона, а Пэтрику определил наказание в восемь дней тюрьмы, за что последний поблагодарил его подмигиванием глаза, и судья совершенно автоматически ответил ему тем же.
* * *
Фрэнсис подождал Морин. Он проводил ее до Скарлинг Стрит, и, когда они договорились о встрече на вечер, девушке захотелось сказать что-то хорошее своему кавалеру. Поскольку у нее было недостаточно опыта, она удовольствовалась фразой «Прекрасный вечер, правда?», которая привела Бессетта в некоторое замешательство, но девушка нравилась ему настолько, что для него оказалось нетрудным разделить это странное мнение.
Глава 6
Вернувшись домой, Фрэнсис взглянул на себя в зеркало ванной комнаты и вынужден был признать, что лейкопластырь, украшавший его левую бровь и правую скулу, не придавал ему никакой степенности. При мысли, что бедная Морин выглядела не лучше, его сердце ощутило прилив нежных чувств. Когда они состарятся, они расскажут эту историю внукам, которые будут их слушать с раскрытым от восхищения ртом, если только не подумают, что у стариков все перепуталось в памяти. Осторожно умывшись, Бессетт побрился, переоделся и достал из шкафа свою старую шляпу (нужно было сегодня же купить новую шляпу и зонтик, поскольку без последнего он не знал, куда девать руки). Затем, увидев, что он уже все равно опаздывает на работу на два часа, Фрэнсис позволил себе выкурить сигарету, сидя в кресле и с удовольствием ощущая его удобство. Он опять переживал это странное происшествие. Неужели случай действительно навел его на след убийц родителей? Какая-то новая энергия наполняла его мускулы при мысли о возможности близкой схватки с ними и о возмездии. Он чувствовал в себе силы пойти на любой риск, на любую опасность, быть неутомимым, лишь бы убийцы, наконец, оказались в руках палача. Теперь он был уверен, что с помощью инспектора Хеслопа ему все удастся. Но будет ли еще такой случай, как при обмене коробками? Кроме того непонятно, неужели курьер, развозивший наркотики, был настолько неосторожен, что попросту ошибся коробками? Или он очень торопился?… Но Фрэнсис не помнил, чтобы кто-то в спешке выходил из-за стола. Вместо этого он вспомнил, как торопился Берт по окончании собрания у Лимсея; Берт спешил так, что даже нарушил этим принятые в конторе правила. Вдруг Бессетт вскочил: у Берта в руках была коробка! Он был в этом уверен! Как он не подумал об этом раньше? Неужели же Берт… Ему вспомнилось все, что Джошуа Мелитт рассказывал о беззаботности наследника фирмы, о его беспорядочной жизни, постоянной нехватке денег. Во Фрэнсисе все восставало против предположения, что Берт мог быть убийцей его родителей. Но его друг сам сказал, что он — завсегдатай в «Дереве и Лошади», и, если допустить его виновность, все становилось на свои места. Становилось понятным, как Билл и Мод напали на след наркотиков, ведущий из оффиса, где работал отец Бессетта. Подобное заключение намного уменьшало сомнительную роль случая. С пустой головой и ватными ногами Бессетт попытался справиться с приступом тошноты. Сердце восставало против
рассудка. Только не Берт! Это невозможно было себе представить! Берт, его друг и покровитель…
Раздавленный тем, что стало реальностью, Бессетт шел по улице неровной, неуверенной походкой пьяницы, несоизмеряющего расстояния и размеры. Прохожие шарахались от него, одни в негодовании, другие, сожалея, что такой джентльмен появился в общественном месте в таком состоянии и в такое время. Однако холодный, пробирающий насквозь ветер все же вырвал его, наконец, из прострации. Он разозлился на себя за то, что его эмоции одержали столь быструю победу над рассудительностью. Нельзя с такой легкостью обвинять кого-то, особенно, если этот кто-то — испытанный друг. Если по логике нельзя было категорически отвергнуть предположение о том, что Берт торговец наркотиками и убийца, то следовало хотя бы подходить к этому предположению с большой осторожностью.
Когда Фрэнсис вошел в свой кабинет, он застал в нем мисс Скрю с непроницаемым лицом и взглядом, полным упреков. Вообще, всем своим видом она давала понять, что именно она думает о Фрэнсисе Бессетте, но у последнего было достаточно своих собственных забот, чтобы обращать внимание на настроение своей примерной секретарши.
— Как ваши дела, мисс Скрю?
— Мои — хорошо, по ваши, судя по вашему виду, не очень?
Фрэнсис инстинктивно поднес руку к лицу и, изобразив легкую досаду, ответил:
— Глупое недоразумение…
Она сухо заметила:
— Все недоразумения глупы, сэр.
Не желая более продолжать эту лингвистическую дискуссию, Фрэнсис сел за стол.
— Много почты, мисс Скрю?
— Как всегда по понедельникам, сэр…
Он чувствовал, что она умирала от любопытства и злилась, что он не сказал ни слова о своем опоздании.
— Дайте мне сначала самые срочные письма.
— Вы знаете, что уже четверть двенадцатого, сэр?
— Правда?
Он взглянул на часы.
— Да, я опоздал на пять минут… Спасибо, мисс Скрю.
Тогда она, не выдержав подобного цинизма по отношению к фирме Лимсея, которой она посвятила всю свою молодость, и вспомнив о том, что именно она в последнее время была помощницей Бессетта во всех делах, закричала:
— Вы опоздали больше, чем на пять минут! Вы должны были быть на месте два часа пятнадцать минут тому назад!
— А почему вас это беспокоит?
Мисс Скрю так обиженно умолкла, словно ей дали пощечину. Впервые за все время работы в этой фирме, где она чувствовала себя, как дома, ей напомнили, что она была, есть и будет всего лишь подчиненной. У нее на глазах появились слезы. Увидев их, Фрэнсис почувствовал угрызения совести. Он добавил:
— Я опоздал потому, что провел ночь в тюрьме, и, когда судья меня освободил, мне нужно было зайти домой, чтобы привести себя в порядок.
Мисс Скрю слышала эти слова, но ее разум отказывался воспринимать их. Джентльмен, занимающий видное место в фирме Лимсея, — в тюрьме?!
И об этом было заявлено с такой беззаботностью, словно джентльмен говорил о том, что побывал в гостинице «Аделфи». Уверенная в том, что перед ней новый Джек Потрошитель, она жалобно вскрикнула и к удивлению Бессетта одним прыжком оказалась у двери, за которой моментально исчезла.
Фрэнсис еще не оправился от удивления по поводу необычного поведения мисс Скрю, как в кабинет вошел Джошуа Мелитт с озабоченным видом.
— Здравствуйте, Фрэнсис… Знаете, мне очень неприятно… Вы видели мисс Скрю?
— Она только что была здесь.
— И… она вам показалась нормальной?
— А что, она чем-то заболела?
— Как раз об этом я только что думал… Похоже, что у нее что-то случилось с головой.
— Даже так?
— Посудите сами: она, как ракета, ворвалась ко мне, крича, что вернулся Джек Потрошитель!
— Джек Потрошитель?
— И… извините, Фрэнсис… мне показалось, что… она имела в виду вас…
— Меня?
— Зная вас, я не думаю, что вы могли бы допустить что-то такое по отношению к мисс Скрю… и потом, ее внешность не очень к этому располагает…
Бессетт рассмеялся. Смущенный Мелитг объяснил:
— Хоть она и говорила очень несвязно, мне показалось, будто она сказала, что вы вышли из тюрьмы… Представляете? У нее, вероятно, какой-то припадок… Придется об этом сказать Клайву Лимсею.
— Не делайте этого!
— Почему?
— Потому, что мисс Скрю права. По глупости я признался ей, что провел ночь в тюрьме и…
Джошуа сухо прервал собеседника:
— Вы представляете, что говорите, Бессетт?
— Простите?
— Вы хотите сказать, что вы, Фрэнсис Бессетт, провели ночь в тюрьме под стражей?
— Именно так.
Джошуа Мелитг покачнулся.
— По… недоразумению?
— Нет… из-за драки с ирландцами на Спарлинг Стриг.
Джошуа, словно эхо, повторил:
— На Спарлинг Стрит…
Он взял стул и сел. Чтобы успокоить Мелитта, Фрэнсис объяснил, что родственники его возлюбленной оказались слишком вспыльчивыми…
— Кто они?
— Кажется, докеры.
— И вы хотите жениться на дочери докера?
— Если она согласится, — да.
Мелитт ничего не ответил, но вложил в молчание все свое неодобрение. Джошуа встал.
— Поверьте мне, Бессетт, я ничего не имею против ирландцев вообще и против вашей девушки в частности, но вы неопытны, и я хотел бы предостеречь вас от неверного шага. Неравный брак еще никогда и никому не приносил счастья. Кроме того, ваше будущее место откроет вам дверь в общество, которое вам пока еще недоступно. Вам следует выбрать спутницу, которая не будет чужда ему. От этого зависит ваша карьера.
— Это беспокоит меня меньше всего!
Мистер Мелитт в недоумении посмотрел на него.
— Вам безразлично ваше будущее?
— Конечно нет, но я не хочу ради него жертвовать счастьем!
— Мне очень жаль, Бессетт, но, кажется, я ошибся в вас, и мне придется об этом сказать Клайву Лимсею.
— Хоть сейчас же!
— Я не нуждаюсь в вашем разрешении!
Когда Джошуа вышел, Фрэнсис понял, что потерял друга.
* * *
Вопреки ожиданиям, Клайв Лимсей принял Фрэнсиса очень хорошо и не продемонстрировал узости взглядов Джошуа Мелитта. Он довольствовался несколькими отеческими советами и заверил Бессетта, что первым радостно примет ту, кого Фрэнсис представит ему, как свою невесту, потому что, во-первых, личная жизнь сотрудников его не интересует до тех пор, пока не влечет за собой скандала, а, во-вторых, он уверен, что Бессетт сумеет сделать прекрасный выбор. Фрэнсис стал благодарить патрона, но тот добавил:
— Даже если почтенные господа иногда попадают в тюрьму по несерьезному поводу, мы все равно вынуждены считаться с общественным мнением… Так что постарайтесь вести более спокойный образ жизни во имя хорошей репутации пашей фирмы. Знаете, Фрэнсис, мы придерживаемся многих старых традиций, а у тюрьмы дурная слава… Мне было бы неприятно часто вытаскивать вас оттуда.
Обрадованный пониманием со стороны Лимсея, Бессетт встретился с его сыном гораздо теплей, чем сам мог бы подумать несколькими часами раньше. Узнав о похождениях друга, Берт тепло заметил:
— Ну что, старый каторжник, вам удалось выйти сухим из воды?
Глядя в это симпатичное лицо, Бессетт испытывал стыд за свои подозрения. Неужели же у него столь низкая душа, что он мог заподозрить этого жизнерадостного парня в отвратительных преступлениях? Он еще раз рассказал о своих ночных приключениях. Берт, согнувшись пополам, сотрясался от смеха, который, должно быть, приводил в негодование Джошуа Мелитта.
— Скажите, Фрэнсис, эта Морин, должно быть, — высший класс!
— Это самая красивая девушка в Ливерпуле.
— Уверен в этом. Когда вы мне ее покажете?
— При первом же удобном случае.
— Я буду вашим свидетелем, а? И крестным отцом первого маленького Бессетта!
— Вы заглядываете слишком далеко вперед.
— Это же необходимое качество каждого делового человека. И потом, старина, пусть вас не беспокоят эти ирландцы, — я хорошо знаю, что это за люди, и сумею с ними договориться… Когда-то у меня была подружка из Ирландии… Ее звали Дибора… Она все принимала всерьез и была слишком хороша для такого типа, как я… Но не стану вам всего рассказывать, иначе вы не пригласите меня на свадьбу! И вы от этого много потеряете: я отличный десерт!
В памяти Бессетта, которого забавлял тон Берта, слово «десерт» вызвало образ подмененной коробки. Чтобы избавиться от последних подозрений, он решил воспользоваться случаем.
— А вчера утром вы спешили к другой Диборе, когда вылетели от нас, как стрела?
— Нет, к прекрасному ребенку с чудесным именем Присцил ла… Она пообещала подождать меня в Рице, где я хотел угостить ее великолепным обедом… но не стоит доверять обещаниям женщин… во всяком случае, если они не ирландки.
— Значит, вам пришлось самому съесть все пирожные?
— Пирожные?
— Разве коробка, с которой вы убежали, была не с пирожными?
— Нет, с конфетами… Должен сказать, что эти конфеты сослужили мне службу дважды… Они позволили мне попытаться добиться успеха еще раз, и опять неудачно, с одной прелестной продавщицей у Тарнетона, знаете? На Черч Стрит? Такая рыженькая. Когда она смотрит на вас — по спине бегут мурашки. Ее зовут Эллисон. Я стараюсь добраться до нее, покупая у нее конфеты…
— Которые вы дарите другим…
— Не стану же я дарить конфеты человеку, который их продает!
Когда в полдень Бессетт вошел в элегантный магазин Тарнетона, там была только одна рыжая продавщица. Должно быть, именно эта сирена увлекла Берта. Фрэнсис обратился прямо к ней:
— Я хотел бы купить конфет, мисс.
— Каких, сэр?
— Таких же как те, которые покупает Берт Лимсей.
Она улыбнулась.
— О, мистер Лимсей никогда не покупает одни и те же!..
— Те, что он купил вчера утром, были превосходны.
— Кажется, это были «Хопджиз».
Фрэнсису хотелось расцеловать эту Эллисон, которая, сама того не зная, доказала, что Берт не лгал, но он не решился, посчитав, что уже и так натворил достаточно глупостей.
После обеда Бессетт прекрасно провел время за работой. Он любил Морин, и, похоже, она тоже его любила. Берт был прекрасным другом, на которого можно было рассчитывать. При мысли, что Лимсей-младший мог узнать, что он думал о нем, выходя из дома, Фрэнсис покрылся холодным потом. Он решил, что в будущем будет рассудительней. Уходя с работы, он заглянул к Берту и предложил ему выпить по стаканчику в компании с Морин, чтобы как-то успокоить совесть. Наследник Лимсея принял приглашение и сказал, что он будет ждать их в «Дереве и Лошади».
Когда Фрэнсис предложил Морин посидеть в баре на Дейл Стрит вместе с Бертом, она поначалу отказалась, сказав, что с таким лицом не может появиться в подобном обществе. Ей не хотелось, чтобы мистер Лимсей считал ее некрасивой или смешной. Бессетт напрасно убеждал ее, что главное — это то, что она нравится ему (он не осмелился добавить, что был бы рад, если бы Берт счел ее не в своем вкусе). Девушка ничего не хотела слышать. На самом же деле она просто боялась попасть в незнакомое для себя общество и оказаться там не на месте. Ей казалось, что в этом баре полно элегантных женщин, среди которых ее простенькое платьице покажется одеждой нищенки. А потом она вдруг согласилась. Избегать трудностей было не в ее характере. Ее беспокоила мысль, что любимый мог подумать, будто она струсила. Если, выходя из бара, Фрэнсис будет любить ее по-прежнему, — это станет для нее еще одним плюсом. Если же нет…
Берт сразу же начал демонстрировать свое очарование. Он сумел найти такие слова, что Морин чувствовала себя, как среди старых друзей. Берт вовсе не старался делать вид, что не заметил на ее лице лейкопластыря, и свел все дело к шутке, чем немало позабавил ирландку. Морин с этого момента стала считать его симпатичным человеком. Бессетт почувствовал некоторую ревность, глядя как они весело разговаривают и смеются. Безусловно, Лимсей был более блестящим кавалером по сравнению с ним, и, наблюдая реакцию Морин, он начинал понимать причины успеха своего друга у девушек Ливерпуля и всего Лэнкшира. Вдруг мисс О'Миллой заметила, что Фрэнсис не принимает участия в разговоре и, взглянув на него, сразу же поняла, что с ним происходит. Это было трогательно и льстило ей. Она взяла его руку и нежно сжала, чтобы показать, что любит его одного. Берт сказал по этому поводу очередную шутку и заказал новые напитки, чтобы выпить за здоровье влюбленных. Морин поведала Фрэнсису, что сегодня вечером ее братьев не будет дома. Они должны пойти на какое-то собрание ирландских эмигрантов. По мнению Морин, Фрэнсису следовало бы этим воспользоваться и попытаться сделать из Бетти своего союзника. Фрэнсис сразу же решил, что Морин должна предупредить ее о визите, а он сам после работы зайдет за ней, и они вместе направятся на Спарлинг Стрит. Они расстались в прекрасном настроении. Молодые люди проводили девушку до ее ресторана и, прощаясь, Лимсей заверил ее, что она — очаровательна и что он по-доброму завидует счастью друга.
Когда они остались вдвоем, Берт поздравил Бессетта с хорошим выбором.
* * *
Бетти О'Миллой была без ума от радости. Отсутствие мужа и сыновей, наконец, давало ей возможность сыграть давно желанную роль предупредительной, мирной хозяйки дома, такой характерной для Англии. Она тайком приготовила яблочный торт, который поставила в печь, как только сыновья вышли за порог дома. Когда он был готов, Бетти достала чайный сервиз, полученный в подарок ко дню свадьбы от ее прежних хозяев и которым с тех пор она так никогда и не пользовалась, поскольку в доме у ирландцев не рекомендуется ставить под руки тонкий фарфор. Бетти едва не расплакалась, когда мыла этот пузатый чайничек и просвечивающие на солнце чашки. Ее движения возвращали к жизни прежнюю Бетти и то счастливое и полное надежд время. После ухода гостя она опять спрячет сервиз подальше, поскольку уже давно решила подарить его Морин на свадьбу, надеясь, что она выйдет замуж за человека, который не будет одержим страстью крушить все в своем доме. За час до прихода молодых людей мисс О'Миллой одела свое самое красивое платье, к которому приколола брошь с фальшивыми бриллиантами — подарок Пэтрика во время их свадебного путешествия в Лондон. Одеваясь, она думала о парне, который, возможно, отнимет у нее дочь. Она не могла составить о нем впечатление по вчерашнему вечеру; и все же манеры, с которыми он представился, и его безупречный костюм произвели на нее благоприятное впечатление. Вернувшись в комнату, она села за накрытый стол и стала ожидать. Ей не было скучно, поскольку она была целиком поглощена своими тайными мыслями о будущем, в котором она, наконец, возьмет реванш и будет часто бывать в доме у Морин, чтобы помогать растить детей в ее истинной вере. Ей очень хотелось иметь зятя, который за завтраком любил бы порридж и по воскресеньям сопровождал бы ее к пастору. Бетти считала бы это счастливым окончанием своей жизни и смогла бы более спокойно переносить в оставшиеся ей годы этих ирландцев.
Зайдя к Бессетту попрощаться, Берт посоветовал:
— Постарайтесь произвести хорошее впечатление на будущую тещу, Фрэнсис, — это будет серьезным козырем в ваших планах на будущее. Если же задача покажется вам слишком трудной, — зовите на помощь меня! Я отличный дипломат и умею вести такие переговоры.
Бессетт тепло его поблагодарил. Правда, ему все же не хотелось, чтобы Лимсей вмешивался в его личные дела. Конечно же, Фрэнсис полностью доверял Морин, но все равно не следовало лишний раз рисковать.
Квартира на Спарлинг Стрит в отсутствие этих ирландцев приняла совершенно другой вид. Необычное спокойствие создавало такую странную атмосферу, что, казалось, все здесь изменилось и стало чопорным и респектабельным. Дама с седыми волосами, наливающая чай джентльмену, прямо сидящему на стуле, эта скромная девушка, в которой все говорило о строгом воспитании, напомнили бы постороннему наблюдателю лондонский интерьер Восточного Кенсингтона. О, если бы Пэтрик О'Миллой вдруг неожиданно вернулся бы домой, его хватил бы удар. Растеряв весь свой мальчишеский вид, Морин смотрела то на мать и не узнавала ее, то на Фрэнсиса, который изъяснялся, как некогда, в оксфордских салонах. Со своей стороны, Бетти, позабыв о своей второстепенной роли в доме, проявляла полную раскованность, и это не удивляло Морин. Бетти так долго ждала этого вечера! Для такого случая она так долго проигрывала все движения и слова, что они казались естественными и простыми. Фрэнсис, к великому удивлению, открыл для себя сторону жизни семьи О'Миллой, которая придала ему уверенность (он не знал, что все это разыграно для него), а Морин чувствовала, что перенеслась в неизвестную среду, которая нравилась ей. Короче говоря, они проводили вечер в гармонии, преодолев социальную разницу между ними и разогнав стеснение первой встречи. Когда Бессетт похвалил яблочный торт, Бетти, вспомнив о манерах старых хозяев с Таггарт Авеню, улыбнувшись, спросила:
— Значит, мистер Бессетт, у вас хорошие отношения с Морин?
Фрэнсис торжественно поклялся, что в лице единственной дочери О'Миллой встретил родственную душу. Маленькая ирландка, обрадованная и смущенная, опустила глаза.
— Могу ли я узнать, каковы ваши намерения?
— Если Морин согласна, я хотел бы… попросить у вас ее руки…
— Это достаточно прямо, но все-же очень приятно… Вы согласны, Морин?
— Я… думаю… да, мамми…
— Вы давно знакомы?
— С позавчерашнего вечера.
Бетти была настолько увлечена ролью матери, принимающей жениха дочери, что не успела удивиться сказанному. И все же она заметила:
— Это не так уж много для такою решения.
Они оба запротестовали, и обрадованная Бетти без сопротивления лишь из принципа продолжала:
— Вы знаете, что Морин — католичка?
— Это не имеет никакого значения. Мы повенчаемся у священника и у пастора.
Закрыв глаза, мисс О'Миллой вновь услышала такой же ответ, но данный тридцать лет назад. Она продолжала настаивать, не зная, заботится она больше о дочери или о себе:
— В какой вере вы собираетесь воспитывать детей?
— Думаю, что когда наступит время, мы с Морин поговорим об этом и придем к общему решению, как и во всем остальном.
Бетти хотелось бы, чтобы будущий зять проявлял больше решительности. Тогда она была бы уверенной в том, что ее внуки будут ходить к пастору. Но все же она надеялась, что этот хладнокровный парень сумеет быть энергичней, чем была она сама, и что он не позволит своей жене лишить детей Истины.
— К сожалению, мистер Бессетт, убедить моего мужа будет сложней, чем меня. Вовсе не потому, что Пэтрик плохой человек, но он — ирландец с ужасным характером, уверенный, что католицизм — единственно достойная уважения религия, и что хуже всего — он ненавидит англичан!
— Знаете, я ведь не на нем собираюсь жениться!
Этот ответ прозвучал не очень уверенно, и все замолчали, пытаясь представить себе реакцию мистера О'Миллой, когда он узнает, что его дорогая дочь выбрала себе в мужья англичанина. Тогда у Бетги появилась мысль, которая ей показалась гениальной.
— Самое трудное будет поначалу… Вы должны воспользоваться тем, что он за решеткой, и объявить ему о вашем решении. Пэтрик будет в страшном гневе, но зато вы будете в безопасности. Кроме того, у него будет время свыкнуться с этой мыслью, пока он вернется.
Фрэнсис согласился с изысканностью этой хитрости и пообещал привести ее в исполнение с завтрашнего дня. Морин одобрила это решение, надеясь, что администрация тюрьмы не ввела новые правила и что с заключенными можно разговаривать по-прежнему через решетку.
Около одиннадцати вечера Фрэнсис распрощался с хозяйкой дома, чтобы не столкнуться нос к носу с ее сыновьями. На улице небо было красивее обычного. Засунув руки в карманы и весело насвистывая, он пошел домой, даже не обратив внимания на машину, которая с выключенными фарами тихо последовала за ним.
На радостях Бессетт решил добраться пешком до Пиерхеда и гам сесть на автобус. Он пошел вдоль доков. Опасность он почувствовал, лишь услышав рев мотора за спиной. Он обернулся и вскрикнул от ужаса при виде мчавшейся прямо на него машины. Страх, казалось, пригвоздил его к месту. И все же инстинкт самосохранения оказался сильней, и когда машина была уже менее, чем в пяти метрах от него, он отпрыгнул в сторону, ударился о стену дома и упал возле нее. Пока машина, проскочив мимо, разворачивалась на перекрестке, чтобы вернуться обратно, Фрэнсис поднялся и бросился бежать изо всех сил. Он сворачивал за каждый угол, надеясь встретить случайного прохожего, который защитил бы его, но никто не встречался, а машина снова была уже близко. Она догнала Фрэнсиса на Грейсон Стрит. В этот раз он отпрыгнул в сторону слишком поздно, машина задела его крылом, и он покатился по земле. Громко взвизгнув тормозами, машина остановилась. Из нее выскочили двое мужчин и бросились к нему. Бессетт попытался подняться, но тот, кто повыше, в котором он успел признать человека в клетчатом костюме, ударил его ногой в подбородок. Прежде, чем потерять сознание, он успел в последний раз крикнуть, призывая на помощь, и ему ответил полицейский свисток.
* * *
Фрэнсис Бессетт пришел в сознание на узкой кровати в комнате, которую он не узнал. Немного обеспокоенный, он с недоверием посмотрел вокруг себя, и его взгляд остановился на инспекторе Хеслопе, склонившемся над ним.
— Ну что, мистер Бессетт, вы, наконец, пришли в себя?
— Я сильно искалечен?
— Нет, вы пережили только шок от испуга… Вам опять повезло. Доктор разрешил вам вернуться домой завтра утром… Ночь вы проведете здесь.
— Что же все-таки произошло? После удара я ничего не помню…
— Ваш крик услышал полицейский патруль, и, увидев его, те, кто напал на вас, к сожалению, слишком быстро уехали. Полицейские не успели заметить номер машины. Это были те же, что в Честере?
— Да…
— Я вас предупреждал, мистер Бессетт… Мы сделаем все возможное, чтобы защитить вас, но Ливерпуль велик, и поэтому вам не следует уходить в сторону от больших и хорошо освещенных улиц.
— Но что они от меня хотели?
— Конечно же, вернуть деньги, которые оказались у вас. Но поскольку эта затея сейчас не удалась, — они опять вернутся.
— Веселая перспектива… Почему вы их не арестуете?
— Потому, что я не знаю, кто они… Ваше описание слишком расплывчато, и под него попадают тысячи человек, которые, будучи не в ладах с законом, разгуливают по ливерпульским докам. Дайте мне хоть какую-то характерную деталь, и они быстро окажутся за решеткой; только не думаю, что это уменьшит угрожающую вам опасность. И все же, зайдите ко мне завтра утром, я покажу вам несколько фото из пашей коллекции. Если нам повезет, вы, возможно, их узнаете… Спокойной ночи, мистер Бессетт.
— Спокойной ночи, инспектор.
Уже выходя, Брайс Хеслоп обернулся.
— Эта машина все время ехала за вами?
— Не знаю… Я обратил внимание на нее лишь тогда, когда меня попытались сбить. Все же мне кажется, что я видел, как она стояла, когда я выходил от О'Миллой, но не обратил на нее внимания…
— Да… Вы каждый вечер бываете у О'Миллой?
— Нет. Мы с Морин только около полудня решили пойти туда.
— Мистер Бессетт, в ваших интересах вспомнить, кто мог знать об этом…
— Ну… Конечно, Морин, ее мать, я…
— И больше никто?
— Нет.
Не успел он это сказать, как какой-то голос прошептал ему на ухо: «А Берг? Ведь он был с тобой, когда Морин предложила сходить к ее матери?». Полицейский, разглядывавший его с интересом, спросил:
— Кажется, мистер Бессетт, вы еще о ком-то подумали?
— Да нет же, смею вас заверить…
Ложь была столь очевидна, что ему стало стыдно и голос прозвучал не очень уверенно. Хеслоп пожал плечами.
— Как хотите, мистер Бессетт. Речь идет о вашей жизни… Спокойной ночи.
Оставшись в пустоте больничной палаты, Бессетт стал бороться с мыслями, возникавшими в его воспаленном мозгу. О том, что он собирался на Спарлинт Стрит, знал Берт, которою он уже однажды заподозрил в замене коробок… Почему имя Берта постоянно повторялось? Может для того, чтобы появилось простое решение задачи, в которой запутался Бессетт? Он безуспешно пытался уснуть, по ему все время виделся кошмар, в котором у убийцы его родителей было лицо Берта, у курьера, перевозившего наркотики, было лицо Берта, у человека, рассказывавшего бандитам, где его можно найти, было лицо Берта. Сколько еще времени дружба и чувство признательности будут удерживать Бессетта от правды?
Глава 7
С еще более, чем накануне, опухшим лицом и с новой лентой лейкопластыря на разбитом туфлей гангстера подбородке Фрэнсис внимательно рассматривал фотографии, которые ему показывал инспектор. Это была неплохая коллекция личностей, которыми полиция интересовалась особо. И если Бессетту не удалось найти лицо, хоть немного похожее на напарника Блади-Джонни, то самого толстяка он признал сразу же.
— Вот он!
— Вы уверены?
— Совершенно!
— Отлично. Я не случайно задал вам вопрос, поскольку Дженни Мюррей или иначе Блади-Джонни — наш старый знакомый. Мы им еще займемся. Кстати, мистер Бессетт, вы вспомнили, кто мог знать о вашем визите на Спарлинг Стрит?
Фрэнсис неуверенно заметил:
— Да… но я уверен, что между этим человеком и нападением на меня нет никакой связи…
— Вы уверены… или хотите быть уверенным?
— Не знаю…
— Может, вы все-таки назовете его имя?
— Извините, но пока нет…
— Как хотите, но вы играете в опасную игру и, в случае чего, будете сами виноваты в ее последствиях.
* * *
Фрэнсис пришел на работу с получасовым опозданием. Мисс Скрю осторожно просунула голову в дверь и объявила, что его требует Джошуа Мелитт. Тот неприветливо встретил своего протеже.
— Бессетт, кажется вы ступили на скользкую лорожку. Вы уже второй раз подряд приходите на работу с опозданием, которое любому другому стоило бы места.
— Знаю.
— И продолжаете?
— Это опоздание, как и вчерашнее, не зависело от меня.
— Надеюсь, вы не побывали опять в тюрьме?
— Нет, в больнице.
— Но скажите, Фрэнсис, что за образ жизни вы ведете? Я считал, что на такое способен только Берт, но теперь с сожалением замечаю, что вы идете по его следам!
Бессетт объяснил, что едва не стал жертвой нападения, но его рассказ не произвел никакого впечатления на Джошуа Мелитта, который строго сказал:
— Конечно, иногда можно быть замешанным в неприятную историю, но на ваш случай это не похоже. По неизвестным мне причинам, о которых я могу только сожалеть, вы встречаетесь с людьми не из вашей среды — и вот вам результат! Мистер Лимсей очень надеялся на вас. Боюсь, он будет разочарован… Не знаю, сможет ли когда-нибудь новое поколение понять всю ответственность, которая ложится на него? Драки, девочки, красивые машины…
Фрэнсис мягко сказал:
— У меня нет машины, мистер Мелитт…
— О, я уверен: эта страсть еще придет к вам, как и к Берту! Авария за аварией, каприз за капризом…
— Разве Берт часто попадает в аварии?
— Часто? Да если в течение недели у него их не бывает, все считают это чудом! Кстати, все думали, что он разбился насмерть перед тем, как ездил за вами в Оксфорд.
— Он ничего об этом не говорил.
— Черт возьми, разве хвастаются тем, что разбивают такую отличную машину, как его зеленый «Остин», подарок отца, да еще за такую цену!
— Зеленый «Остин»? А что с ним случилось?
— Он не захотел объяснить… Просто у него тогда появилась новая машина, — кажется, «Купер».
— Точно, «Купер». Именно на нем он приезжал в Оксфорд.
Вернувшись в кабинет, Фрэнсис взялся руками за голову и попытался бороться с охватившим его головокружением. Его родители погибли из-за человека в зеленом «Остине». И в тот день Берт разбил свой «Остин»! Необходимо узнать точное время и место, где это произошло. Ступив на этот путь, Бессетт уже не мог остановиться. В нем все больше росла уверенность в виновности Берта. Слишком частое повторение совпадений противоречило всякой логике. Родители Фрэнсиса погибают в аварии из-за зеленого «Остина», Берт избавляется от такого же. Сразу же после телефонного разговора с Гарри Осли Бессетт перезванивает Берту, а тот не только не торопится приехать, но еще и умудряется заблудиться, словно для того, чтобы дать другим возможность приехать первыми и выкрасть Осли. Опять же такая же коробка конфет была у Берта, и он мог легко ее спутать с коробкой Фрэнсиса. Конечно, существует алиби со стороны рыжей Эллисон, но много ли оно значит? Не могла ли она ошибиться? И, наконец, только Берт знал, что Бессетт собирался в понедельник вечером к О'Милой…
Фрэнсис даже не поднял головы, когда открылась дверь кабинета. Он не был расположен к болтовне. Его раздирали чувства ненависти и сожаления, из-за чего в данный момент ему совсем ничего не хотелось.
— Почему вы не зашли ко мне, Фрэнсис?
Бессетт вскочил. Перед ним стоял сам Клайв Лимсей.
— Прошу… прошу прощения, сэр…
— Я хочу услышать не ваши извинения, а рассказ о том, что с вами случилось… Что с вами происходит, старина?
— Да так, ничего заслуживающего внимания, сэр.
— Как это? У вас все лицо в лейкопластыре… Вчерашнюю ночь вы провели в тюрьме… А эту, кажется, — в больнице? У меня складывается впечатление, что вы попали в слишком сложную для вас историю… Вы согласны на мою помощь?
Помощь! Несчастный даже не догадывался, что мог бы ему помочь, лишь предав собственного сына!
Фрэнсис еще раз рассказал о том, что с ним произошло вечером накануне. Клайв Лимсей внимательно его выслушал, а затем заключил:
— Если я верно понял, существуют два совершенно разных дела: с одной стороны — ваша идиллия с этой хорошенькой ирландочкой и приключения, связанные с ее семейством, а с другой — охота на вас. Я не собираюсь вмешиваться в вашу личную жизнь, которая меня не касается, но вплотную займусь делом, в котором вы играете роль дичи… Я сейчас же позвоню сэру Герберту Варришу, комиссару этого округа, и узнаю, способны ли его люди защитить вас! Я не могу допустить, чтобы нападали на моих сотрудников — это вызов мне самому!
— Прошу вас, сэр, не делайте этого: я уже нахожусь под защитой инспектора Хеслопа… Пожалуйста, ничего не предпринимайте, — мне совершенно необходимо быть в опасности!
— Почему, черт возьми, вам это необходимо…
— Чтобы помочь найти убийц моих родителей!
Клайв Лимсей долго смотрел на Фрэнсиса, а затем хлопнул его по плечу.
— Ладно, Фрэнсис! Можете на меня рассчитывать: я сделаю все, что смогу.
Увидев отца в кабинете своего друга, Берт застыл от удивления как вкопанный. Из оцепенения его вывел отец.
— Берт, прошу тебя помогать всем, чем сможешь, Фрэнсису на работе и вне ее.
— Само собой, отец!
Фрэнсису хотелось крикнуть, чтобы они замолчали. Берт разыгрывал саму невинность, а несчастный Клайв даже не знал, насколько гротескна его просьба! Разве просят убийцу помочь своей жертве?
Патрон протянул Фрэнсису руку.
— Удачи вам, и все же, будьте осторожны… Думаю, в больнице вы провели не лучшую ночь… Так что можете отдыхать после обеда, а завтра утром зайдите ко мне… До свидания…
Когда дверь за отцом закрылась, Берт, чтобы продемонстрировать свое удивление, присвистнул.
— Вот это да! Кажется, папаша заботится о вас, как о своем сыне?
— Мне кажется, — у вас отличный отец!
Несмотря на все усилия Фрэнсиса, сухость тона этого ответа была слишком очевидна, и Лимсей посмотрел на него с удивлением.
— Что с вами, старина? Вы неважно себя чувствуете?
— Да, не очень хорошо…
— Нетрудно поверить, если взглянуть на ваше лицо. Отвезти вас домой?
— Спасибо, но в два часа у меня встреча с Морин.
— Мне все же кажется, что вам лучше вернуться домой и прилечь отдохнуть.
Бессетт натянуто улыбнулся, чтобы смягчить горечь, вложенную в ответ.
— Как раз этого мне совсем не хочется.
Берт не заметил его тона.
— Ладно, я не настаиваю. Если вы все же передумаете, позвоните мне: моя машина стоит внизу.
Фрэнсис решил воспользоваться случаем.
— А что у вас сейчас за машина?
— По-прежнему — «Ягуар»… Что бы ни говорили злые языки — машинам я верен, не то, что женщинам.
— Я мечтаю купить «Остин».
— Почему именно «Остин»?
— Не знаю… Говорят, это отличная машина?
— Неплохая… У меня был «Остин», он мне очень нравился до того дня, когда непонятно как и почему я врезался в столб… После этого я не доверяю «Остинам»… Во всяком случае, до следующего раза… Но, если все-таки вы хотите купить машину, обратитесь от моего имени к владельцу гаража[127] Элвису Бертону на Киркдейл Роут, он поможет вам хорошо устроить это дело. Я уже пять лет пользуюсь его услугами.
* * *
Элвис Бертом, жизнерадостный толстяк, поначалу был недоволен тем, что его оторвали от трапезы, но когда он узнал, что Бессегт пришел по рекомендации Берта Лимсея, принял его с дружеской вежливостью. Фрэнсис объяснил, что ему нужен «Остин». Элвис показал два автомобиля, к сожалению, не в лучшем состоянии, и попытался привлечь его внимание к другим маркам. Но Фрэнсис твердо заявил, что подождет до тех пор, пока не появится именно эта марка, поскольку он от нее без ума с тех пор, как увидел зеленый «Остин» Лимсея. Бертон признал, что «Остин», проданный Лимсею, действительно представлял собой на редкость удачный экземпляр, и что он сожалеет о случае, заставившем его клиента продать эту машину. Это произошло из-за аварии, в причине которой Бертон до сих пор не мог разобраться, поскольку он сам проверял машину за несколько дней до происшествия и считал мистера Лимсея отличным водителем. По его мнению, вероятно не сработало рулевое управление, нарушенное из-за какого-то сильного удара. Бертон считал чудом, что водитель остался жив. Бессетту удалось увлечь его разговорами об авариях и их причинах, и тот даже проверил по своему журналу точную дату аварии, случившейся с «Остином» Лимсея. Это случилось в тот же самый день, когда погибли родители Фрэнсиса.
Теперь Бессетт знал все. Берг Лимсей за убийство будет повешен! Все слишком хорошо складывалось вместе, чтобы можно было продолжать сомневаться. Сделав это подлое дело, Лимсей заехал в гараж и рассказал о случайной аварии. Вот почему он приехал в Оксфорд за Фрэнсисом на следующий день. Но как обличить негодяя? У него не было сил переговорить с Клайвом Лимсеем, чтобы смягчить для него удар. Он подумал также о скандале, который вызовет это разоблачение. Фирма, конечно, не устоит. Кроме того, вряд ли у Клайва останется желание продолжать свое дело. Эта грязная история могла повлечь за собой невинные жертвы, незаслуженное наказание которых не вернуло бы жизнь Биллу и Мод Бессеттам. Но мог ли Фрэнсис оставить убийцу без наказания? Углубившись в эти размышления о необходимости выбора решения, которое могло перевернуть всю его жизнь, он шел, никого не замечая. Он долго шел по каким-то улицам, не разбирая их названий и, когда, наконец, обратил внимание на то, что его окружало, понял, что оказался у беговой дорожки для собак. Ему пришлось ловить такси, чтобы не заставлять Морин ждать его.
Узнав о нападении, которому Фрэнсис подвергся, выйдя от них вчера вечером, Морин потеряла голову. Ей никак не хотелось, чтобы убили или искалечили того, кого она уже считала своим женихом. Она предложила обратиться за помощью к ее братьям, которые поставили бы на ноги всех ирландцев в городе. В доках все знали и боялись соотечественников О'Миллой, и для нее не было сомнений: если бандиты узнают, что Бессетт находится под их покровительством, они не будут так настойчивы. Однако Фрэнсис не питал столь наивной уверенности в непобедимости ирландцев в борьбе с гангстерами и, кроме того, ему не хотелось призывать на помощь людей, столь недружелюбно встретивших его самого. Он заверил свою спутницу, что опасное приключение подходит к концу, поскольку ему известно имя виновника всех этих несчастий, и он может заставить его отказаться от столь грязной деятельности.
— Но, Фрэнсис, почему вы не хотите сейчас же сообщить его имя полиции?
— Я предпочитаю уладить это дело сам.
— Вы от меня что-то скрываете? Зачем вы хотите сами выполнить работу инспектора Хеслопа?
— Морин, прошу вас, не задавайте таких вопросов. Это слишком серьезно… Я обнаружил то, что стало известно моему отцу… Из-за этого его убили… Клянусь вам, со мной ничего не случится… Но я не могу выдать убийцу полиции…
— Скажите еще, что это — ваш друг!
Бессетт грустно улыбнулся: Морин не знала, насколько она была права. Сделав вид, что увлечен предстоящим разговором, он взял девушку за руку.
— А теперь поспешим в тюрьму! Мы сделаем приятный сюрприз вашему отцу…
Они уже собирались идти, как вдруг появился Берт Лимсей. Бессетт инстинктивно прижал к себе Морин, словно хотел ее защитить. Казалось, Берт растерял свой природный оптимизм и беззаботность. Он едва приветствовал мисс О'Миллой:
— Здравствуйте, мисс. Не обижайтесь, что прерываю ваш разговор, но мне нужно срочно поговорить с Бессеттом.
Не обращая на девушку внимания, он подошел к Фрэнсису.
— Я вас ищу более часа. Мне необходимо получить от вас некоторые объяснения!
Фрэнсис недоверчиво посмотрел на него.
— Or меня? Объяснения — вам?
— Можете ли вы объяснить, что значат эти расспросы у Элвиса Бергона?
— Вы уже знаете?!
— Да, представьте себе! После работы у меня случайно произошла мелкая поломка в машине. Я приехал к Бертону сразу же после того, как вы ушли оттуда; он как раз размышлял о сути вашего визита и пришел к выводу, что вам нужна была не машина, а сведения обо мне. Почему вы не спросили о том, что непонятно по какой причине вас интересует, прямо у меня? Какое вам дело до аварии с моим «Остином»?
— Мои родители погибли из-за человека на «Остине»!
Похоже Лимсей не сразу понял. Его лицо выражало усиленную работу мысли. Когда до него наконец дошло то, что сказал Фрэнсис, он ничего не ответил, только как-то смешно встряхнул головой, и этот неловкий жест показался Морин каким-то трогательным. Узнав, на кого пали подозрения ее возлюбленного, и увидев, как тот воспринял это известие, ирландка сразу же поняла, что Фрэнсис ошибся. Берт глубоко вздохнул, и когда его гнев прошел, он почти спокойно спросил:
— Вы не шутите, Фрэнсис?
— Вы думаете, этим шутят?
— Нет, конечно… Так вы действительно считаете меня убийцей ваших родителей?
Бессетт ничего не ответил, и Лимсей стал настаивать:
— По каким же причинам я стал бы совершать это преступление? У меня были отличные отношения с вашим отцом…
— У нас с вами, Берт, тоже были отличные взаимоотношения и все же…
— Все же?
— Вы рассказали убийцам, где я должен был быть в прошлый вечер, чтобы они смогли меня найти… и если бы не полиция, вам удалось бы от меня избавиться!
— Вы случайно не сошли с ума, Бессетт? Чем вы мне можете мешать, скажите на милость?
— Я оказался в курсе ваших грязных дел!
— Каких дел?
— С наркотиками!.. С наркотиками, благодаря которым вы добываете те самые деньги, которых вам всегда не хватает! С наркотиками, из-за которых вы убрали моих родителей, когда те обо всем догадались! С наркотиками, из-за которых вы выкрали и, безусловно, убили этого беднягу Осли, который хотел рассказать мне о вас… С наркотиками, которые вы перевозили в прошлое воскресенье и коробку с которыми я нечаянно обменял на свою! Что вы можете на это сказать?
— Что если бы ваша физиономия не была бы в столь плачевном состоянии, я с удовольствием съездил бы по ней!
Лимсей обратился к Морин:
— Вы верите в то, что он говорит, мисс?
— Нет!
— Благодарю вас…
Бессетт в ярости оттащил Морин в сторону.
— Не вмешивайтесь в это, а вы, Берт, оставьте мисс О'Миллой в покое!
— Во всяком случае, она не верит вашим дурацким обвинениям!
— Я знаю, что вы умеете говорить с женщинами, но убедить полицейских вам будет намного трудней!
— Почему же вы за ними не бежите? Готов даже помочь вам поискать их!
— Я не сказал обо всем инспектору Хеслопу только из-за вашего отца…
Лимсей сиронизировал:
— Как это любезно с вашей стороны…
— Могу себе представить, каким это будет для него ударом… Я многим ему обязан, и потом… я любил вас, Берт!
— Странное чувство, из-за которого вы считаете меня преступником! Короче говоря, что вам нужно?
— Чтобы вы исчезли прежде, чем полиция арестует вас и ваших сообщников!
— Чтобы я исчез? Вы хотите? Вы хотите сказать, чтобы я покончил жизнь самоубийством?
— Нет… чтобы вы уехали из Ливерпуля, например, в Штаты.
— Вы очень любезны, но мне нравится Ливерпуль, и я не собираюсь отсюда уезжать из-за ваших измышлений!
— Тем хуже для вас; я вас предупредил!
— Вы дурак, Фрэнсис, и мне вас жаль…
Повернувшись на каблуках, Берт Лимсей ушел прочь.
Бессетт в ярости прошипел:
— Смеется тот, кто смеется последним!
Морин попыталась его успокоить.
— А что, если вы ошиблись, Фрэнсис?
— Конечно! Защищайте его! Интересно, почему это все девушки теряют голову, как только его увидят?
В другое время ирландка отреагировала бы куда более жестко, но сейчас она понимала, что ее друг несчастен.
— Я не заслужила сравнения с девушками, сердца которых завоевывает Берт Лимсей…
Фрэнсис покраснел.
— Прошу прощения, Морин… Я не совсем отдаю себе отчет в том, что говорю или делаю… Все это слишком сильно давит на меня… Ах, если бы я не подобрал эту проклятую коробку с наркотиками…
* * *
В камере Пэтрик О'Миллой рассказывал товарищам по заключению о прекрасной жизни ирландцев на родине; при этом сразу было видно, что он готов предотвратить возможные возражения при помощи кулака. Но репутация отца Морин была настолько основательна, что никому не хотелось возражать ему, несмотря на то, что британские бродяги до сих пор живут в полной уверенности, что королева совершила ошибку, приняв в священные земли Объединенного Королевства эту вшивую банду ирландских ерегиков.
Стражник открыл дверь.
— О'Миллой! На свидание!
Ирландец подмигнул сидящим в камере и сказал:
— Это жена! Она испугалась, что я забыл о ней…
Проходя по коридору вслед за охранником, Пэтрик размышлял, додумалась ли Бетти сунуть бутылку виски в пакет с передачей. Конечно, бедняжка была всего-навсего англичанкой, но все же он надеялся… Увидев дочь, он был слегка удивлен, но это тронуло его сердце. Эта Морин все же молодчина! Он не сразу узнал того, кто
стоял рядом с ней, и, лишь подойдя поближе, признал в нем англичанина, ставшего причиной его заключения. Приблизившись вплотную к решетке, он спросил:
— Зачем вы привели сюда этого типа, Морин?
— Сейчас объясню… Как вы себя чувствуете?
— Неплохо. Я отдыхаю. А как дома?
— Все вас ждут.
— Я скоро буду. Здесь тоже было бы не так уж плохо, если бы не столько англичан… Вы ничего не принесли?
— Простите, я об этом не подумала.
— Ничего… ничего… У молодежи никогда нет времени позаботиться о стариках… Это в порядке вещей… Конечно, печально, но что ж… Значит, как говорится, вы пришли посмотреть, жив ли я еще?
— Мы с Фрэнсисом хотели бы вас кое о чем попросить.
— С Фрэнсисом?
Морин указала на своего спутника.
— Вот с ним.
— Да?… Тогда слушаю вас, хотя не представляю себе, о чем меня может просить англичанин?
Фрэнсис собрался с духом.
— Мистер О'Миллой, надеюсь вы меня не забыли? Мое имя — Фрэнсис Бессетт, и я занимаю хорошее положение в фирме Лимсея и сына, экспорт — импорт…
— Вы хотите рассказать мне о своей жизни?
— Нет, мистер О'Миллой, только сказать, что я люблю вашу дочь…
— У вас хватает наглости, молодой человек!
— … и что я хотел бы на ней жениться… И поэтому, честь имею просить ее руки.
Пэтрик взглянул на Фрэнсиса круглыми г лазами и повернулся к Морин.
— Он что, пьян?
Фрэнсис обиженно возразил:
— Смею вас заверить, что я совершенно трезв, мистер О'Миллой!
— Тогда значит вы пришли, чтобы оскорбить меня?
— Простите?
— Вы пользуетесь тем, что я за решеткой и не могу свернуть вам шею за то, что вы оскорбляете меня, мою дочь и всех О'Миллой!
— Я вас не оскорбляю, я прошу руки вашей дочери!
— Англичанин!.. Нет! За кого он нас принимает, Морин?
— Папа… Он любит меня…
— Это его дело, так, доченька? И даже для англичанина он не так уж плох… Ну ладно, мы достаточно пошутили, — уходите отсюда, молодой человек, и поищите других девушек для ваших чувств!
Бессетт уже собирался уйти, но Морин удержала его за руку.
— Скажите, отец, скоро кончится эта комедия?
— Комедия? Какая комедия?
— Этот парень любит меня; он пришел просить моей руки, а в ответ вы говорите только разные гадости?
— Морин, мне не нравится, как вы говорите с вашим старым отцом!
— Отец, вы должны понять одно: мне двадцать два года, Фрэнсис любит меня, а я люблю его…
— Вы лжете!
— То есть?
— Вы лжете, Морин! Никогда О'Миллой не сможет полюбить англичанина!
— Вы ошибаетесь, отец, — я люблю Фрэнсиса, и мы поженимся!
— Я никогда не дам вам на это родительского согласия!
— Тогда мы обойдемся без пего!
Удар был для Пэтрика неожиданным.
— Вы сможете ослушаться отца, Морин?
— Именно так!
— Тогда я вас прокляну! И до конца вашей жизни вы будете несчастны! Морин, дитя, возьмите себя в руки… Разве вы не видите, что это англичанин?
— Такой же, как и мама, да?
О'Миллой ждал этого удара ниже пояса с того момента, как разговор принял неприятный оборот. Он стал разыгрывать обычную слезную трагедию.
— Неужели же мои дети до конца жизни будут упрекать меня моим прошлым? Неужели же я не заслужил прощения, как следует воспитав вас?
— Нас воспитали не вы, а мамми!
— Неблагодарная! Я знал, что это случится! Я был уверен, что английская кровь вашей матери когда-нибудь отравит чистую ирландскую кровь в ком-то из вас! Для меня вы — потерянная дочь, Морин, слышите? Потерянная дочь!
Подошел стражник, привлеченный его криком.
— Успокойтесь, О'Миллой, или я отведу вас в камеру!
— Здесь я нахожусь под защитой королевы! Вы не можете допустить, чтобы меня оскорблял англичанин, которого я не в состоянии сейчас вздуть!
— Я думал, что молодая мисс — ваша дочь?
— Нет, это не дочь! У нее нет отца! Она дошла до того, что хочет выйти замуж за англичанина!
— И что же? В чем дело?
— Естественно, — вы на их стороне! Господи, дай мне силы сломать эту решетку, и клянусь: моя дочь станет вдовой еще до свадьбы!
Он бросился к решетке, яростно рыча, ухватился за нее, и надсмотрщику пришлось позвать на помощь своих сослуживцев, чтобы отвести обратно в камеру этого сумасшедшего. Все это происходило на глазах у перепуганных Фрэнсиса и Морин. Непослушная дочь только и смогла крикнуть:
— Отец! Отец! Ради Бога, успокойтесь!
Но тот, вырываясь из рук охранников, прорычал в ответ:
— Я прибью этого английского вора! Слышите, Морин? Я прибью его! Я натравлю на него ваших братьев! Дайте мне только вернуться домой!
Его увели, но голос его еще долго был слышен под сводами тюремных коридоров. Успокоился Пэтрик только в камере. Поправив одежду, он сел на кровать и взглянул на товарищей по несчастью, ожидавших объяснений. О'Миллой вздохнул и разбитым голосом произнес:
— Как трудно стареть, ребята… Даже ваши дети не хотят больше вас уважать… Если хотите знать, — мир на краю гибели…
В молчании, которое последовало за этим важным заявлением, никто не произнес ни слова, зная, что старик, начав, выскажет все до конца.
— У меня была дочь. Настоящий дар неба — вылитая я… Я думал, что проживу с ней остаток дней. И вот у меня больше нет дочери, и мне не хочется жить…
Для большей убедительности он упал на постель и уставился в потолок. Один из заключенных удивленно спросил:
— Она что, плохо себя вела, ваша дочь?
— Хуже!
— Хуже? Вы хотите сказать, что она зарабатывает на жизнь с мужчинами?
— Хуже!
Любопытный посмотрел на остальных, словно хотел спросить их мнение, затем вновь обратился к несчастному отцу:
— Она, случайно, ничего не украла?
— Если бы дело было только в этом!..
— Она… убила кого-то?
— Нет! Говорю вам, — это хуже!
В камере заговорили:
— Нет ничего хуже, чем убить кого-то: за это казнят!
Пэтрик О'Миллой вдруг неожиданно поднялся, словно черт, выпрыгнувший из бутылки.
— Нет ничего хуже?
И отчетливо произнес:
— Моя дочь хочет выйти замуж за англичанина! И сейчас она осмелилась мне это сказать!
* * *
Морин и Фрэнсис зашли на Спарлинг Стрит, чтобы рассказать о плачевном исходе их предприятия. Бетти О'Миллой, которая, узнав о том, как бесновался Пэтрик, обрадовалась, что тот находится в добром здравии.
— Старый еретик! Если он так кричал, значит неплохо себя чувствует! Он спит целыми днями, а остальное время, я уверена, проводит за разговорами! Он никогда не изменится…
Но в ее ворчании было столько нежности, что Бессетту показалось, будто она вовсе не желает, чтобы ее муж переменился. Однако Морин придерживалась другого мнения, и, когда мать заговорила о том, что к словам отца все равно нужно прислушиваться, она поступила так же, как и он, впав в такую ярость, что соседи сразу же поняли, что у всех О'Миллой со здоровьем все в порядке. Высказав все, что она думала о глупом упрямстве отца, нерешительности матери, о недоброжелательности Неба, из-за которого она появилась на свет в подобной семье, она закрылась в своей комнате. Бетти подумала, что это не лучший поступок в присутствии того, кого она избрала себе в женихи. Она тихо сказала:
— Не обращайте внимания, мистер Бессетт, у Морин — золотое сердце…
Но Бессетт и так был далек от пессимистичных мыслей по этому поводу, что было заметно по его глупо-восхищенному лицу.
— Мисс О'Миллой, она еще красивей, когда сердится!
По его топу Бетти поняла, что он не шутит, и ей стало жаль Фрэнсиса. С этого момента она поняла, что он займет место среди мучеников, которые имели несчастье жениться на ирландках или выйти замуж за ирландцев. Она сочла своим долгом предупредить его об этом:
— Честно говоря, мистер Бессетт, боюсь, как бы Морин не унаследовала характер своего отца. Быть может, вы будете еще благодарны Пэтрику О'Миллой за его отказ?
— Мамми, как вам не стыдно?
Морин, конечно же подслушивавшая за дверью, внезапно появилась, словно богиня мести, и Бетти, покрасневшая, как вишня, не смогла скрыть смущения. Бессетт, чтобы избежать ненужной сцены, предложил Морин проводить ее до ресторана, где она работала. Она согласилась и, поцеловав Бетти, ушла с женихом. Глядя в окно на удалявшуюся пару, Бетти размышляла о том, что на свете все-таки существуют мужчины и женщины, рожденные для того, чтобы стать жертвами.
Глава 8
Фрэнсису было нелегко расстаться с Морин. У ресторана «Герб Дублина», где ее смена начиналась в шесть часов, он заявил ей, что придет к закрытию, чтобы проводить ее домой. Пожав друг другу руки, что было похоже скорей на ласку, чем на рукопожатие, они расстались. С радостным сердцем Фрэнсис отправился бродить по близлежащим кварталам, прося у Бога, чтобы время двигалось вперед, как можно скорей. Но в восемь вечера он все же не выдержал и вернулся в «Герб Дублина», сочтя, что нет никаких препятствий тому, чтобы именно там поесть. Морин была так поражена его неожиданным появлением, что ошиблась и подала взбитые сливки джентльмену, заказавшему жаркое из баранины, которое она, в свою очередь, сунула под нос даме, заказавшей эти самые сливки для достойного завершения своего ужина. Посыпались замечания, за ними последовали извинения, и патрон, удивившись, что Морин не огрызается, подумал, что ирландку либо подменили, либо она заболела…
Бессетт сел за стол рядом с господином, представлявшим собой классический тип старого холостяка, мелочного и недоверчивого, который ковырялся в тарелке, словно хотел найти в ней материальное доказательство того, что его хотят отравить. Но у Фрэнсиса было слишком хорошее настроение, чтобы обращать внимание на мрачный вид этого джентльмена. Преисполненный радости он вступил в разговор:
— Отличный день, не правда ли?
Тот поглядел на него пустыми глазами и холодно спросил:
— Вы обращаетесь ко мне, сэр?
— Конечно…
— Мне кажется, мы не представлены друг другу?
И он с прежним усердием принялся за свои поиски в тарелке. После минутного колебания Бессетт решил не останавливаться перед этим обстоятельством.
— Мое имя — Фрэнсис Бессетт.
Тот на секунду прекратил работу ножом.
— А?
Затем он поднес ко рту кусочек мяса и стал разжевывать его с особой предосторожностью. Удивленный Фрэнсис спросил:
— Это что, невкусно?
— А вас это касается? Впрочем, хотите знать правду? Так вот, это мясо совершенно несъедобно, и, если бы государственные контролеры исправно несли свою службу, этот кабак давно бы закрыли, а хозяин оказался бы в тюрьме! Вот уже три года я прихожу сюда каждый день, и ни разу мне не подали ничего свежего…
— Тогда зачем же вы сюда ходите?
— По причине, касающейся только меня, и в которую вам не стоит совать свой нос.
Здесь разговор прервался, поскольку к Фрэнсису за заказом подошла Морин, которой он предоставил право самой выбрать для него меню. Когда девушка отошла, сосед проворчал:
— Она вам принесет все объедки, которые они еще не выбросили!
— Не думаю. Она слишком красива, чтобы быть нечестной!
— Красива? Мне так не кажется… А насчет честности — это просто смешно! Сразу видно, что вы ее еще не знаете!
Разговор стал принимать оборот, который совершенно не понравился Бессетту. Он уже сожалел, что заговорился с этим хамом.
— Она прекрасно уживается с патроном. Я хожу сюда вот уже три года, и она ни разу не принесла мне чего-нибудь вкусного! А почему? Потому, что я не из тех кретинов, которые говорят ей комплименты и водят в кино!
Он понизил голос, чтобы доверительно прошептать:
— Если хотите знать, она здесь для того, чтобы завлекать дураков!
Раздался звонкий звук пощечины, заставивший вскочить со своего места владельца ресторана, рассматривавшего клиентов, словно пастух стадо. От неожиданности Морин едва не выпустила из рук тарелку с рагу, а сидевшие за столами застыли в ожидании того, что должно было произойти вслед за этим звуком. Однако ничего интересного не последовало. Получивший пощечину был настолько поражен, что даже не рассердился, а только лишь пробормотал:
— Вы… вы мне…
— Я дал вам пощечину потому, что вы оскорбили эту девушку!
Услышав это, Морин поспешила к ним.
— Он меня оскорбил?
— Как сказать, мисс… Это недоразумение… Я, возможно, не так выразился… Дайте мне, пожалуйста, счет…
Бессетт оборвал его:
— Не стоит!.. Я сам его оплачу…
Сосед Фрэнсиса мгновенно исчез, и поскольку дело было в Англии, каждый из присутствовавших вернулся к своему занятию. Морин послала Фрэнсису самую очаровательную улыбку, и он почувствовал себя средневековым рыцарем, победившим обидчика своей дамы. Напротив него сел хозяин ресторана.
— Вы позволите, сэр?
— Прошу вас.
— Дело вот в чем, сэр… Я узнал вас. Это вас Морин испачкала тортом в тот вечер. Сегодня вы дали оплеуху старому клиенту. Конечно, у вас могут быть на то свои причины, но здесь ресторан, а не боксерский ринг и не арена цирка… Прошу вас не обижаться, сэр, но будет лучше, если вы выберете другое заведение для ваших номеров… Я уже не так молод, понимаете? И я не хотел бы разориться на старости лет…
* * *
Бессетт проводил Морин до Спарлинг Стрит, и, пока они шли, то все время смеялись над человеком, получившим оплеуху. Узнав, что тот сказал о ней, Морин поклялась, что если он посмеет появиться в ресторане, она сама выскажет ему все, что о нем думает, даже если это будет стоить ей места. Кроме того, они уже решили, что будущая супруга Фрэнсиса Бессетта не может работать официанткой в ресторане, и как только упрямство Пэтрика будет сломлено, она тут же вернет свой фартук хозяину. Впервые за все время, что они были знакомы, они обменялись долгим поцелуем у дома О'Миллой, и этот поцелуй был настолько фотогеничен, что заставил случайного прохожего присвистнуть, что и разъединило их объятия.
Прежде, чем идти обратно, Фрэнсис проверил, не следует ли за ним какая-нибудь машина. Ничего не заметив, он быстрым шагом направился обратно. Сворачивая на Шоуз Элли, он внезапно натолкнулся на какую-то живую гору. От столкновения шляпа сползла ему на глаза. Пока он поправлял ее, то почувствовал, как что-то твердое уперлось ему в живот, и уже знакомый голос прошептал:
— Уверен, вы уделите мне минуту внимания, сэр?
Бессетт понял, что перед ним человек в клетчатом костюме, а то, что мешало ему дышать, было стволом револьвера.
— Вы пойдете рядом со мной, и мы прогуляемся, как старые друзья… Кстати, нам ведь ничто не мешает быть друзьями?
— Позвольте вам заметить, что для друга у вас странные манеры, а?
Толстяк добродушно рассмеялся.
— Вы сами — очень странный человек. Так что — лады? Вы согласны прогуляться без фокусов? У меня от жалости лопнет сердце, если придется всадить в вас пулю.
— Меня это тоже не обрадует. Ладно, пойдемте!
— Значит — порядок, а?
Джонни взял Фрэнсиса под руку, и они не спеша направились к Пиерхеду.
— Похоже, мы с моим приятелем ошиблись, и вы не участвуете в деле. Мы бы хотели… мы ведь не бандиты, а ваша девочка и вы сами даже симпатичны…
— Весьма лестно с вашей стороны.
— Вот только эти четыреста фунтов, что вы у нас стащили. Вы мне нравитесь, но все же не настолько, чтобы я сделал вам такой подарок к свадьбе… и, представьте себе, если я их не верну, мне придется платить самому… А где мне найти такую сумму? Надеюсь, вы их не потратили, а?
— Нет.
— Ух! Вы избавили меня от сильных переживаний! Тогда заглянем к вам, вы их отдадите и больше никогда нас не увидите. Идет?
— Идет, но все это можно сделать еще проще: они при мне.
— Не может быть?!
— Именно так!
— Тогда мне невероятно повезло!
— Я не могу спокойно жить с тех пор, как вы мне их сунули. Я все время боюсь, что потеряю их или у меня их украдут… Поэтому я ношу их в кармане.
— Вы отличный парень! Сожалею, что пришлось помять вам бока, но я ведь раньше не мог этого знать, а? Я избавлю вас от этих хлопот: давайте сюда деньги…
Бессетт потянулся к внутреннему карману пиджака. Джонни схватил его за руку.
— Без шуток, ладно? Было бы глупо испортить все дело!
— Успокойтесь, я не собираюсь превращаться в ходячий арсенал. Мне и так уже надоело быть сейфом с ногами!
Толстяк прыснул:
— А вы мне нравитесь, дружище… и если вам когда-нибудь понадобится помощь, вы всегда сможете обратиться ко мне. О цене договоримся… Так что же денежки?
Бессетт вынул конверт и протянул его Джонни. Гангстер недоверчиво приказал:
— Откройте!
Фрэнсис подчинился. При виде банкнот его спутник облегченно вздохнул.
— Здесь все?
— Я к ним не притрагивался.
— Верю вам на слово и надеюсь, что вы не пожалеете об этом. Кстати, надеюсь, для вашей же пользы… Ладно, приятель! Не думаю, что мы еще увидимся. Передайте привет малышке и постарайтесь быть с ней счастливы!
Он отстранился и исчез в темноте Тейбли Стрит. Бедняга Джонни!.. Он не догадывался, что банкноты, которым он так обрадовался, вскоре приведут его прямо в тюрьму на определенное количество лет. Фрэнсис зашел в телефонную будку и позвонил инспектору Хеслопу. Ему ответили, что инспектора нет на месте. Тогда он попросил передать инспектору, что фунты — у Джонни, и что он носит их при себе. Итак, дело подходило к концу. Ему и Морин больше нечего бояться. Но сможет ли Хеслоп заставить Джонни назвать своих сообщников? Фрэнсис надеялся на это: тогда бы ему не пришлось свидетельствовать против Берта Лимсея. Им займется инспектор, как только задержанный ступит на путь признания. От этой мысли на душе у него стало легко, но одновременно и грустно. Он не мог думать об отчаянии Клайва Лимсея, когда тот узнает, что его сын…
* * *
Джошуа Мелитт очень холодно ответил на приветствие Бессетта, когда на следующее утро они встретились у двери кабинета Лимсея перед ежедневным совещанием. Если Берт сделал вид, что не заметил Фрэнсиса, то его отец протянул ему руку.
— Как ваши дела?
— Благодарю, сэр, хорошо.
— Значит, со вчерашнего дня не возникло никаких проблем?
— Наоборот, все уладилось.
— Да?
Желая все же предупредить Берта, чтобы тот успел скрыться, Бессетт рассказал о встрече с Джонни и заключил:
— Этот негодяй даже не догадывается, что полиция записала номера банкнот, и что ей известно его имя: Джонни или Блади-Джонни. Я думаю, что когда его возьмут, он назовет имена тех, на кого работал.
Говоря это, он поглядывал на Берта, который продолжал стоять, отвернувшись. Когда он окончил, Клайв Лимсей выразил радость по поводу того, что все хорошо закончилось, но Джошуа Мелитт все же счел своим долгом высказать надежду, что Фрэнсис отныне будет более внимательно относиться к своим знакомствам. Фрэнсис ничего не ответил, поскольку все старались не говорить с Джошуа о делах, не касающихся работы, из опасений постоянно выслушивать нравоучения. Берт с иронией спросил, можно ли перейти к более серьезным делам, поскольку необычные приключения Бессетта завершились, а его ждали важные письма. Клайв Лимсей удивленно взглянул на сына, но ничего не сказал, и все приступили к работе. Бледный от негодования, Фрэнсис поклялся себе, что не шевельнет и пальцем, чтобы спасти сына патрона.
* * *
После совещания Клайв Лимсей попросил Фрэнсиса остаться. Когда все остальные вышли, он закурил сигарету и спросил:
— Фрэнсис, что происходит с Бертом?
Это был вопрос, которого Бессетт опасался. Он попытался ответить твердым голосом:
— Не понял, сэр?
— Да нет же, Фрэнсис, вы все прекрасно поняли… Мне казалось, вы друзья?
— Думаю, мы действительно друзья, сэр.
— А мне теперь уже так не кажется, Фрэнсис. Вы ведь даже не поздоровались, когда вошли сюда, а Берт, в свою очередь, не скрывал, что ваша история его не интересует. Почему?
— Не знаю, что вам ответить.
— Думаю, что вы скорее не хотите отвечать. Не знаю, что между вами произошло, но поскольку хорошо знаю вас обоих, заранее считаю во всем виновным сына и… увы, уверен, что не ошибаюсь. Ваше молчание наводит на мысль о чем-то серьезном. Видите ли, Фрэнсис, я уверен, что Берт не такой уж плохой парень. Он очень рано потерял мать, а я не сумел дать ему должного воспитания. Я удовлетворял все его капризы и не стану скрывать: строгое суждение Джошуа Мелитта на его счет верно. И все же, повторяю, я уверен: это не заходит дальше беззаботности и безответственности, ставящих под удар будущее этой фирмы, которой я посвятил всю свою жизнь. Если… как это сказать?… Если вам станет известно, что Берт переходит границы, вы ведь мне скажете, Фрэнсис?
Пораженный Фрэнсис едва не рассказал о своих подозрениях, но обеспокоенный вид Клайва Лимсея удержал его.
— Конечно, сэр.
— Я рассчитываю на вас, Фрэнсис, на вашу серьезность и умение благотворно влиять на Берта. Тем более обидно, если вы поссорились по глупости. Хотите, я его вызову, и мы втроем откровенно объяснимся?
— Нет! Нет! Не сейчас, сэр!..
Горячность ответа удивила Лимсея. Он внимательно посмотрел на Фрэнсиса и, пожав плечами, сказал:
— Как хотите… Я вас не задерживаю.
* * *
В своем кабинете Бессетт застал ожидавшего его Берта. Лимсей перешел в атаку еще до того, как он закрыл за собой дверь.
— Ну что? Вы поделились своими подозрениями с отцом?
— Мне нечего сказать. Все необходимые объяснения ему даст полиция, если вы не опередите ее.
— То есть?
— Расскажете все сами или сбежите, пока еще есть время.
— Дурак…
— Я не позволю вам…
— Хорошо, извините…
Берт подошел к Бессетту и взял его за плечи.
— Скажите честно, Фрэнсис, вы верите в эти обвинения?
Бессетт высвободился.
— Буду вам обязан, если вы дадите мне возможность работать.
— Да поймите, что только вы верите в подобные глупости! Даже Морин…
— Кажется, вы хотели сказать — мисс О'Миллой?
— Фрэнсис, прошу вас в последний раз: возьмите себя в руки… Одному Богу известно, почему ваши подозрения остановились на мне! И в то же время вы не обращаете внимания на настоящих врагов…
— Благодарю вас за подсказку, но лучше позаботьтесь о собственной безопасности!
— Вы меня глубоко разочаровали, Фрэнсис.
— Это было бы слишком мягко сказано по отношению к вам и вашим поступкам!
— Хорошо! Ладно! Тем хуже… я вас предупредил…
Берт Лимсей вышел из кабинета с видом скорей огорченного, чем разгневанного человека, и когда Фрэнсис остался один, он обнаружил, что вовсе даже не гордится собой. Он никак не мог разобраться в причинах этого неприятного ощущения.
* * *
Когда после обеда они встретились, Морин поняла, что ее возлюбленный чувствует себя не в своей тарелке. Он рассказал ей о встрече с Джонни и о разговоре с Бертом. Словно для того, чтобы убедить самого себя, он вновь повторил все признаки виновности Берта, но для девушки они и на сей раз прозвучали неубедительно.
— Послушайте, Фрэнсис… Я не могу доказать невиновность Лимсея, но я в ней не уверена.
— Потому что он красивый парень?
— Не будьте так глупы, дорогой! Мне безразличен Лимсей, но я ненавижу несправедливость.
— А разве желание покарать убийцу несправедливо?
— Несправедливо оскорблять невинного глупыми подозрениями!
— Глупыми?
— Именно так, — глупыми! Уверена, что Берт — ваш друг. И вы не имеете права так обращаться с ним!
— Не имею права?
— Действуя таким образом, вы показываете насколько вы неблагодарны и… и глупы!
— Благодарю вас! Быть может вы считаете, что взбалмошная ирландка может судить о мыслях и поступках рационального англичанина?
— Возможно, я взбалмошная, мистер Бессетт, но я ненавижу злобу!
— А я ненавижу выслушивать советы от людей, которые не способны их давать!
— В гаком случае, мне кажется, что нам лучше всего расстаться и как можно скорей, — верно?
— Я гоже так считаю, мисс О'Миллой.
Она повернулась к нему спиной и быстро зашагала прочь. Фрэнсис, которого одолевало самое скверное настроение, поначалу холодно смотрел ей вслед, но затем в нем словно что-то сломалось и, помимо своей воли, он крикнул ей вдогонку:
— Морин!..
Она остановилась, обернулась, и он побежал к ней. Фрэнсис успел увидеть, как она улыбнулась сквозь слезы и, не думая о том, что они стоят на улице, он ее обнял и поцеловал.
— Как вы думаете, где вы находитесь?
Они отпрянули друг от друга и увидели перед собой полицейского, который поначалу напомнил им небоскреб.
— А что, если я привлеку вас к ответу за нарушение правил в общественном месте?
Фрэнсис попытался начать переговоры:
— Сейчас я вам все объясню, сэр…
— По-моему, то, что я видел, не нуждается в объяснениях, молодой человек!
Как раз в этот момент представитель закона заметил полоски лейкопластыря, украшавшие лицо Морин и ее возлюбленного.
— Вы попали в аварию?
— Правильней сказать, мы едва в нее не попали… Я едва ее не потерял… Вы понимаете?…
— Да, конечно, было бы очень жаль!..
Ирландка разыграла из себя маленькую девочку.
— Благодарю вас, сэр…
— На этот раз, ладно, — прощаю… но постарайтесь больше не целоваться прямо на улице, хорошо?
Фрэнсис клятвенно пообещал этого не делать. Полисмен важно подкрутил усы.
— К сожалению, сегодняшней молодежи явно недостает манер предыдущих поколений…
* * *
В этот же день, около шестнадцати часов, телефонистка фирмы сообщила Фрэнсису, что с ним желает говорить некая мисс О'Миллой. Бессетт с такой горячностью приказал соединить, что телефонистка решила, что мисс О'Миллой была, по крайней мере, дражайшей тетушкой мистера Бессетта. С един-ственной целью удостовериться в этом, она подслушала их разговор и с первых же фраз поняла, что никогда еще племянник и тетка не пользовались в разговоре между собой столь нежным словарным запасом. Должно быть эта мисс О'Миллой была любовницей мистера Бессетта, к тому же очень нежной. Телефонистка не отключила свои наушники потому, что это было даже намного красивей, чем в книгах.
На том конце провода Фрэнсис был далеко не в восхищении от слов Морин. Она просила не заходить за ней вечером, поскольку собралась с Шоном в кино и решила, что лучше не раздражать старшего брата, в лице которого она надеялась обрести союзника. Фрэнсис ворчал, стонал, заставлял Морин клясться, что она любит только его одного (в этом месте телефонистка утерла глаза, поскольку любовь других всегда вызывала у нее слезы), что она никогда не любила никого другого, кроме него, что даже в кино она будет думать о своем будущем супруге. Он же, в свою очередь, отчитавшись перед Морин, собирался сразу же после ужина вернуться к себе, чтобы думать только о своей любимой. В этот момент мисс Торнбалл, телефонистка, не смогла сдержать рыданий, которые и услышал Фрэнсис. Зная о хроническом любопытстве телефонистки, он вежливо спросил:
— Вы случайно не подслушиваете наш разговор, мисс Торнбалл?
Застигнутая врасплох, она ответила как можно более уверенным тоном:
— О нет, мистер Бессетт, я бы никогда себе этого не позволила!
* * *
Фрэнсис не знал, что ему делать, поскольку он дал обещание Морин не заходить за ней, и одновременно ему хотелось где-то прогуляться. Остановившись на тротуаре Лорд Стрит, он рассматривал женщин, спешащих к своим мужьям или друзьям, которых Бессетт наделял своими собственными чертами. И во всех этих женщинах он видел свою Морин: любовь всегда укрепляет воображение. Мягкая погода звала на прогулку. Фрэнсис стал бесцельно бродить по Пэредиз Стрит. Оказавшись на Парк Лейн, он пошел дальше, и вскоре избранный им маршрут привел его к «Гербу Дублина». Ему показалось ненормальным, что будучи столь близко от Морин, он вернется домой, не повидав ее. В романтическом порыве он решил спрятаться, чтобы увидеть ее, когда они с Шоном будут выходить, и лишь после этого отправиться к себе. Ему казалось, что после этого он будет лучше спать. В возрасте Бессетта еще бывают такие странные мысли…
Ждал он довольно долго, но наконец сердце его учащенно забилось. Морин стояла на тротуаре и, видимо, ждала кого-то, кто запаздывал. Фрэнсис обрадовался, что случай привел его сюда, и он сможет спасти любимую в случае, если этот невежда Шон не прийдет… Думая так, Фрэнсис совсем расчувствовался, решив, что играет роль ангела-хранителя, роль в каком-то смысле неблагодарную, но… В этот момент Морин помахала рукой какому-то человеку, переходившему через улицу, и, когда он приблизился к ней, она пошла, не оборачиваясь, рядом с ним. Вдруг Бессетт понял, что это не Шон. Фигура незнакомца также не походила на фигуры Руэда и Лаэма. Скорей из любопытства, чем из-за беспокойства, он пошел за ними и увидел, как они сели в машину, которая сразу же тронулась с места. Машина Берта Лимсея! Фрэнсис так и застыл на месте с открытым ртом. Он запомнил номер уехавшего «Ягуара», и память подтвердила то, в чем он был уже уверен. Значит, Морин солгала ему! Горечь и непонимание ее поступка захлестнули его настолько, что он пошатнулся. Неужели Морин смогла увлечься Бертом? Он зашел в какой-то бар и один за другим выпил два виски. Это несколько привело его в чувство. Он позабыл о своем горе и стал думать только о мести. Теперь уже ничто не имело значения, кроме яростною желания раздавить Берта! Тем хуже для Клайва Лимсея! Тем хуже для всех! Он остановил такси и отправился на центральный пост полиции, где потребовал встречи с инспектором Хеслопом.
Полицейский молча слушал, как Бессетт перечислял аргументы, из-за которых он считал Берта Лимсея убийцей своих родителей, организатором похищения Гарри Осли, перевозчиком наркотиков. Завершил он свой рассказ на том, что видел, как он сажал в свою машину Морин О'Миллой, и сделал следующий вывод:
— Сердцем и разумом я чувствую, что Берт Лимсей — как раз тот, кого вы ищете, инспектор. Кстати, если вы возьмете Джонни, он наверняка назовет вам имя Берта либо как своего хозяина, либо, по крайней мере, покажет, что он — один из столпов торговли наркотиками…
Брайс Хеслоп ответил не сразу. Он набил трубку, закурил ее и лишь после этого сказал:
— Джонни ничего не скажет.
— Почему?
— Потому, что его больше нет в живых.
— Нет в живых?
— Речная полиция нашла его сегодня после обеда в Токсет Доке. От него избавились. Он, наверняка, стал мешать тем, кто его нанял…
Фрэнсис стукнул кулаком по столу.
— Как раз сегодня утром на совещании у Клайва Лимсея я рассказал, что Джонни забрал у меня четыреста фунтов и что номера банкнот известны полиции. А ведь Берт присутствовал на этом совещании… Думаю, все ясно?
Хеслоп вынул трубку изо рта и выпустил клуб дыма.
— Даже слишком, мистер Бессетт… слишком. Если мистер Лимсей действительно виновен, как вам кажется, почему он делает все, чтобы привлечь к себе внимание?
— Потому, что он считает себя вне всяких подозрений!
— Но ведь вы ему их высказали?
— Ом уверен, что никто не поверит моим словам… и, слушая вас, инспектор, я начинаю думать, что его уверенность не лишена оснований.
— Ладно, мистер Бессетт, не расстраивайтесь. Если Берт Лимсей действительно окажется виновным, гарантирую вам, что он будет повешен точно так же, как какой-то обыкновенный Смит или Тейлор. Но я хотел бы знать, что ваши подозрения по отношению к нему основываются на вашей уверенности в его виновности, а не на том, что вам кажется, будто он отбил у вас девушку, которая вам очень дорога?
— Кажется, отбил? Вот это да! Я же их видел!
— Возможно, тому есть какое-то объяснение?
— Хотелось бы его услышать!
— За этим, мистер Бессетт, вам следует обращаться не ко мне, а к мисс О'Миллой… Подождите возражать и, пожалуйста, выслушайте меня. Хоть мне, как полицейскому, часто приходится встречаться с людьми, в которых осталось мало человеческого, мой принцип все же основывается на доверии к людям. У человека с черной душой редко бывает светлое лицо. Мисс О'Миллой произвела на меня наилучшее впечатление, и я позволю себе сохранить его до того, как будет доказано обратное.
— Да уж, наилучшее!
— Я бы, все-таки, посоветовал вам подождать еще хотя бы сутки и лишь потом составить окончательное мнение.
— Я больше не хочу ее видеть!
— Не будьте ребенком, мистер Бессетт. Сведения о Берте Лимсее говорят о том, что если в делах он ни на что не годится, то в жизни он — отличный парень. Мы не нашли ни одной порочащей его связи.
— Короче говоря, вы считаете его невиновным?
— В деле об убийстве, мистер Лимсей, никто так быстро не выходит из круга моих подозрений. Мистер Лимсей будет оставаться объектом самого пристального наблюдения, и можете мне поверить: я его задержу при малейшем подозрительном шаге. Но если он невиновен, то вы, мистер Бессетт, сами находитесь в смертельной опасности. Смерть Джонни показывает, что пока, по непонятным для меня причинам, они избавляются от тех, кого вы способны опознать. Опасаюсь, как бы они не додумались, что проще убрать вас самого, а также мисс О'Миллой.
У Фрэнсиса обида сразу же сменилась беспокойством.
— Морин?
— Вы оба можете встретиться с дружком Джонни… Так что вместо того, чтобы зацикливаться на Берте Лимсее, подумайте о собственной безопасности и безопасности мисс О'Миллой, мистер Бессетт.
— У нее уже есть защитник — Берт Лимсей…
* * *
Из-за горького привкуса во рту Фрэнсис Бессетт выпил перед сном стакан воды. В зеркале ванной комнаты отражался не очень уверенный в себе молодой человек. В конечном счете он, похоже, поступил по-скотски, заявив на Берта в полицию. Но почему Морин солгала ему? Почему она отдала предпочтение компании Берта? Значит, на свете нет ничего чистого и верного? Кроме того, Берт Лимсей, возможно, был убийцей. Морин — скверная девчонка, а он — фатальный персонаж? Всё было отвратительным, и Фрэнсис упал на постель, стараясь избавиться от мучивших его вопросов. Когда же он, наконец, погрузился в тяжелый сон, ему больше не казалось, что Англия — самая лучшая страна в мире.
Глава 9
Мисс О'Миллой позвонила на следующий день после обеда, но замкнувшийся в своей обиде Фрэнсис попросил телефонистку сказать, что его нет на месте. Хотя по своей должности ей приходилось постоянно говорить неправду звонившим, мисс Торнбалл испытала чувство сожаления от того, что не могла сказать ирландке все как есть на самом деле. Старая дева догадалась, что у ее уха агонизировала любовь, и она слышала ее первый предсмертный хрип. Вечно молодое сердце телефонистки страдало от этого. Вечером Морин позвонила опять. Фрэнсис остался непоколебим. Это продолжалось три дня. Нервы мисс Торнбалл были напряжены. Неужели эта ирландка ничего не поняла? Наутро четвертого дня телефонистка заметила дрожь в голосе упрямой девушки. Неужели ее настойчивость и иллюзии стали уступать жестокой реальности? Мисс Торнбалл показалось, что она должна прийти на помощь терпящей бедствие сестре, и когда в семнадцатый раз ей пришлось сказать, что кабинет Бессетта не отвечает, она добавила:
— Позвольте вам сказать, мисс, что настаивать дальше бесполезно. Мистер Бессетт приказал отвечать, что его никогда не будет на месте для мисс О'Миллой. Таковы все мужчины. Они топчут наши сердца, и им безразличны наши чувства. Если дружеское расположение может облегчить вашу боль, знайте, что я с вами…
Мисс Торнбалл с удовольствием подумала, что она очень хорошо уладила дело, и слеза восхищения собственной деликатностью оросила ее ресницы. Вот только мисс О'Миллой, вместо того, чтобы растрогаться ее сочувствием, ответила, что ее собеседнице лучше готовить свой порридж, чем совать нос в чужие дела. Кроме того, если мистеру Бессетту кажется, что он может так легко от нее отделаться, — пусть пеняет на себя! Возмущенная черной неблагодарностью, телефонистка прекратила разговор и с этого момента стала на сторону Фрэнсиса. При каждом новом звонке Морин она теперь с удовольствием отвечала, что его нет на месте и, чтобы побольше досадить этой наглой девице, делала это то насмешливым, то подчеркнуто сухим тоном.
В это утро Фрэнсис как раз находился в кабинете Джошуа Мелитта, когда вошла мисс Скрю и с отвращением сказала Фрэнсису о том, что с девяти часов (а не было еще и половины десятого) его знакомая звонила уже три раза: в первый раз она просила, чтобы мистер Бессетт выслушал ее, во второй — чтобы назвал точное время, когда его можно застать, и в третий — чтобы он не замыкался в своем глупом молчании. Мисс Скрю с издевкой подчеркнула слово «глупом». Раздосадованный Фрэнсис передал через мисс Скрю следующее указание для мисс Торнбалл: дать понять мисс О'Миллой, что она напрасно теряет время, поскольку мистеру Бессетту нечего ей сказать, и он не видит необходимости в таком разговоре. Мисс Скрю с недоброй улыбкой на устах ушла выполнять это жестокое поручение. Джошуа Мелитт вздохнул.
— Дорогой Фрэнсис, поскольку я случайно оказался свидетелем ваших личных проблем, позвольте мне обратить ваше внимание на бесстыдство современных девиц. Та, которая бросается вам на шею, несмотря на ваше открытое сопротивление, похоже, не уважает самое себя. Осмелюсь заметить, что при подобных обстоятельствах моя Клементина поступила бы совершенно иначе! Она бы, конечно, страдала, поскольку у нее чуткое сердце, но молча! Кстати, не помню, говорил ли я вам, что мои жена и дочь часто вспоминают о вас со времени первого визита? Думаю, что они обе будут рады вас видеть. Вы произвели на них самое лучшее впечатление.
Старый Джошуа опять забрасывал сеть в надежде поймать в нее жениха для своей Клементины. Фрэнсис сочинил первый же подходящий предлог, чтобы отказаться от этой чести, и постарался исчезнуть как можно быстрее.
Бессетт провел скверное утро, и это, конечно же, отразилось на его работе. Он все время думал о Морин и злился на себя самого за то, что любит ее по-прежнему, несмотря на измену. Как она могла так быстро забыть о нем и выслушивать нежности какого-то Берта Лимсея! Он считал ее более уравновешенной. Оказалось, что она такая же сумасшедшая, как и все ирландцы. Не выдержав, около десяти часов он справился у мисс Торнбалл, звонила ли мисс О'Миллой еще. Действительно, Морин звонила еще раз, но телефонистка в точности выполнила новые инструкции. Фрэнсису захотелось дать пощещину мисс Торнбалл…
В одиннадцать, распространяя запах дорогих духов, личная секретарша Клайва Лимсея мисс Сара Кольсон принесла ему папку с делом, подписанным патроном. Она задержалась в кабинете молодого человека и, присев на подлокотник кресла, приняла такую позу, которая наиболее выгодно подчеркивала ее фигуру. К счастью, приход мисс Скрю избавил Фрэнсиса от подобного спектакля, поскольку эти две женщины ненавидели друг друга. Мисс Скрю с отвращением понюхала воздух.
— Очевидно, нужно открыть окно?
— Это запах духов, мисс Скрю, и дорогих духов…
— Дорогих, но только не для нее!
— Для нее они стоят столько же, сколько и для всех остальных, не так ли?
— Когда деньги на духи берутся из кошелька мужчины, они не так уж дороги!
— Да?… Вы думаете, что мисс Кольсон…?
— А почему, по-вашему, ее держат здесь, несмотря на то, что она ни на что не способна?
— Не может быть…
— И, заметьте, что никто не может на нее даже пожаловаться. Она находится под высоким покровительством!
— Неужели!
Словно пчела, принесшая мед в соты, мисс Скрю запела:
— Только она одна может приходить на работу, когда ей заблагорассудится, брать столько отпусков, сколько она хочет, и, зарабатывая тридцать семь фунтов в месяц, тратить шестьдесят только на одежду!
— И патрон ничего не говорит?
Мисс Скрю строго взглянула на Бессетта, пытаясь понять, не издевается ли он над пей, и, убедившись в его искренности, произнесла:
— Если дела обстоят так, значит ему это нравится. А если хотите знать мое мнение, — не понимаю, что в ней такого особенного?
Фрэнсис мог бы ответить на этот вопрос, но не счел нужным объяснять все мисс Скрю и выпроводил ее из кабинета. Значит, мисс Кольсон — любовница Клайва Лимсея? Странно, что он не услышал об этом от Джошуа Мелитта, которого так возмущают все человеческие пороки… Правда, патрон всегда очень осторожен. А кроме того, у этого человека, вдовца, имеющего сына, который доставляет ему больше хлопот, чем радости, есть право найти себе другое утешение в жизни.
Незадого до полудня шум в коридоре оторвал Бессетта от изучения документов. Он еще не успел встать с места, как в кабинет ворвалась Морин, отталкивая сильной рукой обезумевшую мисс Скрю. Намечался скандал, и у Фрэнсиса по спине побежали мурашки. Он сказал:
— Можете оставить нас, мисс Скрю.
Стараясь принять как можно более непринужденный вид, он спросил:
— Что у вас, мисс О'Миллой?
Морин приблизилась к нему.
— Фрэнсис… что происходит? Вы больше не хотите меня видеть?
— Нет.
Полушепотом она спросила:
— Вы меня разлюбили?
— Это вас не касается!
— Я же знаю, что вы меня по-прежнему любите, Фрэнсис, так в чем же дело?
— Я ненавижу лжецов!
— Лжецов?
— Позвольте вас спросить, в какое кино вы ходили с Шоном в тот вечер, когда просили не заходить за вами?
— Так все дело только в этом?
— Да, в этом! Представьте себе, я люблю вас настолько… я любил вас настолько, что не мог вернуться домой, не повидав вас… и увидел… Ведь вы были не с Шоном?
— Нет, с Бертом Лимсеем.
— Хотя это признание и запоздало, но согласитесь: так или иначе оно привело бы к концу наши отношения.
— Фрэнсис, я вам сказала неправду только потому, что опасалась именно вашей ревности. Если бы я знала…
— Дорогая моя, вы имеете полное право отдать предпочтение мистеру Лимсею, но я вовсе не обязан радоваться по этому поводу, не так ли?
— Неужели вы думаете…?!
— Вы не оставили мне никаких иллюзий.
— Значит, так вы мне верите?!
— Странно слышать это от вас!
— Вы правы, Фрэнсис, нам, действительно, больше нечего сказать друг другу…
Она уже выходила, когда Бессетт бросил ей вдогонку:
— Кабинет Лимсея — в конце коридора!
— Спасибо!
Он дождался, когда стих звук ее шагов, и дал волю гневу.
Бессетт решил остаться в обеденный перерыв в кабинете. Ему не хотелось ни есть, ни встречаться с людьми. Он прислушался к шагам сослуживцев, торопящихся покинуть помещение, которое все больше наполнялось тишиной. Фрэнсису показалось, что он остался совсем один, и, когда вошел Берт Лимсей, он вздрогнул.
— Извините, что отвлекаю
вас, Бессетт, но ко мне зашла мисс О'Миллой и рассказала о своем визите и о том, как вы ее приняли…
Ничего не сказав в ответ, Фрэнсис встал, подошел к Лимсею и без предупреждения ударил его кулаком в лицо. Берт, захваченный врасплох, упал, но сразу же вскочил и, вытерев кровь, сочившуюся изо рта, улыбнулся.
— Лучше уж так…
Они боксировали как джентльмены, избегая запрещенных ударов, как это подобает англичанам, уважающим правила бокса, разработанные их соотечественниками. По очереди они падали и вставали на ноги. Бессетт был физически намного сильнее Берта. К тому же гнев и досада придавали ему силы. Через несколько минут Берт растянулся на ковре, не в силах больше подняться. Бессетт помог ему сесть в кресло и заставил выпить стакан воды. Красивое лицо Лимсея было в жалком состоянии. Лицу же Фрэнсиса, на котором за последние дни остались следы от многих ударов, было трудно дать какое-либо определение. Он смотрел на мир одним глазом, второй был скрыт под огромным отеком. Вытерев платком окровавленный рот, Лимсей сказал:
— Теперь, Бессетт, когда вы удовлетворены, я думаю, вы не откажетесь меня выслушать?
— Слушаю!
— Но только не здесь… Пойдемте со мной.
Удивленный Бессетт последовал за Лимсеем, и вскоре они сидели в «Ягуаре» Берта.
— Куда мы едем?
— В Формби.
Еще до этого Фрэнсису, который вообще-то решил не прислушиваться ни к каким объяснениям, стало интересно: что Лимсею могло понадобиться в Формби, городке, находящемся в тридцати километрах к северу от Ливерпуля?
В Формби Берт остановился перед полицейским участком.
— Пойдемте, Бессетт.
Еще более заинтригованный, чем прежде, Фрэнсис подчинился. Встретивший их сержант, казалось, знал Лимсея.
— Надеюсь вы пришли не из-за новой аварии, сэр?
— Нет, нет, я просто хотел бы, с вашего разрешения, показать этому джентльмену протокол о той аварии.
— Нет ничего проще… С тех пор не случилось ни одного серьезного происшествия.
Полицейский взял папку и быстро нашел в ней подшивку машинописных листов, которую передал Берту, а тот — Бессетту.
— Прочтите, пожалуйста.
Из документов Фрэнсис узнал, что Берт действительно попал в аварию на своем зеленом «Остине» в день гибели его родителей, но только более, чем в пятидесяти километрах от Стратфорда.
Лимсей следил за реакцией Бессетта, и когда тот окончил читать, спросил:
— Вы по-прежнему еще считаете меня убийцей?
— Я… я хотел бы попросить у вас прощения, Берт…
Попрощавшись с сержантом, Лимсей отвез Фрэнсиса обратно в Ливерпуль, и они заехали на Дейл Стрит в «Дерево и Лошадь». Приятели направились прямо к бармену, которого Берт окликнул:
— Билл… сколько я задолжал?
Тот слегка смутился.
— Восемьдесят семь фунтов и десять шиллингов, сэр.
Оттуда они заехали на Вернон Стрит, в «Кувшин», где Бессетт узнал, что у его друга накопился долг в тридцать два фунта, затем — на Темпл Стрит, в «Ягненок», владелец которого спокойно смотрел, как Берт подтверждает сорок один фунт долга. Они посетили еще «Серебряный кубок», «Молчаливую девушку» и «Старый дом». После этого Берт спросил:
— Вы все успели подсчитать, Бессетт?
— Да… двести семнадцать фунтов и восемь шиллингов.
— Неужели вы думаете, что если бы у меня была возможность расплатиться с долгами, я не нашел бы такой суммы? Сожалею, Фрэнсис, но необходимо считаться с фактами: я такой же торговец наркотиками, как и убийца!
Бессетт секунду помолчал и затем протянул руку.
— Извините, если можете, Берт.
— Нет, Бессетт, еще рано… Я смогу это сделать только после того, как вы извинитесь перед мисс О'Миллой за ваши оскорбительные подозрения.
— Но я же видел вас вдвоем! Как вы объясните это свидание?
— Все равно вы мне не поверите… Пока!
* * *
Вернувшись в кабинет, Бессетт почувствовал одновременно стыд и облегчение. Обрадованный тем, что ошибся в отношении Берта, он испытывал огромный стыд и сожаление обо всем, что думал и говорил о нем. Кроме этого, судя по тому, как Лимсей говорил о Морин, Фрэнсис заключил, что и здесь он направлялся по ложному пути. Он пообещал сам себе в этот же вечер зайти к инспектору Хеслопу и объяснить ошибочность своих обвинений против Берта. И вдруг ему стало совсем не по себе при мысли, что он едва не рассказал все Лимсею-старшему. Что же касается Морин, прежде, чем что-либо предпринять, он решил разобраться, почему же она все-таки сказала ему неправду.
Но Фрэнсису Бессетту не было суждено в этот вечер увидеть инспектора Хеслопа, поскольку при выходе из конторы Лимсея он натолкнулся на Шона и Руэда О'Миллой. Он остановился, как вкопанный, подумав, что ему опять сейчас придется драться, а он уже очень устал получать и наносить удары. Хотя, конечно, если придется… Он постарался стать покрепче на ноги, приподнялся на носках и в этот момент почему-то попытался представить, на что будет похоже его лицо после встречи с братьями Морин. Шон окликнул его:
— Мы пришли за вами.
— За мной?
— Вас хочет видеть отец.
— Только не сейчас!
Руэд сделал шаг вперед.
— Лучше делать, что говорят…
Шон протянул руку и остановил брата.
— Постойте, Руэд… Вспомните, что отец говорил сделать все культурно!
И с вежливой интонацией в голосе обратился к Фрэнсису:
— Не заставляйте нас бить вам морду, мистер, — отцу это не понравится…
— Думаете, меня это обрадует?
Руэд опять вмешался:
— То, что мы думаем — не ваше дело! И все равно пойдете с нами либо добром, либо по принуждению!
— Думаю, что это будет не так просто!
— Сейчас посмотрим!
Не обращая внимания на прохожих, Руэд хотел уже было наброситься на Бессетта, но старший брат, выставив кулак, остановил его и проворчал:
— Как вы невоспитанны, Руэд! Я сожалею, что взял вас с собой… Мистер Бессетг, отец хотел поговорить с вами о Морин.
— В таком случае, идемте.
Шон посмотрел на младшего брата.
— Ну что? Так-то лучше!
Идя между Шоном и Руэдом, Фрэнсис казался себе если не малышом, то, во всяком случае, — человеком очень среднего телосложения. Навстречу им попались Клайв Лимсей и Джошуа Мелитт. Бессетт приветствовал их, а они — его, не скрывая удивления, которое у них вызвали его спутники. Шон спросил:
— Кто это?
— Мой патрон.
Здоровяк кивнул головой.
— Похоже на то…
Оказавшись на пороге комнаты, в которой все семейство О'Миллой ожидало его прихода, Фрэнсис вспомнил о последнем воскресном вечере. Неужели и эта встреча окончится в полиции? На главном месте за столом сидел Пэтрик О'Миллой, изображая достоинство, которое вовсе ему не шло. Рядом с ним Бетти мяла полу белого фартука. Сидевшая на стуле Морин рассматривала носки своих туфель и даже не подняла головы, когда он вошел. Лаэм мял в руке сигарету. Молли и Шейла вязали свитера для своих женихов и делали вид, что происходящее их не интересует. Шон слегка подтолкнул Бессетта вперед.
— Вот он…
Руэд закрыл дверь и, скрестив руки, прислонился к ней. Бессетт подумал о ловушке, но присутствие Морин и Бетти придавали ему спокойствие.
— Садитесь!
Это сказал Пэтрик. Шон поставил стул и, взяв Фрэнсиса за плечи, усадил его. О'Миллой поднялся.
— Мистер Бессетт, я не люблю англичан…
— Знаю, мистер О'Миллой, знаю…
— Я бы даже сказал, что ненавижу их!
— И совершенно напрасно, мистер О'Миллой.
Шон сунул под нос Фрэнсису свой огромный кулак и посоветовал:
— Постарайтесь относиться к отцу с уважением, иначе…
Бетти встала с места.
— Значит так вы, Шон, чертов ирландец, соблюдаете законы гостеприимства?
О'Миллой обернулся к жене.
— Замолчите, Бетги!
— Я не позволю позорить свой дом!
— Вы говорите со мной непочтительно, Бетти!
— Вначале вы научитесь уважать свой дом и тех, кто в нем живет, Пэтрик О'Миллой, ирландский дикарь!
— Бетти! Я не хотел сердиться. Я даже продумал, что бы такое хорошее сказать этому молодому человеку, а вы заставили меня утратить равновесие… и я все позабыл. Вы думаете, что поступили разумно и должным образом исполнили обязанности матери и супруги?
— Говорите же то, что вы должны были сказать, и не болтайте лишнего!
Пэтрик сначала разразился ругательствами, собранными по всей Ирландии, потом поискал, что бы можно было разбить, но ничего не нашел, наконец сел и со злостью развязал давивший ему галстук. Выругавшись еще два или три раза, он успокоился и обернулся к Бессетту, который ожидал конца бури.
— Мистер Бессетт, я не люблю англичан…
Бетти опять запротестовала:
— Вы повторяетесь, Пэтрик О'Миллой!
— Замолчите же, черт побери! Но, мистер Бессетт, моя ненависть к англичанам — ничто по сравнению с любовью к моим детям. И я не могу видеть, как кто-то из них страдает, особенно, если он несчастен из-за какого-то англичанина!
Морин подняла голову.
— Отец, я вовсе не несчастна, и не стоит при чужом человеке говорить о наших чувствах!
— Это не ваше дело, Морин! И если вы еще раз вмешаетесь в разговор без моего разрешения, я попрошу Шона закрыть вас в комнате! Мистер Бессетт, когда вы пришли ко мне в тюрьму просить руки Морин, меня едва не хватил удар! Я постарел на двадцать лет, когда узнал, что, несмотря на хорошее воспитание, моя единственная дочь решилась на такой поступок. Но я — беззащитный старик, мистер Бессетт, и у меня слишком доброе сердце. Я очень много натерпелся в жизни… Если бы тридцать лет назад я проявил бы больше твердости, то не попал бы в сети хитрой англичанки, которая воспользовалась моей ирландской наивностью.
Бетти медленно встала, и все перестали дышать. Она заговорила без злости, торжественным голосом:
— Перед нашими детьми, которых вы похитили у истинной веры, вы смеете измышлять, что я была непорядочной девушкой, когда мы познакомились?
— Это не совсем то…
— Не вы ли сами схватили меня за талию, тогда как мы еще даже не были знакомы?
— Но вы же могли попасть под автобус!
— Лучше бы я под него угодила, если бы знала, какая жизнь мне уготована!
— Но все же вы под него не бросились потом… так что будьте логичны.
Не сказав ни слова, Бетти собрала свое вязание и направилась на кухню.
— Куда вы?
— Я не вернусь, пока вы не извинитесь!
— Вы бежите от трудностей! Речь идет о будущем вашей дочери, а вы убегаете! Вот это по-английски!
— Клянусь Богом, Пэтрик О'Миллой, если вы не извинитесь, я прекращу заниматься этим домом и теми, кто в нем живет!
— Ладно! Я еще раз пойду на эту жертву! Прошу вас, Бетти, принять мои извинения. Вот уже тридцать лет, как я во всем вам уступаю, и сегодня — не лучшее время начинать делать по-другому!
Бетти онемела от такой наглости. Она рухнула на стул и так и осталась сидеть с невидящим взглядом и дрожащими губами. Пэтрик воспользовался этим.
— Мистер Бессетт, скажите, разве моя дочь, вопреки своей порядочности, первой бросилась вам на шею?
— Конечно, нет!
— Если бы вы посмели сказать другое, я поколотил бы вас… Ладно, отметим эту редкую для англичан искренность. Подчеркиваю это, хоть кое-кому такие слова не нравятся…
Но Бетти больше ни на что не реагировала. О'Миллой, убедившись в своей победе, продолжил:
— Мистер Бессетт, вы воспользовались бесхитростностью и привязанностью к вам моей дочери, чтобы вытащить ее в прошлое воскресенье на свидание, и это — несмотря на мой запрет. Вы заставили ее участвовать в сомнительном приключении, и она была избита. Опять же из-за вас вся семья, включая этих невинных девушек — Шейлу и Молли, — провела ночь в тюрьме (невинные девушки приняли вид смиренных мучениц), а лично я просидел там восемь дней. Вы приходили сказать мне, что хотите жениться на моей дочери. Правда или нет?
— Правда, мистер О'Миллой.
— Нет, мистер Бессетт! Вы ее вовсе не любили, бросили, и вот теперь она очень несчастна!
Морин запротестовала:
— Я не несчастна и не хочу, чтобы другие занимались моими личными делами!
— Здесь приказываю я, и мой долг — следить за такой неблагодарной дочерью, как вы, Морин! Мистер Бессетт, я все равно бы не согласился, чтобы вы стали моим зятем, но я не могу допустить, чтобы какой-то англичанин так поступил с одной из О'Миллой! Жду ваших объяснений!
Перед этими мужчинами и женщинами, разглядывавшими его как диковинного зверя, Фрэнсис ощутил толчок к самопожертвованию, который заставляет людей творить безумные вещи, лишь бы доказать самим себе, на что они способны. Он встал и произнес спич, вошедший в историю семьи О'Миллой:
— Мои объяснения, мистер О'Миллой, основываются на нескольких выводах. И прежде всего на том, что вы — самый большой лжец, когда-либо родившийся в Ирландии!
Застигнутый врасплох, Пэтрик промолчал.
— Затем на том, что разумный человек скорей позволит отрубить себе руки и ноги, чем попасть в ирландскую семью!
Шон что-то прорычал, и это напоминало рев быка, готового к броску. Движением руки отец заставил его остаться на месте. Бетти, выйдя из состояния прострации, громко крикнула «ура!», от которого задребезжали стекла.
— И, наконец, на том, что никто не создает семьи с девушкой, которая вас обманывает.
— Я вас обманула?
— Именно так! Сознайтесь, что вы мне позвонили и попросили не заходить за вами потому, что якобы собирались с Шоном в кино. Я же видел, как вы встречались с Бертом Лимсеем!
Пэтрик очень официально спросил у дочери:
— Морин, он лжет или говорит правду?
— Он говорит правду, отец.
В лагере ирландцев наступило секундное замешательство, но Пэтрик со свойственным ему цинизмом заявил:
— Поведение моей дочери — это одно, а ваше собственное — совсем другое. Итак, мистер Бессетт, из сказанною вами можно понять, что вы злоупотребили нашим добросердечием, нашим доверием и поступили так, как этого можно было ожидать от англичанина! Кстати, разве не вы, англичане, сожгли Жанну д'Арк?
Застигнутый врасплох этим неожиданным обвинением, Бессетт признал:
— Конечно, но…
— Чего же можно ждать от людей, которые сжигают святую, а?
Присутствовавшие, хоть и не совсем поняли ход его мысли, но все дружно одобрили ее. Одна лишь Бетти воспротивилась:
— Это подло, Пэтрик О'Миллой, подло! Какое отношение может иметь Жанна д'Арк к отношениям вашей дочери с этим парнем?
Пэтрик подмигнул остальным.
— Не стоит лишний раз напоминать всем о том, что вы — их сообщница, Бетти!
— Я?
— А разве вы не англичанка?
— Да, и горжусь этим, особенно, когда слышу, какую чушь вы несете!
— Правда? И вы, конечно же, одобряете поступок этого джентльмена по отношению к Морин?
— Но, насколько я поняла, именно Морин виновна во всем!
— Очень хорошо! Значит, теперь вы нас предаете? О, мои бедные дети, я прошу у всех вас прощения… Я не мог предположить, что ваша собственная мать пойдет против вас и станет на сторону того, кто обманул вашу сестру…
Старый жулик издал жалобный стон, способный разжалобить любое сердце. В отчаянии Фрэнсис крикнул:
— Может достаточно разыгрывать эту комедию? Если вы так уж хотите знать, пожалуйста: да, я люблю Морин, да, я несчастен потому, что ей нравится другой! Вы довольны?
О'Миллой недоверчиво улыбнулся:
— Так всегда говорят…
Бессетт, сам себя не узнавая, прорычал:
— И вот вам доказательство!
Он подошел к Морин, обнял ее и, не встретив никакого сопротивления, поцеловал в губы. Сразу же после этого Фрэнсис услышал рев, напоминавший тайфун, и погрузился в темную ночь, потеряв сознание.
* * *
К земной жизни его вернула острая боль в макушке. Посмотрев вокруг, он понял, что лежит на чужой кровати и в чужой комнате. Склонившийся нал ним джентльмен выпрямился и спросил:
— Вам лучше?
Получивший оксфордское воспитание, Бессетт не привык разговаривать с людьми, которые не были ему представлены, и поэтому, в первую очередь, спросил:
— Кто вы, сэр?
— Доктор… ничего страшного не случилось, я только наложил вам три шва. К сожалению, мне пришлось сбрить вам волосы на макушке, так что потребуется некоторое время, чтобы они отросли.
— Но зачем?
В поле его зрения появилась Морин, и он сразу же заметил слезы у нее на глазах.
— Фрэнсис, Руэд очень сожалеет о том, что он забыл, что фаянсовый чайник, который разбили в воскресенье вечером, заменили медным…
— Ну и что?
— Он не думал, что сможет вас так сильно ранить…
— Морин, где я?
— В моей комнате, дарлинг, на моей кровати.
Фрэнсис Бессетт был англичанином, и от этого он до ушей покраснел.
Глава 10
— Нет, не может быть, вы это что — нарочно?
Джошуа Мелитт недоверчиво смотрел на Бессетта, стоявшего перед ним с забинтованной головой. Тот улыбнулся.
— Всего несколько швов…
— На этот раз — авария?
— Да, почти: невероятная оценка действий…
Старик Джошуа вздохнул. Казалось, он был удручен.
— Фрэнсис, я вас считал уравновешенным человеком.
— А я и есть уравновешенный человек. Вот другие — не всегда!
— Зачем же вы с ними имеете дело?
— Я понял это лишь после…
— Похоже, вы после всего этого очень гордитесь собой?
— Я счастлив, мистер Мелитт!
— А…, вероятно, ваша ирландка?
— Да, ее отец позволил мне попросить ее руки.
— Надеюсь, вы не станете об этом жалеть.
— Никогда! Морин такая…
Джошуа сухо его прервал:
— Не стоит! Я знаю наизусть все, что вы мне скажете. Или вы считаете, что придумали нечто новое? Нет? Тогда, дорогой друг, согласитесь: то, что вы собирались произнести о Морин, уже было сказано о Сьюзен, Элизабет, Рут и других. И если не возражаете, давайте перейдем к более серьезным вещам!
Фрэнсис обиделся на Мелитта, не желавшего признать исключительности Морин.
После того, как они вместе просмотрели почту, Фрэнсис холодно попрощался со своим наставником, но потом, поскольку он был влюблен, а значит — снисходителен вернулся обратно и с теплотой в голосе сказал:
— До свидания, мистер Мелитг, желаю вам счастливо провести этот день!
Джошуа недоверчиво взглянул на него, но увидев, что Бессетт искренен, улыбнулся в ответ.
— Спасибо, Фрэнсис, и… как знать, возможно эта Морин и в самом деле — настоящая жемчужина!
* * *
Убедить в этом Берта Лимсея оказалось значительно проще. Уже очарованный маленькой ирландкой, узнав о случае с чайником и наложении швов, он весело рассмеялся, чем привлек внимание мисс Скрю. Старая дева с минуту смотрела на дружеские объятия друзей и, очевидно, решив, что это несовместимо с традициями фирмы, фыркнула и вышла. Они даже не обратили на нее внимания.
— Берт, пока Морин ухаживала за мной в своей комнате, она рассказала, зачем вы встречались. Извините, старина. Я не мог знать, что вы хотели убедить ее повлиять на меня, чтобы я оставил поиски убийц родителей.
— Думаю, если бы я сам вам это посоветовал, вы бы восприняли этот совет, как еще одно доказательство моей вины.
— Давайте не будем больше к этому возвращаться… Мне стыдно, что я так глупо вел себя…
— Я был уверен, что меня вы не послушаетесь, а вот к словам, сказанным ею, отнесетесь с должным вниманием. Может быть, я ошибался?
— Послушайте, Берт, я вам искренне благодарен за этот поступок, поскольку он — еще одно свидетельство заботы обо мне, но этого дела я так просто не могу оставить! Согласитесь, это — мой долг перед отцом и матерью.
— Конечно, но поймите, что вы очень рискуете, Фрэнсис.
— Что же делать?
— Подумайте хотя бы о Морин!
— О'Миллой не бегут от трудностей и, ко всему прочему, мне было бы обидно выглядеть трусом в глазах этих ирландцев. Представьте себе, что было бы, если бы несчастье произошло с Пэтриком и Бетти О'Миллой. Можете быть уверены: трое братьев перевернули бы Ливерпуль вверх дном, но добрались бы до убийцы.
— Пора мне познакомиться с ними, Фрэнсис.
— Это упрямый народ, знаете?
— Ничего! Ставлю фунт, что подружусь с ними с первого же раза.
— Идет!
— А теперь давайте зайдем к отцу: он просил меня отыскать вас.
* * *
Когда друзья вошли в кабинет Клайва Лимсея, он работал вместе с прекрасной Сарой Кольсон. Лимсей-старший тоже удивился, увидев новую повязку на голове Бессетта, а мисс Кольсон, чтобы не рассмеяться, стала кашлять. Под строгим взглядом Клайва Лимсея она покраснела и опустила голову.
— Бессетт, вы определенно решили себя искалечить. Глядя на вас, я вспоминаю, как когда-то немецкие студенты нарочно сами себе саблями наносили раны на лице, чтобы больше нравиться своим красавицам… Я не знал, что ирландки требуют еще большего…
— Это не ирландки, а ирландцы…
В это утро у патрона было превосходное настроение, и отсутствие Джошуа Мелитта позволяло на минуту расслабиться. Фрэнсис рассказал о своем недавнем приключении и о том, как поцелуй стоил ему нокаута. Клайв Ламсей смеялся, как никогда. Берт добавлял к рассказу друга такие смешные комментарии, что это заставило мисс Кольсон позабыть о своих манерах богини, случайно сошедшей на Землю. Патрон вытер глаза и, когда его дыхание успокоилось, сказал:
— Бессетт, я слышал о многих способах ухаживать за девушками, но в этой области вы — необычайный оригинал! Так чего же вам удалось добиться, кроме ваших ранений?
— Морин сказала, что ее отцу понравилась моя отважность, и он разрешил еще раз попросить руки его дочери, хотя мне кажется, что больше всего на него повлияла жена. Ей очень хочется иметь зятя, на которого можно было бы рассчитывать в борьбе с этим племенем…
— Судя по тому, что уже случилось, свадьба обещает быть чем-то необычным… Думаю, на нее лучше прийти в кольчуге!
Они все рассмеялись и были искренно рады за Фрэнсиса. Зазвонил телефон, и мисс Кольсон, подняв трубку, объявила:
— Какой-то полицейский просит срочно связать его с мистером Бессеттом.
Клайв Лимсей кивнул в знак согласия, и мисс Кольсон передала трубку Фрэнсису. Когда речь зашла о полиции, остальные, как все нормальные люди, стали следить за выражением его лица.
— Да, я… Здравствуйте, инспектор… Неужели?… Замечательно! Мне приехать сейчас?… Как хотите, инспектор… Хорошо, договорились: сегодня вечером в половине восьмого-восемь — я у вас.
Он повесил трубку и объяснил:
— Это был инспектор Брайс Хеслоп. Ему удалось арестовать дружка Джонни, и он просит сегодня вечером меня и Морин прийти для опознания.
Это промедление удивило патрона.
— А почему не сейчас?
— Потому, что днем инспектор должен съездить по делам в Манчестер, а, кроме того, он считает, что, посидев немного в камере, тот будет меньше сопротивляться. Во всяком случае, мне кажется, что мои злоключения подходят к концу, и самое позднее сегодня вечером я узнаю, кто убийца родителей.
Клайв Лимсей с симпатией посмотрел на Фрэнсиса и сказал:
— От всего сердца желаю вам удачи, старина.
* * *
В обеденный перерыв Фрэнсис решил съездить к «Гербу Дублина», чтобы сообщить Морин эту новость. Вечером он собирался нанести официальный визит Пэтрику О'Миллой, от которого зависело их будущее.
После обеда у Фрэнсиса было немного работы. Он то и дело поглядывал на часы, стрелки которых, казалось, остановились. Минута тянулась за минутой. В шестнадцать тридцать он стал собираться, чтобы выйти точно и без промедления. В этот момент позвонила Торнбалл и сообщила, что с ним хочет переговорить по телефону какой-то незнакомец. Фрэнсис попросил телефонистку сообщить этому джентльмену, что он уже ушел. Она почти сразу же перезвонила опять и сообщила, что тот прекрасно знает, что Бессетт по-прежнему находится в своем кабинете, и хотел бы переговорить с ним по поводу мисс О'Миллой. Что мог человек, отказавшийся назвать свое имя, сообщить ему о Морин? Скорей расстроенно, чем обеспокоенно Фрэнсис сказал:
— Хорошо, соедините нас!
Голос в трубке был мягким и немного слащавым.
— Мистер Бессетт?
— Да, но я тороплюсь и…
— Я сам очень тороплюсь, мистер Бессетт.
— Хорошо, слушаю вас?
— Мистер Бессетт, сегодня вы должны опознать арестованного утром человека…
— Откуда вам это известно?
— Не имеет значения. Вам нетрудно будет узнать в нем Марти Шеррата, которого вы много раз видели вместе с Джонни.
— Спасибо, что назвали его имя, но я не понимаю, почему вы…
— Минуту, мистер Бессетт. Я хочу сказать, что вам будет нетрудно узнать Марти, но все же вы его не узнаете.
— Что такое?
— Вы его не узнаете, мистер Бессетт, если вам дорога мисс О'Миллой.
— Не понял?
— Все очень просто: мисс О'Миллой в наших руках, и, если сегодня вечером в полиции вы опознаете Марти, она этой же ночью окажется в Мерси. Мне будет жаль: она действительно очень хорошенькая, несмотря на свой ужасный характер. До свидания, мистер Бессетт.
— Подождите! Где мисс О'Миллой?
— Она вернется домой сразу же после того, как отпустят Марти… скажем через несколько часов после того, как наш друг выйдет из полиции. Ему нужно какое-то время, чтобы скрыться… Договоримся так: если Марти отпустят сегодня вечером, мисс О'Миллой вернется домой завтра утром…
— Но инспектор ни за что…
— Все в ваших руках, мистер Бессетт.
Его собеседник давно повесил трубку, а оглушенный Фрэнсис все еще слушал короткие гудки.
* * *
Инспектор Хеслоп радостно приветствовал Фрэнсиса:
— На этот раз у нас есть реальная возможность добиться желаемого, мистер Бессетт. У этого типа было время поразмышлять в камере, и, когда вы его опознаете, я думаю мы заставим его рассказать все, что нас интересует. Мисс О'Миллой не пришла?
— Я не смог с ней встретиться.
— Да?…
Полицейский не стал вдаваться в расспросы, но по его тону Фрэнсис понял, что он о чем-то догадывается.
— Если вы его опознаете, пусть она тоже обязательно зайдет к нам как можно скорей. Два свидетельских показания решат все дело.
Несмотря на все старания, Фрэнсису не удавалось придать уверенности своему голосу, и, смущенный, он перехватил удивленный взгляд Брайса Хеслопа. По приказу последнего арестованного ввели в кабинет, и Бессетт, без тени сомнения, сразу же узнал в нем того, кто хотел его задавить своей машиной. Хеслоп указал на арестованного.
— Это — Марти Шеррат, джентльмен, на которого у нас заведено весьма пухлое досье.
Тот проворчал:
— У вас против меня ничего нет, инспектор. Я расплатился сполна за старые ошибки. Вы не имеете права меня задерживать! Я требую адвоката!
— Думаю, он вам не очень поможет, если мистер Бессетт признает в вас верного дружка Джонни, Шеррат. Ну что, мистер Бессетт?
Фрэнсису было так стыдно, что он даже опустил глаза, когда прошептал:
— Кажется, это не он.
— Что?
Шеррат крикнул:
— Ну, что вы теперь скажете, инспектор?
— Замолчите! Присмотритесь еще раз, мистер Бессетт!
— Это бесполезно, инспектор, я его не знаю.
— Ладно…
Шеррат опять вмешался в разговор:
— Инспектор, я приму ваши извинения лишь в том случае, если вы меня немедленно выпустите отсюда!
Брайс Хеслоп встал, подошел к нему и, схватив за грудки, почти оторвал от земли.
— Я пока что не понимаю, что происходит, но если вы не замолчите, то, в виде извинения, схлопочете кулаком по физиономии! А выйти отсюда вам проще всего. Достаточно только объяснить, как был убит Джонни!
— Я же вам уже сказал, что почти не знаю Джонни. Все это похоже на преследование!
— Уведите его!
Когда охранники вывели Шеррата, Хеслоп обернулся к Бессетту:
— Что с вами случилось?
— Не понял?
— Мистер Бессетт, я почти уверен, что вы узнали Марти. Почему вы этого не сказали при всех?
— Уверяю вас, что вы ошиблись.
— В таком случае, извините за беспокойство.
И инспектор так углубился в свои бумаги, что даже не подал Бессетту руки, когда тот выходил из кабинета.
* * *
В «Гербе Дублина» Майкл Данмор объяснял Бессетту:
— Едва вы ушли, как появилась молодая женщина и попросила позвать Морин. Мне это уже сразу не понравилось. Ведь существует работа, а я плачу мисс О'Миллой не за то, чтобы она превращала мой ресторан в салон для встреч со своими друзьями!
— Ее выкрали, мистер Данмор!
— Да? Тогда это меняет дело. Значит, переговорив с этой женщиной, Морин, вся взволнованная, подходит ко мне и говорит: с Фрэнсисом (думаю, это вы?) случилось несчастье, и он прислал за мной. Что мне оставалось делать? Помешать ей уйти? Это было бы не по-человечески, да и она все равно не стала бы меня слушать… Она ушла с этой дамой.
— Опишите, пожалуйста, эту женщину.
— Достаточно высокого роста, очень элегантная и еще она как-то странно говорила…
— То есть?
— Такое впечатление, что при разговоре она сосала леденцы… Может быть, иностранка?
— Во всяком случае, она знала о моих отношениях с Морин, раз пришла от моего имени.
— Это случайно не ваша бывшая…?
— Бывшая — кто?
Майкл Данмор состроил хитрую мину:
— Бывшая подружка, которая перестала вам нравиться и которая решила отомстить?
И как человек, обладающий большим и горьким опытом, он добавил:
— Если хотите знать, с женщинами нужно всегда побольше осторожности…
Фрэнсис едва удержался, чтобы не сказать, что этого принципа Майклу следовало придерживаться с той незнакомкой, но он понял, что это все равно ничего бы не дало.
* * *
О'Миллой заканчивали ужинать, когда появился Бессетт. Пэтрик сразу же запротестовал:
— Я понимаю ваше нетерпение, мистер Бессетт, но вы все же пришли слишком уж рано! У меня только одна дочь, и я не собираюсь говорить о ее будущем посреди грязной посуды и не одев новый костюм. Мне кажется, вам следовало бы прогуляться и вернуться сюда через пару часов!
Фрэнсис, не дослушав его и до половины, спросил:
— Где Морин?
Этот вопрос позабавил братьев, которые увидели в нем скорей любовный пыл, чем беспокойство. Одна лишь Бетти услышала дрожь в голосе будущего зятя. Еще не зная в чем дело, она почувствовала, что дочь в опасности. Она и ответила Фрэнсису:
— Но она еще не вернулась с работы…
— Боюсь, сегодня вечером она не вернется домой.
Им потребовалось некоторое время, чтобы вникнуть в смысл сказанного. Чтобы показать, что он ничего не боится, Пэтрик, как обычно, рассердился.
— Надеюсь, вы пришли сюда не для того, чтобы оскорблять мою дочь, молодой человек?!
Самый понятливый изо всех Лаэм, наблюдая за лицом Бессетта, догадался, что буффонада отца сейчас неуместна. Он вытянул вперед руку, чтобы успокоить его.
— Отец, кажется дело серьезное… Что случилось, мистер Бессетт?
И тогда Фрэнсис рассказал об истории с Марти Шерратом, о том, как ему угрожали, и о похищении Морин. Пытаясь хоть как-то успокоить плачущую Бетти, он добавил:
— Чтобы с Морин ничего не случилось, я отказался опознать Шеррата…
Вопреки его ожиданиям, не последовало ни паники, ни криков, ни угроз. Столкнувшись с несчастьем, ирландцы вели себя с естественным достоинством. Чтобы показать всем, что он совершенно спокоен, Пэтрик медленно выпил стакан сока, но Фрэнсис все же успел заметить, как при этом дрожала его рука. О'Миллой сказал:
— Значит эти негодяи посмели взяться за нас? Мальчики, нужно дать им понять, что они допустили большую ошибку!
Все трое братьев встали и, когда Бессетт увидел, какие они спокойные и уверенные в себе, он тоже успокоился. Пэтрик раздавал указания:
— Думаю, что ваша сестра где-то у доков. Идите и предупредите всех ирландцев. Пусть они расспросят жителей своих кварталов. Обязательно найдется кто-то, кто видел Морин. Мы с мистером Бессеттом останемся здесь. Как только отыщется след Морин, мы начнем действовать.
Шон, Лаэм и Руэд вышли. Прежде, чем сесть, Пэтрик похлопал супругу по плечу.
— Не беспокойтесь, Бетти, мальчики скоро приведут ее…
* * *
В эту ночь англичане, жившие вблизи от ирландской колонии в Ливерпуле, не могли понять, что же так ее растревожило. Братья разошлись по барам, куда обычно заходили их соотечественники. Войдя туда, они подзывали кого-то из своих друзей и шепотом говорили с ним. Тот кивал головой, возвращался к своей компании, и все они тут же покидали бар на глазах удивленных посетителей. От Гладстоун Дока до Геркуленум Дока все пришло в движение. Затем братья обзвонили еще и тех, кто в этот вечер находился дома. Снова произошло то же самое: в квартире раздавался телефонный звонок, к телефону подходил ребенок, затем возвращался в комнату и говорил:
— Это вас, дэдди…
Отец семейства, в свою очередь, брал трубку, разговаривая с собеседником, произносил только «йес» или «о'кей» и в том случае, если он был единственным в доме мужчиной, брал свою куртку и уходил. Если же у него были сыновья, достигшие достаточного возраста, чтобы участвовать в драках (а у ирландцев этот возраст наступает довольно рано), он подавал им условный знак. Сыновья следовали за отцом, оставив в доме мать, которая пыталась догадаться, что же произошло. Вскоре все ливерпульские ирландцы разошлись по докам.
* * *
В одиннадцать часов Лаэм позвонил отцу. Он сказал, что все возможное пущено в ход и что, как только будут новости, он перезвонит опять. Бетти, закрывшись в своей комнате, молилась, а Пэтрик и Фрэнсис, казалось, по-настоящему сблизились, столкнувшись с общей для них бедой. В полночь Лаэм сообщил, что он, похоже, напал на след и спешит его проверить. В половине первого ночи О'Миллой и Бессетт услышали, как под окном остановилась машина. Когда вошел Шон, они уже ждали его стоя. Шон был по-прежнему спокоен. Он, не торопясь, сказал:
— Похоже, Морин закрыли на старом складе, что на Плизент Хилл Стрит. Лаэм послал меня за вами.
В нескольких сотнях метров от Плизент Хилл Стрит их машина остановилась по условному сигналу электрического фонаря в руке человека, который размахивал им слева направо. Рыжеволосый ирландец сказал, что проводит их до места, где находится Лаэм. Второй сын О'Миллой, прижавшись к стене, наблюдал за, казалось, покинутым зданием. Он шепотом объяснил Фрэнсису и отцу:
— Том Каллаген видел, как сегодня, после обеда, туда вошли две женщины. Он сразу обратил на них внимание, поскольку они не были похожи на женщин, обычно находящихся в их квартале. Это показалось ему странным, и он решил за ними понаблюдать. Вскоре он увидел, как из склада вышла та, что была повыше ростом. Она даже понравилась ему. Как раз когда он уходил с работы, сюда подъехала машина, из нее вышли два человека и прошли на склад. Каллаген обязательно сообщил бы об этом в полицию, если бы у него не были с ней такие плохие отношения, и, кроме того, это его не касалось! Нам бы удалось узнать об этом раньше, но Том пошел вечером в кино. Пришлось ждать его возвращения. Теперь, если хотите, отец, мы можем туда идти.
— Конечно!
Лаэм жестами что-то приказал, и вдоль стен окруженного склада задвигались тени. Шон решил в одиночку перекрыть выход на Керил Стрит. Поначалу было такое впечатление, что здание пустое. Оттуда не долетало ни звука. Фрэнсис медленно продвигался вперед рядом с Руэдом. Неожиданно они оказались перед какой-то небольшой дверью. О'Миллой-младший, сжав в руке большой французский ключ, сделал Фрэнсису знак постучать, а сам прижался к стене у двери. Фрэнсис с пересохшим горлом, не в состоянии сдержать мелкую дрожь, постучал. В тишине еще долго слышался этот звук. Через секунду послышался голос:
— Это вы, хозяин?
Голос Марти Шеррата! Значит Хеслоп изменил решение и отпустил его? Бессетт ничего не ответил. Последовал еще один вопрос:
— Кто это?
Фрэнсис сжался и едва не вскрикнул от напряжения, но Руэд жестом вернул ему контроль над нервами. Дверь медленно открылась. Фрэнсис скорей узнал, чем рассмотрел, уже знакомый ему силуэт, появившийся на пороге. Яркий свет фонарика, направленный Шерратом прямо ему в лицо, ослепил Бессетта и заставил его прикрыть глаза.
— Ага, наш маленький джентльмен решил навестить свою ирландочку?!
В этот самый момент Фрэнсис услышал приглушенный звук то ли стона, то ли призыва на помощь. Он мог поклясться, что это голос Морин. Фрэнсис рванулся вперед, но Шеррат, выхватив револьвер, остановил его.
— Потише! Да, она действительно здесь, хорошенько связана и упакована. Вы сможете ее увидеть, если только скажете, как сюда попали.
Стараясь не смотреть на Руэда, Фрэнсис попятился назад, чтобы заставить Марти выйти к нему. Гангстер клюнул на эту приманку.
— Испугались? Ну, это же недостойно джентльмена!
Он сделал шаг вперед, затем второй, и Бессетт увидел гигантскую тень Руэда, отделившуюся от стены. Почувствовав опасность, Шеррат обернулся, но немного при этом запоздал. Удар французского ключа по его голове пришелся раньше, чем он успел нажать на спусковой крючок.
К счастью, несмотря на позднее время, инспектор Хеслоп задержался на работе, чтобы составить отчет о своей поездке в Манчестер. Фрэнсиса он принял с прохладцей.
— Я не рассчитывал на ваш визит, мистер Бессетт.
— Я хотел бы извиниться за то, что произошло при опознании.
— То есть?
— Ну, по поводу Марти Шеррата.
— Неужели?
— Конечно же я узнал его, инспектор.
— Так я и думал.
Фрэнсис рассказал ему обо всем, что случилось за день. Полицейский молча выслушал его и сказал:
— Я рад, что для мисс О'Миллой все завершилось счастливо, но от этого наше дело не продвинулось ни на шаг вперед. Жаль, что вы отнеслись с недоверием к полиции. У нас тоже нашлись бы превосходные средства. После вашего ухода мне пришлось выпустить Шеррата по требованию адвоката, чудом узнавшего об этом деле. И все же я надеюсь, что в этот раз мы добьемся от Марти Шеррата признания и доберемся до верхушки их организации.
— Марти Шеррат убит, инспектор.
— Что?!
— Тот, кто помогал мне и спас мою жизнь, слишком сильно нанес удар. У Марти был револьвер, он угрожал мне.
— И вы, конечно же, не захотите назвать мне имени вашего спасителя?
— Я не хотел бы этого делать.
— Ладно… Шеррат получил то, что заслужил. Где его гело?
— В Мерси.
— Ваши друзья слишком уж перестарались, мистер Бессетт! Правда, то, что Марти оказался там, куда он отправил Джонни, доказывает, что какая-то справедливость все же существует. Мы выловим труп и запишем его на сведение счетов между гангстерами. Пресса будет довольна. Мисс О'Миллой больше ничего вам не рассказывала?
— Я сразу же поспешил сюда, но теперь-то я уже могу вернуться к ней и, если узнаю что-то повое, зайду к вам перед работой.
— Договорились, мистер Бессетт. В любом случае перезвоните мне, пожалуйста.
* * *
В доме О'Миллой никто не собирался ложиться спать. Бетти держала руки Морин, словно опасалась, что ее опять выкрадут. Руэд, успокоенный рассказом Фрэнсиса, теперь был доволен, что рассчитался с обидчиком сестры. Шон, еще не совсем придя в себя, прислушивался к шуткам над собой, смысл которых еще не полностью до него доходил. Его нашли лежащим на Керил Стрит. Когда к нему вернулось сознание, он с трудом смог объяснить, что дверь неожиданно открылась, его ослепило светом и сильный удар кастетом отправил его в страну грез. Огромный кровоподтек подтверждал правдивость его слов. Пэтрик, воспользовавшись случаем, стал втолковывать старшему сыну, что мускулы без мозгов значат не так уж много. Морин забросали вопросами, и она уже в двадцатый раз повторяла, что видела только Марти и красотку, которая приходила к ней в «Герб Дублина», чтобы отвести к якобы тяжелораненому Фрэнсису.
— Скажите, Морин, а эта женщина никак не назвалась?
— Она сказала, что случайно присутствовала при несчастном случае с Фрэнсисом, и он попросил сообщить мне об этом.
— Вы можете ее нам описать, Морин?
Внешность незнакомки никому ни о чем не говорила, но, как и Майкл Данмор, Морин обратила внимание на дефект произношения у своей похитительницы. Вдруг Шон поднялся, подошел к буфету, достал оттуда бутылку виски и на глазах потрясенной матери поднес ее к губам. Он выпил дозу, свалившую бы с ног любого, менее крепкого, человека. Бетти возмущенно воскликнула:
— Как вам не стыдно, Шон?
Старший сын, обретя наконец дар речи, обернулся к матери.
— Извините, мамми, но мне нужно все же полностью прийти в себя.
Лаэм пошутил:
— Жаль, что у вас не оказалось под рукой бутылки виски, когда вы перекрывали выход, Шон. Тогда бы вы рассмотрели этого человека.
— А я успел его рассмотреть, Лаэм.
Все сразу же притихли. Довольный произведенным эффектом, Шон, которому хотелось взять реванш, непринужденно добавил:
— Я видел и даже узнал его, а вот сейчас я пойду и за все с ним рассчитаюсь!
— И вы молчали?!
— Я был не в состоянии произнести спич.
Фрэнсис спросил:
— Шон, вы понимаете всю важность того, что сейчас сказали?
— Конечно!
— Вы уверены, что не ошиблись?
— Уверен.
— И вы его знаете?
— Знаю.
— Так кто же это?
— Ваш патрон, Бессетт.
Глава 11
Обвинение, выдвинутое Шоном против Клайва Лимсея, Фрэнсис воспринял как неуместную шутку. Но старший из братьев О'Миллой стоял на своем. Поначалу Бессетт попытался объяснить Шону всю глупость подобного обвинения, потом даже перешел на крик, но ирландец был глух ко всем его доводам и оставался при своем мнении. Он утверждал, что узнал Лимсея, поскольку видел его раньше, а именно в тот день, когда с братом заходил за Бессеттом. К своему большому удивлению, Фрэнсис не нашел доводов, чтобы опровергнуть это утверждение. То, что ему казалось святотатством, для остальных было непреложным фактом. Клайв Лимсей — торговец наркотиками! Клайв Лимсей — убийца! Как можно утверждать такие глупости?! Конечно, О'Миллой не знали, чем Фрэнсис был обязан патрону и, в частности, того, что только благодаря ему отец Бессетта смог дать Фрэнсису образование, которое было его семье не по карману. Разозленный Фрэнсис приказал Шону помалкивать, если он не хочет навлечь на себя серьезных последствий за такое безумное обвинение. Тот огрызнулся:
— Я не собираюсь об этом трепаться… но в ближайший вечер загляну к нему в контору, и там-то уж мы поговорим наедине…
— Вы окажетесь в тюрьме!
— А он — в больнице! Видите ли, мистер Бессетт, я не могу простить ему ни похищения сестры, ни этого подлого удара.
Вся семья была с ним согласна, а Морин добавила:
— Я тоже, если встречу эту сюсюкающую тварь, которая приходила в ресторан, сумею с ней справиться!
Рассерженный Фрэнсис попытался было что-то сказать, как вдруг до его сознания дошло слово «сюсюкающая». Сара Кольсон! Он оцепенел. Не может быть, он сходит с ума! Но если добавить эту деталь к предыдущему описанию, сделанному Морин, все было именно так! Взяв себя в руки, он попытался выяснить еще некоторые детали относительно внешности похитительницы. Он задавал такие точные вопросы, что Морин не выдержала:
— Можно подумать, что вы ее знаете!
Сомнений, увы, больше не было. Речь действительно шла о мисс Кольсон, личном секретаре Клайва Лимсея. Мисс Кольсон, которая жила явно не по средствам. Итак, вероятно средства от торговли наркотиками позволяли ей разыгрывать из себя роковую женщину! Значит, основная работа была для нее чем-то вроде прикрытия и, если Шон не ошибся, ее деятельность можно было объяснить только соучастием Клайва Лимсея. Теперь Бессетт уже понимал, что Шон не ошибался.
По выражению ею лица О'Миллой догадались, что с ним происходит что-то неладное. Морин взяла его за руку.
— Что с вами?
Он оглядел их, понимая всю важность того, что ему предстояло сказать:
— Вопреки моим надеждам Шон не ошибся… Его ударил именно Клайв Лимсей… а в «Герб Дублина» заходила его личный секретарь, Сара Кольсон…
Он понял, что все ждали дальнейших объяснений.
Как можно короче, он дал их и добавил:
— А теперь, Шон, я попрошу вас ничего не предпринимать, пока я не увижу инспектора Хеслопа, если, конечно, вы хотите, чтобы эти люди не ускользнули от ареста. У Лимсея власть, и его слово будет всегда весить больше вашего. Необходимо подготовить для него ловушку. Думаю, полиция это сделает лучше нас.
Шон почесал в затылке.
— И все же, мне бы очень хотелось набить ему морду…
* * *
В эту ночь Фрэнсис даже не пытался уснуть. Он полностью жил тем, что ему предстояло сделать через несколько часов. Даже образ Морин не мог отвлечь его мыслей. В таком возрасте всегда трудно смириться с двуличием других. Он не мог так быстро возненавидеть человека, которого раньше безмерно уважал. Но этот человек убил его родителей — своих друзей, чтобы избежать огласки и продолжать свое грязное дело! Должно быть, Биллу, как и ему сейчас, было так же трудно признать, что Лимсей — негодяй, не достойный ни малейшего снисхождения! А он еще мог подозревать Берта… Злость сменилась жалостью, когда он вспомнил, как Клайв снисходительно говорил о своем сыне. На самом деле, Клайв и не думал заботиться о наследнике, служившем для него просто прикрытием. Так несобранность Берта лишь подчеркивала серьезность его отца, а то, что сын был всегда предметом различных сплетен, делало Лимсея-старшего безупречным!
Обдумывая в тишине уснувшего дома события последних месяцев, Фрэнсис ощутил, что какая-то невидимая рука осторожно приподняла скрывавший от него правду занавес, и отныне для него все становилось ясным. Зеленый «Остин» принадлежал конечно же Берту, но за рулем в тот день был его отец. Бессетт вспомнил, что Клайв Лимсей прежде участвовал в автомобильных гонках и считался одним из лучших автогонщиков Объединенного Королевства. Случай позволил Биллу, неожиданно узнавшему о торговле наркотиками, по цепочке добраться до Клайва. Каким образом? Никто и никогда об этом не узнает. Билл же не умел действовать осторожно. Возможно, он даже попытался переговорить с Лимсеем и попросил того прекратить этот позорный бизнес. Таким образом, он сам себе подписал приговор. Мод, которая во всем разделяла заботы мужа, должна была умереть вместе с ним. Приезд Берта Лимсея в Оксфорд снимал подозрения с семьи, если бы они у кого-то возникли. Узнав от сына, отпросившегося с работы, о звонке Гарри Осли, Клайв воспользовался этим и убрал ненужного свидетеля. Похоже, что Сара Кольсон занималась передачей наркотиков, и коробка, которую прихватил Фрэнсис, принадлежала ей. Вероятно, удивление Джонни было вызвано тем, что он увидел его вместо женщины. Дело было отлично организовано, и Бессетт, рассказывая обо всем Клайву Лимсею, давал ему возможность вовремя принимать все необходимые меры предосторожности. Сам этого не зная, Бессетт стал невольной причиной убийства Джонни, сообщив патрону, что полиция вот-вот нападет на его след. И, наконец, объявив, что Хеслоп требует прихода его и Морин для опознания Марти Шеррата, он почти заставил Лимсея выкрасть девушку. Фрэнсис подумал, что, к счастью, он не успел рассказать о решении ирландцев действовать самостоятельно, иначе с Морин поступили бы так, что она никогда бы уже не заговорила. Подобная возможность рассеяла все сомнения Бессетта по поводу его планов действия. Клайв Лимсей заплатит за все свои преступления. Во имя всех его жертв Фрэнсис должен привести своего лже-благодетеля к виселице. Он на это уже решился.
* * *
Инспектор Брайс Хеслоп не очень удивился рассказу Бессетта.
— Правду сказать, я уже думал о чем-то в этом роде. Если предположить, что решение задачи находится где-то в фирме Лимсея, все события прекрасно увязываются между собой. Как и вы, я вначале подумал о Берте Лимсее, репутация которого не из лучших, и, несмотря на свой опыт, тоже увлекся этими внешними признаками. Признаюсь, я не решился подозревать всемогущего Клайва Лимсея. Надеюсь, вы понимаете, мистер Бессегт, что Лимсей — не последний человек в Ливерпуле?
— Конечно!
— И что для его ареста понадобится нечто большее, чем свидетельство Шона О'Миллой?
— Именно поэтому я попросил Шона пока ничего не предпринимать.
— Разумное решение. После убийства Марти Шеррата только Сара Кольсон может нам помочь вывести своего хозяина на чистую воду. Вот только найдем ли мы эту женщину?
— Вы думаете, что…?
— Попробуйте поставить себя на место Лимсея, мистер Бессетт. В настоящий момент ему известно, что мисс О'Миллой оказалась на свободе, и что она, рано или поздно, наведет нас на след мисс Кольсон. Кстати, ей достаточно зайти к вам на работу, чтобы там ее встретить. Лимсей знает о ваших отношениях с мисс О'Миллой и не должен исключать такой возможности.
— В таком случае, зачем он воспользовался услугами Сары Кольсон?
— Мне кажется, мисс О'Миллой должна была исчезнуть навсегда.
— Негодяй! Что мы предпримем, инспектор?
— Единственный способ добраться до Клайва Лимсея — это заставить его думать, что полиции ничего не известно, и никто ни в чем его не подозревает. Вы расскажете ему о вашем ночном приключении и подчеркнете, что опасность, которой подвергалась мисс О'Миллой, заставила вас навсегда отказаться от мысли разыгрывать из себя детектива. В это время мы попытаемся взять мисс Кольсон. Если она вдруг окажется на работе — немедленно позвоните мне. Но я не думаю, что Клайв Лимсей настолько глуп, чтобы допустить такую ошибку.
* * *
Клайв Лимсей, его сын и Джошуа Мелигт по-разному отреагировали на рассказ Фрэнсиса. Берт выразил сожаление по поводу того, что ему не пришлось участвовать в освобождении Морин. Как только в Ливерпуле случается что-то необычное, пожаловался он, ему не приходится в этом участвовать. Мелитт вопрошал невидимых собеседников о нравах молодого поколения, которому нравятся подобные развлечения, и выражал свое недовольство бессилием полиции, а заодно и действиями ирландцев, которые посмели выступить в роли служителей закона.
Бессетт почти не слушал их, стараясь уловить реакцию Клайва Лимсея. Патрон поздравил его с тем, что он с честью вышел из нового испытания, и одобрил его решение больше не вмешиваться в это опасное дело. Клайв становился все более отвратительным Фрэнсису. Волнуясь, он допустил оплошность и разыграл удивление по поводу отсутствия мисс Кольсон, у которой, по его словам, остались необходимые для его работы документы. Ему ответили, что секретарша взяла несколько дней отпуска. Она, якобы, уехала в Йорк к умирающей матери. Итак, Лимсей предвидел все.
В полдень инспектор Хеслоп зашел к Бессетту и сообщил, что Сара Кольсон исчезла из дома, не взяв с собой ничего из вещей. Домовладелица ничего не знала о ее матери и считала, что ее постоялица — круглая сирота.
— Что вы об этом думаете, инспектор?
— Только то, что однажды след мисс Кольсон обнаружится где-то в морге.
— Значит — новое преступление Клайва Лимсея?
— Ему приходится защищаться любой ценой. А теперь, мистер Бессетт, если вы согласны, мы вместе съездим к Пэтрику О'Миллой. Мне нужно попросить его кое о чем.
* * *
Пэтрик и Бетти как раз обедали, когда приехали Фрэнсис и Хеслоп. Когда Фрэнсис представил своего спутника, атмосфера в доме стала натянутой, но когда он заговорил о Морин, она разрядилась. О'Миллой даже пригласил их к столу, а Бетти предложила по чашке чая. Хеслоп рассказал о преступлениях Клайва Лимсея и разъяснил, насколько социальное положение последнего может затруднить его арест. Правду говоря, арест был почти невозможен, разве что в случае собственного признания перед свидетелями, что было практически нереально.
— Чтобы попытаться его взять, мистер О'Миллой, мы должны застать его врасплох. В этом деле я очень рассчитываю на вас.
Польщенный Пэтрик был весь внимание.
— Как только мы найдем мисс Кольсон, живую или мертвую, я сообщу вам, и вы тут же объявите о помолвке вашей дочери с мистером Бессеттом. Он пригласит на этот семейный праздник Клайва Лимсея и его сына. Если вы не возражаете, я тоже приду, и во время застолья мы попытаемся кое-что сделать. Несколько позже, доработав мой план, я вам его сообщу. Что вы об этом думаете, мистер О'Миллой?
— Это хорошая мысль, мистер Хеслоп. Вот только существует одно препятствие…
— Какое?
— У моей дочери нет жениха, и я не знаю, как мне объявить о ее помолвке?
Полицейский обернулся к Фрэнсису, который воскликнул:
— Но мистер О'Миллой, вы же дали обещание!
— Потише, молодой человек, потише! Я всего лишь сказал, что у меня на этот счет сложилось благоприятное мнение.
Бетти сразу же приняла сторону Фрэнсиса:
— Вы совершенно невозможны, Пэтрик О'Миллой!
— Бетти, брак — это серьезная вещь, и обязанность отца в том и состоит, чтобы хорошо все обдумать, прежде чем дать ответ.
— Жаль, что вы не сказали это тридцать лет назад: если бы я хорошо подумала, то, безусловно, не оказалась бы здесь.
— Бетти, вы — неблагодарный человек!
— А вы — ирландская заноза!
Хеслоп поднялся.
— Извините, что напрасно побеспокоил вас, мистер О'Миллой. Мне показалось, что вы обо всем договорились с мистером Бессеттом, поэтому я и обратился к вам за помощью. Давайте забудем об этом.
И затем к Фрэнсису:
— Не знаю, как мы теперь доберемся до Клайва Лимсея?
Пэтрик, обрадовавшись, что стал предметом общего внимания, решил быть более сговорчивым.
— Присядьте, инспектор Хеслоп. Я ведь не сказал, что отказываю мистеру Бессетту, но такое предложение не делается, как на ярмарке. Предположим, если мистер Бессетт согласится прийти к семи вечера, мы могли бы поговорить как следует… Я одел бы костюм и побрился… Короче говоря, я хочу, чтобы все было как следует!
Старый разбойник улыбался, довольный произведенным впечатлением. Фрэнсис поспешил его заверить, что он будет ровно в семь. О'Миллой ответил, что он и жена будут ждать его. Хеслоп ничего не сказал, но в душе пожалел Бессетта из-за будущего тестя. Расстались они почти друзьями, и Бетти пообещала полицейскому помочь в борьбе с Клайвом Лимсеем, поскольку сам О'Миллой не дал никаких обещаний до тех пор, пока не состоится официальная помолвка.
* * *
В восемнадцать часов Фрэнсис был уже дома, чтобы одеться как того требовал Пэтрик О'Миллой. Он прихватил с собой даже перчатки. Чтобы по пути ничего не случилось, он взял такси до Спарлипг Стрит. Таким образом вся улица узнала, что в доме у ирландцев происходит нечто необычное. С замирающим сердцем Фрэнсис постучал в дверь, понимая, что сейчас, переступив через этот порог, ему придется либо отказаться от Морин, либо получить ее в законные жены.
Пэтрик сидел на своем обычном месте. Его шею сдавливал целлулоидный воротник, который оттопыривал мочки больших ушей, а волосы были аккуратно зачесаны и пахли одеколоном. Бетти была в том же платье, что и в тот день, когда она принимала Бессетта. Ирландец строго осмотрел Фрэнсиса и довольно что-то проворчал. Особенное впечатление произвели на него перчатки. Он встал и церемонно произнес:
— Извольте присесть, мистер Бессетт.
Фрэнсис подчинился.
— Не хотите ли чаю?
Гость поспешил ответить, что он с удовольствием согласится на все, что ему предложат. С позволения супруга, ставшая необыкновенно важной Бетти разлила чай по чашкам, и они его молча выпили.
— Значит, мистер Бессетт, вы зашли повидать нас?
— Разумеется, мистер О'Миллой.
— Это очень любезно с вашей стороны.
— Почему?
— Молодежь не часто заходит к старикам, правда, Бетти?
— Пэтрик, сейчас не время для клоунады! Мистер Бессетт пришел не для того, чтобы выслушивать эти глупости! Может мне стоит напомнить, что он пришел из-за Морин?
О'Миллой разыграл удивление и разочарование.
— Из-за Морин? Ну вот, Бетти, вы развеяли все мои иллюзии. А я подумал, что… Морин еще не вернулась, мистер Бессетт.
— Знаю.
— Если это так, тогда зачем же вы пришли?
Бетти, цвет лица которой из розового медленно становился пунцовым, поднялась и тряхнула супруга за плечо.
— Вы, дикарь из Югхелла, зачем вы мучаете этого парня?
— Неужели я его мучаю?
— Ради Иисуса, который умер распятым на Кресте, прекратите это, Пэтрик О'Миллой, потому что из-за вас я сойду с ума и закончу свои дни в больнице для умалишенных! И это за тридцать лет самопожертвования!
— Бетти, вы, как всегда, преувеличиваете!
— Нет, я не преувеличиваю! Перед Господом Богом — я говорю чистую правду! Будь я проклята, если вру!
Но эти клятвы не произвели никакого впечатления на ирландца, который лишь добавил:
— Моя бедная Бетти, вам все равно гореть в вечном Огне.
— Мне?
— Да, как и всем еретикам.
Фрэнсис не знал, рассмеяться ему или рассердиться. Бедная мисс О'Миллой, несмотря на то, что всегда служила мишенью для шуток супруга, продолжала воспринимать их серьезно. Она была простым человеком и не привыкла к ирландскому юмору. Бетти опять села на свой стул.
— Вера таких людей, как вы, не может быть истинной, Пэтрик О'Миллой!.. И, кроме того, вы — бессовестный человек, если оскорбляете меня перед будущим зятем!
— Будущим зятем?
— Вот именно! Мистер Бессетт смотрит на вас с отвращением, но все же ждет, когда вы отдадите ему руку дочери!
— Но он еще не просил ее!
Фрэнсис сразу же восполнил этот недостаток. Он поднялся и официальним топом сказал:
— Мистер О'Миллой, я имею честь просить руки вашей дочери, Морин О'Миллой, которую я люблю и которая любит меня.
— То, что вы ее любите — это ваше дело, но нужно еще посмотреть, любит ли она вас?!
От неожиданности и Бессетт упал на стул.
— Что вы хотите этим сказать?
— То, что не всегда следует верить тому, что говорят женщины.
— Морин не похожа на других!
— В этом есть доля правды, поскольку она — моя дочь!
Бетти крикнула со своего места:
— Может быть, она — и моя дочь?
— Ладно, ладно, Бетти. Я согласен с тем, что вы тоже имеете к ней отношение, но она — прежде всего из семьи О'Миллой!
— Как раз этого я и боюсь…
Одержав победу над супругой, Пэтрик снова обратился к Бессетту:
— Вы, конечно, понимаете, что за одни красивые глаза не дают согласия? В противном случае, я просто хотел бы избавиться от Морин, без преувеличения — одной из лучших девушек в Ливерпуле, хотя я не считаю это великой заслугой, ведь все остальные жительницы города — англичанки.
Не обращая внимания на неприятное замечание, Бессетт согласился с этим утверждением, в то время как мисс О'Миллой простонала:
— Вы опять меня оскорбляете, Пэтрик О'Миллой!
— Напоминаю вам, Бетти: выйдя за меня замуж, вы стали ирландкой.
— Для меня это не причина отказываться от корней, которыми я горжусь!
— Тем хуже для вас!.. Мистер Бессетт, честно говоря, я не собираюсь расставаться с Морин.
— Но, мистер О'Миллой…
— Я думаю, что она еще слишком молода… Не могли бы вы еще немного подумать и вернуться сюда, скажем… скажем, через два года?
Ошеломленный Фрэнсис не знал, что ему делать, но, к счастью, здесь была мать Морин.
— Вам что, нравится издеваться над этим парнем? Скажите, Пэтрик О'Миллой, если бы вы были на его месте и если бы такой же старый черт, как вы, поступил так же, как вы сами с мистером Бессеттом, что бы вы сделали?
— Я? Я давно съездил бы ему по морде, и вы это знаете, Бетти. Но я — ирландец. А у англичан — порридж вместо крови, и правится вам это или нет, но я не выдам свою дочь за человека, который неспособен ее защитить. Так что не обижайтесь, мистер Бессетт, и давайте прощаться?…
О'Миллой поднялся и с издевательской улыбкой протянул руку Бессетту. Так значит его просили прийти, чтобы поиздеваться над ним? Фрэнсиса охватила безумная ярость. Ослепленный ею, не понимая, что творит, он изо всех сил, еще и удвоенных из-за потери Морин и этой насмешки, ударил Пэтрика О'Миллой кулаком в лицо. Тот отлетел назад, зацепился за крут лый столик и упал вместе с ним. Шум падения и крик Бетти вырвал Бессетта из состояния тупой ярости. Он понял, что натворил, и побледнел. Морин была утрачена навеки! Склонившись над мужем, Бетти старалась привести его в сознание. Когда Пэтрик проявил первые признаки жизни, она обратилась к Фрэнсису:
— Мистр Бессетт, это, конечно, не уладит ваше дело, но, честно говоря, Пэтрик давно этого заслужил, и, пока он нас не слышит, смею сказать, что я чертовски довольна.
Ее радость растаяла, словно снег под солнцем, когда она перехватила брошенный на нее взгляд супруга, не обещающий ничего хорошего. Она пробормотала:
— Вы… вы все слышали, Пэтрик?
— Да, слышал… и понял, что вы меня предали, Бетти. Я не в обиде на вас. Я знал, что так будет, когда женился на англичанке. Я сам этого заслужил.
Бетти расплакалась. Ее муж сел и сказал Фрэнсису:
— Молодой человек, вы застали меня врасплох, но должен признать: у вас неплохой правый…
Он закашлялся, сплюнул кровью и вдруг воскликнул:
— Зуб!
От удивления он вскочил на ноги, держа свой выбитый зуб, словно трофей:
— Последний зуб, Бетти! Он выбил его! Мистер Бессетт, я дерусь больше сорока лет, но этот зуб ни от одного удара даже не пошатнулся. Я уже думал умереть с ним, а вы — одной правой!.. Поздравляю!
Обрадованная Бетти поспешила добавить:
— Теперь вы сможете заказать себе протез!
— Я сдержу свое слово, Бетти, и завтра же пойду к дантисту.
Радость сменила атмосферу напряженности. Фрэнсис подумал, что ему все-таки следует извиниться.
— Мистер О'Миллой, я очень сожалею, что…
— Нет, не нужно извиняться! Я рад, что у вас тоже настоящая кровь в жилах… Этот удар достоин ирландца! Морин — ваша!
Такая резкая перемена ситуации немного покоробила Фрэнсиса, но успех его планов затмил собой все остальное. Он расцеловал Бетти и пожал руку Пэтрику. В этот момент появились братья О'Миллой. Не дав им времени опомниться, старый ирландец крикнул:
— Сыновья! Поздравьте нашего нового родственника! Одной правой ему удалось выбить мой зуб!
* * *
На совещании, в котором участвовали инспектор Хеслоп, Бессетт и семейство О'Миллой, было решено отметить помолвку Фрэнсиса и Морин завтра утром в девять часов на Спарлинг Стрит. Полицейский также сообщил, что труп Сары Кольсон был выловлен в Мерси, недалеко от Эллесмер Порта, но в интересах дела на несколько дней это должно оставаться тайной. Бессетту выпало задание пригласить на торжество Клайва Лимсея.
Клайв Лимсей принял приглашение Фрэнсиса, заявив, что будет рад выполнить пожелание своего погибшего друга: тот мечтал увидеть Клайва посаженным отцом на свадьбе своего сына. Фрэнсис с трудом сдерживался, чтобы не выплеснуть всего, что он думал об этой комедии, но вовремя решил, что выскажет то, что у него накипело, как только Лимсей будет арестован. И наоборот, ему стало жаль Берта, радостно заявившего, что наконец и для него настало время познакомиться со знаменитыми ирландцами. Его друг даже не догадывался, что если все случится так, как этого хотел инспектор Хеслоп, праздник завершится арестом его отца и крушением всех надежд Берта на будущее. Фрэнсис дал себе обещание сделать все от него зависящее, чтобы смягчить боль друга и вернуть ему любовь к жизни. Будучи далеко от таких мрачных мыслей, Берт как раз рассказывал веселую историю и заразительно смеялся. Вовлеченный во всеобщее веселье, Фрэнсис тоже расхохотался. Проходивший в это время по коридору Джошуа Мелитт вошел, чтобы узнать, что случилось. Берт предложил ему поздравить будущего супруга Морин О'Миллой. Джошуа сделал это немного прохладно. Его мечты об устройстве Клементины опять рушились. Бессетту хотелось быть великодушным.
— Мистер Мелитт, мистер Лимсей и Берт приняли мое приглашение прийти сегодня вечером к моим будущим родственникам на церемонию помолвки. Не согласитесь ли и вы присоединиться к ним?
— Охотно, дорогой Фрэнсис.
— Тогда, в девять вечера на Спарлинг Стрит, 231?
— Я буду. Берт, вы случайно не знаете, куда исчезла Сара Кольсон? Я ее давно не видел, а она мне очень нужна.
— Отец уже посылал за ней, но владелица дома не знает, где она. Лично я думаю, что Сара нашла, наконец, подходящего мужчину и сбежала с ним. Скоро она пришлет нам открытку с Лазурного Берега, чтобы извиниться за то, что уехала, не попрощавшись!
Джошуа Мелитт нахмурил брови.
— Позвольте заметить, Берт, что ваши шутки в отношении девушки, даже если ее поведение вызывает подозрение, переходят всякие границы. В Писании сказано: «Не судите и да не судимы будете»!
И, довольный собой, он вышел.
Берт Лимсей дождался, когда стихли его шаги, и воскликнул:
— Наш Джошуа гге знает пощады! Надеюсь, сегодня вечером он избавит нас от своих поучений? Ваши ирландцы могут это плохо воспринять. Ну, а Сара Кольсон, скорее всего, прекрасно проводит время и плюет на всех Джошуа Мелиттов на свете!
Фрэнсис не решился уточнить, что в это время труп мисс Кольсон находится в морге.
* * *
Церемония вышла очень официальной. О'Миллой словно подменили: они чинно сидели за столом. Все горячо поздравляли Морин, а Клайв Лимсей поцеловал ее от имени отца Фрэнсиса. Хеслопу пришлось даже удерживать Бессетта, чтобы он здесь же не вцепился в убийцу. Затем все принялись за выпивку и рассказы различных историй. По заранее подготовленному сценарию Пэтрик О'Миллой рассказал о том, как в Ирландии мертвецы приходят к живым, чтобы им либо помочь, либо отомстить. Клайв Лимсей изобразил скептическую улыбку, а Джошуа Мелитт проворчал, что все это — католические предрассудки. К счастью, на его слова никто не обратил внимания. Вечер продолжался, и, к большой радости Хеслопа, который не спускал глаз с гостей, ирландцам удалось создать несколько странную атмосферу. Вдруг, как раз когда часы пробили полночь, в дверь постучали. Все присутствующие были уже настолько подогреты рассказами Пэтрика, что наступило глубокое молчание. Хозяин дома спросил:
— Кто бы это мог быть в полночь?
Никто, конечно, не ответил, и он добавил:
— Посмотри, Морин…
— Я… я боюсь, дедди, а если это мертвец?
— Если он пришел с добром, пусть войдет, доченька!
В комнате установилась такая атмосфера, что никто даже не подумал рассмеяться. Все смотрели, как Морин поднялась и вышла в коридор. Затем послышалось какое-то перешептывание, но никто не разобрал ни слова. Девушка вернулась и с испугом объявила:
— Это женщина, которая выкрала меня, она говорит, что пришла попросить прощения… Ее звать Сара Кольсон.
— Это неправда!
Все обернулись к тому, кто это крикнул, и Фрэнсис с удивлением увидел, как Джошуа Мелитт поднялся и крикнул еще раз:
— Это — ложь! Это — не Сара Кольсон! Сара Кольсон не может быть здесь!..
Тогда Клайв Лимсей спросил:
— Почему, мистер Мелитт?
Джошуа провел рукой по мокрому от пота лбу и пробормотал:
— Потому что… потому, что…
И тогда вмешался Хеслоп:
— Потому, что вы ее убили, Джошуа Мелитт, как и Мод и Билла Бессеттов, Гарри Осли, Джонни, Марти Шеррата. Именем Закона, вы арестованы!
Опрокинув стул, Мелитт отскочил к стене и выдернул из кармана револьвер.
— Только попробуйте! Стреляю без предупреждения! В сторону!
Каждый вжался в свой стул и смотрел, как Мелитт тихонько отступал к двери. Он уже дошел до Шона, когда Бетти, ни о чем не подозревая, вышла из кухни.
— Положить вам кусочек торта, мистер Мелитт?
Ее слова прозвучали так неожиданно, что Мелитт на секунду ослабил свое внимание. Этого хватило Шону, который коротким ударом отправил его на пол и, набросившись сверху, стал работать кулаками так, как он и обещал после того, как Мелитт кастетом отправил его в нокаут. Когда Шона с большим трудом остановили, то Мелитт оказался в таком жалком состоянии, что Хеслоп даже не стал надевать на него наручники. Полицейский вывел задержанного, а Фрэнсис все еще никак не мог осмыслить происшедшего. Шон хлопнул его по плечу:
— Ну, кто был прав?
И Бессетт понял, что Шон в тот вечер принял Мелитта, одетого в классический костюм, за его патрона.
Глава 12
Фрэнсис признался:
— Инспектор, я не скоро смогу простить себе подозрительности по отношению к Клайву Лимсею. У меня до сих пор волосы встают дыбом, когда я думаю, что мог натворить. Неужели вы, инспектор, догадывались, что убийцей был Мелитт?
— Будь у меня просто желание удивить вас, мистер Бессетт, я, конечно, ответил бы утвердительно, но это не так. И все же, откровенно говоря, я не совсем верил в виновность Клайва Лимсея.
— Почему?
— Прежде всего потому, что человеку, занимающему видное положение, трудно вести двойную жизнь. Затем, когда была доказана невиновность Берта, мне показалось, что отец, готовый пожертвовать сыном ради подпольной торговли, был бы слишком уж жесток… Как далеко ни зашел бы человек, совершающий преступления, но все же существуют границы, которые не переходят. По всему было видно, что следы вели в фирму Лимсея. В невиновности Клайва я еще больше удостоверился, когда узнал, что он не имеет никаких дел с людьми, занимающимися торговлей наркотиками. И, наконец, было бы невероятно, чтобы Его Величество Случай — верный помощник полиции, помог нам дважды, с отцом и сыном, и в одном и том же деле. Все становилось намного проще, если допустить, что преступник находился где-то рядом с вами, но в том же самом месте, где работаете вы и работал ваш отец. Роль случая при этом значительно уменьшалась. Моя уверенность возросла после того, как я узнал, что ваш отец ничего не сообщал в полицию. Почему он не выполнил долг порядочного гражданина, каковым был всю свою жизнь? Только дружба и признательность могли объяснить такое его поведение. Догадывался ли он, что всем заправлял Мелитт? Или, как и вы, подозревал Клайва Лимсея? Мы никогда этого не узнаем, но мне кажется, он попался на ту же удочку, что и вы.
— А Сара Кольсон?
— Здесь мы, к сожалению, допустили ошибку, безо всяких доказательств полагая, что, если она красива, а у Клайва Лимсея есть достаточно денег и еще сохранилась неплохая внешность, их могли связывать отношения побольше, чем дружба. Правду говоря, в этом никто не мог заподозрить старого Джошуа Мелитта с его постоянными цитатами из Евангелия! Да, он хорошо поводил нас всех за нос! Расследование, которое мы провели после его ареста, показало, что Джошуа Мелитг хорошо известен в определенных кругах под кличкой «пастор». При помощи денег он заполучил не слишком разборчивую в отношении их источника Сару Кольсон.
— А мисс Мелитт?
— Ее вместе с дочерью следует внести в список жертв Джошуа.
Фрэнсису стало жаль несчастную Клементину.
— А я ему так верил…
— Все верили ему, и Мелитт пользовался этим доверием. Рассказывая о своих приключениях, вы давали ему возможность действовать наверняка. Он взял машину отсутствовавшего где-то Берта, чтобы убить ваших родителей, и, если бы Лимсей-младший назавтра разбился, сам обвинил бы его в этом преступлении. Никто не смог бы доказать невиновность Берта. Узнав о звонке Осли, он послал Джонни и Марти Шеррата, чтобы они его выкрали. Он же застрелил Джонни, когда узнал от вас, что полиция может напасть на его след. Он организовал похищение мисс О'Миллой, когда вы ему рассказали, что вместе с ней пойдете на опознание Шеррата, и, наконец, он избавился от Сары Кольсон сразу же после случая на складе. Должно быть, он очень радовался, что Шеррата убили… Так что, если все хорошо взвесить, мистер Бессетт, случайность была лишь в том, что вы захватили чужую коробку, ставшую причиной разоблачения Джошуа Мелитта, и в том, что, находясь рядом с вами, он этого не заметил. Очевидно, он просто видел, как мисс Кольсон выходила с коробкой в руках, и мысль о том, что она могла ошибиться, не пришла ему в голову.
* * *
Тихонько прикрыв за собой двери кухни, чтобы дать возможность молодым поговорить наедине, Бетти О'Миллой, напевая, заваривала чай. Она была счастлива, как никогда. Во-первых, Морин поднялась на несколько ступенек выше в своем общественном положении, выходя замуж за Бессетта. А, во-вторых, Бетти слышала, как она говорила Фрэнсису, что их дети будут воспитаны в духе протестантской церкви, поскольку это должно было понравиться ее будущему мужу, ну а старого Пэтрика они попросту поставят перед свершившимся фактом. Ярость ирландца, конечно же, со временем утихнет, поскольку ему хорошо известно, что мужчина сам творит законы в своей семье. Ведь и он тридцать лет назад поступил точно так же. Бетти улыбалась, представляя себе поздравления пастора, когда она в первый раз приведет к нему внука или внучку. Она мысленно уже испытывала всю сладость своего реванша.
Поставив на поднос чайник с заваркой, сахарницу, чашки и молоко, она осторожно приоткрыла дверь, чтобы взглянуть, может ли она войти, не потревожив их. Хотя мать может видеть все и не обижаться, например, если бы они целовались, она все-таки прикрыла дверь и покашляла, чтобы предупредить о своем появлении. Фрэнсис и Морин сидели, погрузившись в серьезный разговор, который хоть и велся шепотом, но позволил чуткому слуху Бетти уловить слова дочери:
— Скажем, если первой родится девочка, вы ведь не будете возражать против ее воспитания в католической вере?
— Конечно нет, дарлинг… Все будет, как вы хотите… а мальчики будут ходить со мной к пастору…
— Мальчики — разумеется, дарлинг…
Потрясенная мисс О'Миллой вернулась к плите. Морин оставалась дочерью своего отца! С болью в сердце и со слезами на глазах несчастная Бетти поняла, что до конца жизни ей суждено ходить к пастору одной, а дома присматривать за целой бандой маленьких папистов.
И пока Морин и Фрэнсис обменивались долгим поцелуем, Бетти на кухне почувствовала себя как никогда одинокой и даже перестала напевать.
ПОРРИДЖ И ПОЛЕНТА
Глава 1
В это апрельское утро, как и каждый день, с тех пор как он вышел на пенсию, проработав всю жизнь на британских железных дорогах, Генри Рэдсток надел красный спортивный костюм и быстрым шагом направился в Вилтон-парк, калитка которого находилась в какой-то сотне метров от его домика на Балбридж-роуд. Это жилье ему удалось приобрести после сорока лет строжайшей экономии средств. После часовой прогулки по парку он пришел к выводу, что несколько сброшенных граммов веса позволяют ему теперь приступить к плотному завтраку, состоящему из порриджа, яиц, колбасы и джема. Генри возвращался домой.
Рэдсток был человеком, весьма раздавшимся вширь, а кирпично-красный цвет его лица наводил на мысль о том, что в жизни он отдавал предпочтение чаю перед другими напитками. При этом Рэдсток был глуп, но пребывал в таком состоянии с таких незапамятных времен, что никто не обращал на это внимания. Уже в зрелом возрасте он женился на ирландке Люси Дромахейр, доведенной до полного изнурения работой по уборке Педдингтонского вокзала. Поскольку Господу угодно творить чудеса, то у этой далеко не блестящей пары родилась великолепная дочь Сьюзэн, которой теперь должно было исполниться двадцать четыре года, и которая в данный момент находилась в Лондоне, где сдавала последние экзамены, собираясь поступить на государственную службу.
Люси Рэдсток всегда просыпалась в тот момент, когда ее супруг закрывал за собой дверь дома, выходя на прогулку в Вилтон-парк. Тогда она вставала, чтобы ее господин и повелитель, которым она восхищалась, терпя с его стороны постоянные унижения, по возвращении с прогулки застал уже готовый брэкфэст[128]. Самым счастливым днем ее жизни был день, когда, черный от угольной пыли и пота, Генри вошел в душевую, которую она только что убрала, и попросил ее помочь снять пиджак. С этого все, собственно, и началось. В одно прекрасное воскресенье, когда они вместе гуляли по Гайд-парку, он попросил ее руки и сразу изложил свой планнинг[129] на ближайшие годы их будущей совместной жизни. Она покраснела, когда он заговорил о том, что у них как можно скорее должен появиться бэби, поскольку оба были уже не первой молодости. Работая кочегаром, Генри должен был выйти на пенсию в пятьдесят пять лет. После этого он собирался переехать вместе со своей женой в свой родной город Вилтон, в графстве Уилтшир, что в трех милях от Солсбери, в котором ему удалось приобрести в рассрочку дом. Люси была очень рада тому, что ей удалось покончить со своим жалким положением, и радостно восприняла все его предложения. Все происходило именно так, как запланировал Генри. Единственным отступлением от его планов стало рождение в их семье дочери, которую назвали Сьюзэн в честь матери Генри. Девочка очень скоро проявила признаки значительно большего ума по сравнению с родителями. Блестяще окончив школу, она отправилась в Лондон в надежде найти там себе хорошую работу. Рэдстоки очень гордились своей дочерью.
Со смертью хозяйки, у которой Рэдсток купил дом, он изменил свои политические взгляды, и после тридцатилетней приверженности коммунистам переметнулся на сторону консерваторов, и от чтения «Дейли Мейл» перешел к чтению «Таймс». Эту газету он всегда разворачивал перед тем, как приступить к порриджу, и комментировал ее статьи для Люси, которая со дня их свадьбы не переставала обожать мужа.
— Видите ли, дорогая, во вступлении нашей старой Англии в Общий рынок меня шокирует больше всего то, что нам придется ездить к этим европейцам, которые, несмотря на все их претензии, кажутся мне все-таки слаборазвитыми народами.
Генри и его жена, естественно, еще ни разу в жизни не пересекали Ченнел[130], английский берег которого они считали последним оплотом цивилизации перед простиравшимся за ним миром варваров.
— Это будет очень неприятно, Генри.
— Существа, неспособные как следует приготовить яичницу с беконом или заварить настоящий чай, не могут быть высокоразвитыми людьми! Должен вам сказать одну вещь, Люси: до сих пор мне удавалось оградить себя от контактов со всякими там шотландцами или уэльсцами, и в пятьдесят восемь лет я вовсе не собираюсь отказываться от своих принципов и встречаться с людьми, живущими за тысячу локтей от этих уэльсцев, шотландцев и…
У него едва не сорвалось с языка слово «ирландцев», но он вовремя спохватился, вспомнив, что Люси была уроженкой этой зеленой Эйре[131], появившись на свет в Ольстере, и продолжил:
— … других низших рас. Надеюсь, что Сьюзэн последует моему примеру и останется верной нашей стране.
— Я уверена в этом, Генри, иначе она была бы недостойна называться вашей дочерью!
— Я всегда видел в вас женщину с очень уравновешенным и добрым характером, Люси! Став моей женой, вы еще раз доказали это всем тем, кто на Педдингтонском вокзале считал вас из-за этого идиоткой, и я очень рад сказать вам, что с тех пор мое мнение о вас нисколько не изменилось.
Люси сложила руки так, как это делала в церкви Св. Николая, когда слушала проповеди преподобного Симмонса, и ласково прошептала:
— Благодарю вас, Генри!
После брэкфэста, оставив супругу заниматься уборкой, Рэдсток привел себя в порядок и направился на Сигрим-роуд, чтобы поговорить о последних новостях со своим другом Дэвидом Тетбери, тоже отставным служащим Королевских железных дорог, с которым он познакомился уже после своего переезда в Вилтон. Наведываться так рано к супругам Тетбери не было привычным для Генри, но сегодня день был исключительный, поскольку его дочь Сьюзэн Рэдсток сдавала последние экзамены, и ему просто необходимо было почувствовать чью-то поддержку до того часа, пока он узнает о ее успехе или провале.
Дэвид Тетбери с самого рождения был покорен судьбе. Бледный и худой, со взглядом, полным вечной тоски, он ничем не походил на того славного парня, каким был Рэдсток. Сознавая себя в жизни неудачником, Дэвид восхищался уверенностью Рэдстока в своих силах, уверенностью, которую, казалось, ни на секунду ничто не могло поколебать. В этом отношении жена Тетбери Гарриет не могла быть поддержкой своему мужу. Казалось, она появилась на свет для слез. Соседи шептались между собой о том, что она, должно быть, родилась под плакучей ивой. Во всем она могла найти предлог для того, чтобы сокрушенно вздыхать, жаловаться и думать о самом худшем исходе. Поскольку поведение мужа не позволяло ей освободиться от постоянно угнетавшей ее мрачной меланхолии, то она с жадностью набрасывалась на чтение различных хроник или новостей международной жизни. Она плакала по женщинам, зарезанным собственными мужьями, или по мужьям, от которых таким же способом избавились их жены, по детям, с которыми плохо обращаются их родители, а когда таких событий для необходимой порции скорби и слез оказывалось недостаточно, она плакала, перечитывая статьи о несчастных евреях, несчастных палестинцах или несчастных вьетнамцах. Она уже не раз предсказывала завоевание Великобритании русскими во времена Сталина, испанцами во времена Франко (которые должны были отомстить за уничтожение Непобедимой Армады[132]), во времена правления генерала де Голля — французами, которые этим завоеванием собирались смыть с себя позор Трафальгара, датчанами, когда те вдруг подняли цены на сало, затем — китайцами и, наконец, японцами, которым нужно было завоевать британский рынок. Каждый раз, когда доведенный до отчаяния Дэвид хотел ей возразить, она хваталась за голову, за грудь или за живот и заявляла, что не вынесет никаких возражений и что ей и так уж немного осталось жить. Единственным человеком, способным остановить поток ее жалоб и слез, был Рэдсток. Как только она приступала к своим бесконечным жалобам по поводу бедствий, готовых вот-вот свалиться на Объединенное королевство, Генри говорил:
— Что это вы, миссис Тетбери! Эдак вы можете оказаться не на высоте положения! Вас могут заподозрить в недоверии к силе и возможностям нашего флота, авиации и наземной армии!
— Но ведь это же китайцы, мистер Рэдсток!
— Тьфу! Китайцы! Китайцев не существует! Китай — это миф, который придумали коммунисты вместе с европейцами, чтобы попытаться запугать Англию!
— Но мистер Рэдсток! В одной газете я прочла, что этих китайцев более восьмисот миллионов!
— Ну и что? Разве эти восемьсот миллионов что-нибудь значат? У нас не смогли высадиться ни нацисты, ни испанцы, ни французы! И мы никогда не позволим желтым сделать то, чего не позволили белым! Вот так, постарайтесь в это хорошенько вдуматься, дорогая соседка!
Рэдстоку очень нравились эти Тетбери, поскольку ему всегда удавалось подавлять их своим превосходством. Это чувство возникало оттого, что он прежде жил в Лондоне, а Дэвид никогда раньше не выезжал из Ливерпуля; еще и потому, что Генри считал неоспоримым свое умственное превосходство над ними и полагал, что оказывает честь Дэвиду и Гарриет, разделяя с ними свои волнения по поводу будущего своей дочери, поскольку у них самих не было детей.
— Извините, что так рано побеспокоил вас, но любящий отец не может смириться с ролью постороннего наблюдателя. Безумное время, в котором мы с вами живем, заставляет девушек из порядочных семей искать себе работу, после того, как младшее поколение мужчин усомнилось в правильности образа жизни их предков. Вы ведь не станете возражать против этого, Дэвид?
Едва не начав всхлипывать, Тетбери ответил: «Конечно же нет, Генри!», а Гарриет, призвав Небо в свидетели, заявила, что ей никогда не следовало бы создавать домашний очаг, поскольку такая жизнь состоит из сплошной боли и слез. Рэдсток оставил незамеченными эти грустные рассуждения и продолжал:
— Мне было трудно оставаться дома и дожидаться звонка Сьюзэн о ее успехе или неудаче. Поэтому я зашел к вам за дружеской поддержкой.
Тетбери поспешили заверить гостя в том, что он обратился по верному адресу, и после этого они принялись перечислять все опасности и болезни, которые только того и поджидали, чтобы обрушиться на Сьюзэн, как только она окажется в Лондоне. Им это настолько удалось, что Генри ушел от них раньше, чем собирался это сделать, и отправился на Беркомблейн, где находился паб[133] «Безвременник и василек», постоянным клиентом которого он был с давних пор. Там он застал преданную его авторитету аудиторию, состоявшую из мясника Шиптона, бакалейщика Пикеринга, портного Хелмсли, почтальона Изингволда и сапожника Эпворта, к которым иногда присоединялся фармацевт Ботел. Когда Рэдсток вошел в паб, там воцарилось глубокое молчание, которое продолжалось, пока он приветствовал его постоянных посетителей, не позабыв при этом о хозяине паба Реджинальде Сайре и его супруге Феб. Затем он сел за столик к своим друзьям, заказал ячменного пива и стал дожидаться, когда кто-нибудь поинтересуется его мнением о внутренней политике правительства Хета или об осложнениях на Среднем Востоке. Перед тем как ответить, он всегда долго вытирал губы.
— Дорогие друзья, вы, должно быть, догадываетесь о том, что газеты создают лишь видимость реальной картины. И этим господам с Флит-стрит[134] не удастся провести такого старожила Лондона, как я!
По столам пробежал шепот одобрения, свидетельствующий о том, что журналисты с Флит-стрит, вероятно, совсем потеряли рассудок, если надеются ввести в заблуждение такого человека, как Генри Рэдсток.
— Я постоянно напоминаю тем, кто имеет честь прислушиваться к моим
словам, что для того, чтобы составить свое личное мнение, не следует полностью доверять написанному в газетах. Конечно, скажете вы мне, как можно составить это мнение, не боясь ошибиться? Конечно же, у вас не может быть такого богатого опыта, как у меня. Так вот, если позволите, могу вам дать несколько советов, которые, если их постоянно и в точности применять на практике, позволят уменьшить количество простофиль, верящих прочитанному лишь потому, что это напечатано в газете. Конечно, мне не пришлось получить образование в Оксфорде или Кембридже…
Мясник громко, со вздохом, сказал:
— Как жаль…
— Спасибо, мистер Шиптон… Позволю себе, со всей присущей мне простотой, заметить, что вы совершенно правы. Мой совет, джентльмены, состоит в следующем: можете смело считать ложью все то, что говорят о нашей стране лейбористы. Что касается международных событий, то здесь следует помнить, что иностранные государства всегда нам завидовали и думают лишь о том, как бы нам навредить, даже если они при этом заявляют об обратном. Не верьте в достоверность ни одного сообщения, если оно не исходит от агентства Рейтер.
При подобном подходе решение всех самых сложных проблем уместилось в одну фразу, что еще больше подняло престиж Генри Рэдстока в глазах окружающих. И все же однажды ему пришлось пережить нелегкое сражение с одним приезжим, который, сидя за соседним столиком, прислушивался к разговору друзей, а затем подошел к ним и, обратившись к Генри, спросил:
— Извините, сэр, вы часто бываете в этом пабе?
— Два раза на день: утром и вечером.
— Спасибо. Не были бы вы так любезны еще сказать, где вы живете, сэр?
— Конечно, сэр, я не собираюсь делать из этого тайны: на Балбридж-роуд.
— Кажется, это недалеко от Уошерн-клоуз?
— В двух шагах оттуда.
— Я вам бесконечно благодарен, сэр, за эти ценные для меня сведения. Я сам из Лондона и собирался переехать сюда, в Вилтон. В том районе мне удалось подыскать дом, который устроил меня во всех отношениях. Я обязательно купил бы его, если бы вы так любезно не предоставили мне сведения о вас.
— Следует ли понимать ваши слова гак, что вы решили отказаться от этой покупки?
— Именно так, поскольку должен вам признаться, что никогда в жизни мне еще не приходилось слышать столь глупые высказывания, да еще произнесенные с такой идиотской напыщенностью. Поскольку перспектива встречаться с вами или слушать вас все оставшиеся мне жить годы выше моих сил, я предпочитаю отказаться от выгодной покупки. До свидания, джентльмены.
Вопреки всем ожиданиям, эта стычка, которая при других обстоятельствах могла бы привести к полному поражению, усилиями друзей Рэдстока была превращена в еще одно доказательство его ителлектуального превосходства, так как, по их мнению, даже лондонцы завидовали их товарищу.
В час дня Генри вышел из «Безвременника и василька» и направился домой. Там он застал Люси, которая страшно волновалась в ожидании момента, когда он ей сообщит о том, что хорошо перекусил и что французы напрасно кичатся своей кухней, основное место в которой занимают лягушки. Когда миссис Рэдсток услышала из уст супруга (а иначе она никогда бы в это не поверила) рассказ о его стычке с лондонцем, она на несколько минут застыла с раскрытым ртом и округлившимися глазами. От негодования у нее перехватило дух и помутился взор. Даже если бы ей сказали, что архиепископ Кентерберийский вступил в коммунистическую партию, она не была бы так поражена. Когда она пришла в себя, то лишь сказала:
— Вы действительно необыкновенный человек, Генри, и если бы мне потребовались дополнительные доказательства этого, лучшего, чем то, о чем вы мне рассказали, трудно было бы придумать. Я горжусь вами, Генри.
— В самом деле, Люси, мне кажется, вам есть чем гордиться!
Генри уж было развернул свою салфетку, когда Люси сообщила:
— Пришло письмо от Сьюзэн.
— И что в нем?
— Как я могла себе позволить открыть его без вас, Генри? Не забывайте, я тоже знакома с хорошими манерами!
— Извините, пожалуйста, Люси.
Рэдсток взял в руки конверт, вскрыл его и прочел следующее:
«Дорогие родители! С радостью сообщаю вам, что сдала последний экзамен и через два месяца смогу приступить к работе. Эти два месяца станут для меня чем-то вроде каникул перед настоящим делом. Я безумно рада, поскольку теперь больше не буду отнимать у вас сбережений, а радость моя удваивается еще оттого, что вместе со мной конкурс прошли мои подруги Тэсс и Мери Джейн. Мне хотелось бы, чтобы вы тоже познакомились с ними. До скорой встречи. Целую. Ваша дочь Сьюзэн Рэдсток.
P.S. Экзамен по итальянскому языку я сдала лучше всех».
Генри медленно сложил письмо, вложил его обратно в конверт и лишь после этого позволил себе заметить:
— Ну что же, Люси! Могу сказать, что у вас превосходная дочь!
Не помня себя от счастья, Люси немного стыдливо опустила глаза и сказала:
— Это все потому, что я имела счастье встретиться с вами, Генри.
— Очень рад, дорогая, что вы это понимаете.
Он протянул ей конверт.
— Думаю, вы с радостью прочтете это письмо Тетбери, когда они придут к нам на вечерний чай?
— О Генри, благодарю вас!
В этот день Рэдсток после обеда никак не мог усидеть на месте и, подсчитав, что до прихода их друзей остается еще добрых три часа, он решил развеяться. Выйдя на улицу, он сел в автобус и поехал в Солсбери, полагая, что Вилтон был слишком мал для того, чтобы уместить в себе распиравшее его чувство радости и гордости. Прибыв в город и доехав до конечной остановки на Касл-стрит, он стал неторопливо прохаживаться по улицам, демонстрируя всем прохожим, что ему нечего беспокоиться о завтрашнем дне и некуда торопиться. Ему так и хотелось крикнуть этим мужчинам и женщинам, проходившим мимо него:
— Я — Генри Рэдсток, отставной служащий, а моя дочь с сегодняшнего дня поступила на службу короне!
Пройдя по Блю-Бор-роуд, отец Сьюзэн вышел на Квин-стрит, где в память об этом дне купил себе в подарок кисет для табака. Он даже не подумал купить что-нибудь для Люси, о которой он никогда не думал, если она не была в этот момент рядом с ним. Ему и в голову не могло прийти, что подарок для Люси мог быть дороже, чем письмо ее дочери или комплименты ее мужа.
В это время Люси, которая обычно никогда не проявляла активности, сгорала от нетерпения. Ей казалось, что время вечернего чая никогда не наступит, что муж может опоздать, что Тетбери могли забыть о приглашении. Чтобы не думать о времени, она попыталась при помощи косметики придать своему лицу былую красоту, но это оказалось бесполезным занятием. Бедная Люси не питала по этому поводу никаких иллюзий. Разочаровавшись в своих попытках, но нисколько не расстроившись, она вернулась в комнату и надела свое лучшее платье, которое подарил ей муж к Рождеству три года назад. Наконец, незадолго до прихода Тетбери вернулся Рэдсток.
— Если бы вы знали, как я волновалась? Вы все не возвращались, и я было подумала, что вы не придете ко времени.
— Вы меня удивляете, Люси! Как вы могли подумать, что человек, всю жизнь соблюдавший точное расписание, мог позабыть о времени?
— Простите, дорогой.
— Ладно, на этот раз прощаю.
Миссис Рэдсток настолько была поглощена желанием поскорее прочесть письмо гостям, что за столом едва не подавилась кексом и не обожглась чаем. С большим трудом она заставила себя дождаться условного сигнала мужа. Когда все пирожные, наконец, были съедены, а в чайнике не осталось больше заварки, Рэдсток подмигнул жене, которая, стараясь сохранить как можно более естественный вид, как бы невзначай сказала:
— Мы наконец-то получили письмо от Сьюзэн.
Гарриет, у которой от нетерпения появился блеск в глазах, спросила:
— И что же она пишет?
Люси не стала торопиться с ответом, чтобы как можно дольше продлить этот единственный в жизни момент.
— Так вот! Имею честь вам сообщить, что наша дочь сдала все экзамены и вскоре станет государственной служащей Ее Величества, как прежде и ее дорогой папа!
Счастливые родители начали принимать поздравления. Женщины расцеловались, мужчины пожали друг другу руки, и в доме установилась атмосфера всеобщей радости, которая продолжалась до того момента, пока миссис Тетбери вдруг не упала на стул, заливаясь слезами. Все присутствующие бросились к ней, наперебой расспрашивая о здоровье. Кто-то даже захотел было помочь ей расстегнуть чересчур плотный корсаж, но, в конце концов, она всех успокоила, когда ей удалось вымолвить в паузе между рыданиями:
— Мне так бы хотелось, чтобы и у меня была бы такая же дочь, как у вас…
Все с облегчением вздохнули. Это была обычная для нее истерика. Чтобы как-то ее успокоить, Люси сказала, что их семьи настолько были связаны дружескими узами, что дочь одной из них как бы естественно становилась дочерью другой семьи. На это Гарриет ответила, что Небо, должно быть, за что-то на нее разгневалось, поскольку лишило ее самых простых радостей жизни, и, кроме того, с самого рождения она испытывала на себе какое-то проклятие. Ей пробовали возражать, но она впала в такую мрачную меланхолию, из которой никому не удавалось ее вывести. Таким образом, пришлось подождать, пока печаль миссис Тетбери не пройдет, и лишь тогда Рэдсток, каким-то чудом уловив паузу в потоке ее бесконечных жалоб, торжественно, как это делают перед выносом невиданных доселе блюд, объявил:
— Там еще есть постскриптум! Прочтите нам постскриптум, Люси.
Дрожа от охватившего ее чувства гордости, она прочла:
«Постскриптум: Экзамен по итальянскому языку я сдала лучше всех».
На какое-то время воцарилось молчание, во время которого Рэдстоки продолжали ощущать прилив гордости, миссис Тетбери перестала рыдать из-за начавшегося у нее процесса интенсивного мышления, а ее муж что-то мычал, словно бык в стойле. Гарриет, наконец, оторвалась от своих глубоких размышлений и спросила:
— Так значит, Сьюзэн говорит по-итальянски?
Люси, не сразу поняв, в чем дело, с некоторым раздражением ответила:
— Но вы же слышали? Она лучше всех сдала экзамен!
— Да, но зачем ей понадобилось изучать итальянский язык?
Этот странный вопрос застал родителей девушки врасплох.
Генри недоумевая переглянулся с женой. Выйдя из своей нирваны, Дэвид сказал:
— Вероятно, потому, что это ей нравится.
Гарриет продолжала настаивать с прежним глупым любопытством:
— Хорошо, но почему ей нравится именно этот язык?
Рэдсток терпеть не мог ситуаций, когда он не мог дать ответа на заданный вопрос, и миссис Тетбери всерьез начала его раздражать. Люси, пытаясь предотвратить зарождавшийся конфликт, предложила свое мнение:
— Возможно, она считает его красивым?
Ее муж пожал плечами.
— Как вы могли такое сказать, Люси? Какой язык может считаться красивым, когда мы имеем счастье говорить на самом красивом языке в мире?! Кроме того, не могли бы вы мне сказать, на каком языке писал свои произведения Шекспир?
— Думаю, на английском?
— Так вот! Если самый великий писатель в мире выбрал для своих произведений английский язык, значит — он самый красивый в мире! И никто не сможет доказать мне, что это не так!
К несчастью, Гарриет продолжала задавать свои глупые вопросы:
— Возможно, Сьюзэн познакомилась с красивым молодым итальянцем?
Генри очень сухо ответил:
— Осторожно, миссис Тетбери! Вы оскорбляете мою дочь! Кажется, с помощью присутствующей здесь моей супруги я воспитал ее достаточно хорошо для того, чтобы она могла выйти замуж, не спросив родительского разрешения!
— Тогда, может быть, она просто хочет съездить в Италию?
— Нет, миссис Тетбери, и еще раз нет! Сьюзэн — порядочная девушка, и она унаследовала от меня твердые принципы! Уверен, что она последует примеру своих родителей и ни за что и никогда не покинет наш остров! Как-никак, мы не прививали ей вкуса к таким путешествиям! Кроме того, должен добавить, миссис Тетбери, что дочь человека, имевшего честь тридцать лет проработать на британских железных дорогах, не может иметь желания отправиться в Италию!
Но мистер Рэдсток ошибался. Его дочь Сьюзэн и ее две подруги, с которыми она снимала комнату на Менелик-роуд, мечтали только об Италии. Все трое они отлично говорили на языке Данте. Почему они изучили итальянский, а, скажем, не испанский, французский или немецкий? Да просто потому, что все трое испытывали платоническую любовь к одному итальянскому певцу, приехавшему с гастролями в Лондон и навсегда покорившему сердца молодых британок своим бельканто.
Сьюзэн очень отличалась от своих родителей. Это была очень красивая, гармонично развитая брюнетка со спортивной фигурой. Она знала, чего хочет добиться в жизни. Из всех троих она была самой развитой. Ее подруги, еще до того, как они успели познакомиться, обе решили поступить на государственную службу. Таким образом, все трое оказались вместе на одной скамье подготовительных курсов. Поскольку никто из них не располагал большими деньгами, они решили объединить свои скудные сбережения, чтобы иметь возможность продолжать учебу, на которую, чтобы выбраться из серой посредственности, окружавшей их с самого детства, они набросились с большим рвением. Пока их соученицы бегали по танцевальным вечерам и кинотеатрам, они сидели за учебниками, позволяя себе пойти в театр лишь по большим праздникам. В свободное от учебы время их единственным удовольствием оставался спортзал, в котором они разрабатывали мышцы и заглушали страсти, время для которых было ими передвинуто далеко вперед.
Рыжеволосая Тэсс Джиллингхем была на год младше Сьюзэн. В свои двадцать три года это была атлетически сложенная, превосходно развитая девушка, с необычайной для женщины силой, скрытой под элегантной внешностью. Умственно она была слабее своих подруг, но в учебе своего не упускала и, кроме того, взяла над ними шевство, в частности, над Мери Джейн, самой хрупкой из них. Последняя была небольшего роста худенькая блондинка с голубыми глазами, любившая помечтать, над ней постоянно посмеивались старшие подруги. Несмотря на такие данные, эта нежная девушка заняла первое место в соревнованиях по дзюдо.
Менелик-роуд, где девушки снимали квартиру, находилась в респектабельном квартале Лондона. Повсюду там стояли кирпичные особняки, окруженные небольшими садами, являвшимися воплощением желаний подданных Ее Величества. В редкие дни, когда устанавливалась хорошая погода, без резкого ветра и сырости, люди устраивались в этих садах и дышали свежим воздухом. Девушки тоже принадлежали к этой категории жителей квартала, и в такие дни часто разговаривали, подставляя лица бледному солнцу, выглядывавшему из-за ветвей рахитичных деревьев, которым чудом удавалось не зачахнуть.
Сьюзэн чувствовала себя совершенно счастливой. Впереди ее ожидало обеспеченное будущее, уверенность в том, что она и в дальнейшем будет видеться со своими лучшими подругами, которые, как и она, должны были остаться для работы в Лондоне, перспектива двух месяцев каникул, которые они собирались провести в Италии, благодаря стипендиям для стажировки, предоставленным всем троим посольством Италии в Лондоне. Эти средства девушки намеревались объединить, — все это позволяло Сьюзэн с оптимизмом смотреть в будущее.
— Я всегда так мечтала поехать в Италию… — вздохнула Тэсс. — Мне так хочется побывать в тех местах, где ходили эти великие люди эпохи Средневековья… В те времена мужчины еще были настоящими мужчинами. Конечно, они носили длинные волосы, но эти волосы ниспадали на широкие плечи. Тогда они не были так феминизированы… Господи, почему я не родилась где-то во Флоренции в те времена?!
Мери Джейн рассмеялась.
— С вашим характером, Тэсс, трудно себе представить, чтобы вы смирились с положением женщины в Средние века… Довольно скоро вас бы попросили подняться на костер… Нет, не существует ничего лучше, чем солнце, красота пейзажей… открытость этих людей и любовь… Разве есть хоть одна еще такая страна, где к любви относились бы с таким уважением и так бы ее почитали? Ромео и Джульетта известны всему миру. А Петрарка со своей непостижимой любовью к Лауре, заставивший весь Запад полюбить красоту, которой на самом деле не существовало!
В разговор вступила Сьюзэн.
— Перестаньте взвинчивать друг друга! Мы едем не во Флоренцию или Верону, а в Сан-Ремо, где для нас оплатили проживание и питание в «Ла Каза Гранде». Если у вас много денег, то вы, конечно, можете себе позволить путешествовать по историческим местам, а я не собираюсь никуда выезжать из этого города. Понимаете, для меня важнее всего не история или любовные чувства, я хочу увидеть, наконец, чистое голубое небо, посмотреть, как живут под ним люди, когда в течение трехсот дней в году нет дождя, как у нас, знать, как выглядят женщины и мужчины, когда им не приходится постоянно кашлять и чихать и, наконец, понять, какими могут быть люди, для которых счастье — самое естественное состояние души.
Тэсс пожала плечами.
— Могу сказать то, что я думаю по поводу ваших слов, Сьюзэн. Вы чересчур прозаичны!
— Кому-то же нужно думать за всех остальных? А чтобы доказать вам всю свою прозаичность, приглашаю вас обеих на уик-энд в Вилтон, к своим родителям.
Это предложение было воспринято с энтузиазмом, а для того, чтобы отметить этот исключительный вечер, они решили устроить себе настоящий праздник. Они сразу же набросали предположительное меню настоящих кулинарных деликатесов. В результате к девяти часам вечера у них на столе был салат, купленный в магазине «Деликатесы», который содержали какие-то поляки, немного вареной рыбы под мятным соусом и небольшой кусочек жаркого черно-серого цвета, которое могло бы пролежать еще годы и не испортиться и на которое хватило отваги лишь у Тэсс. Эти деликатесы были приправлены салатом из картофеля и помидоров под сладким майонезом. Сьюзэн удалось раздобыть на десерт торт без крема. Пустившись в невероятные расходы, они купили бутылку «Бордо» («мейд ин Франс»), по вкусу больше напоминавшее жалкие вина местного разлива. Отложив мытье посуды на завтра, они уснули сном праведниц, и сон их был наполнен солнечными видениями. Неприхотливая пища не вызвала у них никаких осложнений, в то время как то, что они с таким аппетитом съели, вызвало бы острейший приступ гастрита у любого европейца, не будь он англичанином.
Рэдстоки были на ногах задолго до прибытия поезда в Солсбери. Одеты они были по-воскресному, и Люси, сидя на стуле, старалась прийти в себя после уборки дома и покупки провизии, чтобы в течение двух дней обеспечить питание гостей. Генри разработал для девушек свою программу пребывания в городе и раздумывал над тем, стоит ли пригласить девушек в «Безвременник и василек», чтобы похвастаться перед друзьями. Но удобно ли приглашать девушек в паб?
Когда лондонский поезд прибыл на вокзал, сердце Люси учащенно забилось. Видя нескончаемый поток пассажиров, проносящихся мимо них с Генри, она очень переживала, что в этой толпе девушки точно так же пронесутся мимо, и они не заметят, или сами останутся незамеченными. Когда она совсем уж было отчаялась, потеряв в толпе даже мужа, неожиданно послышался крик:
— Мамми!
Перед ней стояла улыбающаяся Сьюзэн. Они обнялись, а вернувшийся к этому времени мистер Рэдсток попытался было скрыть свои чувства, но это удавалось ему с большим трудом.
— Я очень доволен вами, Сьюзэн!
— Спасибо, дедди[135]!
Люси взволнованно спросила:
— Вы не очень устали, Сьюзэн?
— Ничуть! Мамми, дедди, разрешите вам представить моих лучших подруг: Тэсс Джиллингхем и Мери Джейн Мачелни.
Глядя на красивую блондинку, Люси с удовольствием отметила, что Сьюзэн все же была самой красивой из них. Мистер Рэдсток подумал, что Мери Джейн была бы целиком в его вкусе, и с сожалением вспомнил об ушедшей молодости.
Они все вместе втиснулись в одно такси и добрались на Балбридж-роуд в Вилтоне, где Люси сразу же принялась устраивать гостей. Генри больше не мог сдерживать желание продемонстрировать дочь своим друзьям, что еще больше подняло бы его авторитет в их глазах, и обратился к девушкам:
— Надеюсь, вы не станете обижаться, если через час мы сходим к нашим друзьям Тетбери, которые горят желанием познакомиться с вами. Итак, я на время покину вас, чтобы вы могли подготовиться. Извините, что забираю от вас Сьюзэн: она мне нужна.
Поняв, к чему клонит отец, Сьюзэн не очень обрадовалась, но она была очень счастлива и решила быть снисходительной.
Появление в «Безвременнике и васильке» Рэдстока с дочерью произвело на всех глубокое впечатление. Все, без исключения, друзья Генри пожали руку Сьюзэн, а она, пытаясь подавить смущение, сидела в компании мужчин и старалась оставаться естественной, когда под их пристальными взглядами пила имбирное пиво. Каждый из них стремился выразить свое восхищение красотой и умом мисс Рэдсток. Покраснев как вишня, Сьюзэн чувствовала себя ужасно неловко, и ей казалось, что это никогда не кончится. Наконец Генри решил, что пора возвращаться, а портной Хелмсли высказался от имени всех присутствующих:
— Позвольте поблагодарить вас, Рэдсток, за честь, которую вы нам оказали, представив вашей дочери, действительно достойной своего отца!
Со слезами на глазах Рэдсток посмотрел на обращенные к нему и его дочери лица друзей и слегка дрожащим от волнения голосом ответил:
— Теперь я вижу, что в жизни в самом деле существуют минуты, когда человек имеет право гордиться собой!
А в это время Люси мысленно предвкушала такое же удовлетворение у Тетбери, какое Рэдсток получил в своем пабе. Пока они шли, ее муж успел сообщить Мери Джейн:
— У этих Тетбери не такое высокое положение, как у нас, но они — превосходные люди, а это самое главное, верно?
— Конечно, мистер Рэдсток… Благородство чувств дороже всякого пергамента.
Генри не очень-то понял, что она хотела этим сказать, но поскольку речь, безусловно, шла об одобрении его мысли, он не стал докапываться до сути сказанного. Ведь Рэдсток был все же самым простым и заурядным человеком.
К приходу гостей миссис Тетбери переоделась во все новое. Чай с кексом, конфетами, сосисками, честерским сыром и пирожными должен был выйти на славу. Дэвид даже достал бутылку виски, на тот случай, если кому-то будет трудно все это одолеть. Тетбери показались девушкам смешными странными людьми, но в своем счастье они готовы были все понять и со всем согласиться. Поговорили обо всем и ни о чем: о положении женщины в британском обществе, по поводу чего Рэдсток сказал, что британским женщинам могут позавидовать все остальные женщины мира; о политике националистов, об Общем рынке, о фунте стерлингов (единственной денежной единице, которой безоговорочно доверяли все иностранцы, даже если она ослабевала из-за происков недругов Великобритании), а когда все эти темы были уже исчерпаны, чай выпит, а десерт съеден, они продолжали молча сидеть за столом, размышляя о том, что бы сказать еще. Положение спасла Гарриет, спросив у Сьюзэн:
— Представьте себе, дорогая, мы с Дэйвом никак не можем понять, зачем вы изучили итальянский язык? Ваши родители тоже не смогли ответить на этот вопрос.
На это мисс Рэдсток спокойно ответила:
— Я изучила итальянский язык прежде всего потому, что этот красивый язык мне очень нравится, как и моим подругам. Кроме того, мы скоро получим возможность применить паши знания на практике, потому что в следующий вторник мы едем в Италию. Посольство этой страны в Лондоне предоставило нам три стипендии, которые позволят нам провести целый месяц в Сан-Ремо.
Пораженная этим ответом, Гарриет взглянула на мужа, тот — на миссис Рэдсток, а она перевела взгляд на Генри, красное лицо которого стало багровым. Совершенно по-садистски Гарриет попросила уточнить:
— Вы хотите сказать, Сьюзэн, что со своими подругами собираетесь отправиться в Европу?
— Да, мы летим туда на самолете.
— И… вы не боитесь?
— А чего нам бояться?
— Ну… не знаю… микробов… несчастного случая… плохой пищи… мужчин (при этом она целомудренно понизила голос)… Рассказывают, что там у них очень разнузданные правы…
— Не думаю, — вмешалась в разговор Тэсс, — что на континенте они могут быть хуже, чем у нас.
Люси возмущенно ахнула.
— Как вы можете говорить такие вещи, Тэсс? Разве вы забыли о том, что понятие «джентльмен» изобрели англичане?
— Должно быть, для этого они выбрали какого-нибудь единственного образцового мужчину! Если бы вам каждый день приходилось ездить в метро, миссис Тетбери, у вас сложилось бы точно такое же мнение. По вечерам мне иногда бывает больно присесть, так за день наши мужчины успевают хорошенько нащипать то самое место!
Гарриет и Люси воскликнули:
— Неужели это правда?
Сьюзэн и Мери Джейн единогласно подтвердили слова подруги. Люси наивно спросила:
— Но почему же они так себя ведут?
Мистер Тетбери в ответ только ухмыльнулся, что было расценено как признак дурного воспитания.
Рэдсток поднялся.
— Прежде всего должен сознаться, что испытываю чувство глубочайшего стыда, слыша о том, как моя дочь отзывается о самом воспитанном в мире народе. Извините, мисс Джиллингхем, но мне трудно поверить в то, что вы здесь сказали.
— Вы бы так не говорили, мистер Рэдсток, если бы я могла вам показать… ну, вы поняли, о чем идет речь!
— Кроме того, я ничего не желаю слышать о вашем скандальном плане поездки в Италию. Я не для того проработал более тридцати лет на британских железных дорогах, чтобы единственная дочь меня обесчестила!
Сьюзэн вскочила с места.
— Значит, я вас обесчестила?!
— Именно так! Поверьте мне, Сьюзэн, порядочная девушка, имеющая счастье быть воспитанной такими родителями, как мы, получившая от них незыблемые принципы, не смеет так порочить свою репутацию! Не забывайте, что вы поступили на государственную службу!
— Объясните мне, пожалуйста, дедди, каким образом может пострадать моя репутация, если я, как тысячи наших соотечественников, съезжу на каникулы в Италию?
— Если, к моему превеликому сожалению, появились тысячи подданных короны, позабывших о порядочности, это вовсе не значит, что моя дочь должна быть среди них!
— Я однажды видела по телевизору фильм, — прошамкала Люси, — о жизни двора Медичи… Это просто какой-то ужас! Они все друг друга травили и убивали!
— С тех пор прошло уже четыре века, миссис Рэдсток, — осторожно напомнила Тэсс.
— Ну и что? Еще ни один народ не изменил своих дурных наклонностей! Вы только посмотрите на этих французов? У них все женщины наставляют мужьям рога и ходят вместе со своими любовниками в отдельные кабинеты ресторанов есть лягушек!
— Хватит! — отрубил Рэдсток. — Больше не будем говорить об этой дурацкой поездке! Ее не будет! Мы — настоящие англичане и останемся таковыми. Попросите в итальянском посольстве, чтобы оно лучше вам предоставило эти стипендии для поездки по Англии!
Мери Джейн ласковым голоском спросила:
— Чтобы лучше изучить итальянский язык?
* * *
Дон Паскуале, директор самой престижной гостиницы в Сан-Ремо «Ла Каза Гранде» считал своим долгом каждое утро, выходя из своей комнаты, спускаться пешком по лестнице все семь этажей. Он полагал, что подобные упражнения помогают ему разминать мышцы и суставы, уже начавшие затвердевать в его пятьдесят лет. Дойдя до второго этажа, дон Паскуале останавливался и, перегнувшись через металлические перила, рассматривал все, что происходило в холле. С этой наблюдательной точки директор ощущал свое могущество. Здесь он чувствовал себя настоящим хозяином. Как и все люди невысокого роста, дон Паскуале не хотел выглядеть маленьким и пытался компенсировать этот недостаток своим напыщенным видом, который заставлял трепетать всех слабонервных. Однако это не мешало ему, в случае необходимости, демонстрировать исключительную приветливость и искренность, на которую способны итальянцы по отношению к любому человеку, даже если они видят его впервые.
Дои Паскуале ревностно следил за своей талией, что позволило ему сохранить почти юношескую фигуру и одеваться так же, как молодые щеголи с виа[136] Маттеотти. Небольшая лысина придавала ему определенную привлекательность, и, глядясь в зеркало, директор часто сравнивал себя с «великим лысым» Юлием Цезарем. Вот почему по утрам, облокотившись о перила, с высоты он величественным взглядом осматривал холл. С некоторым раздражением он следил за красавцем-главным администратором Ансельмо Силано, который, несмотря на все запреты дона Паскуале, продолжал высматривать красивых посетительниц, словно султан, обозревающий свой гарем. Ансельмо был высокого роста, и поскольку он приходился братом великой донне Империи Маринео, то избегал любых притеснений.
Умница Фортунато Маринео, сын Империи и племянник главного администратора, впрочем, не такой напыщенный и самовлюбленный, как тог, пользовался своей элегантностью, вежливостью и знанием (как и большинство служащих гостиницы, он говорил по-английски и по-французски) в бюро обслуживания, на работу которого еще никто не жаловался. Фортунато был красивым парнем, хотя и не обладал внешностью и умением держаться как дворянин, вроде его дядюшки, и все же он очаровывал своей элегантностью, непосредственностью и голубыми глазами. Впрочем, за его услужливостью скрывалась твердая воля и целеустремленный характер, унаследованные от матери, для которой он был утешением и предметом гордости со времени ее вдовства.
Энрико Вальместа, руководивший грумами, был совершенной противоположностью своего друга Фортунато, со своим мечтательным, нежным и спокойным характером. Из-за неразделенной любви его взгляд был постоянно грустным, и казалось, что у него на глазах вот-вот появятся слезы. Все его любили за благодушный характер и бесконечную наивность. Несчастье Энрико состояло в том, что он был постоянно влюблен безответно.
Пьетро Лачи, главный лифтер, которому, как и всем его друзьям, еще не исполнилось тридцати, был вовсе не таким. Обладая незлым характером, Пьетро тем не менее ненавидел мужчин, в каждом из них усматривая более удачливых соперников в борьбе за женщин, которые, как он думал, все без исключения были предназначены только для него одного. По своей натуре Лачи был Дон Жуаном со скудными средствами. Он не выносил замечаний директора по своей работе, и его довольно часто приходилось уговаривать заниматься своим делом как следует. Находясь с Фортунато в дружеских отношениях, он ненавидел его за успехи у женщин.
«Ла Каза Гранде» считалась одной из старейших гостиниц в Сан-Ремо. Вместе с тем ее интерьер и службы постоянно модернизировались, и она имела постоянную клиентуру. Фасад 1900 года, выходивший на корсо[137] Момбелло, привлекал пожилых людей, а более молодые высоко ценили современный комфорт, сочетавшийся со старинной обстановкой. Больше всего «Ла Каза Гранде» нравилась иностранцам тем, что здесь сохранилось все, что напоминало о старинных итальянских гостиницах высшего класса. Шесть или семь лет тому назад «Ла Каза Гранде» испытала момент небывалого взлета благодаря великолепному искусству шеф-повара Бенито Маринео. К сожалению, незабвенный кулинар умер в пятьдесят лет: сказалась работа у жаркой плиты, а также склонность к «Вальпоричелле» — вину, перед которым он не мог устоять, поскольку оно напоминало ему родные края. Его смерть стала чем-то вроде национального траура во всей Лигурии[138].
Следуя неизменному ритуалу, дон Паскуале никогда не возвращался к себе в кабинет, не взглянув на холл и кухню хозяйским глазом. Кроме того, он всегда заходил поприветствовать донну Империю, вдову незабвенного Бенито, руководившую горничными с таким достоинством и авторитетом, что это впечатляло самого директора. Лишь те, кто работал в холле или на кухне, не были у нее под каблуком.
У донны Империи, высокой крепкой венецианки сорока семи лет, сохранились еще остатки великолепной былой внешности, в которых без труда угадывались лучшие черты ее сына Фортунато и брата Ансельмо. Горе сделало ее по-олимпийски непоколебимой. Она продолжала жить памятью великого человека, каким был ее покойный супруг. Любое предложение со стороны другого человека она готова была воспринять как оскорбление памяти Бенито и непочтение к его вдове. Она с достоинством старилась, и никто не осмеливался посягнуть на это достоинство. Донна Империя занимала в конце коридора, сразу же за бельевой, огромный кабинет, на стенах которого были вывешены все дипломы, медали и другие награды покойного супруга, продолжавшие согревать ее сердце. Дон Паскуале всегда очень церемонно приветствовал кастеляншу, что льстило гордости прекрасной вдовы. Они так давно работали вместе, что иногда им казалось, будто они стали родственниками. И тем не менее, в разговоре они оба старались придерживаться почтительной торжественности.
— Желаю вам здравствовать, донна Империя.
— Здравствуйте, дон Паскуале… (Только она имела право называть директора по имени.)
— Хорошо ли удалось вам отдохнуть?
Здесь всегда следовал глубокий вздох.
— Увы, дон Паскуале! Со времени смерти Бенито я почти что не сплю…
Это была наивная ложь, и оба лишь делали вид, что верят в нее.
— Моя бедная, дорогая донна Империя… Что нового у вас по работе?
— Неделю назад мне пришлось отказаться от услуг той девчонки из Ливорно. Она никогда бы не смогла у нас работать.
Это был безапелляционный приговор, означавший, что девушка не придерживалась с клиентами принципов высокой морали, что было совершенно недопустимо в «Ла Каза Гранде». Донна Империя добавила:
— Одной Джозефины нам вполне достаточно!
Дон Паскуале воздержался от ответа, поскольку ему было хорошо известно, что донна Империя не переносит Джозефину, великолепную девушку двадцати лет, словно воплотившей в себе красоту молодых итальянок, по двум причинам: она считала ее слишком легкомысленной и, кроме того, та постоянно вертелась вокруг Фортунато. Директор уже давно бы избавился от Джозефины, чтобы та не досаждала донне Империи, но этого никак нельзя было делать, поскольку она была единственной дочерью Людовико Пампарато, сменившего у плиты Бенито, а его жена, Альбертина Пампарато, руководила уборкой в гостинице.
Дон Паскуале произнес:
— Не мне вам рассказывать, донна Империя, что приходится сносить ради хорошей работы гостиницы…
— Знаю, дон Паскуале.
После этих подкрепляющих взаимное доверие слов директор уходил, предварительно поцеловав руку кастелянши, и спускался в холл, где, соблюдая с давних времен установленную иерархию, обращался сначала к администратору, слегка махнув рукой в ответ на поклоны остальных служащих.
— Ничего не произошло, Ансельмо?
— Ничего особенного, синьор директор, если не считать того, что англичанин из 221-го номера опять вернулся пьяным в стельку в три часа ночи.
— Скандалил?
— Никакого скандала! Ночной сторож, как только увидел, в каком он был состоянии, сразу же сам посадил его в лифт, проводил в номер и уложил спать.
— Отлично. Заплатите этому парню тысячу лир премиальных и попросите вашего племянника внести их в счет этому англичанину по статье, которую он может выбрать сам. Кстати, вы не видели дона Луиджи?
Администратор ответил, что с утра еще не видел заместителя директора Луиджи Маргоне, и это его немало удивляло, поскольку впервые за все годы его службы в гостинице дон Луиджи опаздывал на работу.
— Ладно! Может быть, вчера он допоздна засиделся на работе и еще не успел проснуться!
Дон Паскуале, закончив разговор с главным администратором, направился к Фортунато, который доложил ему об ожидаемом количестве отъездов и приездов клиентов. Пьетро Лачи пожаловался на то, что он перегружен работой, и заявил, что уйдет из гостиницы, если в помощь ему не наберут персонал.
— Ведь я же не простой носильщик чемоданов, синьор директор!
— А кто же ты еще, Пьетро? В Сан-Ремо найдутся сотни лентяев, готовых занять твое место!
Пьетро, ворча, вернулся к своему лифту, мечтая о том дне, когда товарищи коммунисты возьмут власть в свои руки, и гостиницей будет управлять он, а дон Паскуале будет возить клиентов в лифте и носить их чемоданы.
Директор испытывал некоторую нежность к начальнику грумов Энрико Вальместа и его постоянным любовным неудачам.
— Ну что, Энрико, все в порядке?
— Нет, синьор директор.
— Что еще могло у тебя случиться?
— Я так привязан к этой гостинице, синьор, что мне не хотелось бы поставить вас в неловкое положение.
— Каким образом, Энрико?
— Оставив эту работу в результате самоубийства.
— И все из-за той рыжей из Оспедалетти?
— О нет, синьор директор, из-за той я собирался покончить с собой в прошлом месяце. Нет, я сейчас говорю об одной блондинке с карими глазами. Она из Вареццо. Она сначала дала мне понять, что у нас может что-то получиться, а потом бросила меня ради одного почтового служащего!
— И тебе хочется умереть из-за такой дуры!
В совершенно искреннем отчаянии Энрико прижал руки к груди.
— Синьор директор, мне двадцать четыре года… Они все смеются надо мной! Если так будет продолжаться дальше, у меня никогда не будет семьи и не будет бамбини[139]!
— Ну и что?
Пораженный, Энрико перестал рыдать и уставился на собеседника.
— У меня нет ни семьи, ни бамбини, Энрико. Неужели ты думаешь, что из-за этого я несчастен? Я пользуюсь полной свободой. Понимаешь? А где мне найти лучшую семью, чем в «Ла Каза Гранде»? Ты глупец, Энрико, а я не люблю работать с глупцами. Запомни это! Если хочешь мне доказать, насколько ты глуп, можешь покончить с собой, но помни: ты имеешь право это сделать только во время отпуска, иначе ты не мужчина, если нарушишь свой служебный долг!
Затем, указав широким жестом на грумов, которые издалека пытались разгадать, о чем они беседуют, дон Паскуале добавил:
— Тебе не кажется, что все они — твои бамбини?
На этом директор оставил Энрико с его мрачными мыслями, а сам направился на кухню, в царство маэстро Пампарато.
Шеф-повар был ростом в один метр девяносто сантиметров. Дон Паскуале ненавидел его уже за это. Под предлогом того, что он заменил великого Бенито, Людовико Пампарато разыгрывал из себя гения кулинарного искусства. Вместо того, чтобы готовить приличные блюда по готовым рецептам, он целыми днями сушил себе голову над изобретением какой-то новинки, которой он мог бы дать свое имя. Увы! Его сопровождали постоянные неудачи и с анисовой полентой, и с антрекотом в чернике, и с рагу под соусом, и с миндальными пирожными в пюре из фруктового ассорти. Но он не сдавался и продолжал свои кулинарные эксперименты, к великому огорчению своей жены Альбертины, любезной сорокалетней толстушки, на которой он испытывал свои изобретения, при этом никак не считаясь с ее мнением.
Дону Паскуале приходилось разговаривать с Людовико с небывалой вежливостью, что приводило его самого в ярость.
— Здравствуйте, шеф! Хорошо выспались?
— У тех, кто думает, почти не бывает времени для сна.
— Что у нас сегодня в меню?
— Спросите у Марио. У меня нет времени заниматься такими пустяковыми вопросами.
Директору очень хотелось сказать, что это как раз именно его дело, но Людовико совершенно не переносил замечаний и, чуть что, сразу же грозил сдать свой поварской фартук администрации гостиницы. Подошел второй повар, Марио.
— Вы хотели узнать что у нас в меню помимо обычных блюд, синьор директор?
— Если вы не находите мою просьбу слишком настойчивой!
— Ну что вы, что вы! Значит так, у нас есть дикий козленок, жареные сардины и анчоусы, треска, зажаренная с лимоном, спагетти с трюфелями, говяжий рулет, фаршированный ветчиной и яйцами, лангет с кабачками.
— Ладно, ладно… Очень хорошо… Надеюсь, наши клиенты останутся довольны.
Пампарато поднялся и с высоты своего огромного роста пренебрежительно произнес:
— Если найдется человек, которому не понравится кухня Людовико Пампарато, значит он варвар и ему не место в «Ла Каза Гранде»! Кстати, я готовлю рецепт одного блюда из мякоти ананаса, которое произведет сенсацию в мире кулинарного искусства!
Дон Паскуале уловил затравленный взгляд несчастной Альбертины, которой в скором времени предстояло испытать на себе этот шедевр, чтобы угодить своему мужу и повелителю.
Поскольку директор не проявил явного энтузиазма по поводу нового блюда, Людовико коварно добавил:
— Я уже начинаю думать, не теряю ли я зря свое время на этой кухне. Очень жаль, что такой великий мастер, как я, вынужден зарабатывать себе на хлеб, готовя всякую чепуху, чтобы люди могли насытить свой желудок, тогда как я должен был бы целиком посвятить свое время поиску новых рецептов. Видите ли, дон Паскуале, я думаю, что поступлю правильно, если подам в отставку и перееду с женой и дочерью в родную Тоскану…
Директор знал, что Пампарато никуда не собирался уезжать, но ему нравилось угрожать и шантажировать. По его, дурака, мнению, это придавало ему лишний вес. Дон Паскуале, прекрасно зная, что это всего лишь блеф, даже при всем своем богатом воображении, не мог себе представить неожиданного отъезда повара и его семьи в самый разгар туристического сезона, что навсегда бы лишило «Ла Каза Гранде» ее репутации в глазах международного туризма. Ничего не сказав в ответ, он вышел из кухни и поднялся к себе в кабинет, где предался мечтаниям о том далеком и благословенном дне, когда в присутствии всего персонала он сможет высказать Пампарато все, что о нем думает, и на глазах у всех вышвырнет его за дверь.
К девяти часам утра служащих гостиницы, работавших в холле, охватывала своеобразная лихорадка, которая проявлялась в прерывистых жестах, нетерпении, слишком оживленном тоне разговоров. Лишь главный администратор Ансельмо с невозмутимой насмешливостью наблюдал со стороны за этим незаметным для клиентов оживлением, хорошо зная его причину, заключавшуюся в появлении в это время в холле горничной Джозефины Пампарато, в которую были безумно влюблены все или почти все мужчины, работающие в гостинице.
Даже самые ярые ее враги вынуждены были признать, что Джозефина — одна из самых красивых девушек, которую им приходилось когда-либо встречать в своей жизни. Она была довольно высокого роста, великолепно сложена, наряды ее не были нескромными, но подчеркивали пластичность ее фигуры; ее ротик заставлял мужчин мечтать, а вьющиеся волосы и
острый взгляд прекрасных глаз зажигали в жилах кровь. К несчастью, Джозефина была порядочной вертихвосткой, знавшей себе цену, и считала, что все мужчины должны быть ей покорны.
Когда Джозефина, вопреки правилам для обслуживающего персонала, из которых лишь для нее одной делалось исключение, через центральный вход попадала в холл, где целовала папу и маму, у всех перехватывало дыхание, и каждый из работавших там мужчин реагировал на ее появление по-своему. Обычно она начинала с того, что с видом, будто она никого не замечает, подходила к главному администратору и справлялась, нет ли для нее письма. Ансельмо вовсе не был так прост.
— Что ты, красавица, виляешь своим красивым задом на глазах у этих дураков?
— Не зли меня, Ансельмо!
— Ну ладно, моя курочка! Меня ты не проведешь!
— Все говорят то же самое, по если бы я захотела…
— Ошибаешься, моя кокетка! Если бы я захотел!
И, чтобы подтвердить сказанное, старший администратор незаметно, но сильно давал шлепок возмущенной Джозефине.
— Ну у тебя и манеры! Вот погоди, расскажу отцу!
— Ма ке[140]! Отцу? Знаешь, что я об этом думаю, а? Хочешь, скажу при всех?
Даже если бы этот Ансельмо был Богом, сегодня она готова была его искусать, задушить, избить и сделала бы это с превеликой радостью. Джозефина настолько разозлилась, что прошла мимо Пьетро Лачи, не обратив на него никакого внимания. Тот поймал ее за руку.
— Ты что, больше не дружишь со мной, Джозефина?
— Не в этом дело, дурачок! Просто этот Ансельмо ужасно меня злит!
— Это потому, что ты ему нравишься!
Польщенная, она промурлыкала:
— Думаешь?
— Еще как! Только хочу тебя предупредить, Джозефина: я этого не допущу!
— Чего ты не допустишь?
— Чтобы ты полюбила другого!
— Но какое ты имеешь на это право?
— Ма ке! Ведь я тебя люблю!
— Ма ке! Если ты любишь меня, это твое личное дело, верно? А я тебя не люблю! Так что не знаю, почему я не могу поискать в другом месте парня, который бы мне понравился?
— Фортунато Маринео, например?
— Хотя бы и он! До свидания, Пьетро!
— Смотри, Джозефина! Если я замечу, что ты крутишь любовь с другим, я тебя убью!
— Тебе нужно бы подлечиться, Пьетро! У тебя с мозгами не все в порядке!
Оставив обозленного лифтера, Джозефина подошла к Фортунато и проворковала:
— Здравствуй, любовь моя…
Фортунато сухо ответил:
— Здравствуй, Джозефина… Ты хорошо выспалась?
— Мне снились ты и наша свадьба.
— Странные у тебя сны… Может, тебе лучше сходить к доктору?
В глазах Джоэефины блеснули молнии.
— Смотри, Фортунато! Я порядочная девушка! Ма ке, существуют определенные границы! Или ты станешь моим мужем, или это плохо кончится для нас обоих!
Сын донны Империи пожал плечами.
— Не нужно так нервничать с самого утра, а то у тебя испортится цвет лица!
— Послушай, Фортунато, посмотри хорошенько на своих сослуживцев. Все они и даже твой дядя Ансельмо хотели бы, чтобы я стала их подружкой. Но я хочу быть только с тобой, понимаешь?
— Ма ке, Джозефина, я все понимаю! Но я не хочу быть с тобой!
— Это почему же, нахал ты этакий?
— Потому, что ты несерьезная девушка, Джозефина. А я хочу, чтобы моих детей родила женщина, которую я мог бы уважать!
— Значит, ты меня не уважаешь?
— А разве ты уважаешь сама себя?
— Мне наплевать на твои оскорбления, Фортунато, потому что я тебя люблю, и хочешь ты того или нет, но ты женишься на мне! А если у тебя появится другая, я убью ее, убью тебя и убью себя!
— Ма ке! Настоящая бойня, а?
Возмущенная Джозефина повернулась и, вместо того чтобы как всегда по утрам, подняться на этаж, где она работала, направилась на кухню, чтобы там выплакаться на маминой груди. Та терпела своего мужа только из-за любви к дочери. Она не могла видеть ее несчастной и была готова на все, лишь бы этого не случилось. В такие минуты она не испугалась бы даже Людовико.
— Что с тобой, Джозефина? Кто обидел мою перепелочку?
— Фортунато.
— Ах, этот?! Дай ему Бог хорошей болезни, чтобы она свела его через несколько дней на тот свет!
— О мама! Как ты можешь говорить такие вещи? Если он умрет, я тоже не смогу жить!
— Нет, не может быть! Что ты говоришь! Как же я останусь без тебя, моя бамбина?
Их слезы слились воедино, в один поток, при мысли о возможной смерти. Заметив это, Людовико приблизился к плачущим домочадцам.
— Случилось какое-то горе?
Альбертина, подняв голову, ответила:
— Твоя дочь не хочет больше жить на свете, Людовико!
— Вот как? Это правда, Джозефина?
— Правда, папа! Я не смогу жить после смерти Фортунато!
— А разве он умер?
— Ма ке! — возмутилась мама. — Разве ты ничего не понимаешь, Людовико? Это я пожелала, чтобы он умер!
— Да?
— И тогда Джозефина поклялась, что если он умрет, она умрет тоже!
— Можешь ты мне наконец объяснить, почему?
— Потому, что синьор Фортунато считает себя большой шишкой и не хочет обращать внимания на единственную дочь маэстро Пампарато!
Людовико недоверчиво улыбнулся.
— Этого не может быть!
Еще не придя в себя, они обе посмотрели на это воплощение самоуверенности, а Людовико, оставив их в таком состоянии, вернулся к своей плите.
Дон Паскуале предавался беззаботным мечтаниям, когда снизу позвонил администратор и сообщил, что к нему пришли двое полицейских.
— Полиция? Но что могло случиться? Неужели какая-то жалоба от клиентов?
— Не знаю, дон Паскуале.
— Хорошо! Проводите их в мой кабинет.
Через несколько минут Ансельмо открыл дверь директорского кабинета и скрылся за ней, пропустив вперед двух посетителей.
Старший из них поздоровался с доном Паскуале и представился:
— Комиссар Массимо Прицци… Мой заместитель, инспектор Паоло Кони. Мы имеем честь говорить с синьором директором?
— Да, господа, да… признаюсь, я даже немного растерялся… Ваш неожиданный визит…
Комиссар заметил:
— Очень редко бывает, чтобы нас ожидали… до прихода.
— Конечно… Чем могу быть вам полезен, господа?
— Вашего заместителя зовут синьор Маргоне? Луиджи Маргоне?
— Это так, но…
— Он сейчас в гостинице?
— Думаю, да.
— Только думаете?
— Боже мой… Представьте себе, что сегодня утром его никто еще не видел, а это противоречит его привычкам… Когда вы приехали, господа, я как раз закончил утреннюю проверку и собирался подняться к нему в номер.
— В таком случае, с вашего разрешения, мы пройдем туда вместе с вами.
— Со мной… Хорошо, как вам угодно.
— Совершенно верно, синьор директор.
Они вышли из кабинета, поднялись на лифте на восьмой этаж, и как раз в тот момент, когда полицейские, следуя за доном Паскуале, направлялись к номеру заместителя директора, в коридоре раздался громкий крик, в котором слышался безграничный ужас. Все трое бросились бежать в том направлении и за поворотом коридора увидели горничную. Прикрывая себе рот ладонью, другой рукой она указывала на комнату, дверь которой была открыта. Директор и двое его спутников ворвались в комнату и увидели человека в пижаме, висевшего на веревке, конец которой был привязан к крюку крепления оконного карниза. Полицейские обернулись к дону Паскуале, тот опустил голову.
— Луиджи Маргоне…
Глава 2
С опущенным взглядом, изменившимся выражением внезапно пожелтевшего лица, дон Паскуале уже ничем не напоминал собой прежнего самодовольного директора. Он был похож на человека, который понял, что потерпел поражение и решил отказаться от дальнейшей борьбы. Его вид поразил донну Империю, когда утром он, как обычно, зашел к ней.
— Дон Паскуале!.. Возьмите себя в руки! Вспомните: на вас лежит ответственность за работу гостиницы!
Директор сокрушенно покачал головой.
— Я конченый человек, донна Империя… Мне остается только подать заявление об уходе.
— Перестаньте! Вы ведь не виноваты в том, что Луиджи Маргоне впутался в эту историю с наркотиками.
— Одна мысль о том, что «Ла Каза Гранде» могла служить пунктом передачи этой дряни, приводит меня в ужас, донна Империя… Я не оправдал доверия административного совета, моя честь запятнана!
— Вы видите все в таком мрачном свете, потому что слишком долго оставались с этими полицейскими!
— Нужно признать, они воспитанные люди… Кажется, они уже довольно давно подозревали Маргоне. Чтобы не вызывать скандала здесь, они прислали ему повестку… Им удалось взять человека, который брал у него наркотики и перевозил их, и тот, кажется, признался… Эту повестку мы нашли у него в комнате…
— Возможно, он понял, что для него все было потеряно, и предпочел таким образом избежать суда человеческого, дабы предстать перед Судом Господним?
Наступило короткое молчание, после которого дон Паскуале прошептал:
— Обязанности, которые вы выполняете в гостинице, дают вам право знать все, донна Империя.
Она удивленно посмотрела на него.
— Лиуджи не повесился…
— Однако…
— … а был повешен!
— Господи милостивый! Тогда зачем же вся эта жуткая инсценировка?
Директор развел руками, давая понять, что сам не может этого понять, и тихо добавил:
— Я прежде не хотел этого говорить, чтобы не испугать вас… Но все выглядит намного страшнее…
— Не может этого быть?
— И все же, это именно так!.. Когда его повесили, он крепко спал…
— Спал?
— Он выпил сам или его заставили выпить такое количество снотворного, что он находился почти что в бессознательном состоянии, и тогда…
— Ма ке! И откуда только берутся такие чудовища! А кто же преступник?
— Кому это известно? Вы ведь знаете, полицейские обыскали все…
— Они даже в моей комнате сделали обыск! Как они только посмели!
— И они ничего не нашли… Вся эта кутерьма была напрасной… Мне остается только радоваться, что у этих господ хватило такта и они обыскивали комнаты наших клиентов только в их отсутствие… Видите ли, донна Империя, после всего этого во мне как-будто что-то сломалось… «Ла Каза Гранде» была как бы моей семьей, моим домашним очагом… Я чувствую себя как отец, которому сообщили о том, что сын, которым он так гордился, оказался вором… Я так устал и не знаю, как мне жить дальше… А ведь я уже немолод, чтобы начинать жизнь сначала. Честное слово, если бы я не верил в Бога, то, думаю, покончил бы с собой…
— Замолчите! И вам не стыдно? Разве забивают все стадо только потому, что среди овец затесался один черный баран? Луиджи Маргоне обманывал нас и поплатился за это, да простит его Господь… Так что не будем больше об этом говорить, дон Паскуале…
Благодаря хорошему отношению со стороны полиции Сан-Ремо, большого скандала удалось избежать. Луиджи Маргоне был назван «служащим» гостиницы «Ла Каза Гранде», что еще ни о чем не говорило широкой публике. Просто какой-то обыкновенный служащий…
После того, как волнения улеглись, гостиница вернулась к нормальной размеренной жизни, в которой больше всего забот уделялось хорошей клиентуре. Энрико опять стал мечтать о Джозефине, Фортунато — раздумывать над тем, удастся ли ему встретить в один прекрасный день ту, которая с первого взгляда сможет завладеть его сердцем, а Ансельмо — наблюдать за ними с ироничной и беспристрастной улыбкой, игравшей на его лице, когда Джозефина кружила головы всем этим молодцам и заставляла их забывать обо всем на свете. На кухне синьор Пампарато изобретал в предвкушении своей скорой блестящей победы. Одна лишь горничная Луиза Дуэлло, которая первой обнаружила тело Маргоне, получила действительно серьезную душевную травму. С этого дня она никогда не входила ни в один номер, не соблюдая самых больших предосторожностей, и никогда не торопилась открывать двери.
Жизнерадостный инспектор Паоло Кони целыми часами просиживал в холле «Ла Каза Гранде», при этом объясняя администратору:
— Думаете, то, что я верчусь здесь, хоть что-нибудь даст? Дружки этого Маргоне после его убийства стали намного осторожнее, ма ке! Но у меня есть приказ, и я обязан его выполнять, так ведь? Лучше уж быть здесь, чем гоняться за каким-то типом, который готов любым способом отделаться от вас! О! А кто эта богиня?
— Наша горничная.
— Святая мадонна! Только в нашей стране горничные могут быть похожи на маркиз, герцогинь или княгинь!
Ансельмо весело хлопнул полицейского по плечу.
— Умерьте ваш пыл, дружище! Даже не думайте участвовать в гонке, где все места уже давно распределены!
— Вот как?
— Никаких шансов.
— Думаете?
— Смотрите сами!
Администратор кивнул в сторону бюро обслуживания, где Джозефина, перегнувшись через стойку, опять наседала на Фортунато. Полицейский не мог слышать, о чем они говорили, но, будучи настоящим веронцем, с восхищением смотрел на них, как смотрел бы на Ромео и Джульетту, если бы те вышли из могилы и стали прогуливаться по виа Маццини. Инспектор уже успел стать жертвой очарования Сан-Ремо с его душистым запахом цветов, его солнцем, освещавшим крыши зданий так, что лачуги казались дворцами, и морем, мягкий прибой которого напоминал звук поцелуя.
У стойки бюро обслуживания разговор был не таким уж романтичным.
— Меня любят все, Фортунато, и не может быть, чтобы ты меня не любил!
— Я люблю тебя как свою сестру.
— Ма ке! До сих пор я обходилась без брата и обойдусь еще! Мне нужен не брат, а жених!
— В таком случае, подыщи себе кого-нибудь другого!
— Мне нужен ты, а не другой!
— Ничем не могу тебе помочь.
— Но почему?
— Потому, что ты не в моем вкусе!
— Разве я некрасива, а?
— Ты очень красива, Джозефина.
— А какие у меня глаза? Что ты скажешь о моих глазах, Фортунато?
— Думаю, ни у кого нет таких красивых глаз.
— Вот видишь! А моя фигура? Посмотри, какая у меня грудь, какие ноги! Где еще ты найдешь девушку с такой фигурой?
— Нигде, но все равно ты не мой тип девушки.
— Пер ла мадонна[141], как ты меня злишь! Какую еще девушку тебе нужно?
— С такими же темными волосами, как у тебя, с глазами, которые могут быть не такими красивыми, но зато добрее, и особенно для меня важно, Джозефина, чтобы она держалась не так, как ты, и чтобы ее, как тебя, не принимали за особу, каковой ты не являешься на самом деле.
— И где же скрывается это чудо?
— Еще не знаю.
— Ма ке! Сейчас я скажу, кто эта твоя ходячая мечта! Это дочь той толстой шлюхи Монтерони, которая работает в бакалейном магазине на улице Виняле! Эта недотрога Анджела, которую можно причащать даже без исповеди! Да если это так, это же самая отвратительная девица во всем Сан-Ремо!
— Речь идет не об Анджеле.
— Тогда о ком же? Или ты мне скажешь ее имя, или я выцарапаю тебе глаза!
— Я еще сам его не знаю.
— Может, ты решил поиздеваться надо мной, а?
Не дожидаясь ответа, Джозефина бросилась на упрямящийся предмет своей любви. Ансельмо пришлось поторопиться и разнять их на глазах у целой автобусной группы иностранных туристов, входивших в холл «Ла Каза Гранде».
Администратор грубо схватил Джозефину и оттащил в сторону.
— Ты что, с ума сошла?
— Отпусти меня!
— Сейчас же успокойся!
— Ты мне не указ!
Ансельмо посмотрел ей в глаза и медленно процедил:
— Еще никто не разговаривал со мной таким тоном. Предупреждаю, что от тебя я этого не потерплю, Джозефина!
Он произнес это без крика. Казалось, он даже не рассердился, и все же девушка, сама не зная почему, вдруг испугалась и отступила. Администратор обернулся к племяннику.
— Она станет с тобой как шелковая, и очень быстро!
Пьетро был поражен при виде заплаканной Джозефины.
— Джозефина мио[142], что с тобой?
— Оставь хоть ты меня в покое! Вы, мужчины, все отвратительные!
— Ма ке! Неужели кто-то посмел к тебе полезть?
— Да нет же, наоборот! Этот Фортунато хуже сухого пня! Иногда мне даже кажется, что он совсем не мужчина! Он меня ни разу не захотел поцеловать!
— Тогда он просто больной! Не обращай внимания, вся семья этих Маринео гроша ломаного не стоит! Фортунато — ничтожество! Хуже чем ничтожество! Несчастный человечек, который мечтает только о том, как бы ему подцепить богатую клиентку и жить на ее денежки! Мерзавец, вот он кто, твой Фортунато!
— И тебе не стыдно, Пьетро, так говорить о парне, который лучше тебя в тысячу раз?
— Но ты же только что говорила, что…
— О Фортунато я могу говорить все что захочу, а у тебя нет такого права!
— Но ведь я люблю тебя, Джозефина, ты же знаешь!
— Ну и что? Да ты для меня самый последний из всех мужчин на свете, понял?
— Смотри у меня, Джозефина!
— На что мне смотреть, ничтожество?
— Я не позволю тебе любить другого!
— А что ты можешь сделать?
— А вот что!
Лифтер вынул из-за пояса нож. Джозефина посмотрела на его лезвие и почти что нежно прошептала:
— И ты сможешь меня убить, Пьетро?
— Я не смог бы смириться с мыслью, что ты можешь быть с другим…
— Тогда, может быть, лучше убить этого другого, а?
— Для тебя я сделаю и это, если попросишь!
— Обещаешь?
— Обещаю!
Рядом с ними вырос полицейский.
— Отдайте мне этот нож, я его изымаю!
— Ма ке! Имею я право…
— Отдайте мне этот нож, иначе я могу рассердиться по-настоящему!
Ворча, Пьетро подчинился, а Джозефина презрительно взглянула на него.
— И он еще считает себя мужчиной!
— Джозефина…
Он собирался ее догнать, но его задержал инспектор.
— Вы что, сошли с ума? Разве вы не видите, что она вас не любит? Сердце девушек нельзя завоевывать силой! Оставьте ее в покое! Ни одна девушка на свете не заслуживает того, чтобы из-за нее так теряли голову, и особенно того, чтобы из-за нее шли в тюрьму.
— Почему — в тюрьму?
— Я слышал, как вы только что говорили, что, если понадобится, вы убьете каждого, на кого она укажет. И я вам советую поостеречься!
— А знаете, что я могу вам посоветовать?
— Ладно! И все же примите к сведению: вы находитесь у меня в поле зрения, так что постарайтесь ничего такого не совершать; один неверный шаг, и я вас заберу к себе!
Пока они говорили, Ансельмо догнал Джозефину.
— Чего ты так набросилась на этого несчастного Пьетро?
— Он мне надоел! Вы все мне надоели!
— И я тоже?
— И ты тоже!
— Что ты себе вообразила?
— Мне нечего воображать! Ты думаешь, я не могу понять того, что говорят твои глаза и что значат твои руки, которые ты суешь всюду, куда не следует? По ночам я слышу, как ты ходишь у моей двери. Но я никогда не забываю хорошенько ее запереть на ключ!
— Ладно же, Джозефина! Если ты продолжаешь разговаривать со мной таким тоном, я пойду к дону Паскуале и скажу ему, что ты начинаешь представлять собой опасность для спокойной жизни в «Ла Каза Гранде»!
Джозефина продемонстрировала вульгарный жест, чтобы показать, что она думает о директоре, и уточнила свою мысль вслух:
— Если дон Паскуале всегда бегает так же быстро, то тогда когда я его позову, он сможет выиграть на Олимпийских играх!
Дон Паскуале, которому администратор сообщил мнение горничной, пожаловался донне Империи, которая вызвала девушку к себе. Из всех, кто работал в «Ла Каза Гранде», лишь одной маме Фортунато удавалось укротить норовистую дочь Пампарато. Сидя перед кастеляншей и держа руки на коленях, та ожидала очередного выговора. Но Империя сбила ее с толку не имеющим отношения к делу замечанием.
— Никогда бы не подумала, что ты такая красавица… Только это еще не причина для того, чтобы так невыносимо себя вести!
— Но…
— Замолчи! Мой брат мне все рассказал.
— Ну, знаете, этот!..
— Поосторожнее, Джозефина, ведь он — мой брат!
— Ваш брат, донна Империя, такой же гусь, как и все остальные! Со мной он позволяет себе распускать руки, шепчет мне на ухо отвратительные предложения, а по ночам ходит у моей двери в надежде, что я ему ее открою!
— Я поговорю с Ансельмо… Позволь мне все же сказать, что если бы ты была с мужчинами построже, они бы не бегали так за тобой! Ты пожинаешь то, что сеешь, девочка моя! Какая тебе надобность по утрам проходить через холл и вертеться там на глазах у ребят? Ты считаешь, что ведешь себя как порядочная девушка? И после этого ты еще удивляешься, что к тебе пристают?
— Я захожу туда только для того, чтобы увидеться с Фортунато.
— И что тебе нужно от моего сына?
— Я люблю его!
— Ты его любишь? А кто давал тебе на это право?
— Чтобы полюбить, не требуется разрешения, донна Империя. Я люблю Фортунато.
— Давно?
— Очень давно!
— А он?
Вместо ответа Джозефина расплакалась.
— Понимаю… Он тебя не любит?
Девушка тряхнула головой, не отрывая платка от заплаканного лица.
— Послушай меня, Джозефина… Не стоит мечтать о том, что не по тебе. У Фортунато другое призвание, чем быть мужем дочери плохого повара.
Глотая слезы, сеньорина Пампарато встала на защиту отцовской чести.
— Вы говорите о моем отце? Да лучшего повара нет на всем побережье!
— Значит, так считаете только вы вдвоем!
— Это неправда!
— Во всяком случае, этот куродер никогда не войдет в мою семью, даже через свою дочь, запомни это!
— Я пожалуюсь дону Паскуале! Вы не имеете права…
— Оставь в покое бедного дона Паскуале! Если бы здесь не было меня, я думаю, он ушел бы в монастырь! Смерть Луиджи Маргоне стала для него страшным ударом… Он считает, что обесчещен. А теперь, Джозефина, можешь идти, и оставь в покое Фортунато, иначе — берегись!
Раздираемая чувствами ненависти и отчаяния, Джозефина направилась было рассказать обо всем матери, но в коридоре она наткнулась на инспектора Паоло Кони.
— Куда это вы так быстро бежите?
— Не ваше дело!
— А вот это не так! Представьте себе, мне как раз нужно было с вами поговорить!
— Со мной?
— Да, с вами. Так что, может, пройдем в комнату, которую директор предоставил в наше распоряжение?
Когда они устроились в креслах роскошного номера, полицейский начал с вопроса:
— Вы действительно из-за чего-то переживаете, синьорина?… Или это угрызения совести?
— О чем это вы говорите?
— Синьорина, я и вправду всего лишь инспектор полиции, по при этом я не настолько глуп… Что бы ни думал комиссар Прицци, не только он один бывает прав!
— Ма ке! Какое мне дело до ваших отношений со своим начальником?
— В этой истории вы не так уж ни при чем, синьорина.
— Час от часу не легче!
Полицейский самодовольно улыбнулся.
— А мне, наоборот, все легче и легче!
— Вам?
— Да, мне… Я не верю, синьорина, что Луиджи Маргоне был убит из-за наркотиков.
— Вот как?
— Предположение о любовной истории кажется мне куда более вероятным… Вы были его любовницей?
— Вы добиваетесь того, чтобы я дала вам пощечину?
— Такая шутка может вам дорого стоить, синьорина! Я вам не мальчишка, поняли?!
— Может, вы и не мальчишка, но зато круглый дурак! Как вы могли подумать, что я могла быть любовницей Маргоне? Ма ке! За кого вы меня принимаете, а?
— За красивую девушку, которая умеет вскружить слишком горячие головы… Например, этого Пьетро Лачи?
— О, как он мне надоел!
— Надоедливый ревнивец может легко превратиться в убийцу, красавица моя.
— Значит, по-вашему, Пьетро повесил Маргоне потому, что ревновал его ко мне? Если бы я не была так расстроена, то просто бы сейчас рассмеялась от ваших слов!
— Вы хотите сказать, что были совершенно незнакомы с Маргоне?
— Конечно, знакома! Он бывал со мной очень любезен… Впрочем, вас это не касается! Надеюсь, до нескорой встречи!
— Боюсь, синьорина, вашим надеждам не суждено будет оправдаться. Когда Паоло Кони нападает на след, его нелегко сбить, а мне кажется, вы можете вывести на след убийцы Маргоне.
— Идиот!
Джозефина выбежала из комнаты и поспешила к материнской юбке, чтобы облегчить свое сердце. Она рассказала маме о том, как с ней обошлась донна Империя, и о том, как ее оскорбил полицейский. Альбертина Пампарато и так достаточно натерпелась от мужа, чтобы позволить другим оскорблять себя или свое дитя.
— Ма ке! Что она себе воображает, эта Империя, а? Она всего лишь вдова повара, так? Только зачем тебе понадобилось влюбляться в ее надутого Фортунато, который подметки твоей не стоит?! Ты могла бы выбрать себе кого бы только захотела, а тебя угораздило найти именно того, кто мизинца твоего не стоит! Посмотри, как ты неправа, деточка моя!
— Я люблю его, мамма миа!
— Любишь, любишь! Если бы ты посмотрела на себя сейчас со стороны, ты бы поняла, насколько глупо выглядишь! Как бы я была рада, если бы ты больше не думала об этом чертовом Фортунато!
— Это невозможно, мама!
— Увидишь, как еще возможно! Заболела твоя тетя Селестина. Так что собирай вещи: ты поедешь к ней на две недели в Падую.
— А как же Фортунато?…
— Я сама этим займусь! А полицейским, который тебя оскорбил, займется отец!
Джозефина была так несчастна, что сразу же поднялась к себе в комнату, чтобы исполнить приказание матери. Альбертина тем временем направилась к кастелянше.
— Донна Империя, я решила отправить дочь к ее тете в Падую и пришла поставить вас об этом в известность.
— Поставить в известность или спросить разрешения?
— Поставить в известность, потому что вы первая обрадуетесь отъезду Джозефины из-за своего чудного сынка!
— Мне бы очень хотелось, чтобы вы так не говорили о Фортунато, Альбертина.
— Может быть, вы хотите, чтобы я восхваляла это чудовище, которое медленно убивает мою девочку?
— Джозефина могла бы на него не засматриваться!
— Ма ке! А кто он такой, этот парень? Он что, Бог?
Донна Империя строго посмотрела на собеседницу, и от этого взгляда у той пробежали мурашки по спине.
— Он мой сын! И, кроме того, он сын покойного шеф-повара Альфредо Маринео, который был несравненным мастером своего дела! Так что ему нечего делать с дочерью поваришки, годного лишь на то, чтобы сварить суп для бродяг, которые кормятся на кухне Армии Спасения!
— Ох!
От этих слов Альбертина едва не упала в обморок и грузно опустилась на стул. Кастелянша протянула ей стакан вина, чтобы та пришла в себя, но синьора Пампарато отвергла его.
— Похоже, что я недостойна пить из стакана, принадлежащего вдове незабвенного Маринео и матери несравненного Фортунато! Ма ке! Предупреждаю вас, донна Империя, — если моя девочка умрет из-за любви к вашему Фортунато, я сама откручу ему голову!
Быстро выйдя из комнаты донны Империи и не дав ей ответить на эту последнюю угрозу, Альбертина торопливым шагом направилась на кухню.
Высокий и худощавый комиссар Прицци был родом из Милана. От своих ломбардийских[143] предков он унаследовал тягу к скрупулезному ежедневному труду и сдержанный характер, что было полной противоположностью жизнерадостному разгильдяйству его помощника Кони, считавшего себя человеком недюжинного ума и необыкновенно одаренным полицейским. Прицци слыл человеком, никогда не бросавшим начатого дела на полпути. Для него убийство Луиджи Маргоне стало тайной, которую во что бы то ни стало следовало разгадать. Он считал вполне естественным, если бы человек, замешанный в грязном деле, получив повестку из полиции, повесился. Но в данном случае его повесили другие… Кто? И почему?
Ежедневно на час-другой комиссар заходил в «Ла Каза Гранде», где старался оставаться незамеченным, чтобы никто, кроме персонала гостиницы, не понял, откуда он. В этот день он как раз занимался тем, что приводил в порядок результаты своих наблюдений, как вдруг дверь в комнату полицейских открылась, и на пороге предстал огромный силуэт Людовико Пампарато. Комиссар весьма заботился о своем престиже в глазах других и поэтому спросил как можно суше:
— Ведь вы могли и постучать, прежде чем войти?
— Только не тогда, когда попирают честь моей дочери!
— Что вы еще выдумываете?
Обличительным жестом повар указал на инспектора Кони.
— Вы бы лучше спросили этого бессовестного типа!
Между ними произошло объяснение. Комиссару пришлось заверить Пампарато в том, что его дочь просто-напросто неверно поняла инспектора, единственной целью которого было и остается разобраться в действительных причинах случившегося.
— И все же, синьор комиссар, это еще не повод для того, чтобы обращаться с единственной дочерью Пампарато как с самым последним ничтожеством!
— Кони, извинитесь перед синьором Пампарато!
Полицейскому не хотелось этого делать, но он понимал, что с Прицци лучше не ссориться. Таким образом, он извинился перед поваром, сказав, что речь идет о простом недоразумении.
— Надеюсь, что это именно так, синьоры, иначе за ваши жизни я не дал бы и ломаного гроша!
И он вышел с осознанием чувства собственного превосходства.
— Кони, сколько раз я просил вас не проявлять ненужной инициативы?!
— Ма ке! Разве я не инспектор полиции?
— Да вы к тому же еще и кретин, Кони! Еще один такой поступок, и я обещаю, что в двадцать четыре часа вышибу вас из Сан-Ремо!
Отъезд Джозефины Пампарато стал печальным событием для персонала «Ла Каза Гранде», кроме донны Империи, не придававшей значения человеческим слабостям, и дона Паскуале, занятого собственными заботами настолько, что ему было не до чувств других.
В этой грустной атмосфере приезд трех англичанок стал как бы рассветным лучом, разгоняющим ночной мрак. Получив уведомление от консула, дон Паскуале лично встретил девушек, поздравил их с тем, что они так хорошо изучили наилучший для любви и песен итальянский язык, и заверил, что приложит все усилия для того, чтобы их пребывание в гостинице было как можно более приятным. Если трое островитянок действительно радовались тому, что владеют великим итальянским языком, то Фортунато, Пьетро и Энрико благодарили небо за то, что в свое время принялись за изучение английского, а, скажем, не немецкого языка. И в самом деле, как только Фортунато протянул ключ от номера Сьюзэн Рэдсток, он сразу же понял, что перед ним находится именно та девушка, о которой он мечтал всю свою жизнь. Энрико, позабыв обо всех химерах своей неразделенной любви, был готов броситься на колени перед хрупкой Мери Джейн и заверить, что будет ее любить до последнего в своей жизни вздоха. Постоянное недовольство Пьетро слегка смягчилось от улыбки Тэсс, которая для него стала похожей на Диану, и он про себя решил, что, если произойдет невероятное и кто-то сможет его отвлечь от мыслей о Джозефине, то это будет именно та девушка и никакая другая. Выслушав рассказ сына, донна Империя присмотрелась к Сьюзэн и решила, что она вполне хороша для ее сына.
В первые три-четыре дня своего пребывания в Сан-Ремо англичанки упивались ярким солнцем, светом и песнями. Они пребывали в состоянии почти животного счастья, в полной мере наслаждаясь удовольствиями, неизведанными теми, кто не решался покинуть их страну: теплым морем и жарой, голубым небом, жизнерадостностью и прочими удовольствиями жизни.
Большую часть времени они проводили на пляже, где, выходя из морских волн, говорили об Италии и итальянцах с категоричностью, присущей молодым, которые могут высказывать свое суждение о народе и о стране после недельного в ней пребывания. Сьюзэн при этом вовсе не скрывала, что ей весьма понравился парень из бюро обслуживания в «Ла Каза Гранде», которого она находила красивым. Мери Джейн была тронута вниманием и преданностью начальника грумов Энрико. Как она утверждала, он наводил ее на мысль о Ромео, у которого должен был быть точно такой же взгляд, когда он смотрел на стоявшую на балконе Джульетту. Тэсс же считала лифтера почти в своем вкусе, несмотря на его слишком тонкую фигурку, едва ли походившую на фигуры рыцарей Средневековья.
Веселые англичанки изгнали сожаление по поводу отсутствия Джозефины из большинства мужских сердец. Один лишь безумно влюбленный в дочь Пампарато Пьетро был возмущен этим казавшимся ему чудовищным непостоянством. Он поделился своими чувствами с администратором, но тот, вместо сочувствия, посоветовал ему позабыть о Джозефине. Пьетро в ответ лишь мотнул головой.
— Это невозможно, Ансельмо. Джозефина стала моей плотью, моей кровью, воздухом, которым я дышу… Я никогда не смогу прожить без нее.
— Ма ке! Так ведь она же тебя не любит?
— Она обязательно полюбит меня в тот же день, когда узнает, что я один лишь ей не изменил… Посмотри, как вертится Фортунато вокруг этой любительницы английского чая.
— Она весьма недурна собой!
— Но она не стоит Джозефины!
— Только ты так считаешь.
— Значит, и ты, Ансельмо, мог бы предать наших девушек?
— На такое предательство я всегда готов, Пьетро!
— Значит, ты ничем не лучше других!
Амбициозная жена комиссара Прицци изо всех сил жаждала назначения своего мужа в Милан. Для этого ему требовалось всего-навсего оказаться в поле зрения начальства, прессы, а, значит, и министра. Именно поэтому, в меру своих возможностей, она всегда старалась помогать мужу в деле расследования преступлений, иногда даже проводя небольшие частные следствия и выясняя все о личности подозреваемых. Прицци считал ее помощником куда лучшим, чем инспектор Кони, над которым посмеивались во всех барах и кафе Сан-Ремо.
Элеонора Прицци была родом из Павии и, как и следовало того ожидать, презирала всех остальных итальянцев, если они не были уроженцами Ломбардии или Пьемонта. Их она считала кровопийцами, живущими за счет трудолюбивых северян. В своих чувствах она зашла настолько далеко, что терпеть не могла на столе никаких блюд, кроме ломбардийских, и в этот вечер решила побаловать мужа спагетти с карбонатом, фаршированной телячьей грудинкой и белым вином из Монтевеккио. Прицци всегда разделял вкусы и антипатии супруги. Она же считала, что преступник, которого должен был арестовать муж, скрывался с такой небывалой хитростью лишь с единственной целью — помешать карьере комиссара.
У Прицци была привычка после ужина садиться в кресло и выкуривать сигару (единственную, которую он себе позволял за весь день), при этом смакуя стаканчик пьемонтского «Ночино». Элеоноре нравилось при этом сидеть на диване за вязанием и разговаривать с мужем, которого она считала самым умным во всей Италии полицейским.
— Массимо, так что там слышно по поводу той истории в «Ла Каза Гранде»?
— Пока что я топчусь на месте, аморе мио[144].
— Как-то не верится, несравненный мой… Убеждена: ты сейчас просто раздумываешь и анализируешь…
— Представь себе: я только этим пока что и занимаюсь!
— … а потом вдруг скажешь нам: так вот где собака зарыта!
Комиссар вздохнул.
— Хотел бы я иметь хоть долю твоей уверенности, Элеонора…
— Она бы у тебя обязательно появилась, если бы ты любил меня так, как я тебя… Ладно, давай рассказывай!
Этот приказ пришелся по душе Массимо, для которого он стал еще одной возможностью расставить все по своим местам.
— Двенадцать дней назад мы арестовали перевозчика наркотиков Умберто Греццана, за которым уже давно следили, с карманами, полными пакетиков кокаина. Естественно, с ним мы разыграли обычную комедию: ты всего лишь мелкая сошка, а нам нужна крупная рыба, так что, если ты заговоришь, мы о тебе забудем. Но он никого не знал, кроме человека, передававшего ему наркотики, о месте встречи с которым он договаривался по телефону по вторникам или четвергам с семнадцати до восемнадцати часов. На эти дни мы поселили у него дома полицейского, и в четверг, в семнадцать сорок пять, таинственный посредник договорился встретиться с Умберто в саду Витториа Венето в двадцать часов. Тот пошел туда, получил наркотики, а мы тем временем проследили за их поставщиком. Он вошел в «Ла Каза Гранде». Мы навели справки, и, таким образом, стало известно, что он — заместитель директора гостиницы. На следующий день я отправил ему повестку, в которой написал, чтобы он зашел поговорить со мной по интересующему его вопросу. Я прождал его напрасно всю пятницу, а на следующий день с утра отправился в «Ла Каза Гранде», где обнаружил его труп. Возможно, он догадался; что за ним ведется наблюдение? Или, может быть, он настолько испугался моей повестки? Поначалу я думал, что он покончил с собой, чтобы избежать правосудия. Однако вскрытие показало, что он не мог повеситься сам. Значит, в гостинице или за ее пределами у него есть сообщник, который, узнав о том, что тот находится в опасности и может предать всю банду, решил его убрать. Вот на этом пока что все и остановилось, и сейчас я не вижу, как можно продвинуть это расследование вперед.
— Массимо, а этот Маргоне нуждался в деньгах?
— Выходит, что так… Нет, Элеонора, не нужно сгущать краски. Женщинами этот мерзавец не интересовался и, похоже, в его жизни была только одна страсть: игра. Мы навели справки и узнали, что за последние месяцы он проиграл весьма значительные суммы в различных игорных заведениях Сан-Ремо.
— А что об этом думаешь ты, Массимо мио?
— Думаю, голубка моя, что его убил кто-то из посторонних, кто пришел к нему в гостиницу. Нет ничего проще, чем зайти и выйти из такой гостиницы, как «Ла Каза Гранде», или же… банда, к которой принадлежал Маргоне, орудует в самой гостинице.
— Ты считаешь это возможным?
— А почему бы и нет?
— И кого же ты подозреваешь?
— Ма ке! Всех и никого, дорогая. И все же согласись, дело удалось бы быстро распутать, если бы вся банда пристроилась в «Ла Каза Гранде».
— Конечно… И все же, это мне кажется чересчур невероятным, а?
— Может быть, может быть…
— Мне кажется, что если бы мне удалось познакомиться с персоналом, я смогла бы определить, кто из них способен на такое преступление!
— Не строй иллюзий, Элеонора миа! Преступники внешне ничем не отличаются от других людей, иначе никто на свете не смог бы совершить ни одного преступления! Ты сможешь принять всех этих людей из гостиницы за хитроумных негодяев, и в то же время тебе будет казаться, что на свете нет более открытых людей.
— А что Кони?
— Ты же ею знаешь! Он только мечется во все стороны! Раздражает людей, вызывает скандалы, потом ему приходится извиняться… Он настолько неумело ведет следствие, что мне скоро придется избавиться от него.
Вопреки многолетней привычке, Прицци налил себе второй стакан «Ночино». Подобное несоблюдение установленных правил свидетельствовало о том, что он действительно находится в затруднительном положении. Жене так хотелось ему помочь, но как? И все же она никак не могла смириться с мыслью о неудаче, которая в очередной раз отложила бы на неопределенное время их триумфальное возвращение в Милан.
— Массимо, ты же никогда не мирился с неудачами! Сделай же что-нибудь ради закона и меня, ладно!
— Ма ке! Закон я уважаю, а тебя люблю!
Она вся расцвела Со времени их свадьбы прошло уже лет пятнадцать, а Массимо был по-прежнему все так же любезен с женой. Конечно, иногда ей могло даже казаться, что он разыгрывает какую-то комедию, но у нее хватало ума не заходить слишком далеко в своих вопросах.
— Скажи, среди этих людей, за которыми ты наблюдаешь каждый день, есть ли такие, у которых такой вид, будто они хотят что-то скрыть от тебя?
— Все зависит от погоды… Если погода хорошая, у них на лицах написана сплошная невинность, а если солнце скрывается, у них вид настоящих висельников!
— Массимо, не смейся надо мной!
— А я нисколько не смеюсь! Вся правда состоит в том, что мне вообще не за кого зацепиться, чтобы решить, виновен он или нет! За этого слишком любезного администратора, который постоянно шушукается с разными клиентами и улыбка которого в любую минуту может быть расценена как заговорщическая? За этого директора, похожего на курицу, напуганную хищной птицей, и неловкое беспокойство которого могло бы быть лучшим для него прикрытием? За донну Империю, у которой такой величественный вид, что даже простой взгляд в ее сторону может расцениваться как оскорбление? Можно ли допросить такую женщину, не вызвав возмущения у всех служащих гостиницы? А шеф-повар? Действительно ли он такой конченый дурак, каким кажется, или же это игра? А его красавица-дочь, эта даже чересчур красивая Джозефина? Разве хоть один мужчина смог бы ей в чем-то отказать, даже если бы она попросила купить для нее наркотики? В «Ла Каза Гранде» все мужчины настолько очарованы ее красотой и кажущейся доступностью, что ей не составило бы труда превратить их всех в поставщиков героина или кокаина. Есть еще один парень из бюро обслуживания, у которого более развязный вид, чем у администратора, и он, как бы случайно, приходится ему родственником! Я мог бы тебе еще назвать лифтера, довольно лихого парня, который, как слышал Кони, грозился кого-то там убить. Он настолько влюблен в Джозефину, что готов выполнить ее любую, даже самую страшную просьбу. Не станем сбрасывать со счетов этого вечно печального начальника грумов Энрико, который никому не внушает опасений и, следовательно, мог спокойно заниматься любыми делами. Могу еще добавить, Элеонора, что все они, похоже, совершенно порядочные люди, и что мне, вероятно, придется искать сообщников и убийцу Маргоне где-то за пределами гостиницы.
Элеонора осталась весьма расстроена отчетом своего Массимо и легла спать с мыслью о том, что подыскивать квартиру в Милане ей придется не очень скоро.
Слишком сдержанные и легко шокируемые поначалу, англичанки наконец-то отказались от своей традиционной и анахроничной сдержанности и окунулись в жизнь, о существовании которой они даже не подозревали до приезда в Сан-Ремо. Выросшие в небогатых семьях, они и не помышляли о том, чтобы вскружить головы каким-то итальянским аристократам, и дружеское расположение парней из равного им социального сословия полностью удовлетворяло их притязания. По вечерам Сьюзэн все чаще задерживалась в бюро обслуживания. Мери Джейн все больше задумывалась над тем, как ей развеять неистощимую грусть Энрико. Одной лишь Тэсс пока что не удавалось вывести Пьетро из состояния вежливого безразличия. Она вошла в раж и поклялась, что положит конец этому равнодушию, ставшему оскорбительным как для нее лично, так и для всего Объединенного королевства.
Энрико и Фортунато решили взять отгул в один и тот же день для того, чтобы вместе со своими новыми подружками отправиться подышать свежим воздухом в оливковой роще на Монте Биньоне, но при этом у них возникла проблема с Тэсс. Друзьям пришлось долго уговаривать Пьетро, чтобы тот согласился присоединиться к ним. Свои возражения он аргументировал
тем, что, если Джозефина по возвращении в Сан-Ремо узнает, что он в это время ходил куда-то с другой, она больше никогда не захочет его слушать. На это Фортунато возразил, что, наоборот, если Джозефине станет известно, что им интересуется другая девушка, то она из ревности захочет вернуть себе расположение Пьетро. Этот последний аргумент открыл перед лифтером такие радужные перспективы, что он принял предложение, и в одно прекрасное солнечное утро англичанки узнали что из себя представляют оливковые деревья.
Сами по себе сложились три пары, которые пытались было терять друг друга из вида, но раздраженный Пьетро возвращал заблудших на верный путь, ворча при этом, что он напрасно согласился на подобную прогулку. В конце концов, после того как, подражая пастухам древней Италии, пары перекусили в тени деревьев и разошлись в разные стороны, Пьетро, сидя рядом с Тэсс, принялся с иронией комментировать нравы и поступки своих соотечественников, которые, к сожалению, удалились слишком далеко, чтобы он мог точно так же высмеивать то, о чем они говорили.
Энрико принялся изливать Мери Джейн свою тоску по домашнему очагу и бамбини. Он поклялся, что еще никогда не встречал такую красивую девушку, как она, сказал, что никогда не сможет ее забыть и что сама мысль о ее отъезде заставляет его думать о самоубийстве. На это более рациональная, но все же польщенная англичанка ответила, что не стоит придавать столь большого значения обыкновенному флирту во время каникул. Энрико стал бурно возражать против этого и заявил, что самой счастливой минутой в его жизни станет тот момент, когда он сможет поцеловать Мери Джейн. Ей тоже очень хотелось поцеловать его, но пуританские традиции ее страны парализовали ее волю, открыв в ее воображении подобным поступком ворота в ад. Она нерешительно защищалась.
— Я еще никогда не целовалась ни с одним парнем…
— Очень надеюсь, что так оно и есть! Но я же не такой, как другие!
— Чем же вы так от них отличаетесь?
— Я люблю вас!
— Но это только слова!
— Тогда разрешите я вас поцелую, и вы сами увидите, люблю я вас или нет!
— Мой жених станет первым мужчиной, которому я позволю себя поцеловать!
— Тогда выходите за меня замуж!
— Вы что, в самом деле хотите жениться на мне?
— Хоть завтра, если вы этого захотите!
— И вы готовы навсегда покинуть эту страну, море и солнце, чтобы переехать жить в Лондон?
— С вами я поеду куда угодно!
И тогда Мери Джейн разрешила поцеловать себя и дала согласие стать женой Энрико Вальместа.
Фортунато не был столь наивен и прямолинеен с Сьюзэн. Он начал рассказывать ей о том, каким одиноким было его существование до двадцати шести лет, до тех пор, пока ему не встретилась та, с которой он смог бы создать семью. Он уже было совсем отчаялся, что это ему когда-либо удастся, но тут появилась Сьюзэн, и он понял, что она именно та, о которой он мечтал. Мисс Рэдсток оказалась не так застенчива, как Мери Джейн.
— Вы говорите, что любите меня, Фортунато… а ведь мы так мало знакомы…
— Это не так! Я знаю вас с самого рождения, потому что вы — именно та, которую я ждал, та, из-за которой ни одна девушка еще не подобрала ключ к моему сердцу.
— Что вы имеете в виду, когда говорите о том, что любите меня, Фортунато?
— Ма ке! То, что я вас люблю!
— Настолько, что готовы на мне жениться?
— Хоть сейчас!
— И переехать жить в Лондон, где почти никогда не бывает солнца и голубого неба?
— Повсюду, где будешь ты, аморе мио, в моем сердце будет светить солнце и небо будет голубым!
Так со Сьюзэн еще никто никогда не говорил, и она бросилась в объятия сына донны Империи.
Глядя на то, как обе парочки разговаривали и обнимались, Тэсс почувствовала, что в горле у нее пересохло. Сидевший рядом с ней Пьетро все так же продолжал иронизировать:
— Нет, вы только посмотрите на этих кривляющихся бабников! Можно подумать, что они не могли обойтись без всех этих ненужных условностей!
Стоявшая на коленях, чтобы лучше видеть, чем занимаются Мери Джейн и Энрико, Тэсс спросила:
— А как бы вы взялись за это дело, Пьетро?
Вместо ответа она ощутила ласкающую руку на том самом месте, что служит для того, чтобы на нем сидеть, но название которого они ни за что на свете не решились бы произнести вслух. Краска стыда в одну секунду залила лицо мисс Джиллингхем. Она быстро вскочила, склонилась над Пьетро, схватила его за лацканы пиджака и, применив все свои знания дзюдо, высоко вверх швырнула своего спутника, который больно ушибся, шлепнувшись на камни. Остальные тоже поднялись на ноги, чтобы лучше видеть что происходит. Ну а Лачи никак не мог понять что же с ним случилось. Он лишь на короткое время вырывался из-под града ударов, чтобы вновь взлететь в воздух и упасть на землю, и совсем потерял ориентацию. В конце концов он полностью смирился со своей участью, и от богатого итальянского воображения, говорившего ему о том, что он, возможно, доживает свои последние секунды на этой бренной земле, по его запыленным щекам потекли слезы, в которых, помимо всего прочего, угадывалась горечь от сознания утраты мужского достоинства. Эти беззвучные слезы произвели на Тэсс потрясающее впечатление. В этот момент все, что в ней было женственного, не выдержало, она стала на колени перед поверженным противником, нежно приподняла его голову и нежно поцеловала в губы. Не ожидавший такого оборота, Пьетро позволил ей проделать это над собой, а затем, войдя во вкус, ответил ей тем же и настолько страстно, что друзьям пришлось вмешаться для того, чтобы дело не зашло слишком далеко. На обратном пути к «Ла Каза Гранде» Пьетро думал о том, что в конечном счете с Тэсс ему было приятно, и, потом, она не была такой капризной, как Джозефина.
Вот так трое молодых итальянцев провели этот пикник на природе, после которого двое из них возвращались женихами своих английских невест и влюбленными настолько, что были готовы навсегда покинуть яркое солнце заальпийской Ривьеры с тем, чтобы отправиться жить в лондонском тумане. В Сан-Ремо, как и повсюду, от любви теряют голову.
После этой прогулки для некоторых «Ла Каза Гранде» стала чем-то вроде рая. Донна Империя хорошо приняла Сьюзэн, благодаря ее приятной внешности и положению служащей Ее Величества. Сердце у нее слегка сжалось при мысли о том, что ее Фортунато будет жить так далеко от нее и что ей не придется часто видеть будущих внуков, но они пообещали ей приезжать каждый год на месяц в «Ла Каза Гранде» и принимать у себя маму во время ее отпуска. Директор считал, что их помолвка будет великолепной рекламой для его заведения. Ансельмо заявил, что эти парни сошли с ума, но его отношения с ними не изменились. Обиженными остались только супруги Пампарато, особенно Альбертина, которая задумывалась над тем, как поведет себя Джозефина, узнав, что у нее отняли Фортунато. Чтобы заранее определить ее реакцию, она решила ей об этом написать.
Реакция последовала незамедлительно, и об этом узнала не только Альбертина, но и все, живущие и работающие в «Ла Каза Гранде». Через сорок восемь часов после того, как Альбертина отправила письмо, в гостинице появилась Джозефина со сверкающими от гнева глазами. Не удостоив Ансельмо даже взглядом, она направилась прямо к бюро обслуживания и со всего размаха влепила пощечину как громом от этого пораженному Фортунато к большому изумлению и радости присутствующих при этом клиентов, реакция которых зависела от продолжительности их пребывания в Италии. Не дав сыну Империи возможности опомниться, Джозефина прошипела:
— Так, значит, ты, сутенер, нашел тип девушки, за которым гонялся? И где же эта чертова англичанка? Сейчас я ей выцарапаю глаза!
Имевшие подданство Ее Величества клиенты при этом глухо заворчали, а дон Паскуале, которого уже успели известить о происшествии, появился рядом с Джозефиной.
— Как тебе не стыдно, Джозефина? Может, тебе хочется, чтобы я вызвал полицию и чтобы она вышвырнула вон отсюда тебя и всю твою семью?
— Вы не посмеете!
— Тебе так хочется это проверить?
Директор говорил таким тоном, что Джозефина поняла, что он не шутит, и немного притихла. К несчастью, когда мир был уже почти установлен, появились вернувшиеся с прогулки Сьюзэн, Тэсс и Мери Джейн, и Сьюзэн, подойдя к стойке бюро обслуживания, без всякой задней мысли поцеловала Фортунато. В ответ на звук этого поцелуя послышался рев тигрицы.
— Так это она, да?
Выпустив когти, синьорина Пампарато бросилась вперед на мисс Рэдсток, но, встреченная хуком[145] справа в подбородок и ударом колена в солнечное сплетение, крестообразно распласталась на полу, не имея возможности самостоятельно подняться. Публика была этим шокирована, однако несколько присутствующих при этом спортсменов зааплодировали такому великолепному удару. Фортунато, дон Паскуале и Ансельмо рванулись к ней, чтобы прекратить доселе навиданный в «Ла Каза Гранде» скандал, но юная англичанка, слишком возмущенная неожиданным нападением, жертвой которого она едва не стала, утратила все свое самообладание. Элегантным движением плеча, сопровождавшимся легким отходом назад для того, чтобы усилить действие приема, Сьюзэн перебросила Фортунато через стойку, и тот, шлепнувшись на пол, замер там без сознания. Дон Паскуале оказался вовсе нетяжелым для крепких рук Тэсс и поэтому нырнул в багаж только что прибывших туристов. Собиравшийся было успокоить свою подружку Пьетро получил удар носком туфли в колено и, с глазами, полными боли, сел на пол. Когда нежный Энрико увидел, как хрупкая Мери Джейн бросилась на Ансельмо, он подумал, что администратор сейчас переломит ее пополам, и зажмурил глаза. Открыв их, он увидел, как восьмидесятикилограммовый Ансельмо перелетает через свой стол и исчезает за ним, после чего на поверхности стола возникла неизвестно как оказавшаяся там его нога в туфле.
Обняв своих подруг за плечи, Тэсс, в патриотическом порыве перепутав страницы истории, заявила:
— Мы показали им второе Ватерлоо!
После убийства Маргоне, пока владельцы гостиницы из Генуи еще не назначили нового заместителя, его функции временно исполнял Ансельмо. Сидя в своем новом кабинете (за стойкой администратора ею заменил Пьетро, а Энрико совмещал обязанности начальника грумов и лифтера), он был застигнут врасплох неожиданым появлением крайне возмущенного Пампарато.
— Значит, мою дочь теперь хотят убить?!
— Спокойнее, Людовико, спокойнее!
— И вы еще смеете говорить мне о спокойствии, когда убивают мою дочь?
— Она просто получила то, что заслужила.
— Если вы так говорите, я ухожу отсюда!
— Ну и проваливайте! Сегодня же вечером, чтобы духу вашего здесь не было, и вашей жены и дочери тоже!
— Что? Вы согласны на мой уход? Вы что, забыли, что «короля кроличьего паштета» знают во всей Италии?
— Плевал я на ваш паштет!
— Этого не может быть! Да вы в своем уме?
— Нет, я уже не в своем уме, и все это из-за Пампарато!
Ансельмо вскочил со своего кресла и, схватив Пампарато за плечо, процедил ему прямо в лицо:
— Заруби себе на носу, придурок: вы, Пампарато, вот где у нас сидите! И ты, и твой паштет из кролика, и твоя дочь, и твоя придурковатая жена! Можете убираться отсюда хоть сегодня, никто об этом не пожалеет! А на кухне тебя сможет заменить любой мальчишка, потому что, если хочешь знать, ты по-свински готовишь, Людовико! А теперь мне некогда развлекаться с тобой, у меня полно работы. Выбирай: либо ты вернешься на кухню, либо можешь собирать свои вещи! Говори, что ты решил, и проваливай отсюда!
Пампарато был мертвенно-бледен. Он посмотрел Ансельмо прямо в глаза.
— Ты оскорбил меня, Ансельмо! Ты оскорбил всю мою семью и мое умение! Однажды тебе придется за это расплатиться! Клянусь святым Репаратом, моим заступником с самого детства! Так вот! Я никуда не уеду и посмотрю, хватит ли у тебя смелости выставить меня за дверь!
— Пошел вон, клоун!
Дон Паскуале долго раздумывал, как ему поступить: попросить ли англичанок вернуться к себе на родину, или подыскать в Сан-Ремо другое жилье, но, не желая ссориться с авторитетными кругами, пригласившими их в Италию, и понимая, что им осталось жить здесь всего лишь какой-то десяток дней, он решил замять скандал. Великодушие директора заставило всех побежденных в этой схватке держаться на той же высоте. Сьюзэн и Фортунато помирились между собой, и он убедил англичанку в том, что между ним и Джозефиной, преследовавшей его, ничего не было. Напуганный столь частыми проявлениями силы Тэсс, Пьетро прохладно относился к англичанке и вновь обратил свой взгляд к Джозефине, надеясь окончательно отвратить ее от Фортунато. Энрико же по-прежнему обожал Мери Джейн и каждый день открывал в ней новые положительные качества, среди которых умение постоять за себя занимало далеко не последнее место.
В одно прекрасное утро Сьюзэн решила, в виде исключения, подольше полежать в постели и заказала себе завтрак прямо в номер. К ее великому удивлению, с подносом в комнату вошла Джозефина. Англичанка сквозь зубы процедила ответ на ее приветствие и, опасаясь нового нападения, решила держаться начеку. Открывая шторы, Джозефина неожиданно спросила:
— Мисс… Почему вы хотите отобрать у нас наших парней?
— Но…
— Вы ведь знаете, что у вас с ними никогда ничего не получится.
— Почему вы так думаете?
Джозефина указала на поднос с завтраком.
— Фортунато никогда не сможет есть по утрам эту гадость, которую вы называете порриджем!
Сьюзэн поняла, что ей предстоит новое сражение за честь и славу английской кухни. Горя патриотическим негодованием, она уже было встала на ноги, как тут Джозефина неожиданно расплакалась, что свело на нет воинственный порыв мисс Рэдсток. Дочь Альбертины, всхлипывая, произнесла:
— Ма ке! А что теперь будет со мной?
— Вы найдете себе другого жениха!
— А мой сын найдет себе другого отца, да?
— Ваш сын?
— Ну, бамбино, которого я сейчас вынашиваю и чей отец — Фортунато.
— Ох!
На этот раз Сьюзэн упала на подушку и обильно смочила ее слезами. Довольная Джозефина вышла из комнаты.
К одиннадцати часам Фортунато чувствовал себя настолько счастливым, что ему хотелось призвать в свидетели своего счастья каждого клиента, который обращался к нему за ключом. Он поднялся и выставил грудь колесом, когда еще более красивая, чем обычно, Сьюзэн подошла к нему и положила на стойку какой-то сверток.
— Это для вас, дарлинг[146]!
Крайне удивленный, он неловким движением развернул сверток и застыл от удивления, обнаружив там целлулоидную куклу.
— И это для меня?
— Точнее — для вашего ребенка.
— Простите, не понял?
— Для бэби, который будет у Джозефины и отцом которого являетесь вы!
— Но… но, Сьюзэн, это… Этого не может быть! Кто… кто мог вам сказать такую глупость?
— Ваша жена!
— Моя…
Если бы Фортунато в эту минуту сказали, что папа римский назначил его личным секретарем, это поразило бы его меньше.
— Ма ке! О какой жене вы говорите?
— О Джозефине! А может, у вас их несколько? Надеюсь, вас не удивит, что после всего этого я попрошу вас подготовить мой счет? Я иду собирать вещи!
Сьюзэн быстро направилась к лифту, и Фортунато ничего не успел сказать в ответ. Когда он пришел в себя, то сразу же побежал к матери и рассказал ей обо всем, что произошло, заодно поведав о своем отчаянии оттого, что не может защитить себя от вымыслов Джозефины. Донна Империя молча поднялась.
— Я сама это улажу!
Она поднялась лифтом на последний этаж. Донна Империя подошла к двери комнаты и без стука вошла. Стоявшая в лифчике и трусиках Джозефина от испуга вскрикнула. Не говоря ни слова, кастелянша подошла к ней и влепила две звонкие пощечины. Ровным голосом она спросила:
— Ты поняла, за что?
— Нет!
Не успела Джозефина поднять руку для защиты, как получила еще две пощечины.
— Ну что, к тебе вернулась память, Джозефина?
— Кажется, да…
— Тогда надевай платье и быстро, а то я занята, и мне некогда возиться с тобой!
Джозефина еще не успела окончательно привести в порядок одежду, как донна Империя схватила ее за руку и увлекла за собой к лифту. Они спустились на второй этаж. Кастелянша постучалась в дверь и втащила за собой Джозефину в комнату Сьюзэн, где та, обливаясь слезами, укладывала предусмотрительно захваченные с собой шерстяные вещи обратно в чемодан. Донна Империя вытолкнула Джозефину вперед.
— Говори!
И синьорине Пампарато пришлось рассказать, что она ни от кого не ждет бамбино, а между ней и Фортунато никогда ничего не было, кроме неразделенных чувств. Сьюзэн была так счастлива, что сразу же простила клеветницу, расцеловала ее и предложила свою дружбу.
Когда донна Империя вернулась к себе в кабинет, она сказала сыну:
— Ма ке! Видишь, как все было просто? Можешь всегда положиться на свою маму, фиглио мио[147]!..
А в это время, захлебываясь от радости, Сьюзэн объясняла Мери Джейн и Тэсс, почему она раздумала уезжать, и сказала им, что любит Фортунато еще больше, чем прежде.
Словно собака, потерявшая след, комиссар Прицци, доверив инспектору Кони наружное наблюдение за гостиницей, бродил по всем коридорам и закоулкам «Ла Каза Гранде» в поисках возможного виновника убийства. Он шнырял по комнатам, перерывал в них шкафы, допрашивал прислугу и, наконец, довел всех до состояния полного страха. Прицци очень хотелось, чтобы убийца Маргоне все еще находился в гостинице потому, что, во-первых, это устраивало его самого, поскольку он не любил утомительных переездов, и, во-вторых, потому, что, следуя здравому смыслу, это должно было быть именно так, а не иначе. Естественно, он уже знал о стычке между Джозефиной и Фортунато, переросшей в потасовку, в которой англичанки одержали верх над туземцами. Не соглашаясь с общественным мнением, в котором преобладала мысль о том, что происшествие явилось следствием любовной размолвки, Массимо полагал, что кроме ревности, у этой ссоры могла быть и другая причина, и связывал эту причину с убийством Маргоне. А когда комиссар Прицци вбивал себе что-то в голову, никто не мог разубедить его в этом.
По случайному стечению обстоятельств, директор, сидя в кресле за колонной, случайно услышал короткий разговор, происшедший между Джозефиной и Пьетро.
— Правда, что донна Империя тебя ударила?
— Это не твое дело!
— Я никому не позволю поднимать на тебя руку!
— Ты не имеешь права ни запрещать, ни позволять мне!
— Ма ке! Неужели ты собираешься опять вернуться к Фортунато после всего, что он с тобой натворил?
— Бедненький Пьетро… Ты ничего не понимаешь в любви!
Будучи вне себя, бывший лифтер взревел:
— Предупреждаю, Джозефина, я скорее убью тебя, чем увижу в объятиях какого-то Фортунато!
В ответ она дерзко рассмеялась.
— А наш маленький Пьетро играет в настоящего мужчину!
Директор подошел к бюро обслуживания, где Джозефина в это время говорила Фортунато:
— Я никогда не забуду, как со мной обошлась твоя мать. Но она застала меня врасплох! И я не собираюсь выбывать из борьбы! Ты все равно не женишься на своей потребительнице порриджа!
— И кто же мне сможет в этом помешать?
— Я!
— Ты? И как же ты собираешься это сделать?
— Это моя забота.
— Ма ке! Ты совсем сошла с ума, Джозефина!
— Сумасшедшая я или нет, но, если сегодня вечером, в восемнадцать тридцать, ты не зайдешь ко мне и не выслушаешь того, что я должна тебе сказать, ты об этом пожалеешь!
И синьорина Пампарато уверенным шагом человека, знающего, что непременно добъется того, чего хочет, направилась прочь.
Массимо Прицци вместе с Элеонорой, на которой была прозрачная ночная рубашка, только-только лег в постель. В этот вечер синьора Прицци ощущала прилив нежности, и ей казалось, что ее комиссар был готов ответить взаимностью на ее любовные заигрывания. Они нежно беседовали между собой, и Элеонора прошептала:
— Знаешь, Массимо, ведь ты — самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела на свете!
Обычно комиссару хватало здравого смысла для того, чтобы помнить, что он больше похож на цаплю, чем на Аполлона, но сейчас он настолько потерял ощущение реальности, что лишь вздохнул.
— Думаешь, Элеонора мио?
— Уверена в этом… А что я для тебя?
— Ты? О, ты…
Синьоре Прицци так и не пришлось узнать о том, что она значит для своего мужа, так как резкий неожиданный телефонный звонок прервал их нежные изъяснения. Если бы Элеонора была мужчиной, она бы точно так же грубо выругалась, как это сделал ее муж. И все же именно она сняла трубку, чтобы ответить на настойчивый звонок.
— Синьора Прицци слушает вас… Да, я… А, это вы, Кони?… Комиссар присел на кровати и ждал, когда жена окончит разговор и положит трубку.
— Что еще нужно этому дураку?
— Кажется, в «Ла Каза Гранде» убили еще одного человека.
— Чтоб их!.. Да пошли они!.. Кого?
— Джозефину Пампарато.
Глава 3
Элеонора никогда не замечала такой прыти за своим мужем. Она даже не успела набросить на себя халат, а Массимо был уже в брюках и завязывал на туфлях шнурки. Он быстро забежал в ванную, чтобы окончательно проснуться, после чего супруга помогла ему заправить рубашку за пояс, и с кое-как завязанным галстуком комиссар поспешил в «Ла Каза Гранде».
Несмотря на позднее время, а было уже двадцать три тридцать, весь персонал гостиницы был еще на ногах. Прицци стало казаться, что преступник просто издевается над ним, совершив еще одно убийство прямо у него под носом и нисколько не заботясь о репутации комиссара! Словно на боевой колеснице, Массимо ворвался в холл гостиницы и, ни на кого не обращая внимания, пошел в наступление прямо на директора.
— Ну что, дон Паскуале, все продолжается в том же духе?
Несчастный директор больше не мог выдавить из себя ни звука. Сжавшись в комок, он постарался как можно глубже втиснуться в кресло, но полицейский вытащил его оттуда и поставил на ноги. Однако, как только его руки отпустили пиджак директора, дон Паскуале, словно куль, свалился обратно, и стало ясно, что от него ничего не добьешься. С чувством отвращения к этой тряпке Массимо повернулся к Ансельмо.
— Рассказывайте!
— Около половины десятого вечера мы услышали крик ужаса. Кричала женщина.
— Ма ке! Похоже, у вашего персонала это уже начинает входить в привычку!
— Я побежал к лифту.
— Один?
— Нет, вместе с Пьетро. На последнем этаже мы увидели горничную Камелию Теджиано.
— Где она сейчас?
Ансельмо обернулся к сгрудившемуся у лифта персоналу.
— Где Камелия?
Из шеренги служащих вышла полная, рыжеволосая женщина вся в слезах. Прицци постарался говорить с пей помягче.
— Вы были первой, кто обнаружил случившееся?
— Да… да… Это было у… ужасно…
— Зачем вы заходили в комнату Джозефины Пампарато?
— После работы я поднялась к себе на этаж и собиралась пойти спать, но, проходя мимо ее двери, заметила, что она приоткрыта. У меня с Джозефиной были хорошие отношения, и я захотела пожелать ей спокойной ночи. Я постучала в дверь и, поскольку она не отвечала, вошла в комнату и… и… увидела… ее…
Полицейский подождал, пока она вытерла слезы, и спросил:
— Вы никого не заметили на этаже?
— Нет.
— Ладно. Пошли, Кони.
В сопровождении инспектора и Ансельмо, так как директор никак не мог прийти в себя, Прицци направился к лифту.
Кухня «Ла Каза Гранде» напоминала собой греческий лагерь при осаде Трои в тот момент, когда Ахилл узнал о гибели Патрокла. Три человека удерживали одетого в пижаму Людовико, пытавшегося все перебить, чтобы хоть как-то дать выход охватившему его отчаянию. Альбертина, в домашнем халате, плакала, а стоявшие вокруг женщины всплескивали руками, похлопывали ее по щекам и отходили от нее лишь на несколько секунд, чтобы принести стаканчик «Фернет-Бранка». После того как помощники Пампарато отпустили его, он стал проклинать небо и землю, допустившие это ужасное несчастье.
— Что будет со мной без Джозефины, моей вечной весны?
Альбертина из своего угла стонала в такт словам мужа, и этот стон был так тяжел и протяжен, что напоминал вой собаки на луну.
— Господи! Я — Людовико Пампарато, самый великий повар всей Лигурии, король кроличьего паштета и раб твой! Чем я прогневил тебя, за что ты ниспослал мне такую боль?
Поварята, пытавшиеся его успокоить, оставили его, чтобы вторить душераздирающему плачу Альбертины. Таким образом, сложился древний хор плакальщиц, что придавало всему происходящему еще более мрачный вид.
— Господи! Раз ты не можешь вернуть мне мое дитя, назови мне хоть имя убийцы, чтобы я мог его задушить! Выпустить из него по капле кровь! Разрезать на части!
Трое англичанок, пробравшись на кухню в поисках своих женихов, с легким недоверием взирали на происходившее у них на глазах. Они никак не могли поверить в искренность всего происходящего и творившегося с этими людьми. Если бы они не знали, что Джозефина действительно была убита, они никогда бы не поверили в реальность этой сцены.
Неожиданно Пьетро с заплаканным лицом мстительно направил указательный палец в сторону Фортунато и выкрикнул:
— Это он!
— За этим криком последовала полная тишина, в которой различалось лишь шумное дыхание присутствовавших. Все обернулись к Фортунато, а Людовико схватил большой разделочный нож. Фортунато был изумлен.
— Я? Мог бы убить Джозефину?
На него набросился Пьетро.
— Убийца! Я видел, как ты недавно, около девяти вечера, выходил из комнаты Джозефины!
— Это неправда! В коридоре никого не было!
Ученики повара едва успели перехватить Людовико, чтобы тот не всадил нож прямо в грудь Фортунато. Альбертина вырвалась из рук своих добровольных медсестер и крикнула сыну Империи:
— Грязный выродок! Ублюдок! Позор твоей семье! Как ты посмел поднять руку на самую чистую, самую нежную, самую любящую из всех девушек?! Я выцарапаю тебе глаза, слышишь, ты, будь ты проклят! Ма ке! Что моя Джозефина сделала этому чудовищу?! Ты ведь ее убил за то, что она не хотела уступить тебе, а?
— Клянусь вам, это неправда!
Энрико пришел другу на помощь.
— Вы ведь хорошо знаете, донна Альбертина, что Фортунато не способен на убийство! И потом, кто угодно сможет подтвердить, что не Фортунато бегал за вашей дочерью, а она за ним!
Людовико яростно стряхнул всех, кто повис на нем, и проревел:
— Этот недомерок еще смеет оскорблять память моей девочки!
Альбертина дала Энрико пощечину и замахнулась еще раз, но перед ней возникла Мери Джейн с решительным лицом и ледяным взглядом.
— Еще раз, и вы окажетесь в больнице!
Альбертина испугалась, но постаралась скрыть свой страх за новой грубостью:
— Да он, к тому же, еще и трус! Этот бесстыдник позвал себе на помощь иностранок! Да накажет Господь Бог Англию!
Отчаявшись быть услышанным, Фортунато выкрикнул:
— Перед всеми клянусь: я невиновен!
Желая отомстить ему за все до конца, Пьетро точно так же ответил:
— А я повторяю, что видел, как ты выходил из ее комнаты!
— Да! Я заходил к Джозефине!..
— Он признался!
— Но она была жива, когда я вышел от нее!
— Лжешь!
Альбертина спросила:
— А ну, говори, что ты делал у моей дочери в такое время, негодяй!?
— Она назначила мне встречу.
— И тебе не стыдно марать ее память?!
— Сначала она мне угрожала, потом мы объяснились, и она извинилась за то, что солгала Сьюзэн, надеясь отбить меня у нее. Мы расстались друзьями. Она мне даже сказала, что собиралась уйти из «Ла Каза Гранде» и переехать в Рим.
Альбертина пожала плечами.
— Сказки! Неужели ты думаешь, что, если бы моя дочь решила уехать, она не сказала бы об этом своей матери первой? А потом, где бы она достала денег?
— Она мне сказала, что у нее будут деньги, но не объяснила откуда.
Людовико прохрипел:
— Я должен убить его!
Но еще до того, как шеф-повар попытался привести свою угрозу в исполнение, дверь на кухню открылась и вошла донна Империя. Все сразу умолкли. Она строго посмотрела на людей, заполонивших кухню.
— Мне показалось, здесь очень шумно, а сейчас не самое лучшее время, чтобы шуметь. Сочувствую вам, Альбертина… Джозефина была безмозглой девчонкой, но она была молода, а молодость священна!
— Вам следовало бы научить этому вашего сына!
— Фортунато? Почему?
В разговор вмешался Людовико.
— Да потому, что он убил мою дочь!
— С возрастом вы не стали умнее, мой бедный Людовико! Чем дальше, тем вы становитесь глупее. Подойди сюда, Фортунато!
Тот подошел к матери, которая взяла его за плечи и, глядя прямо в глаза, спросила:
— Ты убил эту крошку?
— Конечно, нет!
К ним подскочил Пьетро.
— Но я же видел, как этот грязный лжец выходил из ее комнаты!
Донна Империя посмотрела на Пьетро и спокойно сказала:
— Если ты еще раз назовешь моего сына лжецом, Пьетро, посмотришь, что с тобой будет!
Тот из предосторожности отступил назад на два или три шага. Однако Альбертина продолжала вести борьбу против семьи Маринео.
— Пора вам понять, Империя: вы надоели нам со своими манерами великосветской дамы! Чем вы лучше меня, а?
— Я — вдова гения кулинарного искусства, а вы — всего лишь жена поваришки, способного только на паштеты, к которым не прикоснется ни один знаток!
Людовико вскричал:
— Мою дочь убивают, а мать убийцы еще приходит оскорблять меня на моей кухне!
Фортунато схватился за голову.
— До сих пор я считал всех своими друзьями, а теперь вижу вокруг одни лишь враждебные лица! Неужели мне больше никто не верит?
Тут Сьюзэн Рэдсток сделала шаг вперед и сказала:
— Я верю!
Донна Империя расцеловала англичанку.
— С ceгодняшнего дня ты — моя дочь!
Пьетро проворчал в ответ:
— Значит, есть такие, которым правятся убийцы!
Тэсс Джиллингхем схватила лифтера за ворот рубахи так, что он начал задыхаться, и с наигранной нежностью прошептала:
— Надеюсь, дарлинг, вы не имели в виду вашу Тэсс?
— Оставьте меня в покое!
— Разве так разговаривают со своей будущей женой, дарлинг?
Тэсс сжала воротник его рубашки чуть покрепче, и Пьетро, захрипев от удушья, сделал знак, что он готов покориться. Англичанка ослабила руку и похлопала его по щеке.
— Чувствую, мы с вами поладим, дарлинг.
Вбежала горничная и сообщила, что полицейские уже спускаются вниз и вот-вот появятся на кухне. Людовико перечислил Фортунато все, что он сделает с ним в случае, если правосудие откажется им заниматься. На это донна Империя ответила, что если кто-нибудь из Пампарато посмеет хоть пальцем тронуть ее сына, то все они умрут еще до того, как поймут, что же с ними произошло.
Схватив брошенный Людовико нож, Пьетро бросился на Фортунато. К несчастью для него, ему пришлось пробегать с ножом мимо Тэсс. Тяжелым медным сотейником, подвернувшимся ей под руку, англичанка со всего размаху ударила лифтера по голове, и тот без единого возгласа рухнул на пол. Донна Империя улыбнулась ей.
— Ты тоже очень хорошая девушка.
Комиссар Прицци остановился у двери при виде уткнувшегося носом в цементный пол Пьетро.
— А с этим что случилось?
Донна Империя принялась объяснять:
— Он не выдержал… Когда узнал о том, что произошло… Он упал без сознания… У него очень отзывчивое сердце…
Ансельмо, который вслед за комиссаром вошел в кухню, склонился над Пьетро, приподнял ему голову и, нащупав ладонью огромную шишку, поднял на сестру глаза и заметил:
— В самом деле, похоже на сердце.
Массимо приказал унести Пьетро и попросил донну Империю представить ему всех собравшихся на кухне людей. После всех служащих очередь дошла до тех, кто не имел никакого отношения к работе на кухне. Инспектор Кони застыл от восхищения перед Тэсс. Эта крепкая девушка в его представлении была воплощением женской красоты. Она объявила себя невестой Пьетро и попросила разрешения пройти к нему. Такое разрешение было ей дано, а донна Империя прошептала брату на ухо:
— Хоть бы она его совсем не прикончила…
Сыозэн сказала, что она гоже помолвлена с Фортунато Маринео. Неожиданно посреди воцарившейся с приходом полицейских относительной тишины послышались какие-то странные звуки, и Прицци, сделав несколько шагов вперед, обнаружил позади плотных рядов собравшихся на кухне людей сидевших прямо на полу и целовавшихся Энрико и Мери Джейн. Сначала он даже немного растерялся.
— Ма ке! Вот это да! Эти двое решили воспользоваться присутствием полиции для того, чтобы лапать друг друга!
В одну секунду Мери Джейн вскочила и с негодованием ответила:
— Вы говорите отвратительные вещи! Мы не… не делали того, что вы сказали! Сами вы…
Нахмурив брови и скривив рот, полицейский спросил:
— Так кто я?
— Не могу это выразить по-итальянски… но это — некрасивое слово!
— А вы? Неужели вы считаете, что это хорошо, — втихую целоваться, когда здесь произошло убийство?
— Не вижу никакой связи!
Прицци недовольно пожал плечами и громко сказал, обращаясь к Кони:
— У этих северян нет никакого понятия о приличиях… А что дон Паскуале: скоро он собирается прийти в себя?
Как раз в эту минуту появился директор с мокрыми глазами и затуманенным взглядом, отвисшей губой, весь вид которого выражал полную покорность судьбе. Полицейский грубо окликнул его:
— Ну наконец-то вы появились! У вас здесь происходит настоящая резня, а вы решили падать в обмороки!
— Это… это выше моих сил, синьор комиссар… Эти убийства в МОЕЙ гостинице… Я… я не смогу этого вынести…
— Ma ке! В таком случае уходите на пенсию!
— Я так и сделаю, если только до этого не покончу с собой!
— Пока этого еще не случилось, предоставьте мне помещение, где я мог бы допросить всех этих людей!
Результаты допросов были самыми разными. Большинство людей ничего не знало, а остальным только казалось, что они что-то знают. Альбертина долго оплакивала свою прекрасную девочку и требовала правосудия. Людовико заявил комиссару, что, если преступника не казнят на месте, он произведет революцию. Дон Паскуале только вздыхал и всхлипывал по поводу утраченной репутации и смерти Джозефины, которую он любил, несмотря на ее взбалмошный характер. Он признался в том, что не прогонял ее с работы лишь потому, что не хотел остаться без ее отца — короля паштета из кролика, которого большинство лигурийцев, ошибочно или нет, но, скорее всего, ошибочно, считали королем кухни на всем полуострове. Ансельмо выложил все, что думал об этой вертихвостке Джозефине, ужасный конец которой его ничуть не удивил. Донна Империя довольствовалась заявлением о том, что, будучи матерью Фортунато, она отвечает за него как за себя и считает идиотом каждого, кто мог бы допустить мысль о том, что он и есть убийца. К этому она добавила, что, если на Фортунато будут и дальше совершаться нападки по непонятным для нее причинам, в которых просматривается рука сторонников недобитых фашистов, она доберется до Министерства юстиции, где у нее есть высокопоставленный родственник.
Массимо с издевкой спросил:
— Может, он каждый день видится с самим министром?
— Конечно видится, раз он работает у него стенографистом!
Англичанки еще раз вывели Прицци из себя, заявив, что у них на родине не обвиняют невинных людей без веских на то доказательств. Комиссар предупредил их, что, если они станут вмешиваться в то, что их не касается, он вышлет их за пределы страны, на что они ответили, что это бы их сильно удивило, если бы он решился на такой шаг по отношению к людям, получившим приглашение от самого посольства Италии в Лондоне.
Энрико Вальместа сказал, что для него Джозефина была глубоко безразлична и что на свете существует лишь одна девушка, заслуживающая внимания: Мери Джейн Мачелни. Комиссару очень хотелось хоть раз стукнуть его, чтобы дать разрядку своим нервам. Ну, а Пьетро Лачи продолжал обвинять Фортунато в том, что он — убийца Джозефипы. Он подслушал их разговор и знал, что Джозефина пригласила к себе Фортунато, а кроме того, он видел, как тот выходил из ее комнаты.
— Фортунато вам чем-то не нравится, а?
— Не нравится.
— Могу ли я спросить почему?
— Потому, что Джозефина любила его.
— А вы любили вышеназванную Джозефину, но без взаимности с ее стороны?
— Да.
— Молодой человек, а не считаете ли вы, что итальянская полиция только и существует для того, чтобы мстить за чье-то униженное достоинство и помогать сводить счеты, а?
— Но я же видел его!
— Допустим. Кстати, эта англичанка, Тэсс Джиллингхем, — ваша невеста?
— Это она так считает!
— Значит, это не так?
— Нет, не так.
— Кажется, у вас очень сложные сердечные привязанности, синьор Лачи. Нам, безусловно, придется еще раз увидеться с вами и побеседовать об этом.
Фортунато держался не так хорошо.
— Вам предъявлены серьезные обвинения, Маринео.
— Что я могу поделать?
— Оправдаться.
— Как?
— Например, если будете с нами откровенны.
— Никто мне не верит. Послушайте, синьор комиссар, я никогда не любил Джозефину, которая все время вертелась возле меня.
— А ведь она была красивой девушкой, разве не так?
— Возможно, но она не была в моем вкусе…
— Тогда как мисс Рэдсток?…
— Она — да. Послушайте, синьор комиссар: я всем сердцем люблю Сьюзэн; зачем же мне потребовалось бы убивать Джозефину из ревности?
— Допустим, что вы правы. Но почему же тогда вы были у нее в комнате?
— Она приказала мне зайти к ней.
— Приказала?
— При помощи угроз.
— Каких угроз?
— О, это старая песня! Если ты не придешь, пожалеешь об этом, будешь раскаиваться, но будет поздно, и так далее…
— Вы не восприняли эти угрозы всерьез?
— Совершенно.
— И все же вы зашли к ней?
— Я хотел уговорить ее больше не мешать мне.
— Что она вам говорила?
— Что если я соглашусь поехать с ней в Рим, нас там будет ждать счастливое будущее, вместо того чтобы обслуживать других, нас самих будут там обслуживать; в общем, разную чепуху!
— Она была жива, когда вы выходили от нее?
— Она даже ласково назвала меня маленьким негодяем, когда я закрывал за собой дверь, и, должен добавить, в коридоре в этот момент никого не было.
— К сожалению, вы ничем не можете доказать, что к моменту вашего ухода Джозефина была еще жива.
— Ничем.
— И поэтому, синьор Маринео, я вынужден вас арестовать, но пока что не предъявляю вам обвинения в убийстве. Скажем так: я хотел бы, чтобы вы были у меня под рукой на случай, если в «Ла Каза Гранде» произойдет еще какое-нибудь серьезное преступление. А пока что я не могу определить, виновны вы или нет.
Выходя из комнаты, Прицци увидел людей, собравшихся у двери. Когда появился Фортунато в сопровождении инспектора Кони, среди персонала послышался глухой ропот. Комиссар попытался их успокоить.
— Я забираю Фортунато Маринео потому, что не имею права оставлять его на свободе. Ему предъявлено серьезное обвинение, и, таким образом, он должен отправиться со мной. Сожалею, донна Империя, и…
Не удостоив полицейского ответа, мать Фортунато повернулась к нему спиной. Сьюзэн расплакалась, Тэсс и Мери Джейн принялись ее успокаивать, а Фортунато тем временем уводили двое представителей закона. Еще до того, как все разошлись, донна Империя подошла к Пьетро и со всего маху дала ему новую пощечину.
— Советую тебе никогда не попадаться на моем пути, Иуда!
Прицци как раз снимал носки, когда Элеонора спросила из ванной, где она заканчивала свой вечерний туалет:
— Думаешь, с делом в «Ла Каза Гранде» все выяснилось?
— Увы! Нет, моя дорогая… Наркоманы стали появляться почти повсюду! И теперь их все больше среди молодежи! К нам приходит все больше жалоб. Родители просто сходят с ума. Кажется, здесь действует чертовски хорошо организованная банда. Маргоне, которого убили в «Ла Каза Гранде», был всего лишь пешкой среди них.
— Ну а как же убийство этой Джозефипы?
Массимо с наслаждением растянулся на кровати.
— Оно не имеет ничего общего с занимающей нас историей… Это преступление на почве ревности… Джозефина вскружила всем головы. Не уверен, что этот Фортунато, которого я арестовал, действительно убил ее… Заметь, он может быть убийцей, но возможно также и то, что кто-то из мести хочет все свалить на него.
— Кто?
— Если бы я мог это знать… Почему бы не тот, кто заявил на него?
* * *
Выходя из «Безвременника и василька» Генри Рэдсток был горд собой. Ему только что удалось пригвоздить к позорному столбу в присутствии всех посетителей паба одного нехорошего англичанина, оказавшегося сторонником Общего рынка, придуманного только затем, чтобы обрубить когти британскому льву и поколебать нерушимый фунт стерлингов. Вместе со своим другом Тетбери он с удовольствием комментировал некоторые из свои самых удачных реплик, которые все еще живо обсуждались в пабе, и эхо победного отзвука их смолкнет нескоро. Тетбери, высказывая общее мнение, заявил:
— Вы были великолепны, Генри!
Скромно улыбнувшись, Генри согласился:
— Скажем так: я был совсем неплох… Как всегда, верно?
— Что вы, Генри? Как всегда? Это было гениально!
— Я всегда считал вас справедливым человеком, Дэвид, а теперь совершенно уверен в этом!
Тетбери незаметно смахнул слезу.
— Никогда не надеялся услышать ничего подобного, Генри… Благодарю вас.
Так вот, восхищаясь друг другом, они дошли до Балбридж-роуд. Прежде чем расстаться, Рэдсток пригласил своего друга выпить по последнему стаканчику. Они вошли в дом, и Рэдсток позвал:
— Люси, где ты?
Ответа не последовало. Полагая, что жена находится на кухне, Генри счел нужным ее предупредить:
— Если ты занята, дорогая, не отвлекайся: я пришел с Дэвидом, который оказал мне своевременную поддержку в трудный момент. Представь себе…
Достав бутылку виски и стаканы, а потом разливая виски по стаканам, он продолжал пересказывать происшедшее во всех мельчайших деталях.
— …И когда он имел наглость заявить: «Старушка Англия обретет новые силы в контакте с Европой», я попросту спросил его: «Извините, сэр, а вы были в Дюнкерке 28 мая 1940 года?» — «Нет, сэр…»— «И в последовавшие за этим дни тоже, думаю, нет?»— «28 мая 1940 года мне было восемь лет, сэр. Должно быть, вы догадываетесь, что в последовавшие за этой датой дни я еще не мог достичь совершеннолетия?»— «Не стоит
делать из меня дурачка, сэр, это не прибавит ума вам самому!»— «Позвольте мне заметить в свою очередь, сэр, что я никак не могу решить: то ли вы конченый дурак, то ли первоклассный актер, который последние тридцать лет специализируется на ролях идиотов!»— Но здесь, Люси, я ему так ответил… Нет, Дэвид, повторите, пожалуйста, каким образом я заткнул за пояс этого недоумка.
Заикаясь от предложенной ему чести, Дэвид Тетбери стал объяснять:
— Вы сказали ему… ах, нет! Постойте! Мне до сих пор смешно, когда я вспоминаю его изумленную физиономию! Вы сказали ему… Очень жаль, миссис Рэдсток, что вы не присутствовали при этом… Мне так бы хотелось, чтобы и Гарриет тоже была там… Существуют вещи, которые невозможно упускать… Вы сказали ему: «Послушав вас, сэр, можно подумать, что Кромвель трудился напрасно!»
Охваченный небывалым весельем и позабыв о манерах приличия, Дэвид Тетбери взялся за бока и заржал, а Генри стал ему потихоньку вторить. Затем до Рэдстока дошло, что его жена хранит странное молчание. Он крикнул:
— Люси?
Он выкрикнул ее имя таким гоном, что веселье Тетбери вмиг прекратилось, и он в свою очередь позвал:
— Миссис Рэдсток?
Они встревоженно переглянулись. Затем медленно поднялись из-за стола и направились на кухню. Увидев супругу, распластавшуюся на полу, Генри издал приглушенный стон. Он поспешил к ней.
— Люси, дорогая моя!
Дэвид поспешил другу на помощь, и вдвоем им удалось поставить миссис Рэдсток на ноги и прислонить ее к буфету. Пока Тетбери пытался влить при помощи кофейной ложечки несколько капель джина в накрепко сжатые зубы Люси, Рэдсток высвобождал у нее из рук письмо, которое, похоже, стало причиной обморока. Взяв письмо, он подошел к окну, предоставив другу заботу о медленно приходящей в себя жене.
Дорогие родители!
У меня для вас есть одна важная новость: я выхожу замуж за одного служащего гостиницы. Он порядочный человек и говорит по-английски. Его зовут Фортунато Маринео. Красивое имя, правда? Я стану синьорой Маринео! Фортунато обожает меня, и его мать тоже меня очень любит. А я обожаю их обоих. (Здесь Рэдсток горестно вздохнул по поводу неблагодарности детей по отношению к родителям, и, в частности, дочерей.)
Думаю, нет, совершенно уверена в том, что Фортунато вам очень понравится. (Отец скептически что-то промычал.)
Мери Джейн выходит замуж за старшего грума, а Тэсс в настоящий момент старается убедить лифтера Пьетро просить ее руки, но он почему-то медлит, и Тэсс приходится время от времени напоминать ему о себе. Вы ведь знаете Тэсс! Она дала клятву, что он все равно женится на ней, даже если для этого его придется нести в мэрию на носилках. Мне очень бы хотелось, чтобы Фортунато написал вам несколько слов приветствия, но сейчас у моего любимого нет на это времени. Он сидит в тюрьме. Его обвиняют в том, что он зарезал одну девушку, которая была в него влюблена. (Мистер Рэдсток издал какой-то хрип, в котором можно было угадать небывалое смятение чувств, охвативших его.)
Но я уверена, что все уладится, хотя мне и жаль эту девушку. Ее звали Джозефина. Целую вас и прошу передать от меня привет нашим друзьям Тетбери. Ваша любящая дочь Сьюзэн Рэдсток».
Впервые в жизни раздавленный ударом судьбы еще больше, чем в тот, недоброй памяти день, когда сборная Венгрии по футболу победила британскую сборную в Лондоне, Генри Рэдсток был совершенно убит горем. Для него это был один из тех моментов жизни, когда рушится буквально все, когда больше не во что верить, кроме милости Господа Бога, благодаря которой вы имели счастье родиться на берегах Темзы. Жалобный голос Люси вернул Генри к действительности.
— Вы уже прочли, Генри?
— Прочел.
— Ужасно, правда?
— Не то слово, Люси… Ах, прошу вас, не плачьте! Нужно что-то делать, а не проливать бесполезно слезы!
Тетбери осторожно спросил:
— Случилось несчастье?
— Еще хуже, Дэвид! Нас постигло бесчестие!
— Ох!
Рэдсток протянул письмо старому другу, который в свою очередь воскликнул:
— Не может этого быть! Только не Сьюзэн! Только не девушка, имеющая таких родителей, как вы!
— Увы, Дэвид! Следует признать, что мы недостаточно знаем наших детей!
Пока гость помогал миссис Рэдсток окончательно подняться на ноги, мистер Рэдсток продолжал:
— … Ты всегда думаешь, что служишь им достойным примером… Что в жизни сумел им внушить достойные принципы… Тебе кажется, что уже сам факт того, что ее отец был государственным служащим на железных дорогах Ее Величества, должен был бы оградить ее от такого морального падения, но нет! В один прекрасный день вам приходит письмо, в котором она пишет, что готова отказаться от вас, от своей родины и выйти замуж за убийцу!
Трагический плач Люси окончательно вывел ее мужа из себя.
— Довольно! Ваши слезы здесь ни к чему, если только они не свидетельство вашего раскаяния!
— Раскаяния? В чем же мне раскаиваться, друг мой?
— Не заставляйте меня лишний раз напоминать вам, что по происхождению вы — ирландка, и что ваша бабушка когда-то вышла замуж за голландца!
Лишенная дара речи этим вероломным нападением, миссис Рэдсток умолкла и замкнулась в себе, переживая комплекс неполноценности по поводу своего прошлого, а Тетбери спросил друга:
— Что вы теперь собираетесь делать?
Превзойдя присущее ему величие, Генри ответил:
— Исполнить свой долг!
Дэвид не понял до конца, но почувствовал, что наступила редчайшая в его жизни минута, и то, что сказал дальше его друг, полностью подтвердило данное предположение:
— В тысяча девятьсот сороковом году я не склонился перед Гитлером, а в тысяча девятьсот семьдесят третьем году не собираюсь склониться перед каким-то убийцей из Италии! Я еду!
— Куда?
— В Италию!
Люси вскрикнула:
— Ни за что!
— Ни слова больше, мое решение окончательно! Вы хорошо меня знаете, Тетбери, я не отступаю перед опасностью! Моя девочка сейчас подвергается опасности, и я лечу спасать ее, хочет она этого или нет! Не может быть и речи о том, чтобы единственная дочь Генри Рэдстока, бывшего государственного служащего Ее Величества, досталась фашистам!
Тетбери попробовал было заметить:
— Мне казалось, что со времени смерти Муссолини в Италии больше не осталось фашистов?
Рэдсток пожал плечами.
— Все это — выдумки лейбористов, чтобы усыпить нашу бдительность! А вот вам и доказательство обратного, Дэвид!
Он с силой потряс в воздухе письмом, которое, по его мнению, опровергало измышления английских лейбористов и итальянских христианских демократов, короче говоря, всех тех, кто думал не так, как Генри Рэдсток, заверивший свою речь безапелляционным утверждением:
— Только фашист способен позариться на английскую девушку!
Дэвид не решился спросить почему.
Тетбери строго приказал жене никому не говорить об отъезде Рэдстока в Италию, но вскоре весть о предстоящем событии облетела весь Балбридж-роуд. Друзья Генри жили в предвестии новой победы их кумира и заранее безмерно гордились им. Мясник Шиптон говорил жене, что благодарит Господа, давшего ему возможность познакомиться с Рэдстоком. Бакалейщик Пикеринг мечтал о дальних странствиях, которые ему хотелось бы совершить. Портной Хелмсли черной завистью завидовал Рэдстоку, в превосходство которого он тайно отказывался верить. Ну, а почтальон Изингволд взял на себя миссию добровольного глашатая, и в каждом доме, куда он заходил, рассказывал всем о словах и поступках гордости всего Вилтона, Генри Рэдстока. Препаратор из аптеки Ботел, наоборот, проявлял скептицизм, приводивший в состояние шока тех, кому он об этом говорил: он не верил в возможность отъезда Рэдстока. Поэтому Реджинальд Сайр довольно долго спорил со своей женой Феб, стоит ли попросить вышеупомянутого Ботела пить пиво в другом пабе, а не в «Безвременнике и васильке».
И все же последние редкие сомнения были развеяны, когда в следующее воскресенье проповедник Симмонс во время проповеди о Святом Николае позволил себе сделать почти что скрытый, но чрезвычайно определенный намек, говоря об англичанах, не утративших воинственного порыва времен Черного принца[148], веллингтоновских гренадеров[149] и достойного, наконец, летчиков Королевских ВВС. Он воздал хвалу тем, кто, понимая всю свою ответственность перед нацией, без тени сомнения идет на риск, предполагающий недюжинную храбрость и моральную силу.
В это воскресенье, после непрерывных поздравлений, Генри так воспарил духом, что в два часа ночи Люси с трудом стащила его с комода, взобравшись на который он принялся рассказывать жене, каким образом ему удалось спастись в Дюнкерке. На следующее утро Рэдсток с неясной головой наблюдал за тем, как его супруга наполняла тяжелый чемодан. Помимо теплой одежды, Люси, которая не доверяла рекламным проспектам о солнечной погоде в Италии, натолкала в чемодан множество всевозможных лекарств. Излишняя предусмотрительность никогда не помешает, когда приходится отправляться на кишащий грязью и микробами континент. Вечером доведенные до изнеможения супруги легли в постель.
После всего, что ему пришлось пережить накануне, Генри хотелось только спать. И когда ужасный крик вывел его из состояния сна, он решил, что опять находится в Дюнкерке, и, не открывая глаз, ведомый рефлексом двадцатипятилетней давности, бросился бежать. Пробегая мимо кровати, он зацепился за ее ножку, упал и лишь тогда окончательно проснулся. Желая понять, что же все-таки произошло, он повернул ручку выключателя и в удивлении застыл при виде представшей перед его глазами сцены: его жена, стоя на кровати, была похожа на привидение. Позабыв о том, что совсем недавно он выглядел более чем смешно, Генри строго спросил:
— Эй, Люси, что с вами? Люси!
Выведенная из этого едва ли не сомнамбулического состояния голосом своего мужа и повелителя, Люси всхлипнула:
— Генри! Ох, Генри!
— Ну что еще?
— Я недостойна быть вашей женой!
— Да?… И вы не могли отложить свою исповедь до утра?
— Нет! Мне привиделся Святой Георгий!
— Прошу вас, не говорите глупостей, Люси, и, пожалуйста, успокойте ваше богатое ирландское воображение!
— Святой Георгий вовсе не ирландский святой, Генри!
— Хорошо! Допустим! Так что от вас хотел Святой Георгий, дорогая?
— Он пристыдил меня за то, что я не следую за вами в бой! Я еду вместе с вами в Италию, Генри! Это воля неба!
Рэдсток не сразу решился на ответ, а когда он сделал это, его речь была наполнена беспримерным благородством.
— Только сегодня, в этот благословенный день, я понял, что наш брак благословил сам Господь Бог, Люси!
* * *
Проходя к себе в кабинет, комиссар Прицци позабыл ответить на приветствие секретарши. Он находился в прескверном настроении. Все у него не клеилось. Элеонора опять начала говорить о Милане и о том, как они, наконец, заживут вдвоем в столице Ломбардии. Но для этого Массимо требовалось заслужить расположение начальства, а сделать он это мог, лишь с успехом завершив порученное ему расследование. К сожалению, по непонятным для Элеоноры причинам, мужу этого никак не удавалось добиться. Ей казалось, что если она сама займется этим, дела пойдут намного быстрее. Подобные рассуждения выводили Массимо из себя. Он очень любил жену, однако это не мешало ему временами считать ее набитой дурой. Из всего того, что она говорила, только одно заслуживало внимания: их переезд в Милан состоится не так скоро, как им того хотелось.
Прицци тоном военачальника, бросающего свои полки на штурм неприятельской крепости, вызвал по селектору Кони. За этим сразу же послышался топот стадвадцатикилограммового инспектора, бегущего в кабинет своего начальника. На секунду Массимо показалось, что дверь кабинета сейчас слетит с петель. Однако инспектор остановился перед ней, вежливо постучался и вошел, дыша как хорошо раздутый кузнечный мех.
— Вызывали, синьор комиссар?
— Есть что-то новое по «Ла Каза Гранде»?
— Нет.
— Так чего же вы ждете? Или думаете, что факты будут сами бегать за вами?
— А что мне делать?
Комиссар со злостью ударил кулаком по столу.
— Хорош у меня заместитель! С меня спрашивают, требуют результатов, а я должен все делать сам! Если через сорок восемь часов вам не удастся добыть сведений для ареста виновных, я избавлюсь от вас, инспектор! Поняли?
— Ма ке! Но как же мне это сделать?
— Вы что, уже не инспектор полиции?
— Да, но…
— Либо вы достойны этого звания, либо нет. Если да, то докажите это, если нет, то сдайте свое удостоверение! Вам ясно?
— Кажется, да, синьор комиссар. Но ведь у нас уже есть один задержанный — синьор Фортунато Маринео.
— Бедный мой Паоло… Не знаю, какая муха вас укусила и почему вы пошли работать в полицию?
— Меня укусила не муха, синьор комиссар. Меня все время грызла моя мать!
— Кажется, она не подумала о ваших истинных способностях?
Кони весело рассмеялся.
— Кажется, нет, синьор комиссар.
— И вы еще смеетесь?
— Прошу прощения, синьор комиссар.
— Постарайтесь понять, инспектор: я арестовал Фортунато только лишь затем, чтобы не дать Пампарато убить его и таким образом отомстить за свою Джозефину.
— Значит, вы считаете, что Фортунато действительно убил Джозефину?
— Так считаю не я, а Пампарато.
— А вы, синьор комиссар, что вы думаете по поводу уверенности Пампарато?
— Просто то, что, сам того не подозревая, он становится похожим на убийцу Маргоне.
— Вот как?
— Хорошенько подумайте, Кони! Убийство Джозефины Пампарато — просто-таки удачная находка для тех, кто решил избавиться от Маргоне. Уверен: они надеются, что мы станем искать связь между двумя убийствами и окончательно запутаемся в этом, поскольку, даже если малышка и занималась чем-то, то вряд ли это были наркотики. Поверьте мне, Кони: смерть Маргоне напрямую связана с торговлей наркотиками, центром которой сейчас стал Сан-Ремо. Ну, а трагическии конец Джозефины — результат ревности в обычной любовной истории. Кто мог ее убить? Фортунато? Пьетро? Энрико? Ансельмо? А почему бы не донна Империя, чтобы оградить от нее своего сына? Она кому-то мешала, и ее убрали. А вам предстоит узнать, кто это сделал!
— Мне?
— Пока я буду заниматься этими чертовыми наркотиками, которые появляются неизвестно откуда! Существует уверенность, что к нам они попадают морем или сбрасываются с воздуха, но никто не знает, какими путями они поступают к основным клиентам! Я успел хорошо присмотреться к персоналу «Ла Каза Гранде», пока допрашивал их по делу Джозефины. Должен признаться, никто из них не похож на наркомана.
— Так что же нам делать, синьор комиссар?
Разговор комиссара со своим заместителем был прерван какими-то выкриками в конце коридора, переросшими в настоящую бурю у двери его кабинета. Слышались резкие голоса женщин и более низкий голос полицейского Леонардо Пантелетти.
— Давайте посмотрим, что там, Кони.
Инспектор уже было подошел к двери, но та вдруг широко распахнулась от резкого толчка и полицейский Леонардо Пантелетти, пятясь, влетел задом в дверь, а на пороге предстали три англичанки. Глаза комиссара полезли из орбит, а Кони всей своей массой едва удержал карабинера, который только невероятным усилием сумел устоять на ногах. Массимо взревел:
— Что значит весь этот цирк?
— Я… — пролепетал Пантелетти, — я хотел… не дать им пройти, но…
— Ясно! Можете идти! Ну а вы, синьорины, не объясните ли мне, по какому праву…
К столу комиссара решительно подошла Сьюзэн.
— По праву, предоставленному нам Декларацией прав человека!
— Вы что, смеетесь надо мной?
— Мы думали, что на итальянской земле восторжествовали принципы законности, а присутствуем при вопиющем беззаконии! Мы стали свидетелями того, как полицейский в ходе расследования утратил всякое беспристрастие и встал на сторону одного из лагерей! Мы прибегнем к общественному мнению!
Обалдевший Прицци обратился к Кони:
— Они что, с ума посходили?
— Вы осмеливаетесь оскорблять британских поданных? — грозно спросила Тэсс.
Чтобы как-то унять свою ярость, она на глазах у восхищенного инспекора Кони одной рукой схватила мраморный бюст императора Траяна, гордость кабинета Прицци, и поставила его на шкаф с книгами. Такая демонстрация атлетических возможностей заставила обоих полицейских умолкнуть. Воспользовавшись этим, Сьюзэн продолжила:
— Мы втроем хорошо знаем Фортунато Маринео и готовы быть гарантами его порядочности и невиновности. Будьте же справедливы и последовательны, синьор комиссар: Фортунато не может быть преступником потому, что я его люблю!
— Когда ты влюблен, — нежным голосом добавила Мери Джейн, — небо кажется таким голубым, а все люди такими прекрасными, что никому никого не хочется убивать.
— Нет, хочется! — взревел Массимо. — Мне хочется!
— О, неужели же такое возможно, синьор комиссар?
Прицци, до этого привставший от негодования, рухнул в кресло и выдавил из себя:
— Я так и думал, Кони, они сошли с ума!
Сдерживая негодование, как и в прошлый раз, Тэсс переставила Траяна со шкафа на стол. Кони не удержался и прошептал шефу на ухо:
— Какой класс! Вы видели, а?
К счастью для него, Массимо ничего не слышал. Собрав всю свою силу воли в кулак, он холодно произнес:
— Я готов простить вам все по вашей молодости, синьорины, но при условии, что вы немедленно покинете этот кабинет, и притом молча, иначе карабинеры препроводят вас до ближайшей границы!
— В таком случае, мы попросим убежища в британском консульстве! — возразила Сьюзэн.
— Отлично! Тогда ступайте туда и, главное, оттуда не выходите!
— И вы это говорите нам, кто так любил Италию еще до приезда сюда?… — вздохнула Мери Джейн. — Ох, Сьюзэн, зачем ты так настаивала, чтобы мы изучали этот язык фашистов!
Побледневший от гнева Массимо вскочил, схватил Мери Джейн за плечо и заставил ее обернуться к себе.
— Что вы сказали? Что вы посмели сказать?
— Только фашисты могут так попирать демократические свободы!
Рядом с подругой встала Тэсс.
— Если вы только попытаетесь применить к ней третью степень, вам придется иметь дело с другими людьми!
Прицци судорожно схватился за узел галстука, чтобы развязать его, и оперся одной рукой на стол.
— Кони… вы… вы слышали? Эти девчонки… В моем собственном кабинете… Невероятно! Даже не знаю, не привиделось ли мне…
Затем, немного успокоившись, продолжал:
— Вон отсюда! Да поскорее! Езжайте поучать людей из Скотланд Ярда, если им это так нравится, а нам наплевать на ваши дурацкие советы! Я и дальше буду арестовывать тех, кого мне нужно, не спрашивая разрешения у королевы Англии!
— Ошибаетесь, синьор комиссар! — заметила Сьюзэн. — Наполеону тоже казалось, что он может не считаться с Великобританией, а знаете, чем это для него закончилось?
— Вон! Вон отсюда!
Инспектор вытеснил сопротивлявшихся англичанок за дверь. Когда он опять подошел к столу, шеф заметил:
— Кажется, вы не очень-то стремились проявить служебное рвение, а, инспектор?
— Не мог же я кого-то из них ударить, синьор комиссар. Ведь я бы мог убить одну из них!
— Насколько мне известно, никто не просил вас кого-то ударить! Во всяком случае, мне не хотелось бы, чтобы вы выглядели так, словно собираетесь примириться с нашими временными противниками только потому, что они — женщины!
— Они еще девчонки!
— Ма ке! И как скверно воспитаны! Настоящие дикарки! Приведите сюда Маринео. Мне необходимо сказать ему пару слов!
Пока Кони ходил в камеру, где Фортунато со вчерашнего дня грыз себе ногти, Массимо перезвонил жене.
— Это ты, любовь моя?
— А кто же это может быть? — проворковала она. — Почему ты звонишь?
— Потому, что соскучился по тебе, голубка моя…
— Работай, Массимо дорогой… Работай! Ни за что не отвлекайся, даже на меня… Думай о Милане, любовь моя…
С привкусом горечи во рту комиссар положил трубку.
Массимо Прицци долго рассматривал сидевшего напротив него Фортунато и наконец спросил:
— Ты, естественно, потребуешь присутствия адвоката?
— А зачем он мне?
— Ма ке! Чтобы помогать тебе в защите, разве не так?
— Мне незачем защищаться, поскольку я ни в чем не виновен.
— Это ты гак думаешь. Может быть, для тебя это будет удивительно, но я почти уверен, что это ты повесил Маргоне.
Сын донны Империи недоуменно посмотрел на него.
— Этого не может быть…
— Чего не может быть?
— Чтобы вы были настолько глупы!
— Эй, ты!.. Предупреждаю тебя Фортунато, будь повежливее, понял? Ладно…
— Скажите, синьор комиссар, вы подумали о маме?
— Почему я должен думать о своей матери?
— Да не о вашей, а о моей, единственного сына которой вы держите в тюрьме и пытаетесь обесчестить… Маргоне… Джозефина… Неужели же вы собираетесь пришить мне все преступления, которые были совершены с самого дня моего рождения? Хоть немного объясните, зачем бы мне понадобилось убивать этого беднягу Маргоне?
— Из-за наркотиков.
— Святая Мадонна, наркотики! Да чтобы я умер в эту же секунду, если хоть раз в жизни прикоснусь к этой гадости! Значит, я не только убийца, но еще и наркоман! Ма ке! Если бы я вас не знал, то подумал бы, что вы совершенно меня не уважаете, синьор комиссар!
— Напрасно смеешься, Фортунато, совершенно напрасно. Если хочешь знать мое мнение, ты крепко влип! Ну, что скажешь?
— Из-за наркотиков? Или из-за Маргоне?
— Нет… По правде говоря, я еще не уверен в том, что ты занимаешься торговлей наркотиками и что это ты убил Маргоне… Но есть еще Джозефина.
— Разве она тоже была наркоманкой?
— Нет, она была влюблена… и, представь себе, в тебя.
— И за то, что она меня любила, я убил ее?
— Да.
— Странно, не правда ли?
— Только не тогда, когда знаешь образ мыслей таких типов, как ты, Фортунато.
— И какой же у меня образ мыслей, синьор комиссар?
— Образ мыслей бабника, а ты — бабник еще с тех пор, как носил короткие штанишки. Жаль только, что Господу правится все усложнять… Девушки, которые отворачиваются от тебя, привлекают тебя больше всего, а те, которые сами себя предлагают, становятся тебе отвратительны… Джозефина тебе не нравилась потому, что ради тебя готова была пойти на все! И только посмей сказать, что это не так, — я тебя, Синяя Борода, сразу же отправлю на каторгу!
— Хорошо, я ее не любил, но ведь позволял же я ей вертеться вокруг себя, а?
— Просто так, удовольствия ради! Да ты же настоящий садист, Фортунато, бессовестный разбойник! Тебе нравилось видеть, как эта несчастная стелется тебе под ноги! Почему она тебе не подходила?
— Прежде всего потому, что у нее была далеко не лучшая репутация и, кроме того, я полюбил другую!
— И кого же?
— Сьюзэн Рэдсток.
— Да, здесь ты не врешь! Одну из этих наглых любительниц порриджа! И тебе не стыдно, Фортунато, за то, что ты отвергаешь красоту наших девушек в пользу иностранок, у которых полно рыжих пятен на коже? Ты перестал быть порядочным итальянцем, Фортунато!
— У Сьюзэн нет рыжих пятен на коже!
— У всех англичанок есть такие пятна, и не перечь мне! Однако в твоих объяснениях есть такие вещи, в которые трудно поверить, Фортунато. Ты говоришь, что Джозефина тебя не интересовала?
— Совершенно верно.
— Тогда почему же ты пошел к ней в комнату?
— Она сама потребовала, чтобы я зашел к ней.
— Потребовала? Девушка, на которую тебе было наплевать?
— Я побоялся ее угроз.
— Каких, например?
— Однажды она уже сказала Сьюзэн, что ждет от меня ребенка!
— И это было неправдой?
— Ма ке! Конечно, это было неправдой!
— А чего же ты еще опасался?
— Оговора, синьор комиссар… Понимаете?
— Не юродствуй!.. Значит, испугавшись возможного оговора со стороны Джозефины, ты убил ее?
— Повторяю: я ее не убивал!
— Допустим, что ты сделал это ненарочно.
— Ни обдуманно, ни случайно!.. Я не делал этого! Когда я уходил от нее, она была жива!
— Нет, Фортунато, она была жива, когда ты входил к ней!
В «Ла Каза Гранде» атмосфера была точь-в-точь такой же, как тогда, когда в замке Блуа король вместе со своими придворными готовил убийство герцога де Гиза. Каждый присматривал за другим, находясь в постоянной готовности схватиться в рукопашной. За каждым шпионили свои же сослуживцы, для каждого придумывалась хитрая западня, чтобы заставить противника обнаружить себя. Все с ненавистью поглядывали друг на друга. Донна Империя обращалась с кланом Пампарато так, словно для нее они были невидимыми призраками. Альбертина общалась по работе с донной Империей только через дона Паскуале, умолявшего административный совет перевести его отсюда, пока он еще не попал в психиатрическую лечебницу. Ядро лагеря клана Маринео составляли трое англичанок, сумевших привлечь на свою сторону Энрико, а Пьетро стал основной опорой клана Пампарато по причине своей привязанности к покойной. Дон Паскуале сохранял полный нейтралитет, что было совершенно естественно в его положении. Неестественным было то, что Ансельмо тоже последовал его примеру. Всех интересовали истинные причины подобного безразличия со стороны дяди Фортунато.
Англичанки не были склонны к пассивному выжиданию. Они решили перейти к наступательным действиям и публично доказать невиновность Фортунато. Мери Джейн была поручена миссия убедить Энрико отправиться к Прицци и доказать тому, что Фортунато невиновен; Тэсс должна была заставить Пьетро отказаться от мести, и, наконец, Сьюзэн взяла на себя самую трудную задачу — склонить Ансельмо к выступлению на их стороне. Они сразу же приступили к действиям.
Первой перешла в атаку Мери Джейн. Ей удалось загнать Энрико в один из закоулков, и там, стоя рядом с ним и приблизив свое лицо к его лицу, она спросила:
— Вы любите меня, Энрико?
— Вы для меня дороже жизни!
— И я вас тоже люблю… Представьте себе, как мне будет трудно, если вас посадят в тюрьму…
— А почему меня должны посадить в тюрьму?
— Но ведь Фортунато уже там! Если бы с нами случилась беда, Энрико мио, мне хотелось бы иметь возможность рассчитывать на помощь всех наших друзей… Не дайте возможности этому фашисту-комиссару замучить вашего брата, Энрико!
Энрико был человеком простой души, и к тому же он был влюблен. Все, что говорила ему Мери Джейн, было для него словно Евангелие. Он сразу же побежал в комиссариат и сообщил там, что пришел с важным заявлением по поводу убийства Джозефины. Прицци тотчас же принял его.
— Слушаю вас, синьор Вальместа?
— Фортунато невиновен в убийстве Джозефины Пампарато!
— Да?
— Она до смерти любила его…
— Да так, что в самом деле умерла, не так ли?
— Простите? Ах да, но…
— Что-то никак не могу вас понять, синьор Вальместа.
— Я хорошо знаю Форгунато. Он не способен на убийство, а на убийство девушки — тем более.
— И это все?
— А разве этого недостаточно?
— Нет, синьор, этого недостаточно! И мне очень хочется составить протокол о вашем издевательстве над правосудием!
— Кто издевался? Я?
— А кто же еще?
— О, тогда я все понял… Она была действительно права!
— Кто?
— Моя маленькая Мери Джейн, когда говорила, что у вас сохранились нравы фашистов.
— Черт возьми! В камеру этого типа — за оскорбление государственного служащего при исполнении служебных обязанностей!
Проводив Энрико в камеру, инспектор пришел предупредить своего шефа:
— На вашем месте, синьор комиссар, я был бы поосторожнее.
— С кем?
— С профсоюзом, в котором состоит этот парень… Вы хорошо знаете, что нас не очень-то любят… и если пойдут разговоры о том, что у нас остались привычки чернорубашечников… хотя это и неправда, но вряд ли это понравится там, наверху… Вам не кажется?
Сьюзэн с большим трудом удалось уговорить Ансельмо пойти переговорить с Массимо Прицци. Администратор с куда большим удовольствием продолжил бы разговор с самой Сьюзэн, но он все же понимал, что речь идет о его собственном племяннике, сыне его сестры, и в глубине души завидовал этому шалопаю Фортунато, которому попалась такая любящая и самоотверженная девушка. Чтобы и самому понравиться мисс Рэдсток, он пошел на прием к комиссару и сразу же заявил тому, что он ошибается, выдвигая обвинения против Фортунато. Полицейский терпеливо дослушал его до конца, а затем поинтересовался:
— Если я вас верно понял, синор Силано, вы пришли поучать меня?
— Боже мой, да нет же!
— Ну что вы, именно за этим! Вы подумали: этот бедный комиссар сам никогда не справится с делом, мне нужно пойти немного помочь ему.
— Уверяю вас, вы меня не так поняли.
— Ну что вы! Все принимают меня за дурака, почему бы и вам так не подумать?
— Напрасно вы так…
— Позвольте же и мне задать вам один вопрос: почему вы пришли именно сегодня? Почему вы не пришли сразу же после ареста племянника?
— Я как-то не верил в этот арест, и потом, страдания одной влюбленной особы…
— Вот и весь секрет! Могу поспорить — вы говорили о мисс Рэдсток?
— Это действительно так.
— Не могли бы вы оказать мне одну услугу, синьор Силано?… Передайте, пожалуйста, этой девице, что если она еще раз вмешается в мои дела, я выдворю ее вместе с подругами из страны и не посмотрю ни на Великобританию, ни на Декларацию прав человека, ни на английскую королеву!
К своему большому удивлению, Тэсс удалось уговорить Пьетро намного быстрее, чем она могла надеяться. Она ожидала вспышек гнева, ненависти и была даже готова прибегнуть к физическим аргументам убеждения. Однако, вопреки всем ее ожиданиям, Пьетро сразу же понял, чего она хочет, сказал, что готов пойти в комиссариат при условии, что она будет его туда сопровождать для того, чтобы придать ему смелости. Когда Кони сообщил Прицци о приходе Пьетро и сопровождавшей его англичанки, комиссар поначалу напрочь отказался принять этих сумасшедших, заявив, что ему надоело служить посмешищем для разных клоунов. Однако восхищавшийся мисс Джиллингхем инспектор устроил все так, что Массимо согласился еще раз выслушать доводы служащего «Ла Каза Гранде» в защиту своего товарища.
Торжествующая Тэсс вытолкнула вперед Пьетро и сказала:
— Благодарю вас, синьор комиссар, за то, что вы согласились его выслушать. Уверена, то, что он скажет, сможет убедить вас в невиновности Фортунато!
— Надеюсь, мисс… Итак, Лачи, значит ваш Фортунато невиновен?
— Невиновен? Ни за что на свете! Я сам видел, как он выходил из комнаты только что убитой им Джозефины!
— Почему вы решили, что именно он ее убил?
— У него было лицо человека, только что совершившего преступление!
Прицци с иронией обратился к англичанке:
— Вы хотите еще в чем-то убедить меня, мисс?
То, что за этим произошло у них на глазах, настолько превзошло все возможные ожидания полицейских, что они даже не смогли должным образом отреагировать. Мисс Джиллингхем, применяя все известные ей приемы дзюдо, заставила Пьетро летать по кабинету и привела его в весьма жалкое состояние. Пораженный инспектор с бесконечным восхищением наблюдал за этим небывалым зрелищем. Комиссар наконец-то нашел в себе силы выкрикнуть:
— Отправьте сейчас же эту в каталажку, а его отнесите к доктору!
С необыкновенной галантностью и вежливой улыбкой на лице инспектор Кони предложил Тэсс Джиллингхем руку, чтобы отвести ее в камеру, предоставив полицейскому Леонардо Пантелетти право тащить на себе Пьетро Лачи.
Что бы там ни было, Прицци был невольно восхищен самоотверженностью молодых британок и тайно завидовал этому Фортунато, сумевшему пробудить такие чувства. Он не мог удержаться, чтобы не рассказать об этом жене:
— Понимаешь, Элеонора, эти девчушки никак не могут попять, что я и сам не верю в виновность их друга…
— Почему же ты им об этом не скажешь?
— Потому, что их общие страдания — самое лучшее доказательство моих доводов!
— Ты чудовище, Массимо! Подумай только, как эти несчастные влюбленные сейчас страдают!
— Подумай о том, как они будут рады, когда снова окажутся вместе! Да, этот Фортунато — счастливый мужчина…
— Только посмей сказать, что тебя любят не так же крепко!
— Хотелось бы в этом убедиться.
— Грубиян!
И синьора Прицци устроилась у мужа на коленях.
— Ну, давай признавайся в том, что тебя любят больше всех!
— А ты уверена, что любишь меня больше, нежели Милан?
С той самой минуты как Рэдстоки сошли на землю в аэропорту Вилланова д'Альбенга, их не покидало ощущение смертельной опасности. Не решившись надеть на лица респираторы, чтобы защититься от микробов, они старались глубоко не дышать. Все, что попадалось на глаза, внушало им чувство ужаса, которое усиливалось с каждой минутой. Они даже не подозревали, что люди способны так легкомысленно относиться к элементарным правилам гигиены. Их не трогало ни солнце, ни экзотические деревья, ни голубое море. Им больше нравилось вспоминать об отъезде, когда их провожали все завсегдатаи «Безвременника и василька» до самого отправления лондонского поезда. Гарриет Тетбери много плакала и обнимала Люси так, словно им больше никогда не суждено было увидеться. Дэвид долго пожимал руку Генри так, как это делают солдаты, одному из которых предстоит идти на задание, с которого не возвращаются живыми.
Для них было забронировано место в «Ла Каза Гранде», поскольку их дочь уже проживала в этой гостинице. Когда они спросили, как им увидеть Сьюзэн, им назвали номер ее комнаты, уточнив, что ее подруги проживают в номерах по соседству. У Люси не было сил сдерживаться. Она была МАТЕРЬЮ, прибывшей на поле сражения, чтобы спасти свое чадо. Выходя из лифта, она прошептала мужу:
— О Генри!.. Одному Богу известно, в каком состоянии сейчас находятся несчастные девочки!
— Не беспокойтесь, дорогая, я с вами и обещаю, что все это быстро изменится!
Успокоенная этим мужественным обещанием, Люси постучалась в дверь номера Сьюзэн. Ответа не последовало. Тогда она открыла дверь. В комнате никого не было. Обеспокоенная миссис Рэдсток, позабыв о манерах, присущих настоящей леди, без стука вошла в соседний номер и застыла от ужаса при виде Мери Джейн, сидевшей на коленях у какого-то парня и целовавшейся с ним. Люси тотчас же закрыла дверь и посмотрела на супруга, который пожал плечами и сказал:
— Эта девушка всегда казалась мне дурно воспитанной!
Утратив всякое чувство реальности происходящего, мать Сьюзэн зашла в следующий номер и застала там Тэсс, ласкавшую парня, который лежал на ее кровати и млел от удовольствия. Рэдстоку пришлось помочь удержаться на ногах супруге, готовой упасть в обморок. Она посмотрела на него такими глазами, какими теленок смотрит на мясника, и простонала:
— Вы… вы… видели?
— Видел, дорогая… Наши девочки быстро заразились болезнями этого старого гнилого континента. Существуют же люди, способные радоваться тому, что мы войдем в Общий рынок! Вот вам и пример общения с европейцами!
— Какой позор, дарлинг!.. Я не смогу снести такого позора!
Рэдстоки оставили свои вещи в комнате и спустились вниз в поисках Сьюзэн. Они обнаружили ее у стойки администратора, целующуюся с Ансельмо, которого она хотела таким образом воодушевить продолжать начатую борьбу за освобождение Фортунато. Люси охнула так громко, что все горничные склонились над лестничным пролетом, полагая, что произошло еще одно преступление. А Сьюзэн, как ни в чем не бывало, поспешила к родителям.
— Дедди! Мамми!
Однако Рэдсток с таким суровым лицом преградил ей путь к матери, что Сьюзэн так и осталась стоять на месте. Отец строго обратился к Ансельмо:
— Я побывал в Дюнкерке, сэр!
Администратор попросил Сьюзэи перевести ему сказанное.
— Он говорит, что был в Дюнкерке.
— Вот как? Тогда пусть себе возвращается обратно!
— Ансельмо! Это же мои родители!
— Но я же не знал!
И, как ни в чем не бывало, он пожал руки Рэдстоку и его жене, не дав им времени отказаться от рукопожатия. Генри спросил Сьюзэн:
— Этот тип и есть ваш Фортунато?
— Нет, что вы, он просто администратор.
— Разве в этой стране существует обычай целоваться с администраторами? Вы нас очень разочаровали, Сьюзэн… И ваши подруги, кстати, тоже.
— Вы уже виделись с ними?
— Точнее сказать — мы их видели!
— Какой позор! — простонала Люси. — Одна из них сидела на коленях у парня, а другая положила парня себе в постель, чтобы… чтобы ласкать его лицо! Собирайте вещи, Сьюзэн, вы больше ни минуты не останетесь в этом вертепе разврата!
— Без жениха я никуда не уеду!
— Хотелось бы взглянуть на него хоть одним глазком! — проворчал Рэдсток. — Так где он?
— В тюрьме.
Когда Массимо Прицци сообщили о том, что с ним хотят говорить мистер и миссис Рэдсток, он решил, что стал объектом какого-то необыкновенного иезуитского преследования. Он взглянул на Кони:
— А эти двое кто такие?
Инспектор пошел узнавать и, вернувшись, объяснил комиссару, что речь идет о родителях Сьюзэн Рэдсток, невесты Фортунато Маринео.
— Меня нет на месте!
— Они предугадали ваш ответ, синьор комиссар, и сказали, что, если вас не будет на месте, они дождутся, когда вы появитесь. Они еще добавили, что у британского льва всегда хватало терпения, и, поскольку он бессмертен, время не играет для него большого значения.
— Вы сами что-то из этого поняли?
— Нет.
— Тогда пусть войдут, если это единственный способ поскорее избавиться от них.
Рэдсток торжественно представился Прицци и заявил:
— Я побывал в Дюнкерке, сэр!
Массимо недоуменно посмотрел на Сьюзэн, которая перевела:
— Он был в Дюнкерке.
— А я здесь причем?
Сьюзэн перевела на английский этот невольно слетевший беспардонный вопрос, и отец попросил ее перевести этому тупому чиновнику из слаборазвитой страны, что тому должно быть стыдно за подобное невежество и что он испытывает огромное желание отбоксировать его как следует, дабы внушить должное уважение к ветеранам войны.
— Да что же он говорит? — не выдержал полицейский, не понимая смысла столь длинной речи.
— Он говорит, что является государственным служащим Ее Величества и что как таковой может быть гарантом высокоморальности своей дочери и обеих ее подруг.
— А что еще?
— Что вы должны отпустить Фортунато, потому что он ни в чем не виноват.
— Вы слышали, Кони? Эти двое приехали черт знает откуда, чтобы поучать меня! Неслыханная наглость! Вышвырните их вон, да побыстрее!
От этих слов Сьюзэн расплакалась. Ее мать что-то возмущенно выкрикнула. Рэдсток проревел:
— Он сказал вам какую-то гадость, Сьюзэн? Если он сказал вам какую-то гадосгь, я его сейчас же отбоксирую!
Ничего не понимая ни в причинах слишком очевидного гнева посетителей, ни в слезах хитрой дочери англичан, комиссар воскликнул:
— Ма ке! Что еще случилось?
— Мои родители хотели бы увидеть Фортунато, чтобы объявить ему об отъезде.
— Не может быть! Вы действительно уезжаете? Все втроем? А вы бы не могли захватить с собой и ваших подруг? Это возможно? О, благодарю вас, благодарю! Отведите их к задержанному, Кони, а потом проводите на улицу со всей учтивостью, на которую вы только способны!
Рэдсток, который, естественно, не понял ни единого слова из сказанного, решил, что тот насмехается над ним, и, уже выходя из кабинета, бросил:
— Мы отрубили голову королю Карлу[150] за еще меньшую провинность, чем ваша, дикарь!
Это изречение Сьюзэн перевела следующим образом:
— Отец благодарит вас за вашу любезность.
Массимо показалось, что для благодарности англичане выбирают довольно-таки странный тон.
Итальянский климат, кажется, уже начал воздействовать на Люси Рэдсток. Почти с нежностью она взирала на объятия Сьюзэн и Фортунато. В ее голове невольно промелькнула мысль о том, что жених Сьюзэн хорош собой. Ну а Генри все еще продолжал сторониться чуждой цивилизации с непривычным для пего мягким климатом.
— Фортунато… Это мои родители… Моя мать… Отец…
Не успел еще сын донны Империи рта раскрыть, как Рэдсток уже заявил ему:
— Кажется, вы обошлись самым сомнительным образом с девушкой, отец которой побывал в Дюнкерке, мой мальчик. Жду ваших объяснений! Что вы можете сказать в свое оправдание?
— Я… Я прошу у вас руки Сьюзэн!
Глава 4
Едва комиссар Прицци успел переступить порог холла гостиницы «Ла Каза Гранде», как на него сразу надвинулась гора в лице маэстро Людовико Пампарато. Чтобы избежать публичного скандала, Ансельмо пригласил обоих полицейских на кухню, где их ждала Альбертина. Одета она была во все черное, а ее лицо было похоже на лицо ведьмы. Ненависть исходила от всего ее существа. Возмущенный таким нелюбезным приемом, Массимо не замедлил высказать вслух свое замечание шеф-повару:
— Ма ке! Вы только посмотрите на них! Может быть, вы забыли, с кем имеете дело?
— А вы за кого нас принимаете?
— Вас? За повара, которому лучше заняться своими кастрюлями, а не лезть в скандал!
— Думаете, я смогу спокойно стоять у плиты, когда кровь моей дочери взывает к мести?
— Можете делать все, что вам вздумается, но только оставьте меня в покое!
— А тем временем этот убийца Фортунато спокойно скроется, да?
— Никуда он не скроется, и, кроме того, никто еще не доказал, что убийца — именно он.
— Господи, слышишь ли ты эту гнусную ложь, это святотатство?
— Ну все, Пампарато, довольно!
— Прошу не забывать: синьор Пампарато!
— Вы мне уже надоели, синьор Пампарато! Вы и ваша дочь!
— Моя дочь?! О пресвятая Богородица! Этот ангелочек, сошедший к нам прямо с небес?!
— Да, этот ангелочек, у которого, если верить тому, что о нем рассказывают, крылышки были довольно-таки сильно испачканы в дерьме!
— Ох!
Людовико бросился на полицейского с огромным ножом в руке, но Кони был начеку. Он на ходу перехватил повара и усадил его на плиту, а Прицци тем временем с иронией продолжал:
— Не знаю, останется ли Фортунато в тюрьме, но вы точно туда попадете за покушение на жизнь полицейского!
— Тогда я задушу его в камере своими собственными руками!
— И проведете весь остаток жизни на каторге. Надеюсь, что и там вы сможете поработать на кухне.
— Прошу, ничего ему не отвечай, Людовико! — взмолилась Альбертина. — Ты слишком великий человек по сравнению с
этим типом!
Прицци аж подпрыгнул.
— Как вы меня обозвали?
— Так, как вы того заслуживаете, защищая убийцу и оскорбляя память невинной жертвы!
— Кони, составьте на этих двоих протокол и дайте мне его потом на подпись, чтобы мы могли их привлечь за оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей!
Упершись кулаками в бока, Альбертина посмотрела в сторону мужа.
— Ма ке! Вот это да! Наше дитя убивают и после этого нас же готовятся предать суду!
Побагровев от гнева пуще вареного омара, Людовико хриплым голосом произнес:
— Знаете, что я вам скажу, синьор комиссар?
— Нет, синьор Пампарато, но очень хотел бы узнать… Вы даже представить себе не можете, как мне хочется это узнать!
Несчастье, как гром среди ясного неба свалившееся на «Ла Каза Гранде», больше всех, безусловно, сразило дона Паскуале. Цвет его лица все больше наливался желчью, грудь впала, костюм висел на нем как на вешалке, а волосы как-то потускнели, и глаза больше не светились огоньком жизни. Некоторые даже поговаривали о том, что дин директора сочтены. Всем, кто еще его слушал, он заявлял о том, что он обесчещенный, конченый человек и сам не знает, как еще живет на свете. Больше всех он доверял в своих разговорах администратору.
— Понимаете, Ансельмо… Я всю свою жизнь, без единого упрека, посвятил работе в гостинице… Через четыре года я мог рассчитывать выйти на пенсию и спокойно дожить свои дни в Тоскане… А вместо этого — такое несчастье, Ансельмо! Убийство! И где? В моей гостинице! Я еще не успел оправиться, а тут второе убийство… Хотите, я вам что-то скажу, Ансельмо? На этом все не кончится! В «Ла Каза Гранде» появятся новые трупы!
— Но почему?
— Не знаю! Фатум… Судьба… Это месть богов, Ансельмо!
— За что?
— Как знать? Может, там, наверху, позавидовали тому, что до сих пор я жил слишком счастливой жизнью?
— Тогда странно то, что в наказание вам убивают других!
— Воля и милость небес навсегда останутся для нас тайной, Ансельмо!
И, волоча ноги, он шел прочь, натыкаясь на препятствия, обходить которые у него не было сил. Дон Паскуале уже больше не решался появляться на кухне, где Людовико, Альбертина или оба одновременно сразу же начинали упрекать его за то, что он ничего не делает для того, чтобы отомстить за Джозефину, которая так хорошо к нему относилась. Тогда дон Паскуале принимался плакать у Людовико на плече, а тот плакал, опустив свою голову на голову директора, в то время как Альбертина рыдала в объятиях помощника повара, занимающегося приготовлением соусов, который ронял несколько слезинок в один из них — беарнский или голландский.
Иногда, поднимаясь к себе в кабинет, дон Паскуале натыкался на Сьюзэн Рэдсток, которая принималась стыдить его за то, что он позволяет гноить в тюрьме самого преданного из своих служащих — Фортунато Маринео. Директор стонал, ломал себе руки, будучи бессилен заставить выслушать и серьезно отнестись к человеку, руководящему гостиницей, в которой произошло два убийства. Дон Паскуале как раз собирался написать в адрес президента административного совета организации, которой принадлежала «Ла Каза Гранде», очередное прошение о переводе в другое место, как в дверь постучали. Раздраженным голосом он попросил стучавшего войти. Это был Пьетро Лачи.
— Что тебе нужно, Пьетро?
— Хочу предупредить вас о своем уходе.
— Ты уходишь?
— Ухожу.
— Но… Но почему?
— Она мне видится повсюду, дон Паскуале… В коридорах я слышу ее шаги… Она говорит со мной, когда ветер шевелит занавески… Мне кажется, она спрашивает, почему я ее покинул…
— Ты настолько любил ее?
— Больше всего на свете, дон Паскуале… И вот мне приходится уходить отсюда, иначе я сойду с ума… Извините, что покидаю вас в такую минуту, но я пропаду, если только не уеду из Сан-Ремо…
— Корабль тонет… С него бежит экипаж, и это естественно… К концу недели можешь уезжать…
Вслед за Пьетро в кабинет зашел Генри Рэдсток, и, поскольку директор неплохо говорил по-английски, ему не составило большого труда понять то, что говорил ему этот посетитель.
— Мистер менеджер, моя дочь влюблена в этого Фортунато… Прежде чем дать ему свое согласие или отказать ему в руке дочери, я хотел бы составить о нем свое собственное мнение, но как это сделать, если его держат взаперти?
— Вам следовало бы обратиться в полицию.
— Этот комиссар ничего не способен понять!
— И тем не менее, синьор, именно на него возложена задача найти убийцу моего заместителя Маргоне и Джозефины.
— Первый из тех, кого вы назвали, меня не интересует. А вот что до убийства второй, то хотелось бы, чтобы оно было раскрыто, поскольку от этою зависит счастье моей дочери. И раз уж итальянская полиция не способна этого сделать, я сам этим займусь!
— Вы?
— Я! Мне прекрасно известны методы работы Скотланд-Ярда!
— Ма ке! А вам не кажется, что это будет… не совсем законно?
— Ну и что! В Дюнкерке мы не задумывались над тем, что законно, а что нет!
Рэдсток уже успел вернуться в свою комнату к Люси, а дон Паскуале все еще недоумевал, почему англичанин заговорил с ним о Дюнкерке?
Жена, дочь и ее подруги внимательно слушали Генри, разъяснявшего им свой план насчет того, как заставить убийцу Джозефины Пампарато обнаружить себя. Все было похоже на Дюнкерк, когда он отдавал приказы своему отделению о том, как вырваться из-под бомб «штукасов»[151] и погрузиться на судно. Единственная разница состояла в том, что если в Сан-Ремо никто не смел и слова пикнуть, то на французском берегу Ла-Манша ему чаще всего советовали пойти как можно дальше и перестать нести чепуху.
— Итак, подведем итоги… Нам известно, что убийство этой Джозефины было совершено на любовной почве… Латиняне всегда скрывали и приспосабливали к новым условиям свои отвратительные сексуальные страсти и романтические сказки! Кто был влюблен в эту Джозефину? Судя по тому, что мне уже рассказывали, она, кажется, морочила голову всем парням, которые могли ее видеть? Фортунато, Энрико, Пьетро и даже администратору Ансельмо.
— Фортунато не был в нее влюблен! — возразила Сьюзэн. — Она сама за ним бегала!
Мери Джейн принялась вторить ей:
— Энрико никогда не обращал на нее внимания!
— Почему вы так решили?
— Он сам сказал мне об этом!
— Если мы хотим добиться хоть какого-нибудь результата, нам необходимо рассматривать каждого из них как возможного преступника, а потом методом исключения мы доберемся до настоящего убийцы. Думаю, в Скотланд-Ярде поступили бы точно так же. Вы, Сьюзэн, займетесь выяснением привычек администратора, вы, Тэсс, будете следить за Пьетро, а вы, Мери Джейн, присмотрите за Энррико. Приступайте к выполнению!
После того как девушки ушли, Генри сказал жене:
— Кажется, я выглядел совсем неплохо?
— Вы всегда производите наилучшее впечатление, дарлинг.
С Рэдстоками стали происходить странные вещи… Не прошло еще и нескольких часов, как они стали забывать о своих предубеждениях относительно Италии и итальянцев, и это несмотря на то, что Генри собирался до этого продемонстрировать свое полное превосходство над европейцами. Со своей стороны, миссис Рэдсток начинала думать, что в солнце тоже есть своя прелесть, и если отсутствие тумана немного выбивало ее из привычной колеи, поданный на завтрак порридж был приготовлен не так, как это умеют делать в Англии, а люди здесь пили вина намного больше, чем чая, она все же не считала это смертельным грехом. Миссис Рэдсток была на грани измены Англии.
Слежка за всеми тремя подозреваемыми не дала никаких результатов. Заметив на себе внимание Сьюзэн, Ансельмо решил, что правится ей, и, позабыв о собственном племяннике, обратился к англичанке с таким предложением, что стеснительной Сьюзэн пришлось спасаться от него бегством. Что касается Мери Джейн, то она сочла недостойным следить за любимым человеком и предпочла вместо этого дойти вместе с ним до первой же попавшейся им скамейки, где они обменялись горячими поцелуями и клятвами в любви, далеко переходившими за рамки вечности. А одно из этих предприятий едва не завершилось печальным финалом. Пьетро почувствовал, что Тэсс следит за ним. Он воспринял это как проявление ревности и кипел от негодования. Неужели же эта англичанка не оставит его в покое? Делая вид, что он попросту прогуливается, Пьетро завлек девушку в порт, еще не зная о том, что инспектор Кони, движимый пока еще неясным чувством ревности, следил за Тэсс, которая следила за Пьетро. Лифтер вдруг быстро обернулся и стал надвигаться на англичанку.
— Может быть, хватит следить за мной?
— Я ваша невеста…
— Это не так!
— Вы не джентльмен!
— А мне наплевать на это!
— Почему вы не хотите признать, что любите меня?
— Потому что я не люблю вас!
— Лжец!
— Сумасшедшая!
— Будьте поосторожней, Пьетро, когда мы поженимся, вам не придется говорить со мной в таком тоне, иначе…
— Вы надоели мне, понимаете? Не морочьте мне!..
Тэсс отлично поняла смысл этого грязного выражения. В одну секунду в ней воспламенилась вся ее национальная гордость, и она влепила Пьетро такую оплеуху, что он на секунду застыл на месте без движения. Затем, позабыв обо всех правилах обращения с девушкой, он собрался было задать англичанке такую взбучку, что Кони не выдержал и бросился на помощь, чтобы не случилось непоправимого. Но он не успел вмешаться. После нескольких приемов и полученных ударов лифтер, словно щепка, взлетел в воздух и оказался в воде. Находившиеся в это время на воде восторженные моряки вначале долго аплодировали Тэсс и лишь затем выловили ее побежденного соперника.
Кони потихоньку вернулся в комиссариат, чтобы составить шефу восторженный рапорт об умелых действиях по самообороне и решительности мисс Джиллингхем, но Прицци, сославшись на смертельную усталость, уже успел вернуться домой, приказав не беспокоить его, кроме случая крайней необходимости.
Элеонора была удивлена столь ранним возвращением мужа домой. Убедившись в том, что он не болен, она стала ломать себе голову над причиной столь необычного явления. На секунду ее озарила надежда, что муж пригласит ее в какой-нибудь ресторан, но эти иллюзии полностью развеялись после того, как он переоделся в домашнюю одежду. Она чувствовала, что супруга тревожат какие-то серьезные мысли, и злилась из-за того, что он не хотел ими поделиться. Наконец, она не выдержала.
— Массимо! Скажи же наконец что с тобой?
— Да ничего…
— Я всегда чувствовала, когда ты говорил мне неправду. Массимо, и сейчас ты что-то от меня скрываешь!
— Уверяю тебя, ты ошибаешься…
Она сделал вид, что ей это безразлично.
— Ладно! Если ты мне не доверяешь…
— Ты же знаешь, что это не так, Нора мио… Ма ке! Зачем тебе отягощаться моими заботами, а?
— Вдвоем нам легче будет их вынести!
Побежденный этим аргументом, он сознался:
— Мне звонили из Генуи…
— Да?
Она хорошо знала, что это означало.
— И что же?
— Они не очень довольны, — вздохнул Массимо.
— Тобой?
— Да, мной, поскольку расследование поручено мне.
— И что же они ставят тебе в упрек?
— То, что я занимаюсь сразу двумя делами и не могу ни с одним из них справиться.
— Если бы им пришлось побывать на твоем месте…
— К сожалению, этого никогда не случится.
Элеонора молча приготовила аперитивы и, подав один из стаканов Прицци, заявила:
— Массимо, мне тоже трудно поверить в то, что ты не сумеешь разобраться в этом деле, не сможешь достичь цели! Ты достоин большего!
— Ма ке! Здесь сам черт ногу сломит!
— Но ведь ты же не в первый раз занимаешься делом о наркотиках!
— Мы следим за всеми подозрительными субъектами, у меня есть осведомители в «Ла Каза Гранде», и у меня есть свои люди практически во всех гостиницах. Город буквально наводнен осведомителями, которые сообщают мне о том, что наркотики распространяются по всей Италии именно из нашего города. Все, кто перевозил наркотики и кого нам удалось задержать и заставить говорить, единогласно утверждают: наркотики поступают отсюда!
— А что, если бы ты, по крайней мере, распутал дело с убийством этой девчонки?
— Думаю, что это мне удастся намного лучше… Я уверен в том, что ее убил кто-то из «Ла Каза Гранде», и обязательно доберусь до пего!
— Будем надеяться…
— Ну знаешь, если ты тоже начнешь во мне сомневаться!..
На следующее утро Массимо Прицци пришел в комиссариат, исполненный решимости ускорить ход дела, и вызвал Кони.
— Вчера днем со мной довольно жестко говорили из Генуи, инспектор. Они там хотят видеть результаты расследования, иначе нам с вами придется распрощаться с мыслью о повышении по службе. Итак, хватит топтаться на месте, вперед! Начнем с раскрытия дела о смерти Джозефины — оно попроще, а потом перейдем к наркотикам. Поехали!
— Куда?
— В «Ла Каза Гранде». Только там и больше нигде мы сможем в самое короткое время решить эту головоломку.
Когда комиссар по прибытии в гостиницу объявил о том, что ему нужно побеседовать с Пампарато, старший администратор оказался далеко не в восхищении от этой мысли: это был как раз тот день, когда шеф-повар готовил свой знаменитый паштет и при этом совершенно не допускал, чтобы его отвлекали от этого важного занятия.
— В самом деле? Ма ке! Ну, это мы еще посмотрим!
В сопровождении Кони Массимо вошел на кухню. Едва только он переступил через порог, как дикий рев на какую-то долю секунды пригвоздил его к месту:
— Вон!
Не обращая никакого внимания на этот приказ, комиссар присел на табурет, а инспектор встал рядом с ним. К непрошенным гостям уже спешил Людовико:
— Когда я готовлю мой паштет, на кухне не должно быть никого из посторонних! Немедленно выйдите отсюда!
Прицци посмотрел снизу вверх на Кони.
— Вы слышали, что сказал этот грубиян, Кони?
— Слышал, шеф. Должно быть, он не знает, что с утра до вечера полиция повсюду у себя дома!
— Только не на моей кухне! Я не хочу, чтобы у меня украли секрет моего паштета!
— А теперь, когда вы закончили паясничать, послушайте то, что я вам скажу, — спокойным голосом произнес Массимо.
— Нет, я занят паштетом!
И он направился к плите, а оба полицейских, последовавших вслед за ним, наблюдали за тем, как он что-то перемешивал деревянной ложкой, пробовал это, добавлял специи. На длинном столе уже выстроились керамические горшочки, содержимое которых было покрыто тонким слоем белого жира. Прицци спросил:
— Это и есть тот самый знаменитый паштет?
За Пампарато ответил один из его помощников:
— Да, эта партия была приготовлена еще вчера, и мы расставляли эти горшочки здесь на ночь остывать. Сегодня днем их отправят заказчикам.
К полицейским подошла Альбертина.
— Людовико очень гордится своим рецептом, синьор комиссар. Он говорит, что это — творение всей его жизни, что этот паштет обеспечит ему имя в истории кулинарного искусства, и т. д., и т. п. Не хотите ли попробовать? У нас есть совершенно свежая партия…
— Спасибо, нет. Я хотел бы переговорить с вашим мужем о дочери.
Альбертина ответила разбитым голосом:
— Если не возражаете, то думаю, что сумею это сделать лучше, чем он. Давайте пройдем в мою комнату. Моя дочь, синьор комиссар, что там о ней ни рассказывали, как святая мученица несла свой крест красоты, из-за которого она пережила столько неприятностей от мужчин!
— И от кого же именно?
— Ото всех!
— А все-таки?
— Ну, хорошо! От лифтера Пьетро Лачи, администратора Ансельмо Силано и еще Бог знает от кого. Пьетро был без ума от нее… Кажется, он даже собирается уехать отсюда, потому что ему стало невыносимо жить там, где ходила Джозефина…
— Надо же!
— Но моя девочка глаз не спускала только с этого бандита Фортунато!
— Зачем же тогда ему было убивать ее?
— Потому что этот парень во всем похож на свою мать! Он вообразил себе, что спустился сюда прямо с неба и что он не такой, как все остальные. Как вам это нравится! Самая красивая девушка в Сан-Ремо его не устраивала! Наверное, моя Джозефина сказала ему что-то такое, что пришлось ему не по вкусу, и это чудовище задушило ее! Ма ке! Предупреждаю вас, синьор комиссар, если вы его отпустите, я сама перережу ему горло!
— И попадете в тюрьму!
— Неужели вы думаете, что тюрьма — это самое страшное в моем возрасте?
После того как Альбертина вернулась обратно к мужу, Прицци вызвал донну Империю, чтобы узнать ее мнение о покойной. Мать Фортунато, сидевшая прямо и державшая руки на коленях, навела Массимо на мысль о том, что Агриппина, должно быть, выглядела точно так же. Но при этом Агриппина была матерью Нерона…
— Мне почти что нечего сообщить вам, синьор комиссар. Я не имею никаких отношений с семьей Пампарато. Эти люди — сплошная посредственность, а Людовико Пампарато считает себя равным моему покойному мужу Альберто Маринео только потому, что занял его место на кухне! Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Этот беспросветный дурак возомнил, будто бы он — гений кулинарного искусства, потому лишь, что раз в неделю он готовит паштет, который умеют делать все женщины в наших деревнях! А его дочь была всего-навсего привлекательной девицей, которая только и могла вертеть задом! Задница у нее работала намного лучше, чем мозги! Она едва не свела с ума этого беднягу Пьетро в надежде вызвать ревность моего сына, по Фортунато никогда не запятнал бы себя отношениями с такой девицей!
После ухода донны Империи Прицци отметил:
— Вот это женщина, вот это храктер! Думаю, Кони, она способна задушить любого, кто станет на ее пути или на пути ее горячо любимого сыночка!
— И я так думаю, шеф.
Когда очередь дошла до Ансельмо, тот сообщил комиссару о том, что слышал, как Пьетро клялся при всех убить Джозефину, если она заинтересуется кем-то другим вместо него самого.
Когда администратор вернулся к своим делам, Прицци заявил:
— А теперь пришло время серьезно поговорить с этим Пьетро Лачи, у которого такая ранимая душа, что он решил уехать из Сан-Ремо, чтобы уйти от призрака любви и… как знать, может быть, и от правосудия, а?
Когда Пьетро предстал перед полицейскими, у него, как обычно, был надутый вид.
— Кажется, вы собираетесь покинуть нас?
— Я уже подал дону Паскуале заявление об уходе.
— И куда же вы направляетесь?
— Точно еще не знаю.
— Странно, правда?
— Нет, в этом нет ничего странного. Я больше не могу жить в этой гостинице! Повсюду мне мерещится Джозефина! Я любил ее, слышите, любил!
— Не нужно кричать, мы не глухие. Значит, вы ее любили. И все несчастье состояло в том, что она не любила вас.
— Она тоже любила меня!
— Зачем же лгать? Она любила Фортунато, а вы были вне себя от ревности!
— Ей только казалось, что она его любила!
— Да?
— Но она вовремя поняла, что он — бабник и что она никогда не будет счастлива с кем-то другим, кроме меня, потому что только я любил ее по-настоящему!
— И поэтому назначила твоему сопернику свидание у себя в комнате?
— Она собиралась объявить ему, что порывает с ним всякие отношения!
— А ты откуда знаешь?
— Она сама мне сказала.
— Ты сейчас лжешь мне, Пьетро, и пожалеешь об этом… Кстати, мне приходилось слышать, будто бы ты угрожал Джозефине, что убьешь ее, если она полюбит другого?
Пьетро пожал плечами.
— Пустые слова влюбленного человека, произнесенные в гневе… Во всяком случае, я видел, как из комнаты Джозефины выходил Фортунато.
— А ты что делал на этаже в это время?
— Ладно! Я…
— Хватит! На тебя жалко смотреть! Я сам тебе скажу, что ты там делал. Ты слышал, как Джозефина назначила Фортунато свидание. Опередив его, ты стал умолять ее выслушать тебя, но она тебя только высмеяла, и в припадке гнева ты убил ее!
— Это неправда!
— Докажи, что это не так!
— Я видел Фортунато; он — убийца!
— Кроме тебя никто не может этого подтвердить. Пока что я не упрячу тебя в тюрьму, Пьетро, но запрещаю тебе выезжать из города, понял? Каждый день ты будешь приходить и отмечаться в комиссариате, иначе я натравлю на тебя полицию!
Злые языки в Вилтоне работали без устали, после того как из Италии пришло письмо, которое обнародовал Тетбери. Со дня прочтения этого достопамятного письма Гарриет плакала не останавливаясь и подумывала, не стоит ли ей зайти к мисс Кокингли и заказать себе траурное платье.
Следует сказать, что в этот день ничто не предвещало столь резкого переворота в общественном мнении Вилтона. Дождя с утра не было, воздух был загрязнен не больше обычного, в газетах не появлялось известий ни о стихийных бедствиях, ни о неизбежности международных конфликтов, мясник Шиптон получил настоящую хайлендскую говядину, а бакалейщик — новую партию чая, короче говоря, было отчего с оптимизмом смотреть в будущее, и верноподданные Ее Величества могли по-прежнему быть уверены, что они живут в самой лучшей на свете стране, самой красивой, самой полезной для здоровья, в стране, где все люди честны, как нигде, где в футбол играют несравненные команды, иначе говоря, в стране, где жить — одно удовольствие. Возвращавшийся из Солсбери мистер Тетбери, конечно же, ничего не мог иметь против этого утверждения. В самом деле, он прекрасно провел время со старыми товарищами из 3-го Йоркширского полка гвардейских стрелков. После непродолжительной прогулки по центру города они направились пить чай в «Тге Баи Трее» на Нью-Ченнел. Распрощавшись с друзьями, Дэвид зашел в магазин подарков «Уотсон энд Ко» и купил там для Гарриет хрустальную флейту, в которую можно было вставлять цветок розы.
Вернувшись домой и поцеловав жену, Тетбери обнаружил на столе письмо из Италии.
— О! Что нам пишут Рэдстоки?
— Я ждала вас, дарлинг, чтобы мы вместе узнали об этом.
— Вы — сущий ангел, дарлинг.
— Благодарю вас, дарлинг.
Дэвид устроился напротив жены на стуле и нацепил очки, перед тем как аккуратно вскрыть конверт.
«Дорогие друзья!
Отправляясь в эту поездку, мы не думали, что нам предстоит пережить столь драматические события, которые развернулись здесь. Эти европейцу — совершенно невозможные люди, и можете передать, дорогой Дэвид, от моего имени всем тем, кто в вашем присутствии посмеет сказать, что вступление Великобритании в Общий рынок имеет свою положительную сторону, что они утратили всякое понятие о нашем национальном величии, и, прежде чем говорить подобные глупости, им следовало бы самим побывать на континенте, от которого мы отделены по милости Господней. Пока что только одни евреи заявляют на весь мир о том, что они — богоизбранный народ, тогда как у нас намного больше причин считать себя единственной в мире избранной нацией. Доказательством этому может служить то, что Создатель устроил так, что мы можем жить отдельно от всех остальных…»
Сложив руки, Гарриет с чувством сказала:
— Насколько это верно!
— И еще более бесспорно, дарлинг. Я всегда утверждал, что Генри обладает талантом предвидения и логического мышления, которые видны с первой же минуты общения с ним… Однако продолжим…
— О, конечно…
«… Мы прибыли очень своевременно в «Ла Каза Гранде», поскольку там было к этому времени совершено уже не од/ю, а два убийства, и несчастный жених моей Сьюзэн был брошен в тюрьму из-за подлых происков, способных уничтожить основные принципы демократических свобод. Тем, кто станет утверждать, будто в Италии в 1945 году фашизм был искоренен окончательно, можете сказать, что это далеко не так. Противники, с которыми мне пришлось здесь столкнуться, вполне могли бы носить черные рубашки. И я совершенно убежден, что они продолжают их носить у себя в душе!»
От этих слов Гарриет задрожала от возмущения.
— Неужели же такое и в самом деле возможно, дарлинг?
— Раз он это говорит, то это и в самом деле так, дарлинг.
— Верно, дарлинг… Извините, что так глупо вас перебила. «
Из-за этих полицейских тиранов мы с Люси едва не попали в тюрьму, но во имя Великобритании дали им достойный отпор, и должен выразить свое непредвзятое, несмотря на то, что Люси — моя жена, мнение о том, что в трудную минуту она держалась с большим достоинством. Вы же знаете, Дэвид, и вы, Гарриет, что я не тот человек, который станет терпеть несправедливость! Итак, я принял решение взять дело в свои руки, как и тогда, в Дюнкерке, благодаря моей тактической хитрости мне удалось спасти целую группу растерявшихся солдат из Хайленда, за что мне должны были бы дать «Милитари Кросс», но я не из тех, кто станет унижаться и выпрашивать то, что ему положено. Отныне все три девушки находятся под моей защитой, и вместе мы будем бороться до конца за освобождение жениха Сьюзэн, оказавшегося человеком, достойным жить на нашей земле, поскольку для этого он говорит достаточно хорошо по-английски. Если же с нами случится какая-то беда, помните: мы всегда были вашими искренними друзьями. Генри и Люси Рэдстоки.
П. С. Люси хотелось написать вам о климате, море и солнце, но нас ждут другие дела. Кроме того, Дэвид, если вам будет не очень трудно, проявите гуманность и побывайте в Лондоне у родителей Тэсс Джиллингхем, которые живут на Джексонс-лайн, 239 (Хайгейт), и у матери Мери Джейн, проживающей в Кенсингтоне, по улице Ройял Крисент, 222. Передайте им, что им нечего бояться: их дочери находятся под моей опекой».
Гарриет плакала так, что не могла вымолвить ни слова, а Дэвид с увлажненными глазами и пересохшим горлом произнес:
— Думаю, дарлинг, мы можем гордиться тем, что считаемся лучшими друзьями Рэдстоков.
Миссис Тетбери попыталась было что-то ответить, но в ее голосе было столько слез, что слова были похожи на звон колоколов города Ис, заливаемых водой.
Дэвид не счел себя вправе эгоистично читать сам это послание, подтверждавшее жизнестойкость и моральное благородство Велокобритании, несмотря на разгуливавших по ней хиппи, поп-музыку и мини-юбки. Он решил пойти в любимый паб «Безвременник и василек» и зачитать его там.
В пабе собрались только его завсегдатаи. Все они слушали Тетбери. Облокотившись о стойку, хозяин паба Реджинальд и его жена Феб не пропускали ни единого слова. Когда Дэвид окончил чтение, наступила глубокая торжественная тишина, в которой было слышно, как бьются в унисон благородные сердца истинных англичан. Это почти что набожное молчание было нарушено несвоевременным появлением Джона Эмблисайда, субъекта, для которого не существовало ничего святого и который — увы! — хорошо зарабатывал себе на жизнь, подвизаясь в качестве букмекера[152]. Он приветствовал собравшихся, но поскольку никто ему не ответил, то спросил хозяина:
— Случилось что-то?
— Да, с нашим другом Рэдстоком.
— Он что, умер?
Развязный тон заданного вопроса возмутил Тетбери.
— Нет, он не умер! Он сражается!
— Да? И с кем же?
— С итальянцами!
— Надо же! А разве, как мне казалось, война с ними не закончилась четверть века тому назад? Впрочем, этот старый Рэдсток всегда отстает на несколько десятилетий!
Мясник выкрикнул ему в ответ:
— Вам должно быть стыдно насмехаться над человеком, который в сто раз лучше вас!
— Да ладно вам, Шиптон! Вы не хуже меня знаете, что ваш Рэдсток — старая галоша с большими претензиями!
Подобное суждение было совершеннейшим святотатством в глазах всей собравшейся порядочной публики. За всех еретику дал отпор хозяин паба.
— Мистер Эмблисайд, можете не платить за ваш бокал, поскольку, после того, что вы сказали, я сочту себя Иудой, если приму от вас деньги. Но больше никогда не приходите сюда, так как ваше присутствие нежелательно для джентльменов, которых я имею честь считать своими клиентами.
Эмблисайд посмотрел на владельца паба, потом — на друзей Рэдстока, захотел было попробовать в чем-то убедить их, но сдержался и, лишь выходя, сказал:
— Однако же вы — небывалое сборище дураков!
После ухода этого вандала портной Хелмсли предложил:
— Чтобы воздать честь отсутствующему здесь нашему великому сотоварищу и нам самим, предлагаю спеть'Боже, храни королеву!».
Предложение было воспринято с воодушевлением. Прохожие, которые в это время находились недалеко от «Безвременника и василька», услышав национальный гимн, подумали, не объявил ли премьер-министр по телевидению о новом бедствии, и заторопились домой.
Семья Джиллингхем как раз заканчивала обедать в своей небольшой квартирке на Хайленде. Роберт был огромного роста рыжеволосый весельчак с большими добрыми глазами. От него исходила спокойная сила, давно замеченная начальством его полицейского участка, в котором он служил. Его жена Розмари была ему под стать, и, казалось, она послана на свет для того, чтобы создать новую расу физически безупречных людей, которые славили бы Господа и могли бы стать его десницей в установлении справедливости на земле. Розмари обладала таким же спокойным, как и у мужа, характером. Если бы кто-нибудь мог видеть, как они в полном молчании обедают, то ему на ум обязательно пришло бы сравнение с большими красивыми животными, жующими в состоянии полусна. Комната, в которой они жили, была обставлена без претензий, но и безвкусица в ней тоже отсутствовала. Здесь каждый предмет имел свое практическое назначение, был тяжеловесным, удобным ширпотребом. Звонок Тетбери в дверь не вывел их из состояния полною спокойствия. Розмари медленно поднялась, открыла дверь и провела посетителя в комнату.
— Надеюсь, я имею честь видеть мистера и миссис Джиллингхем?
Полисмен посмотрел на него с удивлением.
— Разве вы заходите к людям, не зная к кому вы идете, мистер?
— Нет, нет, конечно нет. Меня зовут Тетбери, Дэвид Тетбери… Хау ду ю ду[153]?
— Хау ду ю ду?
— Я один из близких друзей Генри Рэдстока, живущего в Вилтоне, где я тоже проживаю с ним по соседству.
Джиллингхемы недоумевающе посмотрели на этого человека, который пришел к ним затем, чтобы поговорить о своей жизни.
— Дочь Рэдстоков, Сьюзэн, — близкая подруга вашей дочери Тэсс…
Услышав эти слова, Джиллингхемы начали понемногу оживать.
— … с которой они вместе поехали в Италию, в Сан-Ремо.
— Может быть, мистер Тетбери, вы подумали, что мы не знаем об этом? — спросил Роберт.
— Нет, что вы, конечно, знаете… Но, кажется, у девушек возникли проблемы с… с туземцами. Мистер Рэдсток с присущей ему храбростью поспешил им на выручку вместе со своей женой Люси; оттуда он написал мне и попросил передать вам, чтобы вы не беспокоились и ничего не опасались: ваша дочь находится под его защитой!
Джиллингхемы принялись вдруг неожиданно смеяться веселым, беззаботным смехом, в котором звучали снисходительножалостливые нотки, что смутило ничего не понимавшего Тетбери. Наконец Роберт объяснил причину этого смеха:
— Мы ничуть не боимся за Тэсс, мистер Тетбери. Никто и никогда не посмеет грубо обойтись с ней, будь то англичанин, итальянец, турок или китаец, без риска оказаться в больнице или на всю жизнь остаться калекой. Не сомневаюсь, что вы пришли из наилучших побуждений, но, чтобы пожилой джентльмен смог взять под свою защиту Тэсс, — весь Хайтон лопнул бы от смеха!
Выходя из дома Джиллингхемов, Тетбери, понимая, что оказался в смешном положении, хотел уже было вернуться в Вилтон. Он так бы и поступил, поддавшись этому желанию, если бы не полез за сигаретами в карман и не нащупал там письмо Генри. Краска стыда залила его лицо. Как он мог только подумать отказаться от порученной ему миссии, тогда как там… И Дэвид поспешил в направлении Кенсингтона.
Нажав на кнопку звонка квартиры миссис Мачелни, он уловил дребезжащий, приглушенный звук, раздавшийся словно в потустороннем мире. За дверью он не услышал никакого шума шагов, но она неожиданно распахнулась, и перед Дэвидом предстала седоволосая, хрупкая, с бледным лицом и ярким светом добрых глаз дама, похожая на сказочную фею. Даже ее голос был не похож на голос простого смертного…
— Что вам угодно?
— Мое имя — Тетбери, миссис Мачелни.
— Очень приятно.
— С вашего позволения, я пришел поговорить о вашей дочери Мери Джейн.
— Проходите, пожалуйста.
Оказавшись в гостиной, Дэвид подумал, не снится ли ему все это. Отовсюду свисали прозрачные ткани, и не было ни одного предмета мебели, контуры которого не скрывались бы под ними. Тетбери показалось, что он находится в морском гроте, опутанном водорослями. Миссис Мачелни объяснила:
— Я не переношу слишком угловатых очертаний… Они причиняют мне настоящую физическую боль… Что вам известно о Мери Джейн, мистер Тетбери?
— Меня направил к вам мистер Рэдсток, великий Рэдсток из Вилтона, дочь которого очень дружна с вашей…
— Знаю… Сейчас они вместе находятся в Италии.
— Верно… Похоже, у этих мисс появились там некоторые неприятности…
— Почему?
— Простите?
— Я спросила, почему у Мери Джейн должны быть неприятности?
— Мир довольно жесток и…
— Нет, мистер Тетбери… С сожалением должна отметить, что вы ничем не отличаетесь от других… Вы верите в зло, смерть, страдания, во все то гадкое, подлое и отвратительное, что люди придумали в своем нездоровом воображении. Мистер Тетбери, моя дочь светла, как хрусталь… Как можно причинить ей какое-то зло? Вы так же слепы, как и те, кто носится по улицам и кого я вижу из своего окна, мистер Тетбери. Мне очень вас жаль, мистер Тетбери, и я благодарю вас за ваш визит.
Прежде чем Дэвид успел опомниться, он оказался в крошечной прихожей, с потолка которой свисали разноцветные стеклянные шары. Он ничего не мог понять и, выходя, спросил:
— Миссис Мачелни… Похоже, у Мери Джейн нет отца?
В ответ хрупкая женщина широко раскрыла глаза.
— Что за мысль у вас?!
— Вы… Разве вы не вдова?
— А, теперь попятно… Так меня называют с того дня, как уехал Ричард.
— А куда он уехал?
— Он не захотел мне сказать. Это — сюрприз. Ричард очень любит сюрпризы. В один прекрасный день он напишет мне письмо и попросит приехать к нему… И мы опять будем очень счастливы…
— Но как же…
— До свидания, мистер Тетбери.
На улице пораженный Тетбери едва не угодил под колеса такси, шофер которого грубо обругал его, и только таким образом он смог убедиться в том, что это был не сон. Он сел в поезд и отправился домой.
Вечером, ужиная сухим сыром и не менее сухим печеньем, запивая вдобавок все это чаем, чтобы подобная еда не застряла в горле, Дэвид рассказывал о постигшей его в Лондоне двойной неудаче. Его впечатлительная жена была склонна скорее простить миссис Мачелни, ушедшую в свои приятные мечтания, нежели слишком уж самоуверенных Джиллингхемов. Тетбери не знал, стоит ли ему посвящать завсегдатаев паба в результат своей бесполезной поездки в Лондон. Наконец он решил, что этим джентльменам не обязательно все знать, и, усталый, отправился в спальню, где Гарриет перед сном дала ему выпить чашку липового отвара.
Посреди ночи Дэвид разбудил жену и спросил, что она помнит о битве при Ватерлоо. Несвоевременно заданный вопрос погрузил Гарриет в такую прострацию, что она опять уснула еще до того, как супругу удалось объяснить ей ход своих мыслей. Он опять растормошил ее, и она простонала:
— Что вы хотите, Дэйв?
— Поговорить с вами о Ватерлоо.
— Вы считаете, что сейчас для этого самое подходящее время?
— Скажите, Гарриет, что вам известно о Ватерлоо?
— Было такое сражение. В нем мы победили французов.
— А как?
— Ну, обычным способом: при помощи ружей, пушек и разного другого оружия, дарлннг. Спокойной ночи, Дэйв… Мне так хочется спать…
И она уснула, еще не успев закончить своей фразы, а Тетбери, ворочаясь в кровати, думал о том, что в жизни существуют такие моменты, когда даже женатый на лучшей из женщин мужчина чувствует себя совершенно одиноким. На следующее утро, во время брэкфэста, Гарриет поинтересовалась, что побудило ее дорогого мужа среди ночи вспоминать историю. На это Дейв ответил, что недавно принял очень важное решение и для того, чтобы объявить ей о нем, требовалось, чтобы она вспомнила о сражении при Ватерлоо. В ответ она призналась, что ее никогда особенно не интересовали битвы солдат Ее Величества и что, кроме того, она не видит, каким образом сражение, происшедшее сто пятьдесят лет тому назад, может повлиять на решение, принятое ее дорогим супругом.
— Прошу вас, Гарриет, будьте внимательны: кто выиграл бой при Ватерлоо?
— Сэр Веллингтон.
— Отлично! А известно ли вам то, что он едва не потерпел поражение от этих чертовых французов, которыми командовал такой гениальный полководец, как Наполеон?
Эти слова вызвали протест патриотических чувств Гарриет, убежденной в превосходстве британской расы, и она, не без резона, возразила:
— Во всяком случае, эту битву выиграл он!
— Потому, что вовремя подоспел Блюхер[154].
— А это кто?
— Один немец, который в то время был нашим союзником. Несмотря на упорное сопротивление и храбрость своих солдат, Веллингтон вынужден был начать отступление, но пруссаки, которые пришли ему на помощь, склонили чашу весов боя в нашу пользу.
— Ну и при чем здесь это?
— По-моему, этот пример еще раз доказывает то, что даже у сильных людей могут возникать такие чрезвычайно сложные обстоятельства, одержать победу в которых можно только при помощи друга. Так и там, в Сан-Ремо, Генри сейчас кажется, что он полностью контролирует положение, но кто сможет утверждать, что он не подвергнется неожиданному нападению и не потерпит поражения, от которого никогда не сможет оправиться без помощи друга, вроде этого Блюхера?
Гарриет все еще не могла понять, к чему клонил муж с этим риторическим вопросом.
— Вот почему я обязан попросить вас, Гарриет, собрать наши вещи! Мы едем в Сан-Ремо!
— Вы хотите сказать, что… вы и я?
— Да, вдвоем.
— Но…
— Никаких «но», Гарриет! Разве мы — не лучшие друзья Рэдстоков?
— Конечно, да, дарлинг.
— В таком случае, мы не имеем права оставлять их сражаться в одиночку в такой дикой стране, где люди не ведают даже, что такое порридж…
— Не может этого быть!
— Увы! Это так!..
— Но как же они тогда растят детей?
— Не знаю. Но я уверен в одном: братская дружба, которая нас связывает с Рэдстоками, обязывает нас разделить с ними все опасности. Кроме того, представьте себе, Гарриет, как они, должно быть, страдают от этого ужасного климата! А теперь, дорогая, ни слова больше! Мы едем в Италию!
— Дэвид… А где находится эта Италия?
Тетбери посмотрел вокруг себя и после непродолжительных колебаний ткнул указательным пальцем в ту сторону, где у них на стене висела фотография Уинстона Черчилля.
— Там!
То, что сигара покойного премьер-министра указывала в том направлении, показалось миссис Тетбери добрым предзнаменованием.
* * *
Рэдстоки в своем номере «Ла Каза Гранде» пытались убедить Сьюзэн о бросить ее итальянские мечтания и вернуться вместе с ними в Англию. Дочь наотрез отказывалась от этого предложения, и поэтому у ее отца серьезно начало подниматься давление. В это время ее мать проклинала себя за то, что родила дочь, которая готова отказаться от своей страны, своего родного языка, своих родителей и от английской пищи. Подоспевшие на помощь своей подруге Тэсс и Мери Джейн поддерживали Сьюзэн в этом конфликте поколений. Великий человек из Вилтона набросился на Тэсс, обвиняя ее в том, что она не сдержала данного ею слова. Разве она не помнит, как обещала оберегать своих подруг?
— Данное при всех слово должно соблюдаться, мисс, иначе это грозит потерей доверия! В Дюнкерке, когда я…
Но мисс Джиллингхем была девушкой, которую оказалось не так-то просто переубедить. И она высказала без обиняков:
— Когда вы были в Дюнкерке, мистер Рэдсток, я еще не появилась на свет, гак что прошу вас больше не рассказывать нам о том, чего мы не понимаем! Сьюзэн влюблена, а против любви ничего не поделаешь. Честно говоря, мистер Рэдсток, можно подумать, что вам неизвестно, что такое любовь! А я хорошо знаю это!
Генри злобно бросил ей в ответ:
— Вам кажется, что вы любите этого типа, которого преследуете без всякого стыда, позабыв о собственном достоинстве, а он ненавидит вас! Такие поступки с вашей стороны только унижают корону!
— Смею вас заверить, мистер Рэдсток, в том, что Пьетро, по доброй воле или по принуждению, обязательно полюбит меня и в том, что я не собираюсь приглашать королеву провести с нами брачную ночь! Что бы вы там себе не думали, это не ее дело!
И она захлопнула за собой дверь с такой силой, что некоторые из тех, кто находился в эту минуту в гостинице, подумали, не произошел ли где-нибудь взрыв.
Мистер Рэдсток с горечью заметил:
— Меня не удивит, если в будущем она станет коммунисткой или начнет шпионить в пользу Советского Союза!
В конфликт вмешалась Мери Джейн и попыталась примирить враждующие стороны.
— Уверена, мистер Рэдсток, что вы сказали не совсем то, что думали. У вас очень богатый опыт, и вы не можете требовать от других жертв, которые могут их доконать. Не все обладают такой силой воли, как вы, мистер Рэдсток… Я бы утопилась, как Офелия, если бы oт меня потребовали, чтобы я покинула своего дорогого Энрико… До свидания, мистер Рэдсток, до свидания, миссис Рэдсток, желаю вам приятно провести время.
Легкой, воздушной походкой она вышла из комнаты, а Генри сказал жене:
— А она — очень порядочная… и так здраво рассуждает… Сразу же заметила, насколько я выше их… Я вовсе не чудовище, Сьюзэн, и не собираюсь заставить вас страдать… Если ваш Фортунато действительно не убийца и его отпустят, извинившись перед ним, приводите его к нам, и мы с вашей матерью составим о нем свое непредвзятое мнение.
Счастливая Сьюзэн заявила родителям о том, что они — самые лучшие на свете и что она уверена в том, что Фортунато им понравится, но для этого необходимо, чтобы комиссар Прицци признал свою ошибку, а этот полицейский отличается большим упрямством.
— Не беспокойтесь, Сьюзэн, в случае чего, я сумею приструнить его. В Дюнкерке у меня был один сержант…
— Не нравится мне этот Пьетро Лачи, инспектор… Чересчур уж он набрасывается на своего коллегу, которого мы держим у себя. Мне кажется, что один из них, даже если он невиновен, знает правду. Сходите в «Ла Каза Гранде» и приведите мне этого Пьетро Лачи, мне нужно с ним поболтать.
Пока Кони исполнял данное ему поручение, Массимо приказал привести к нему Фортунато.
— Ну
что, ты еще не решился разговориться?
— Что я могу вам сказать, синьор комиссар, кроме того, что я не виновен и что когда увидел труп Джозефины, то так испугался…
— Чего испугался?
— Ма ке! Ведь все в гостинице знали об отношениях между мной и Джозефиной… Я был уверен, что меня заподозрят!
— Ну, для этого не требовалось большого ума, а?
— Нет, не требовалось, но я понял это только позднее.
— Представьте себе, Фортунато, мне очень хочется вам верить.
Маринео радостно воскликнул:
— Правда? Значит, меня скоро отпустят?
— Не торопитесь! До этого мы еще не дошли… Чтобы вас отпустить, мне совершенно необходимо заменить вас в камере кем-то другим.
— Да? А зачем?
— Для моей собственной репутации. Как вы были одеты, когда обнаружили преступление?
— Я должен был идти на прогулку со Сьюзэн Рэдсток и поэтому зашел к Джозефине в десять минут седьмого вместо половины седьмого. Я успел переодеться в легкую одежду: на мне были брюки из серой фланели, куртка в серо-белую клетку, а на шее — красный платок вместо галстука.
Вошел Кони и предупредил комиссара о том, что Лачи уже доставлен. Прицци сказал Фортунато:
— Строжайше запрещаю, — слышите? Строжайше! — произносить хотя бы одно слово, даже если тот, кого я буду допрашивать, выдвинет против вас возмутительные для вас обвинения. В противном случае вы только помешаете своему возможному освобождению.
— Хорошо, синьор комиссар, я рта не раскрою!
— Отлично! Введите его, инспектор!
Войдя в кабинет, Пьетро сразу же увидел Фортунато.
— Убийца!
Сын донны Империи промолчал, и комиссар, одобрив его действия кивком головы, занялся Пьетро.
— Призываю вас к порядку, синьор Лачи! Я не потерплю, чтобы в моем присутствии оскорбляли кого бы то ни было! Понятно?
— Извините меня, синьор комиссар.
— Вы за что-то ненавидите Фортунато Маринео, да?
— Он — убийца той, которую я любил!
— Но ведь вы ненавидели его и до убийства, разве не так?
— Так! И опять-таки, из-за Джозефины… Он не имел права заставлять ее так страдать!
— То есть, проще говоря, вы ревновали ее к нему?
— Да.
— Позабудьте на минуту о вашем предубеждении по отношению к арестованному, синьор Лачи, и ответьте на один мой вопрос: вы уверены, что видели именно Фортунато выходящим из комнаты погибшей?
— Совершенно уверен, синьор комиссар!
— И вы никак не могли ошибиться?
— Никак!
— Если суд поверит вам, синьор Лачи, ваш коллега проведет в тюрьме всю свою жизнь.
— Так ему и надо!
— В котором часу вы видели Фортунато?
— В восемнадцать тридцать.
— Синьор Лачи, как был одет предполагаемый преступник в момент, когда он выходил из комнаты Джозефины?
— На нем был синий костюм служащего гостиницы.
— Вы в этом уверены?
— Совершенно!
— Тем хуже для вас, Пьетро Лачи!
— Хуже? Но почему, синьор комиссар?
— Потому, что вы солгали правосудию, допустили лжесвидетельство, а подобный поступок можно объяснить тем, что вы сами убили Джозефину Пампарато!
— Клянусь вам…
— Довольно клятв! Ты с самого начала лжешь! В этот вечер на Фортунато были серые фланелевые брюки и куртка в клетку!
— Да, правильно, теперь я вспомнил!
— И на этот раз ты не ошибаешься?
— Нет, нет… Тогда мне показалось… Но теперь я точно вспомнил…
— Вот ты и попался, Пьетро! Маринео был одет в служебный костюм! Значит, ты не мог видеть его выходившим из комнаты Джозефины! Давай, признавайся, пока дело еще не зашло слишком далеко!
Пьетро открывал и закрывал рот, не издавая ни единого звука. Он попытался было что-то сказать, но не сумел и разрыдался.
— Ну что, скажешь ли ты, наконец, правду?
— Я… я не… видел Фортунато в тот вечер… Но я слышал, как Джозефина назначила ему свидание…
— И до этого побежал к ней уговаривать не принимать твоего соперника?
— Когда я пришел, она уже была мертва… Ужасно… Я едва не закричал от страха… и удрал оттуда…
— Ты опять лжешь, Пьетро… Когда ты пришел, она была в полном здравии… Ты стал умолять ее не принимать Фортунато… Ты говорил ей опять о своей любви, а она начала над тобой смеяться, и тогда ты сдавил ей горло, чтобы она замолчала, но сделал это чересчур сильно! Разве не так, малыш?
— Нет! нет! нет! Она уже была мертва…
— А как ты рассчитываешь меня в этом убедить, если ты лжешь с самого начала? Ну что же, теперь ты займешь место Фортунато в его камере.
— Я не виноват!
— Это еще нужно доказать… Уведите его, Кони!
Возвращение Фортунато в «Ла Каза Гранде» вызвало у людей различную реакцию. Так, если донна Империя, ее брат Ансельмо, Рэдстоки и Мери Джейн были этому необычайно рады, то Пампарато говорили всем, что они стали жертвами величайшей во все времена несправедливости, а Людовико поклялся в том, что, если Фортунато попадется ему в руки, то он без лишних слов перережет ему горло. Альбертина заявляла, что они живут в самые постыдные времена и что комиссар Прицци продался за деньги, которые донна Империя и ее муж наворовали за время своей службы в гостинице. Директор придерживался абсолютного нейтралитета и предостерегал тех и других от высказываний, из-за которых можно угодить на скамью подсудимых. А Тэсс Джиллингхем страдала, не разделяя ни радости клана Маринео, ни гнева клана Пампарато. Она не могла поверить в виновность человека, которого она любила, и решила пойти сказать ему об этом.
В камере Пьетро Лачи незаметно для себя начал менять свое отношение к Джозефине Пампарато, которая так часто унижала его при жизни, и, умерев, могла стать для пего причиной потери свободы. Он начал постепенно понимать, что, словно ненормальный, вопреки здравому смыслу, сходил с ума по девице, единственной заботой которой было выгодно выскочить замуж. Пьетро пришлось признаться, что он вел себя крайне глупо, и он начал испытывать угрызения совести за свой поступок по отношению к этому несчастному Фортунато, который раньше сумел разобраться в Джозефине.
Он как раз был занят размышлениями об этом, когда ему объявили о том, что с ним хочет поговорить мисс Джиллингхем. Поначалу он хотел отказаться от свидания, но в тюрьме он ощущал себя таким одиноким и покинутым всеми, что согласился на встречу с той, которую до этого считал прилипалой, путавшейся у него под ногами.
Англичанка не стала тратить времени на пустые разговоры.
— Я уже знаю о том, что вы оговорили своего друга, дарлинг. Это некрасиво с вашей стороны. Уверена, что выйдя отсюда, вы извинитесь перед Фортунато и сделаете все, чтобы опять стать его другом.
Он встряхнул головой.
— Не знаю, как мне удастся выйти. Они думают, что это я убил Джозефину.
— Они заблуждаются.
— Откуда вы знаете?
— Да потому, что я люблю вас, а убийцу я никогда не сумела бы полюбить! Я спасу вас от всех этих дураков, Пьетро, и мы уедем вместе в Англию!
Сердце Пьетро Лачи не выдержало, и он бросился Тэсс в объятия. На глазах у полицейского Леонардо Пантелетти они обменялись первым поцелуем.
Держа Сьюзэн за руку, Фортунато говорил с ее родителями в их номере.
— Значит, вас отпустили, мистер Маринео?
— Им пришлось признать то, что я невиновен. Нисколько не сомневаюсь, что ваше вмешательство во многом повлияло на решение комиссара Прицци…
— Готов разделить ваше мнение.
— … и хотел бы поблагодарить вас за это.
Генри легко махнул рукой.
— Да, да, мистер Рэдсток! Я хотел бы, чтобы вы знали, как я вам благодарен за вашу смелость и находчивость… Конечно же, если вам двадцать пять лет тому назад удалось найти достойный выход из куда более трудной ситуации, то моя история показалась вам совершенно простой!
— Для меня имеет значение не это, молодой человек, а восстановление справедливости. Хочу быть с вами откровенным до конца. Я приехал сюда, не испытывая никакого чувства любви ни к вашей стране, ни к ее обитателям. Признаюсь, что с тех пор, как мы живем в «Ла Каза Гранде», мое мнение и мнение моей жены несколько изменилось к лучшему. Даже вы сами, мой мальчик, предстали передо мной в новом свете и кажетесь мне намного симпатичнее.
— Блатодарю вас, сэр!
— Итак, вы желаете взять в жены нашу дочь Сьюзэн?
— Для меня это самое большое желание.
— А что об этом думают ваши родители?
— Моя мать согласна.
— Таким образом, вас ничто не удерживает в Италии?
— Ничто.
— И для вас не существует никаких препятствий переехать жить к нам?
— Никаких.
— А как вы думаете, сможете ли вы жить в Англии?
— Повсюду, где будет Сьюзэн, мне будет хорошо.
Люси незаметно обронила несколько слезинок. То были слезы восторга и сожаления одновременно: она не могла припомнить, чтобы ей приходилось слышать такие же слова от Генри, когда он просил ее руки.
— А вы, Сьюзэн, согласны ли вы выйти замуж за этого парня?
— О да, дедди!
Рэдсток обернулся к жене.
— Ну, дорогая, как вы считаете, что мы должны решить?
— Это решать только вам одному, Генри.
Все они находились в состоянии полного счастья, как вдруг дверь в комнату резко распахнулась перед разъяренным Людовико, которого Альбертина пыталась удержать за полы пиджака, тогда как дон Паскуале испуганно кричал за ее спиной, словно курица, напуганная появлением сокола. Несмотря на врожденное спокойствие, Генри был поначалу этим ошарашен, но потом все же довольно быстро пришел в себя и спросил:
— А вам, повар, что здесь угодно?
С одной стороны, Людовико не понимал английского, а с другой, он видел перед собой только одного Фортунато.
— Ма ке! Так вот ты где! Никогда бы не мог подумать! И ты еще смеешь ходить там, где пролитая тобою кровь взывает к мести!
Вмешался Рэдсток.
— Выйдите отсюда, человек с кухни, иначе я вышвырну вас вон!
Пампарато грубо оттолкнул его в сторону и проревел:
— Молись, если ты веришь в Бога, Фортунато, сейчас я тебя убью!
Директор взмолился перед шеф-поваром:
— Подумайте о престиже нашего заведения, Пампарато!
— Это бойня, а не заведение!
Генри снял пиджак и хлопнул Людовико по плечу. Тот обернулся и увидел перед собой пожилого англичанина, принявшего боксерскую стойку согласно правилам, разработанным еще лордом Квинсберри. Удивленный итальянец спросил:
— А этому что еще надо?
Сьюзэн ответила за отца:
— Отдубасить вас!
— Отдубасить? Меня?
Пампарато рассмеялся с таким презрением, что Рэдстоку стало понятно, что, как и тогда, в Дюнкерке, ему придется сражаться за честь Англии, и прямым левым он угодил прямо в нос шеф-повару, который тут же, презирая все правила благородного искусства боя, набросился на несчастного и стал его колотить руками и ногами. Люси визжала, ей вторил дон Паскуале, а попытавшийся было защитить будущего тестя Фортунато получил такой удар, что оказался на полу в ванной. Этот бой окончился бы бесславно для короны, но тут вмешалась Тэсс. Появившись на пороге комнаты, она очень быстро оценила ситуацию и перешла к решительным действиям. Еще много лет спустя после этого случая Пампарато говорил, что так и не понял, что тогда с ним произошло и почему он оказался с болью в горле и в затылке на коленях перед унитазом. В воинственном порыве Тэсс не стала разбираться, кто здесь противник, а кто — союзник, и когда дон Паскуале сделал к ней шаг, чтобы поздравить с победой, то получил прямой удар, в который мисс Джиллингхем вложила весь остаток своих сил, дабы обеспечить окончательную победу. В следующее мгновение директор, получив удар с правой в подбородок и одновременно удар коленом в низ живота, издал поросячий визг и задом, с закрытыми глазами вылетев из комнаты, наткнулся на перила лестницы и, безусловно, перелетел бы через них, если бы его от этого не удержала крепкая рука донны Империи. Будучи женщиной энергичной, она, не теряя ни минуты драгоценного времени на глупые расспросы, отнесла дона Паскуале на руках в свой кабинет и там принялась приводить его в чувство, баюкая, словно младенца. Минут через пятнадцать дон Паскуале пришел в себя и, уткнувшись лицом в красивую грудь донны Империи, расплакался от обиды и отчаяния. Удивленная мать Фортунато нежно погладила своего директора по лысому черепу, а тот, восприняв эту материнскую ласку за проявление несколько иных чувств, ответил таким же жестом, коснувшись левой груди донны Империи. Тут же ему пришлось в этом раскаяться.
— Дон Паскуале! Вы? Как вы посмели!
— Я… я люблю вас, Империя мио!
— О! Как вы смеете делать такое предложение женщине, которая навсегда останется верной памяти незаменимого Альберто Маринео, свету ее жизни, лучшему из мужчин, гению кулинарного искусства? Вы заслуживаете того, чтобы я вас задушила собственными руками! Убирайтесь отсюда, бесстыдный бабник, пока я не рассердилась по-настоящему!
Еще раз выброшенный вон, директор спотыкающейся походкой опять побрел по коридору, пока не наткнулся головой на инспектора Кони, который придержал его за шиворот от падения. Прицци с иронией спросил:
— У вас время для физических упражнений, дон Паскуале?
— Если бы вы знали… если бы вы только знали…
— Что знал?
Не дожидаясь ответа, подумав о самом худшем, комиссар бросился в сторону комнаты, на которую указал директор, а инспектор последовал за ним, волоча за собой дона Паскуале. Там он застал любопытную даже для полицейского сцену. Люси пыталась привести в чувства Рэдстока, Сьюзэн проделывала то же самое, но уже со своим Фортунато, а Альбертина растирала виски своему мужу, одновременно взывая ко всем святым, к которым она только испытывала доверие, а их было немало. Раздавленный безжалостной судьбой, дон Паскуале только и сумел сказать:
— Вот видите, синьор комиссар?
— Кто это сделал?
— Вперед вышла Тэсс и, указывая на Рэдстока, заявила:
— Вот это — работа Людовико… А я воздала должное победителю и случайно, по ошибке, — директору…
Восхищенный Кони воскликнул:
— Браво! Брависсимо, синьорина! Какая женщина, шеф!
Более сдержанный Массимо спросил:
— И какова же причина всего этого побоища?
— Все то же убийство девушки.
Подошел Пампарато, поддерживаемый Альбертиной. При помощи жены Рэдстоку тоже удалось вернуться в вертикальное положение, а Фортунато все еще продолжал притворяться, чтобы Сьюзэн целовала его подольше. Комиссар по очереди посмотрел на каждого из них и полусерьезным, полушутливым тоном сказал:
— Неужели вам кажется, что вы ведете себя как цивилизованные люди?
Прицци ответила Тэсс:
— Они все посходили с ума!.. И все это — из-за истории, которую, возможно, сами же и выдумали!
Все дружно уставились на мисс Джиллингхем. Массимо выразил общее желание присутствующих и попросил ее уточнить:
— Что вы понимаете под выдуманной историей, синьорина?
— Вы арестовали Фортунато потому, что его любила Джозефина; арестовали моего бедного Пьетро потому, что это он любил Джозефину; а завтра — чей черед? Почему бы вам не арестовать синьора Ансельмо, который, как я заметила, строил глазки этой девушке? Или директора, который, по общему мнению, ни в чем бы не смог ей отказать?
— Что вы хотите этим сказать, синьорина?
— То, что по существу, простите, что вынуждена вам это сказать, синьор комиссар, вам совершенно неизвестно, почему убили Джозефину Пампарато.
— По какой же другой причине, если не из-за любви, могли, по-вашему, ее убить?
— Может быть потому, что она видела того, кто убил синьора… заместителя директора?
Неожиданно, словно сказанные слова возымели магическое действие, обстановка полностью переменилась. Не стало слышно ни криков, ни призывов к святым, ни угроз, и наступило полное, еще более грозное, чем любые проклятия, молчание.
Глава 5
Массимо как раз собирался макнуть свой рогалик в кофе, как вдруг неожиданно остановился на полпути и сказал:
— Возможно, она все-таки права…
Пившая чай с печеньем, намазанным топким слоем масла, Элеонора, удивленно взглянула на мужа.
— Ма ке! С кем ты разговариваешь, Массимо?
— С самим собой, аморе мио. Я как раз думал об этой англичанке, Тэсс Джиллингхем, которая вчера вечером в «Ла Каза Гранде» высказала одну интересную мысль.
Не имея сил дольше сдерживаться, Прицци рассказал жене о странном происшествии, случившемся вчера в гостинице: юная Тэсс, продемонстрировав незаурядную силу и ловкость, которым мог бы позавидовать любой парень, под конец обнаружила такой же здравый смысл, поставив под сомнение принятую до сих пор версию о причине убийства Джозефины Пампарато.
— Элеонора, если она действительно права, мне надо с самого начала пересмотреть всю задачу. Все становится куда более мерзким, если отбросить предположение о любовной истории. Следуя гипотезе англичанки, убийство Джозефины можно объяснить только тем, что она знала, кто убил Маргоне, и из этого следует, что кто-то решил убрать нежелательного свидетеля, или же она сама стала шантажировать убийцу, и как подтверждение этому могли быть слова Фортунато о ее планах на совместное безбедное будущее, — и поплатилась жизнью за свое корыстолюбие. И, наконец, что важнее всего, если англичанка права, — напрашивается вывод о том, что не один Маргоне занимался торговлей наркотиками. Значит, сразу несколько человек участвовали и наживались на этом грязном деле.
— Это облегчает твою задачу?
— Облегчает? Ма ке! Никак! Скажем так: теперь я просто знаю, по какой дороге мне следует идти и не буду тратить времени на поиски других путей решения задачи.
— Может быть, тебе следует попросить помощи из Генуи?
— Ты что, с ума сошла, Элеонора мио? Я должен действовать самостоятельно, если в один прекрасный день мы собираемся окончательно переехать в Милан.
Синьора Прицци радостно вскрикнула и принялась целовать мужа, с тайной надеждой на то, что эти ласки помогут ему поскорее напасть на след торговцев наркотиками. Что же, в Италии, как и повсюду, женщины уверены в подобных методах воздействия на мужчин.
После обеда Массимо зашел в ванную для того, чтобы убедиться, достаточно ли хорошо он выбрит и не следует ли еще раз взбрызнуть виски одеколоном. Прислонившись к двери, Элеонора наблюдала за ним с улыбкой на лице.
— Ма ке! Я вышла замуж за настоящего Дон Жуана!
Если бы не приход Тэсс, Пьетро мог бы сойти с ума в своей камере. Он понимал, что потерпел бы сокрушительную неудачу, продолжая ухаживать за Джозефиной, которая никогда бы не была его настоящей спутницей жизни. Теперь ему стало ясно то, что встреча с англичанкой и то, что она продолжала его любить, несмотря на его грубое отношение к ней, было для него истинной находкой. Пьетро испытывал подлинное чувство стыда, вспоминая о своих словах и поступках за последние несколько дней. Можно было подумать, что Джозефина полностью лишила его разума. Он видел только ее и продолжал жить в полном одиночестве… Перспектива создать семейный очаг вместе с женщиной, которая сможет разделить с ним все тяготы жизни и воспитать его детей, согревала его сердце. Ему становилось легче переносить свалившиеся на него невзгоды. Конечно, ему вовсе не хотелось навсегда переезжать в Лондон, но смена обстановки сейчас была ему совершенно необходима. Вот так он перестал думать о Джозефине.
В эту ночь Пьетро не спалось. Он думал о том, как он обошелся с Фортунато, своим прежним самым лучшим другом. Но в их дружбу вмешалась Джозефина… Кто же мог ее убить? На глаза Пьетро наворачивались слезы при мысли о том, что кто-то изо всех сил сжимал эту шею, которую ему когда-то так хотелось целовать и ласкать… Что она могла сделать этому человеку, решившемуся на такое убийство?
Мысли о том, что он оговорил невиновного Фортунато, не давали ему уснуть, и он без конца ворочался с боку на бок, лежа на тюремных нарах. Услышав, как Джозефина назначала свидание Фортунато, он тогда едва не закричал от отчаяния, будучи полностью уверенным в том, что Фортунато не устоит перед ней, несмотря на свои чувства к Сьюзэн Рэдсток. Ему не хотелось, чтобы Джозефина стала любовницей Фортунато, и когда приблизился час их встречи, он поспешил на ее этаж, чтобы уговорить ее не встречаться с другим, иначе он не сможет жить. Выйдя из лифта, он заметил человека, спешившего покинуть комнату Джозефины, да так быстро, что это было похоже на бегство.
Теперь Пьетро знал, что это был не Фортунато. Тогда же, на минуту ему показалось, что это был именно он, тем более что ненависть и отчаяние толкали его к этой мысли. Он больше никогда не задумывался над этим до тех пор, пока не угодил в ловушку, расставленную комиссаром. Убийцей для него мог быть только Фортунато, значит, это и был Фортунато. Он не задумывался над тем, как бесчестно он солгал, пока Прицци не раскрыл эту ложь. Теперь же, избавившись от ложных убеждений, он не понимал, как он мог так поступить. От отвращения к самому себе он готов был заплакать. Кроме того, здесь, в одиночной камере, он неожиданно задумался над тем, кого же он мог тогда видеть, и вдруг понял кого. Он был настолько поражен своим открытием, что поначалу онемел, а потом принялся кричать.
Массимо Прицци в это утро был настолько элегантен, непринужден и распространял такой тонкий запах лаванды, что это заставляло биться сердца женщин, работавших в полиции, учащенно. Сам не зная почему, комиссар был счастлив. Вызванный сразу же для утреннего доклада Кони сообщил ему о том, что за эту ночь не было никаких происшествий, что все спокойно, но при этом вот уже два или три часа подряд арестованный Пьетро Лачи требует встречи с синьором комиссаром и утверждает, что у него есть для комиссара важное сообщение. Прицци только пожал плечами, но у него было такое хорошее настроение, что после секундного размышления он решил, будто это сама судьба вмешалась и захотела сделать из вышеназванного Пьетро ключ к будущему успеху в его карьере.
— Приведите его, Кони.
Когда лифтер из «Ла Каза Гранде» оказался перед комиссаром, глаза его лихорадочно блестели.
— Ну что, Пьетро, кажется, ты хочешь мне что-то сказать?
— Синьор комиссар, я думал почти всю ночь напролет… Знаете, мне тогда действительно показалось, что из комнаты Джозефины выходил Фортунато, потому что я был убежден в том, что это не мог быть никто другой… Я полностью доверял этой шлюхе, Джозефине…
— Она мертва, Пьетро!
— Она умерла такой же шлюхой, какой была при жизни! Да, я вам солгал, но только наполовину, настолько ненависть застилала мне глаза… Не знаю, как мне лучше это объяснить, синьор комиссар… Эта ложь для меня так много значила, что я сам уверовал в нее…
— Ты хочешь, чтобы я поверил, будто ты не собирался оговаривать Фортунато и не хотел давать ложных показаний?
— Конечно, по всем признакам это — ложные показания, но вообще-то это не так.
— Ладно, продолжай.
— После того как я оказался в камере, синьор комиссар, мне показалось, что, желая насолить Фортунато, я все выдумал и не видел никакого человека, выходившего из комнаты Джозефины… Но сегодня ночью я все вспомнил, синьор комиссар… Я заново пережил ту минуту, когда, выйдя из лифта, я направился в комнату Джозефины. Из нее действительно вышел очень похожий на Фортунато человек, которого я видел только со спины, но он был несколько выше и полнее, чем Фортунато.
— И кто же это был?
— Администратор Ансельмо Силано.
Отослав Пьетро обратно в камеру и отправив инспектора за Ансельмо, Массимо подумал о том, что ход событий, похоже, подтверждает рассуждения Тэсс Джиллингхем. В самом деле, разве сложно было бы администратору большой международной гостиницы заниматься темными делами? Возможно, Джозефина погибла именно потому, что знала о тайных делах Ансельмо и попыталась его шантажировать?
Убил ли ее администратор лишь потому, что опасался ее доноса? Или же он получил такой приказ от кого-нибудь другого? В этом случае убийцу Маргоне больше не придется долго искать.
Теперь перед комиссаром стоял по-прежнему спокойный и улыбающийся Ансельмо Силано, и Прицци невольно подумал о том, что члены семьи донны Империи действительно выглядят превосходно.
— Могу ли я попросить вас, синьор комиссар, поскорее отпустить меня? Моя работа…
— Увы, синьор Силано! Боюсь, что вы не очень скоро сможете вернуться в «Ла Каза Гранде»!
— Ма ке! Но почему?
— Послушайте, Силано, давайте раскроем карты… Вы умный человек, и я уверен, что когда вы убедитесь в том, что проиграли эту партию, у вас хватит мужества это признать…
— Извините, синьор комиссар, по…
— … но вы не можете попять? Сейчас я вам все объясню. Вы, вероятно, помните о том, что Пьетро Лачи заявлял, будто бы он признал в человеке, выходившем из комнаты Джозефины, вашего племянника? Мне удалось уличить его во лжи. После этого ему поначалу показалось, что он вообще никого не видел, но сегодня ночью он вспомнил, что действительно видел у двери комнаты Джозефины одного человека. А вы сами заметили Пьетро в эту минуту?
— Не уверен, что это был именно он.
— Что?
— Я сразу же повернулся к нему спиной и поспешил прочь оттуда.
— Благодарю вас за откровенность, Силано. Признаете ли вы себя виновным в убийстве Джозефины Пампарато?
— Нет, синьор комиссар. Сочувствую вам, но и у моей вежливости есть свои границы, и я никак не могу взять на себя ответственность за убийство с единственной целью доставить вам удовольствие.
— Тогда объясните мне, что вы делали в ее комнате?
— Я слишком хорошо знал Джозефину. Эта девушка была хитрой и могла пойти на что угодно, лишь бы добиться своего.
— И лаже на шантаж?
— Думаю, что да, если бы ей предоставилась такая возможность, но не знаю, кого можно было бы шантажировать в «Ла Каза Гранде».
— Ну, а если она шантажировала убийцу Маргоне?
— Неужели вы думаете, что…
— Пусть мои мысли вас не беспокоят! Отвечайте, зачем вы заходили к Джозефине?
— Я знал о том, что она назначила свидание моему племяннику, которого я очень люблю, и знаю, что он не мог бы сопротивляться Джозефине. Тогда я решил переговорить с малышкой еще до его прихода и припугнуть ее.
— Возможно, в этом намерении вы зашли слишком далеко?
— Мне это было бы трудно сделать, синьор комиссар, потому что, когда я вошел в ее комнату, она уже была мертва.
— В котором часу это было?
— Незадолго до половины седьмого… Примерно в восемнадцать двадцать пять…
— Значит, она уже была мертва?
— Сначала мне показалось, что она просто спала на кровати, уткнувшись носом в подушку. Я похлопал ее по плечу, но она не шевелилась. Тогда я перевернул ее на спину и увидел ее лицо… Боже мой! Как я испугался!.. Никогда бы не смог подумать, что смерть может так исказить лицо человека! Я говорю вам сущую правду, синьор комиссар.
— Допустим, синьор Силапо, но пока мы не найдем того, кто побывал у Джозефины до вас, вы остаетесь подозреваемым под номером один. Возможно, я и заблуждаюсь, но пока что не стану сажать вас в камеру. Сам не знаю почему, но я верю вам.
— Благодарю вас, синьор комиссар!
— Ма ке! Будьте благоразумны, Силано! Запрещаю вам без моего разрешения выезжать из Сан-Ремо, и, кроме того, все то время, что мы будем искать убийцу, вы каждый день будете приходить сюда, к инспектору Кони или к дежурному инспектору и отмечаться у него.
— Понял.
— И еще, если вы захотите мне помочь, то уверен: мы скорее покончим с этой загадкой в «Ла Каза Гранде».
— И что я должен делать?
— Постараться найти того, кто замешан в торговле наркотиками и из-за кого поплатились жизнью Маргоне и Джозефина.
— Джозефина.
— Возможно, ее убили вовсе не из-за любовной истории. Кстати, кто еще, кроме вас, Пьетро и Фортунато, мог быть влюбленным в нее и ревновать? Энрико Вальместа?
— О нет!.. Джозефина действительно никак не была в его вкусе, а с тех пор, как он познакомился с этой английской куколкой, он совершенно не способен думать о какой-нибудь другой девушке.
— Значит…
— Вы, кажется, правы, синьор комиссар. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам.
Оставшись один, Массимо подумал о том, что в лице администратора он получит солидную поддержку, если только тот не надувает его. Но комиссару такая мысль казалась невероятной. Во всяком случае, теперь у него не было никаких причин, чтобы и дальше держать Пьетро в тюрьме, и он приказал его отпустить.
Тот не стал рассыпаться в благодарностях, а на полной скорости рванул через весь Сан-Ремо и, раз десять едва не угодив под машины, за рекордное время добрался до «Ла Каза Гранде». Поскольку ему не хотелось еще раз видеться с администратором после встречи с ним в полиции, он пробрался в гостиницу со служебного входа, сел в лифт, поднялся на нем до этажа, на котором находилась комната, занимаемая Тэсс, и так как у той была скверная привычка не закрывать дверь на ключ, он влетел в нее, словно ядро, выпущенное из пушки. Она была только в комбинации и вскрикнула от неожиданности, что привлекло внимание горничных, готовых каждую секунду услышать новый крик о помощи или предсмертный хрип, однако сцена, открывшаяся их взору, успокоила: крепко обнявшись, Пьетро и Тэсс позабыли о существовании вокруг них других людей.
Как только донна Империя узнала от младшего брата о том, что он стал для комиссара подозреваемым в убийстве Джозефины Пампарато под номером один, она сразу же направилась в комиссариат. И вот она предстала перед Массимо, исполненная самообладания, а тот восхищенно смотрел на нее, и ему казалось, что перед ним стоит сама богиня Юнона.
— Чем обязан удовольствию видеть вас, синьора? Садитесь, прошу вас.
— Я не могу сидеть перед своим врагом!
— Я — ваш враг?! Что заставляет вас так думать синьора?
— Я думаю о своем сыне, которого вы держали здесь в надежде сделать из него убийцу и отпустили его только тогда, когда к этому вас принудило признание Пьетро Лачи! Я думаю о своем брате, которого вы теперь считаете убийцей этой девицы! Может быть, вам это кажется недостаточным для того, чтобы я считала вас своим врагом?
— Но ведь я — комиссар полиции, синьора.
— Ма ке! Но ведь это не моя вина, а?
— Я не жалуюсь на свое положение и не нуждаюсь в чьем-то сочувствии! Но моя работа предполагает, что я обязан найти того, кто убил синьорину Пампарато! И для меня каждый человек, работающий в этой гостинице, будет оставаться подозреваемым до тех пор, пока его невиновность не станет очевидной! Так что прошу вас, синьора, присаживайтесь.
Донна Империя согласилась сесть, но при этом заметила:
— И все же это не объяснение, почему вы так настроены именно против моих родственников!
— Давайте вместе поразмыслим. Кто мог поддаться чарам или обольщению, — речь сейчас не об этом, — Джозефины? Энрико Вальместа, Пьетро Лачи, Фортунато Маринео и Ансельмо Силано. Однако по общему мнению всех служащих гостиницы, Энрико не обращал внимания на Джозефину, безумно любившую Фортунато и так же безумно любимую Пьетро. Фортунато мог бы пойти на убийство, чтобы избавиться от девушки, пытающейся нарушить его планы относительно Сьюзэн Рэдсток. Пьетро мог убить ее из ревности. Однако было доказано, что ни тот ни другой, не виновны в этом преступлении. Остается ваш брат, синьора, которого видели в момент, когда он выходил из комнаты Джозефины.
— Но ведь она уже была убита!
— У меня нет этому никаких доказательств, кроме его собственного рассказа.
— А разве этого недостаточно?
— К сожалению, нет.
— Вы оскорбляете члена моей семьи!
— Ма ке! Раз у вас есть такое убеждение, может, вы найдете другого подозреваемого?
— Да, это дон Паскуале.
От этих слов у Прицци перехватило дыхание.
— Если бы не ваша репутация, синьора, я мог бы подумать, что от всех ваших хлопот у вас помутилось в голове. Дон Паскуале! Этот несчастный человечек, который пугается малейшего шума!
— Смею вас заверить, комиссар, что это еще тот гусь!
— Докажите!
Чтобы убедить Массимо в своей правоте, донна Империя рассказала о случае, когда при оказании помощи дону Паскуале она подверглась хотя и не грубой, но настойчивой атаке со стороны дона Паскуале и о том, как страсть разожгла его обычно тусклый взгляд.
— Только подумайте, синьор комиссар, если женщина моего возраста смогла разжечь в нем такую страсть, что же тогда говорить о хорошенькой девушке, которая к тому же только то и делала, что дразнила мужчин?
— Ну, знаете…
Массимо накак не мог прийти в себя. Дон Паскуале… еще один, такой же, как Пьетро… Комиссар поднялся.
— Я никогда бы не позволил себе усомниться в ваших словах, синьора, и поэтому полностью верю вашему рассказу о неприятном приключении, которое вам пришлось пережить… Видимо, мне придется потребовать кое-какие объяснения от дона Паскуале.
— Если вам потребуется, чтобы я повторила это при нем, сразу же позовите меня, я абсолютно не боюсь этого слизняка!
— Нисколько в этом не сомневаюсь, синьора. Кони!
Вошел инспектор.
— Вызовите машину. Мы вдвоем и синьора Маринео едем в «Ла Каза Гранде».
Ансельмо слегка вздрогнул при виде полицейских, но присутствие сестры успокоило его. Прицци подошел к администратору.
— Вы видели сегодня своего директора?
— Не так давно, синьор комиссар. Скорее всего, он у себя в кабинете. Хотите, я перезвоню ему?
— Спасибо, не нужно. Лучше я зайду к нему без предварительного доклада. Так получится даже по-семейному. Пойдемте, Кони.
— Слушаюсь, синьор комиссар!
Вернувшийся к обязанностям лифтера Пьетро улыбнулся им. Прицци спросил:
— Ну что, жизнь прекрасна?
— О да, синьор комиссар!
Кони несколько раз, с усиливающейся настойчивостью, постучал в дверь кабинета дона Паскуале, по ответа так и не последовало.
— Кажется, его нет на месте.
Массимо повернул ручку двери, и та открылась. Перед ними предстала неприятная сцена. Директор сидел в своем кресле. Склонив голову на грудь, он, казалось, спал, но при этом корпус его наклонился влево. Белая рубашка на нем была вся пропитана кровью. Прицци подошел и осторожно приподнял голову дона Паскуале за подбородок, но сразу же отдернул руку, при этом его едва не стошнило: горло директора было широко распорото от уха до уха. От удивления Кони даже присвистнул.
— Тот, кто решил перерезать ему горло, мог не беспокоиться, что он выживет!
— Да, кто-то вложил немало злости!
— Во всяком случае, в этот раз не может быть и речи о ревности, поскольку Джозефины больше нет в живых.
— Конечно, нет, Кони. Это убийство в какой-то степени даже упрощает наши дела. Теперь мы точно знаем, что эта англичанка была права. Ведь дон Паскуале погиб не из-за Джозефины, а, вероятнее всего, из-за наркотиков. В таком случае, убийство синьорины Пампарато могло бы иметь аналогичные причины. Итак, мы продвигаемся в этом деле, Кони, продвигаемся!
— Вот только жаль, что наш путь усеян трупами.
— В нашей профессии он редко когда бывает устлан цветами, преподнесенными улыбающимися девушками!
— А жаль, что это не так, шеф!
— Не вы один сожалеете об этом.
Даже с первых шагов по экваториальному лесу в поисках Ливингстона[155] Стэнли[156] не соблюдал таких предосторожностей, как это делали Дэвид и Гарриет Тетбери при входе в холл «Ла Каза Гранде». Они были уверены в том, что все существующие на земле микробы только того и ждали, чтобы наброситься на них. Они медленно продвигались в этом враждебном, не внушавшем им доверия мире, который они не могли разглядеть, потому что смотрели на него сквозь призму собственных предрассудков. С тех пор как в аэропорту они ступили ногой на землю, они не переставали делать сравнений с родным для них окружением, и в этих сравнениях Вилтон, его жители и их нравы всегда оказывались на высоте. Любившие родную Англию еще более слепо, чем Рэдстоки, они воображали себя первооткрывателями, пустившимися в опасное для здоровья путешествие с тем, чтобы спасти попавших в беду друзей. Восхищаясь своей собственной смелостью, они чувствовали еще большую гордость оттого, что родились на другом берегу Ла-Манша.
В бюро обслуживания Тетбери обратились к Фортунато, и, узнав номер заказанной для них комнаты, они, не предупредив своих друзей о своем скором прибытии, дабы не настораживать возможного врага, спросили:
— Не здесь ли проживают господа по фамилии Рэдсток?
— Конечно, здесь, сэр! Могу ли я спросить, не приходитесь ли вы им родственниками?
— Нет, но мы с ними как пальцы на одной руке.
— В таком случае, сэр, рад сообщить вам, что меня зовут Фортунато Маринео, и это я — жених мисс Рэдсток!
— А, так это вы? И наконец на свободе?
— Простите?
— Я говорю, что вы вышли наконец-то из тюрьмы!
— Это было обыкновенной ошибкой, сэр.
— А что наши бедные друзья?… Они тоже в заточении?
— В заточении? Конечно же, нет!
— Где же они тогда?
— Кажется, на пляже. О, простите, что вынужден вас покинуть, но пришли полицейские…
— Полицейские?
— Они пришли проводить расследование по поводу убийства нашего директора.
— Неужели же…
— Увы! К сожалению…
Чтобы добраться до лифта, Гарриет схватилась за руку мужа, и даже улыбка Пьетро не произвела на нее смягчающего впечатления. Ей вспомнились рассказы о Борджиа и показалось, что убивать друг друга — это любимое времяпрепровождение туземцев. Дэвид, как мог, старался ее успокоить, но он и сам не верил собственным доводам.
Оказавшись у себя в номере, Тетбери обменялись беспокойными взглядами. Дэвид прошептал:
— Если бы я знал, дарлинг, то никогда бы не заставил вас ехать сюда вместе со мной!
Гарриет всегда проявляла находчивость в трудных обстоятельствах.
— Если вам грозит какая-то опасность, Дэйв, я разделю ее с вами, а если в результате этого самопожертвования вам придется расстаться с жизнью, я умру вместе с вами! Мы вместе жили на земле и вместе останемся на небе!
Они восторженно бросились друг другу в объятия и, когда в дверь постучали, им на секунду показалось, что за ними пришли для того, чтобы отвести их на эшафот. Но это оказалась всего лишь симпатичная горничная Луиза Дуилло, которая, не пожелав работать на этаже, где было совершено убийство Джозефины, была переведена на этаж, где сейчас проживали англичане. Она поинтересовалась, не нуждаются ли Тетбери в чем-нибудь. Поскольку они не понимали итальянского, а Луиза, в свою очередь, не понимала ни одного слова по-английски, их разговор не занял много времени, и Луиза ушла, пообещав прислать кого-то другого, с кем они могли бы объясниться. Через несколько минут после этого в номере появился Фортунато и осведомился о пожеланиях новоприбывших. Тетбери были тронуты подобным вниманием и подумали о том, что, вопреки их опасениям, Сьюзэн Рэдсток сделала не такой уж плохой выбор. Гарриет подумала о том, что внешне этот Фортунато выглядит весьма привлекательно. Чтобы как-то успокоить свои чувства, ей в голову пришла дикая мысль попросить его рассказать о том, что произошло в «Ла Каза Гранде» и почему полиция бродит здесь, словно у себя дома, а также почему их собеседник побывал в тюрьме, и о причинах, побудивших Рэдстоков ввязаться в конфликт с итальянским законом и его представителями. Не стоит забывать о том, что Фортунато обладал великолепным даром красноречия и богатым воображением, присущим всем его соотечественникам. Безусловно, факты, изложенные в его рассказе, были совершенно правдивы, но при этом он сдобрил их такими деталями и неожиданными акцентами, что его рассказ не мог не произвести на слушателей должного впечатления.
— Все началось с убийства нашего заместителя директора, синьора Маргоне. Поначалу подумали, что он попросту повесился, но полиции удалось установить, что еще до этого его задушили.
Гарриет в ужасе всплеснула руками.
— Боже мой!..
— Известно ли, почему был убит этот бедняга? — спросил Дэвид.
— Я не должен был вам этого рассказывать, но с учетом того, что считаю вас как бы своей будущей семьей, скажу: похоже, он занимался торговлей наркотиками и был убит по приказу своих хозяев… Причины этого мне самому неизвестны.
Миссис Тетбери бросила на мужа полный отчаяния взгляд.
— Когда после этого был обнаружен труп Джозефины, которую тоже задушили…
Гарриет тихо простонала.
— … то поначалу решили, что здесь имеет место обычная любовная история. Полиция арестовала меня лишь потому, что я должен был встретиться с ней приблизительно в то же время, когда произошло убийство… Но потом комиссар Прицци обнаружил связь между этими двумя убийствами и установил, что их причина — все те же наркотики. Мне трудно себе представить, чтобы и Джозефина тоже… ма ке! Но ведь это полиция, верно? С тех пор как я больше не являюсь прямым участником в этой истории, она меня больше не интересует.
Гарриет с трудом удалось произнести:
— Вам… вам… очень повезло!
— Теперь я думаю только о Сьюзэн.
Тетбери потребовал более детальных пояснений:
— Скажите мне, молодой человек, когда мы только приехали, вы ведь говорили, что полицейские до сих пор находятся в гостинице?
— Они приехали сюда еще вчера, сразу же после того, как было обнаружено тело директора… Впрочем, что за чушь я несу?! Они же сами его и обнаружили.
Гарриет полушепотом спросила:
— Его тоже задушили?
— Нет, перерезали горло… Просто-таки невероятная рана… От уха до уха! Никогда бы не подумал, что в таком маленьком человеке может быть столько крови!..
На этот раз Гарриет не выдержала и потеряла сознание, а ее супруг поспешил отыскать в чемодане предусмотрительно захваченную из Вилтона бутылку виски.
Когда такси доставило их к отдаленному пляжу, находящемуся по дороге на Три моста, куда Рэдстоки отправились в поисках покоя, Дэвиду пришлось вступить в первую на неприятельской территории стычку из-за стоимости этой поездки. Будучи совершенно уверенным с первых же шагов на этом континенте, что все люди здесь думают только о том, как бы полностью обобрать несчастных британцев, имевших неосторожность оказаться в их стране, Дэвид раскричался, находя плату за проезд непомерной. При этом они спорили с шофером на разных языках, совершенно не понимая друг друга, и надежды на взаимопонимание таяли по мере того, как тон их спора продолжал повышаться. Вскоре в спор вмешались другие водители такси, полагавшие, что чем сильнее они будут кричать, тем лучше их поймут эти упрямце англичане. Гарриет, которая уже больше не могла все это переносить, поискала в своем
словарике слово, отражавшее ее отношение к противоположной стороне, и выкрикнула его в адрес водителей:
— Ладрони[157]!
Последовавшие за этим беспорядочные громкие выкрики превзошли все ожидания мисс Тетбери. Одни из них потрясали кулаками у носа Дэвида, выкрикивая при этом, похоже, ругательства, один в исступлении топтал на земле свою кепку, а остальные при помощи оживленных жестов, с дрожью в голосе, комментировали оскорбление, нанесенное им англичанкой, утверждая, что не только они сами, но и несколько поколений их семей были ею обесчещены. Наконец, все это привлекло внимание дежурного полицейского, который подошел, выслушал жалобы итальянской стороны и пальцами сделал знак Тетбери, давая понять, что необходимо расплатиться. Дэвид вынул из кармана бумажник, полицейский отобрал необходимую сумму и передал ее не помнящему себя от негодования и обессилевшему от жестикуляции водителю, а затем развел в разные стороны спорщиков. У Тетбери возникло сильное желание поскорее убраться из этой страны дикарей. Ступив ногой на пляжный песок, они с ужасом думали о том, в каком состоянии сейчас должны были находиться Рэдстоки…
Тетбери пришлось потратить немало времени, чтобы отыскать друзей. Им никогда бы не пришла в голову мысль искать их посреди этих без всякого стыда разлегшихся пар, без стеснения выставивших на всеобщее обозрение свои тела и ничуть не опасавшихся навлечь этим меры, предусмотренные законом. Дэвид и Гарриет наткнулись на Генри и Люси совершенно случайно. Поначалу они даже глазам своим не поверили. Увидев мистера Рэдстока в одних лишь плавках, а это означало, что на нем одежды было еще меньше, чем на Дэвиде, когда тот ложился спать, миссис Тетбери покраснела. Мистер Тетбери, словно завороженный, не отрывал взгляда от груди Люси, невольно сравнивая ее с Гарриет, причем далеко не в пользу последней. Пораженный неожиданной встречей, Генри едва не проглотил свой зубной протез, а Люси, поднимаясь с песка, продемонстрировала Дэвиду те части тела, которые тот никогда не полагал возможным увидеть. Самым странным оказалось то, что Тетбери были смущены намного больше, чем Рэдстоки. Генри воскликнул:
— Дэйв! Старина! Откуда вы? Привет, Гарриет!
Миссис Тетбери ничего не ответила, будучи не в состоянии оторвать взгляд от волос на груди мистера Рэдстока. Дэвид же очень сухо ответил:
— Мы приехали спасти вас!
— Спасти?
— Вырвать вас из рук этого варварского народа и фашистов, правящих им!
— Что с вами, Дэйв? Ваше здоровье начинает внушать мне опасения! Раздевайтесь вместе с Гарриет, прилягте рядом с нами, и ваше беспокойство уймется.
— Раздеться? Неужели вы позабыли о приличиях, Рэдсток?
— Не будьте так глупы, друг мой!
— Что? Мы еще никогда не выезжали за пределы Великобритании, но, получив ваше письмо, пошли на невероятный риск, посчитав, что вы в опасности! А вы вместо объяснений предлагаете мне и миссис Тетбери раздеться и принять участие в этом отвратительном самовыставлении напоказ, в котором, — да простит меня Господь! — вы, кажется, находите некоторое удовольствие.
— Дэйв, вы уже серьезно начинаете мне надоедать!
— О мистер Рэдсток, неужели вы смогли сказать такое обо мне?!
Люси вежливо осведомилась:
— В самом деле, Гарриет, неужели вам не хочется последовать нашему примеру? Если бы вы только знали, как здесь хорошо…
При этом Гарриет, краснее самой спелой вишни, простонала:
— Как же я разденусь при всех почти что догола?!
— Никто даже не обратит на это внимания!
— Нет, я умру со стыда! Я не смогу не думать, что стала похожа на одну из этих… ну, вы сами понимаете…
— Благодарю вас, дорогая!
Женщины с ненавистью смотрели друг на друга, пока Дэвид убеждал друга надеть брюки и вернуть себе прежний респектабельный вид.
— Генри! Мне кажется, что с вами происходит что-то ненормальное! В последний раз прошу вас вернуться в гостиницу, собрать вещи и отправиться вместе с нами в Вилтон, где ждут друзья, которые беспокоятся о вас!
— Нет!
— Будьте благоразумны, Рэдсток! Неужели вы готовы предать Англию, вы, герой Дюнкерка?!
— Ну и черт с ней… Солнце, море, пляж, спагетти, полента и климат… намного лучше Дюнкерка!
— О!
Дэвид Тетбери никак не мог понять, что с его другом. В эту минуту Мери Джейн, Сьюзэн и Тэсс, на которых были лишь легкие купальники, без всякой приличествующей сдержанности, подбежали к ним и стали обнимать и целовать новоприбывших. Эти молодые тела, прикасавшиеся к Дэвиду, внесли некоторое смятение в мысли старого квакера, а Гарриет, догадавшаяся о ходе его мыслей, опять покраснела, но на этот раз — от возмущения. Короче говоря, расставаясь, они были злы друг на друга.
И все же в тот же вечер, находясь во власти угрызений совести, Рэдстоки пригласили Тетбери поужинать вместе с ними, объявив о том, что они готовы вернуться в Вилтон. В свою очередь, Тетбери не хотелось перечеркивать долгие годы близкой дружбы, и они решили забыть о происшествии на пляже. Оказавшись за столом, обе стороны предпочли не вспоминать об этом неприятном инциденте и говорили так, словно находились в это время в «Безвременнике и васильке». Лишь то, что было подано на стол, привело Дэвида и Гарриет в некоторое смущение. Тетбери никак не могли понять, как можно есть подобную пищу, поскольку они всегда славно ужинали вареными овощами и мясом и запивали все это чаем.
На ужине присутствовали также Фортунато с Сьюзэн и Мери Джейн с Энрико, которые произвели на Тетбери приятное впечатление. Тэсс и Пьетро куда-то исчезли.
Тэсс и Пьетро в этот момент были слишком счастливы, чтобы думать еще и о других, и отправились на прогулку в сторону деревни Оспедалетти. До этого, вместо ужина, они лишь наскоро перекусили. Совместное счастье заставило их позабыть о бренной пище. Сейчас они переживали минуты, которые поклялись никогда не забывать, когда окажутся в Великобритании, дав друг другу обещание каждый год возвращаться в места, ставшие свидетелями зарождения их чувств. Пьетро говорил о том, что в Лондоне они точно так же будут прогуливаться по набережной Темзы, рука об руку, и смотреть на луну в небе Англии. Оправданием его невежества могло служить лишь то, что он еще никогда не ступал на английскую землю, а Тэсс не решалась сказать о том, что лупа не очень любит показываться жителям Лондона.
Они вернулись в «Ла Каза Гранде» около двух часов ночи. Вернувшейся в мир обыденных вещей Тэсс вдруг неожиданно сильно захотелось есть. Обрадованный тем, что может продемонстрировать свою значимость в «Ла Каза Гранде», Пьетро провел ее на кухню и там, открыв шкафы, предложил ей шикарный выбор всевозможных продуктов. Однако Тэсс больше всего привлекли горшочки с паштетом, приготовленным Пампарато, которые были выстроены правильными рядами и прикрыты сверху аппетитной коркой из теста. Пьетро не знал, что ему делать.
— Эти уже приготовлены к отправке. Если Людовико заметит, что одного из них не хватает, то он придет в неописуемую ярость.
— Ты боишься его?
Только такие слова сейчас могли лучше всего воздействовать на Пьетро, и хитрая Тэсс это сразу же поняла. Он схватил один из горшочков и протянул его любимой.
— Держи, но лучше съешь это у себя в номере.
Пьетро проводил мисс Джиллингхем до двери ее комнаты, где они обменялись перед расставанием таким поцелуем, что у обоих от него перехватило дыхание.
Тэсс устроилась в постели и лишь после этого приступила к ужину. После первого же куска на ее лице появилась гримаса отвращения. Ее рот был наполнен какой-то небывалой горечью. Она заглянула в горшочек и увидела, что надкусила какой-то пакетик, запеченный в корке из теста. Кончиком языка она попробовала порошок, находившийся в этом пакетике, и убедилась в том, что горечь находилась именно в нем. Таким образом, она поняла, что ей удалось решить задачу, которую не мог решить комиссар Прицци.
Элеонора спала глубоким сном, свидетельствовавшем о ее здоровье. Ей снился приятный сон, как-будто она прогуливалась под руку с мужем по пьяцца дель Дуомо в Милане[158]. В свою очередь, уснувший в своем кабинете Массимо видел куда более фривольные сны, в которых этот кабинет неожиданно превратился в небольшой венецианский дворец, а он — в дожа, державшего за руки юных англичанок, позабывших о присущей им национальной сдержанности и изо всех сил старавшихся угодить Прицци. Эта игра им настолько понравилась, что они весело смеялись, но этот смех, видимо, гак раздражал соседей, что те принялись, как сумасшедшие, стучать в дверь и пробиваться к нему из мира, возвращаться в который Прицци никак не хотелось.
Элеонора первой покинула мир грез и вернулась к реальности. Кто-то действительно сильно колотил в дверь. Она растормошила мужа.
— Массимо, проснись!
— А? Что? Который час?
— Половина четвертого ночи.
— Ма ке! Люди посходили с ума!
Ворча себе под нос ругательства, он открыл дверь и столкнулся нос к носу с инспектором Кони.
— Кони! Что случилось?
Полицейский немного отступил в сторону, чтобы начальник смог увидеть стоявшую у него за спиной Тэсс.
— Вы? В такое время? Ма ке! Вы что, оба сошли с ума?
Невозмутимый Кони попробовал успокоить шефа.
— Эта синьорина разрешила все наши проблемы.
— Неужели?! И каким же образом ей это удалось, скажите на милость?
— Может, мы лучше войдем?… Такие вещи не рассказывают на лестничной площадке.
Массимо пришлось пригласить визитеров в гостиную. Элеонора прошла на кухню и принялась готовить кофе. Прицци недовольно спросил мисс Джиллингхем:
— Ну, что там у вас?
Вместо ответа она протянула ему горшочек с паштетом и объяснила, откуда он у нее. Комиссар сказал вошедшей в гостиную жене:
— Элеонора, можешь поблагодарить мисс Джиллингхем, поскольку именно благодаря ей мы скоро переедем в Милан.
Все остальное произошло довольно быстро и без осложнений. Людовико еще спал в своей кровати, когда на него уже были надеты наручники. Очень быстро он сознался в том, что горшочки со знаменитым паштетом Пампарато были прекрасным средством доставки наркотиков, которое до сих пор ни у кого не вызвало ни малейших подозрений. Повар не стал долго отнекиваться и передал им список тех, кому предназначалась эта необычная пища.
— Кто обеспечивал вас наркотиками?
— Маргоне.
— А его кто?
— Главарь нашей организации — дон Паскуале.
— А теперь поговорим об убийствах, Пампарато. Кто убил Маргоне?
— Дон Паскуале.
— Зачем?
— Маргоне испугался и сообщил директору о своем намерении удрать отсюда, а также о том, что получил вызов в полицию. Дон Паскуале знал, что, если его заместитель попадет в полицию, он заговорит. Тогда он решил обеспечить его полное молчание.
— А Джозефина? Ее тоже убили из-за наркотиков?
— Наркотики здесь виноваты только косвенно. Думаю, она видела, как дон Паскуале выходил из комнаты Маргоне, и начала его шантажировать.
— Значит, он и ее…
— Безусловно.
— И вы ему не помешали?
— Нет, мы, как и вы, думали, что это была любовная история.
— Как вам удалось узнать правду?
— Я понял это, когда англичанка сказала, что у обоих убийств может быть один и тот же мотив.
— И тогда, не имея больше никаких других доказательств, вы убили дона Паскуале?
— Нет, я не убивал.
— А кто же, если не вы?
Сидевшая до сих пор молча Альбертина произнесла:
— Джозефина сказала мне о том, что собиралась шантажировать дона Паскуале.
— И вы допустили, чтобы…
Альбертина пожала плечами.
— Я — никто, чтобы командовать здесь кем бы то ни было… Сразу же я поняла, что это он убил мою девочку… Это чудовище задушило ее… Я не могла не отомстить за дочь… Тогда я взяла кухонный нож, сказала ему, что собираюсь показать одно письмо, зашла ему за спину и…
Она повторила жест, не требовавший дополнительных объяснений.
Ансельмо перезвонил в Геную и сообщил о том, что берет на себя управление тонущим кораблем и срочно просит о помощи. Массимо Прицци вернулся в комиссариат и составил там рапорт о своей победе, в котором он не счел целесообразным распространяться о роли Тэсс Джиллингхем. Паоло Кони препроводил семейство Пампарато поразмышлять в тюремном одиночестве о бедах, которые влечет за собой желание слишком быстро и незаконным способом обогатиться. Англичане, довольные тем, что эта кровавая история была распутана их соотечественницей и что таким образом было еще раз доказано британское превосходство, с радостью в сердцах сели в лондонский самолет. Девушки уронили по несколько слезинок, прощаясь со своими женихами, но им вскоре предстояло приступить к службе. Договорились о том, что все три свадьбы состоятся в Вилтоне. Молодые люди должны были прибыть в Англию, как только их невестам удастся подыскать им места в одной из лондонских гостиниц. Они расстались, дав друг другу столько клятв, что их невозможно было бы перечислить до конца. В этих клятвах залогом были жизни еще двух или трех человек. Прощальные объятия их были так же крепки, как захваты в кетче.
А затем Сан-Ремо вновь погрузился в обычную жизнь, полную удовольствий и тишины.
Для Фортунато, Энрико и Пьетро наступил знаменательный день, когда, сидя в креслах набирающего высоту самолета, они наблюдали за тем, как родной город уменьшался и таял у них на глазах. Хотя они и старались не подавать вида, но их сердца сжимались перед неизвестностью. Как только лигурийский берег исчез из поля зрения, они вернулись к мыслям о своих возлюбленных. Ведь все они еще были в том возрасте, когда кажется, что будущее сможет оказаться лучше, чем прошлое. Их нетерпение возрастало по мере того, как самолет подлетал к столице Великобритании. Девушки пообещали, что возьмут двухчасовой отгул исключительно для того, чтобы встретить их еще в аэропорту. Поскольку срок в два часа только сейчас показался им странным, Пьетро сказал:
— Конечно, глупо с моей стороны, но я так и не спросил у Тэсс, что у нее за работа.
— И я не спрашивал, — ответил Энрико, — но мне это безразлично, если Мери Джейн будет со мной.
— Меня это гоже не беспокоило, — сказал Фортунато, — но какое это может иметь значение? Они работают в каком-то учреждении.
Однако троих эмигрантов ожидало большое разочарование. Никто не встретил их в аэропорту. Наиболее подверженный чувствам Энрико уже готов был расплакаться, как вдруг увидел свою Мери Джейн и ее подруг… Пьетро крикнул:
— Вот они!
Он указал на трех девушек, бегущих им навстречу и машущих на ходу руками. Фортунато выругался так, что от этого могли бы задрожать стекла окон Букингемского дворца. Пьетро воскликнул:
— Санта мадонна! Быть этого не может! Вы тоже ничего не знали?
Энрико только вздохнул:
— О Боже мой!..
Трое англичанок, спешивших к ним, были одеты в строгие костюмы и портупеи полицейских. Фортунато, в голосе которого звучало полное непонимание происходящего, перемешивающееся с бесконечным разочарованием, сказал друзьям:
— Мы помолвлены с легавыми!
Первые часы их встречи оказались нелегкими. Невесты признались, что не хотели прежде говорить о своей профессии, чтобы не потерять суженых, с которыми они хотели создать общий очаг, при этом дав обещание, что те никогда больше не увидят их в этой униформе. Меньше всех был потрясен Энрико, для козорого Мери Джейн была прекраснее в этом костюме. Трое итальянцев увеличили количество эмигрантов в Лондоне. В первый же уик-энд все трое мисс представили своих женихов своим почтенным родителям. Из гостей те вернулись несколько растерянными. Рэдсток демонстрировал Фортунато по всему Вилтону, словно ручного медведя. Мистер Джиллингхем предложил Пьетро посостязаться с ним в приемах классической борьбы, а его супруга, отведя его в сторону, перечислила ему все, что она с ним сделает, если дочь не будет с ним счастлива. Один лишь Энрико остался доволен, побывав в гостях у будущей тещи. Он ничего не понял из того, о чем она ему рассказала, и до него не дошло, чего она от него хотела, но расстались они весьма довольные друг другом.
Потекли обыденные дни, и лондонский климат сделал свое дело, то есть дожди, туман и сырость стали влиять на настроение итальянцев. Первым начал шмыгать носом Энрико, и Мери Джейн сказала ему, что он стал похож на коренного лондонца. К сожалению, шутки не могли поправить ущерб, наносимый лондонской погодой. В одно серое туманное воскресенье трое друзей собрались в комнате Пьетро на Блумсбери. Они курили и смотрели, как мелкие капли покрывают оконные стекла. Первым не выдержал Фортунато.
— Когда думаешь о том, какая сейчас погода в Сан-Ремо…
Это было первой трещиной, образовавшейся в здании, которое до сих пор удавалось с большим трудом удерживать от развала. Пьетро сказал:
— По воскресеньям, когда я был свободен, я ходил один или с кем-нибудь съесть пастиццада а ля фриулана[159] в ресторанчике Луиджи в старом городе.
— А риццото[160] с апельсинами и трюфелями… — вздохнул Энрико.
— Не знаю, долго ли еще смогу здесь продержаться, — почти спокойным голосом заявил Фортунато.
— Неужели ты оставишь Сьюзэн? — удивился Энрико.
— Ма ке! Я только хочу нормальной жизни!
Пьетро одобрил решение своего товарища.
— Я очень люблю Тэсс и хотел бы остаться вместе с ней, но в этой стране невозможно жить, если только ты в ней не родился.
— А Мери Джейн под солнцем еще красивее… — мечтательно прошептал Энрико.
Словно штукатурка прекрасной виллы, которая, опадая под ветрами и дождями, оставляет после себя некрасивые, голые стены в пятнах, так и любовь трех друзей становилась все более зыбкой под влиянием английского климата. Как можно говорить о любви даже с самым близким на свете человеком, если вы вынуждены прятаться под зонтиком и ваши поцелуи разбавлены дождевой водой? А постоянно мокрые щеки способны вызвать возвышенные чувства только у родной бабушки этого человека. Короче говоря, положение в итало-британских семьях ухудшалось с каждым днем. Англичанки тоже отлично это понимали, но не знали, что предпринять. Тэсс, которая рассказала родителям о своих затруднениях, посоветовали есть каждый день двойную порцию порриджа, полагая, что это вернет ей хорошее настроение. Миссис Мачелни даже не стала слушать того, что ей говорила Мери Джейн, заявив, что они навсегда соединены с Энрико и ничто не сможет их разлучить. Одни лишь Генри и Люси Рэдсток понимали и разделяли горе дочери потому, что сами знали Сан-Ремо. Лежа в кровати, Генри часто вспоминал о красивых девушках, встречавшихся ему на пляжах, слышал веселый смех людей, знающих, что такое радость жизни, и ему все чаще начинало казаться, что смех Дэвида, по сравнению с ними, напоминал скорее блеяние барана, чем смех жизнерадостного человека. Ну а Люси иногда запиралась в ванной, рассматривая с тоской остатки загара на своем теле.
В это воскресенье луч солнца позолотил Солсбери и собор Св. Марии. Сьюзэн и Фортунато вышли из родительского дома и на автобусе доехали до Солсбери. Они гуляли по пустынному городу, останавливались у витрин закрытых магазинов, и окружающая их меланхолия, в конечном счете, перешла на них самих. Держась за руки, они не знали, что сказать друг другу из опасения вместе прийти к неутешительным выводам. Они медленно шли по набережной Эйвона, и в воображении Фортунато возникала целая вереница таких вот бесцветных и безрадостных выходных. Вместе с тем ему вспоминались веселые выходные в Сан-Ремо. Они сели на скамейку, и Сьюзэн спросила по-итальянски:
— Ты разлюбил меня, Фортунато?
— О нет… но все это…
Широким жестом она обвела вокруг, указывая на окружавшую их природу.
— Разве это не так красиво?
— Да, красиво… Ма ке! Но ведь так невесело, правда?
— Ты хочешь вернуться обратно?
Он смотрел на землю, не решаясь заглянуть ей в глаза.
— Думаю, да. Я никогда не смогу привыкнуть ни к такой жизни, ни к этой погоде.
— Понимаю.
Он прижал ее к себе.
— Знаешь, я тебя люблю точно так же, как прежде… Возможно, даже еще больше, потому что смог лучше тебя узнать, но я не могу…
Вечером, когда Люси спросила, зайдет ли к ним Фортунато на следующий уик-энд, Сьюзэн ответила, что Фортунато никогда больше сюда не вернется, что он уезжает обратно, к солнцу, и совершенно в этом прав и что она, Сьюзэн, — самая несчастная девушка во всей Великобритании. Пока она заливалась горькими слезами, Генри Рэдсток набил свою трубку, раскурил ее и сказал:
— По-моему, Сьюзэн, если вы действительно так любите этого человека, вы не должны ему позволить покинуть вас.
В отчаянии она обернулась к отцу и спросила:
— Но что же я могу поделать, дедди?
— Уехать вместе с ним!
В последующие дни было немало вздохов, слез и сожалений. Энрико, который никак не мог привыкнуть к английскому образу жизни, но при этом больше собственной жизни любил Мери Джейн, предложил ей вместе умереть. Она бросилась за утешением к Тэсс, но и та ходила словно в воду опущенная с тех пор, как Пьетро объявил о своем отъезде. Приобретением билетов на самолет занялась Сьюзэн. Проходя всего лишь стажировку в полиции, девушки никогда не носили униформу, помимо часов их службы. В аэропорту сердца троих парней сжались от неизбежности: они прибыли сюда вовсе не для того, чтобы сказать «до скорого свидания». Девушек нигде не было. Энрико сказал:
— Они побоялись, что не смогут выдержать расставания. Даже не знаю, как смогу это вынести, пока мы не прилетим.
В самолете, заняв свои места, они никак не могли понять, почему Сьюзэн приобрела билеты так, что они сидели не рядом, а один за другим. За одну-две минуты до окончания посадки в салон вошли три англичанки и спокойно заняли места рядом со своими женихами. Еще не веря в неожиданное счастье, Фортунато спросил:
— Что это значит, Сьюзэн?
— Сейчас объясню, дарлинг. В Великобритании настолько трудно найти себе мужа, что, когда девушке удается подыскать себе подходящего парня, она ни за что его не упустит, даже если для этого ей приходится следовать за ним в Италию и отказаться от службы короне.
* * *
Дэвид Тетбери проснулся рано утром и подошел к окну. Шел мелкий дождь, а западный ветер гнал по серому небу темные облака. Тетбери потер руки. День обещал быть прекрасным, а из-за этой погоды чай и пирожные, которые приготовит дорогая Гарриет, будут еще вкуснее. Он растопил камин, прокашлялся, шмыгнул несколько раз носом и протер себе глаза. Все было просто великолепно.
Приближался знаменательный день, когда Рэдстоки должны были опять отправиться в Сан-Ремо на свадьбу дочери. В Лондоне к ним должны были присоединиться миссис Мачелни и миссис Джиллингхем. Мистера Джиллингхема не отпустили с работы, и он попросил Генри быть посаженым отцом на всех трех свадьбах. Генри ел яичницу с ветчиной, а сидевшая напротив Люси довольствовалась бутербродами, что она делала с того самого дня, как увидела великолепные женские фигуры на пляже в Сан-Ремо. Рэдсток сказал:
— На улице дождь… — И недовольно добавил, — … как обычно.
— Что с вами, Генри? — удивленно спросила Люси. — Неужели английская погода вам больше не нравится?
— А вы знаете, дорогая, как прекрасно вы выглядели в купальнике на пляже в Сан-Ремо? Солнце придало вам молодости!
— Прошу вас, Генри, не говорите таких глупостей; вы заставляете меня краснеть!
— Я искренне говорю с вами, Люси. К сожалению, в этой проклятой стране у вас никогда не будет повода опять надеть купальник.
— Увы, нет! — почти что простонала она.
Рэдсток проглотил три бутерброда, но, когда Люси поставила перед ним тарелку с порриджем, он отодвинул ее на глазах у удивленной жены и проворчал:
— Никогда бы не moг поверить, что целых шестьдесят лет ел по утрам такую гадость!
И тогда Люси Рэдсток поняла, что наступило время перемен. Она фазу же внесла необходимые поправки в свое поведение.
— Генри, я безумно рада оттого, что мы возвращаемся в Сан-Ремо, но мне ужасно трудно думать о том, что после свадьбы нам придется покинуть Италию и нашу единственную дочь и возвращаться Бог знает куда. Увы, мы не так уж молоды, дорогой!
Рэдсток взял жену за руку.
— Откровенно говоря, Люси, у нас нет необходимости возвращаться сюда.
От такой прекрасной перспективы волна счастья целиком захватила Люси. Она встала и поцеловала Генри так, как еще ни разу не целовала его со времени их свадьбы. С величайшей радостью и спокойствием души, словно обретя вторую молодость, мистер и миссис Рэдсток совершили предательство по отношению к Англии!
Как и подобает верным друзьям, Дэвид и Гарриет Тетбери стояли на перроне до тех пор, пока огни последнего вагона лондонского поезда, уносившего в дальние края Рэдстоков, не растаяли в тумане. Они покинули здание вокзала, и Тетбери отметил с каким-то мрачным удовольствием, что скоро из-за тумана невозможно будет разглядеть противоположную сторону улицы. Он взял жену под руку и, вдохнув полные легкие сырого промозглого воздуха, заявил:
— Дорогая, это и есть самая лучшая погода для настоящих людей! Кажется, Рэдстоки не совсем это понимают. Разве может быть где-то лучше, чем в нашей доброй старой Англии, Гарриет?
Миссис Тетбери смогла ответить ему лишь кивком головы, потому что нос у нее распух, а из глаз текли слезы, что предвещало начало седьмого по счету насморка в этом году.
ОЛЕ!.. ТОРЕРО!
Пролог
Если бы Консепсьон продолжала меня любить, я стал бы, возможно, великим тореро. Но она вышла замуж за Луиса, и, когда в церкви Санта Анна я услышал слова падре о том, что они соединяются навечно, мое сердце и мои желания умерли. Новильеро[161], цыган Эстебан Рохиллья (это мое имя), о котором в статьях, посвященных корриде, можно было прочесть только лестные отзывы и предсказания великой карьеры, стал обыкновенным человеком, убивающим быков, чтобы заработать себе на жизнь. Публика это заметила, и очень быстро мною перестали интересоваться. Обо мне говорили все, что угодно: что я болен, пью, ленив, лишен самолюбия. И никто не догадывался, что я был попросту несчастен. Меньше всех, конечно, об этом думали Консепсьон и Луис. Я так и не был принят в матадоры и долго довольствовался второстепенной ролью бандерильеро. Затем, когда Луис стал известным матадором, он предложил мне стать «доверенным помощником», и я согласился, ведь это хоть немного приближало меня к Консепсьон.
* * *
С того дня, как я присутствовал на свадьбе Луиса Вальдереса и Консепсьон Манчанеге, я стал молчалив, замкнут и ни с кем не общался. Правда, я с рождения не был особо жизнерадостным. Мы, цыгане, видим жизнь не так, как андалузцы, и хотя наша Пресвятая Дева так же красива, как и их Макаренья, но все же более строга. Когда ты вырос в Триане и, играя на берегу Гвадалквивира, видел море огней и золота, сверкающих на другом берегу с площади Монументаль и больницы Святой Милости, над которыми возвышается Жиральда, образ которой заставляет сильней биться сердце каждого севильца, ты никогда не сможешь стать во всем похожим на других. Я был наблюдательным и любил мечтать, сидя на солнце и разглядывая пейзаж, который мне никогда не надоедал. Часто солнце, играя лучами на Золотой башне, заставляло меня закрывать глаза, чтобы не ослепнуть.
Сегодня вечером я выйду из моего убежища потому, что перед рассветом должен умереть. Сейчас около полуночи. Смерть, преследующая меня, все равно меня настигнет. Я чувствую, как она приближается, идя через Триану. Через час, два, возможно, через три я услышу, как она осторожно станет подниматься по лестнице. Когда ж она тихо откроет дверь моей комнаты, я спокойно скажу:
— Входи… Я жду тебя.
Я не запер дверь потому, что знал — это свершится. Жить мне не хотелось. Зачем жить, когда друзья все мертвы? Я думаю, что убив меня, преступники постараются уничтожить и эти страницы, но прежде, я надеюсь, их прочтут те, кому они предназначены, а это — все, чего я желаю. Пусть инспектор Фелипе Марвин завершит это ничтожное дело, — он знает все не хуже меня. Вручая свою судьбу Нашей Владычице Надежде, святой покровительнице Трианы, я скоро уйду без страха в андалузскую землю. Последним, что я произнесу, будет твое имя, Консепсьон.
Да помилует меня Господь наш Иисус Христос!
Глава 1
В моей молодости футбол не был еще популярен, как сейчас, и для мальчишек того времени не существовало других развлечений, кроме корриды. Мы знали наизусть имена великих тореро и любили их всех подряд, не выделяя даже андалузцев, которые были нам особо дороги. У нас редко бывало достаточно денег, чтобы попасть на плацца в день корриды, и мы пробирались туда, кто как умел. Скольких подзатыльников и пинков стоила нам любовь к корриде! Но, отдавая дань справедливости, нужно отметить, что гражданские и военные охранники с пониманием относились к нашему увлечению и чаще, чем сегодня закрывали на это глаза. Воскресная коррида в день Пасхи означала для нас начало года, самого насыщенного и, увы, самого короткого: с апреля по октябрь. В течение этих семи месяцев мы, подглядывая в газеты, читаемые родителями, следили за результатами соревнований и с видом знатоков устанавливали разницу между корридами в Сант-Изидоре и Мадриде, в Сант-Фердинанде и Аранхесе, Сант-Фермине и Пампелуне, посвященными Телу Господню в Толедо и дню Мерсед в Барселоне. Но больше всего нас привлекали бои в Сант-Михель, в Севилье, проходящие почти в конце сезона.
Мы не рассуждали о корриде, мы в нее играли. Каждый из нас, по очереди, становился быком, держа две ветки у головы. Самые ловкие занимали места бандерильеро. Те, у кого друзья были достаточно сильные, чтобы сесть на них верхом, становились пикадорами, а те, кого все считали наиболее способными, становились во главе квадрильяс. Вот тогда-то и появлялась возможность показать наше умение обращаться с плащом. Мы тщательно копировали настоящие «проход у груди», «фонари и мельницы», в которых если и было недостаточно техники, зато темперамента — огромный запас. Стоит мне закрыть глаза, и я вновь вижу, как тридцать лет назад под жарким севильским солнцем я вздымал грудь и принимал позу победителя, чтобы услышать аплодисменты публики, состоявшей, правда, только из девочек. Они прикалывали к волосам носовые платки или какие-нибудь лоскутки, чтобы походить на красивых сеньорит в мантильях, которые ехали по улицам на корриду в открытых экипажах. Среди этих девчонок неизменно была Консепсьон, которую я любил уже тогда…
Похоже, я всегда любил Консепсьон, всю свою жизнь. Как я ни старался, но никого не мог вспомнить, кто бы мне нравился до или после нее. Она тоже меня очень любила. После игр мы часто возвращались, взявшись за руки и подражая взрослым, которыми мы так мечтали побыстрее стать. Прохожие улыбались нашей детской серьезности, а умудренные опытом старшие говорили:
— Вот еще двое влюбленних. Мы еще увидим их рядом в церкви Санта Анна… Храни вас Господь, мучачос[162]!
Но в Санта Анна с Консепсьон вошел Луис.
Тогда же еще никто не знал о Луисе. Я провожал Консепсьон до дома ее отца, булочника с калле[163] Кавадонга, славного человека, которого искренне трогала наша привязанность друг к другу. Если в его лавке было только два или три завсегдатая, то, увидев нас, он кричал:
— Вот и наши влюбленные возвращаются… Так когда же свадьба?
Я отвечал серьезно, как это делают дети, свято верящие во что-то:
— Когда мы будем большими.
Как правило, раздавался доброжелательный смех, и папаша Меначепе заключал:
— Тогда, дети, поцелуйтесь, и будьте верны друг другу.
Я нисколько не стеснялся и, обняв Консепсьон, целовал ее в обе щеки.
* * *
Я хранил верность ей всю свою жизнь.
Нам исполнилось двенадцать, четырнадцать, шестнадцать лет, и всегда, на всех праздниках и прогулках, Консепсьон была рядом со мной. Ей нравилась коррида потому, что это было мое любимое занятие, и мое желание стать тореро придавало ей особую гордость.
— Эстебанио, — говорила она, вытирая мне мокрое от пота лицо после наших коррид, становящихся с возрастом все более жесткими, — ты будешь самым великим матадором Севильи, таким, как Бельмонте!
Мои родители ничего не предпринимали, чтобы пресечь мое увлечение корридой, даже наоборот. Отец работал городским подметальщиком, а мать зарабатывала, убирая в квартирах. Мы были бедны. Консепсьон, несмотря на лавочку отца, была не богаче нас. Но все это не имело никакого значения, — ведь мы любили друг друга. Я был всецело поглощен тренировками и работал лишь несколько часов в день, чтобы заработать песеты[164], необходимые для пропитания. Как правило, я подносил багаж богатых иностранцев на вокзале Кордобы, выделяя их в толпе с первого же взгляда. Я был худощав, ловок и улыбчив. Я знал это и пользовался своей внешностью, особенно при встрече с англичанками, для которых был воплощением типичного андалузца. По их мнению, для полноты впечатления мне нужна была гитара на широкой перевязи. Из иностранцев мне, почему-то в основном попадались старые девы, некоторые из них были чертовски красивы, но я любил только Консепсьон, самую удивительную девушку в мире.
Мои юные годы прошли замечательно. Я стал крепким парнем, а Консепсьон вскружила головы всем в Триане, но зная, что она любит только меня, никто не осмеливался приставать к ней. Когда я впервые участвовал в новильяде[165] в Кармоне, меня сопровождали обе наши семьи. Там я выступил достаточно хорошо, и по вечерам в кафе, где собираются за стаканом анисового аперитива любители корриды, обо мне заговорили. Если говорить правду, профессия тореро давалась мне легко. Я инстинктивно чувствовал быка и поэтому всегда догадывался, каким из рогов он нанесет удар. Мы с быком относились друг к другу примерно так, как два противника, испытывающих глубокое уважение один к другому. Я не ведал страха, и Консепсьон, зная это, никогда за меня не переживала. Она была уверена, что я с честью выйду из любой ситуации. Я же поклялся папаше Манчанеге, что женюсь на его дочери только после того, как стану профессиональным матадором.
Три года я выступал в окрестностях Севильи, затем, по мере возрастания моей известности, меня стали приглашать на все более ответственные соревнования. Мои денежные запасы пополнялись, и я уже предчувствовал день, когда под давлением общественного мнения завсегдатаев корриды я буду принят в матадоры на нашей Пласо Монументаль. Моей мечтой было получить это звание от Доминиго Ортеги, матадора с седой головой, который должен был выступать у нас в сентябре. Будущее рисовалось мне в самых радужных тонах, и, казалось, весь мир радуется вместе со мной.
Но появился Луис…
* * *
С Луисом Вальдересом, который был младше меня на два года, я познакомился на одной из новильяд, проходившей недалеко от Альбасете. Родом он был из Валенсии. Луис сразу же покорил меня своей элегантностью и изобретательностью на арене, но в то же время я сразу понял, что парень испытывал страх перед быками, страх, который он пока сдерживал молодостью и гордостью, но который однажды мог сыграть с ним злую шутку. Он был очень красив. По сравнению со мной он казался более мягким и слабым. Мы, цыгане, больше похожи на сухие виноградные ветви и состоим из многих углов. Жители Валенсии более плавны. Говорят они нараспев, и их врожденная беззаботность делает их привлекательнее нас. Луис был мне симпатичен. А когда я спас ему жизнь в Куэнке, мы стали друзьями. Если бы не моя мгновенная реакция, которая позволила мне оказаться рядом с ним, когда он упал, бык насадил бы его на рога. Мой плащ ослепил животное, и оно с яростью бросилось на меня. Этого-то я и добивался. В этот же вечер Луис, рассказав, что на свете у него никого не осталось, предложил мне стать его братом. Я согласился, и мы вместе уехали в Севилью, где он познакомился с моими родителями и с Консепсьон. Целых шесть месяцев мы выступали на арене вместе и, очевидно, выступали неплохо, потому что журналисты довольно лестно отзывались о нас. Говорили даже, что мы станем матадорами в один и тот же день, что, не скрою, было пределом мечтаний для нас обоих.
В июне мы возвращались с корриды, проходившей в Сен-Хуан Аликанте. Домой добирались поездом, поскольку были еще не настолько богаты, чтобы нанять машину и водителя. Устроившись в купе, мы сидели молча. Во-первых, мы здорово устали, а кроме того, с некоторого времени между Луисом и мной стало нарастать какое-то отчуждение, о причинах которого я пока не догадывался. Случайно я перехватил его взгляд, остановившийся на мне и затуманенный слезами. Меня это очень удивило.
— Что случилось, Луис?
Он попытался было увернуться от ответа:
— Ничего, говорю тебе, ничего…
— Тогда почему же ты чуть не плачешь? (Известно, что валенсийцы плачут по каждому поводу). Я уже несколько недель хочу спросить, что с тобой происходит? Ты стал другим, Луис. Почему?
— Потому что мне стыдно!
— Стыдно?
— Ты спас мне жизнь! Я же теперь отнимаю твою!
И он расплакался. Из сказанного им я ничего не понял, но мне вдруг стало страшно. Я взял его за плечи, встряхнул и крикнул прямо в лицо:
— Говори, что случилось?
Луис молчал. Неясное подозрение укололо меня в сердце, и почти шепотом я сказал:
— Ты не о… Консепсьон?
Он с трудом выдохнул:
— Да.
Все вокруг меня завертелось, и в эту секунду я его возненавидел. Уняв дрожь от охватившей меня ярости, я почти спокойно произнес:
— Я убью тебя, Луис.
— Мне все равно… Для меня нет выхода…
— Какого выхода, хийо де нута[166].
— В любом случае, я одного из вас потеряю: либо тебя, либо Консепсьон. А я ведь люблю вас обоих. Наверное, мне нужно было бы уехать, но без меня она будет несчастна, а я буду несчастен без нее и без тебя…
— Она тебя любит? Она это говорила?
— Да.
Консепсьон… я не мог в это поверить. Как же ее обещания и вообще все долгие годы нашей любви? Череда ярких воспоминаний нахлынула на меня и привела к мысли, что все это — розыгрыш. Консепсьон не могла полюбить другого! Это было невозможно! Схватив Луиса за рубашку, я закричал:
— Ты врешь! Скажи, что ты врешь!
Сдавленным голосом он прохрипел:
— Нет. Мы давно хотели тебе сказать, но не решались.
Никогда прежде я не был так близок к тому, чтобы совершить убийство.
— Она — твоя любовница?
Он с ужасом посмотрел на меня.
— Как ты можешь, Эстебан, ведь ты же ее знаешь!
— Ты целовал ее?
— Ни разу! Я не имел права!
— А отнять ее у меня, по-твоему, ты можешь?
— Нет… Поэтому я и хотел с тобой поговорить.
* * *
Какую ужасную ночь я пережил… Я думал убить их обоих, хотя уже заранее знал, что не смогу поднять руку на Консепсьон… Я был уверен, что если захочу заставить ее выполнить свои прежние обещания, то она конечно-же подчинится моим требованиям. Но как можно жить с женщиной, которая будет все время думать о другом? Я пообещал себе назавтра встретиться с Консепсьон и сказать ей все, что думаю. Я хотел напомнить ей о нашем детстве, убедить в том, что не стоит жертвовать настоящей любовью ради чего-то проходящего, умолять ее… Я боролся с собой: все внутри меня восстало против такого унижения. Ведь Эстебан Рохиллья никогда и ни перед кем не становился на колени! В то же время я понимал, что если мы расстанемся врагами, то она уедет с Луи, и, значит, я ее больше никогда не увижу. А жить без Консепсьон я не мог! И когда утреннее солнце осветило комнату, я окончательно решил пожертвовать собой, чтобы не потерять ее.
* * *
Мы шли по берегу реки, где когда-то играли еще детьми. Шли рядом и молчали. Она решилась первая:
— Эстебанито… Луис говорил с тобой?
— Да.
— Тебе плохо?
Я постарался ответить как можно естественней:
— Немного.
Я заметил удивление. Безусловно она ожидала, что я стану выражать свое возмущение куда более громко. Разочарованно она спросила:
— Только немного?
— Ты его любишь?
— Да.
— Ты хочешь прожить жизнь с ним?
— Да.
— Что же ты надеешься от меня услышать?
Она была в растерянности и ничего не понимала.
— Но Эстебанито… Я думала, что ты любишь меня?
— Детское чувство, которое мы, как теперь стало понятно, слишком серьезно восприняли. А если говорить честно, то для меня нет на свете ничего важнее, чем коррида… Не беспокойся и выходи замуж за Луиса. Мы же с тобой останемся, как и прежде, братом и сестрой.
Для меня никогда не было боя труднее того, что я вел с самим с собой на церемонии бракосочетания женщины, которую я любил больше всего на свете. С этого дня я перестал интересоваться чем бы то ни было и даже потерял желание выступать на арене. Газеты сначала говорили о временной потери формы, потом их тон изменился, и они пришли к неутешительному выводу: я больше не был тем, кем был прежде… и уже никогда не стану тем, кем обещал стать. Луиса посвятили в матадоры без меня. Во время церемонии я стоял в каллехоне[167]: на этот раз слезы были уже на моих глазах. Получив мулету[168] и шпагу из рук Ортеги, Луис подошел и обнял меня под аплодисменты публики, которая меня еще помнила. В тот день Луис выступил успешно, но все-же я снова заметил дрожь в его ногах. Как и прежде, он боялся быков. По Консепсьон было видно, что она тоже боялась. Мне вспомнилось, как она была спокойна во время моих выступлений. Потому ли, что любила меньше, или просто была полностью уверена во мне?
Понемногу я стал прекращать свои выступления, и уже вскоре все обо мне позабыли. В это же время звезда Луиса Вальдереса становилась все ярче. Его грациозность, элегантность, мягкость и блестящая его фаэна[169] принесли ему прозвище «Очарователь из Валенсии». Как-то вечером я ужинал у него. Луис с Консепсьон были обладателями прекрасного дома в пригороде Санта-Крус, дома, полного солнца и покоя, тишину которого нарушало лишь журчание воды в фонтане да пение птиц, клетки которых висели среди листьев. Это великолепие было достойно счастливых хозяина с хозяйкой. В тот вечер я объявил о своем решении оставить выступления. После достаточно долгого молчания, заполненного тем, что Консепсьон разливала кофе, Луис спросил:
— Чем ты займешься?
— Я еще не знаю.
— Ты не сможешь прожить без корриды…
— Знаешь, Луис, нам часто кажется, что мы не сможем прожить без того или без этого, но потом все же живем…
— Слушай, мне очень нужно, чтобы рядом со мной на арене был человек, которому бы я полностью доверял. Эстебан, ты смог бы стать моим «человеком
доверия»[170]?
Причина моего согласия была все та же: я не мог расстаться с Консепсьон, которую так долго любил…
* * *
Для работ по дому Консепсьон наняла прислугу — старую Кармен Кахибон, вдову пикадора. Однажды утром я пришел без предупреждения и нечаянно стал свидетелем их ссоры. Смутившись, я не решился выдать свое присутствие. Кроме того, мне было неприятно слышать глупые обвинения хозяйки, которые хоть и не сильно, но все-же портили образ той Консепсьон, которая навсегда осталась во мне. Не знаю, чем провинилась старая Кахибон, но Консепсьон решила ее уволить.
— Хорошо, — сказала вдова, — я уйду, но поверьте, сеньора, что в Триану я вернусь с поднятою головой!
Каким-то двойным смыслом это замечание особо задело Консепсьон, и она стала задираться, как девчонка:
— И я тоже!
— Вы? Вот уж никогда!
— Почему?
— Потому что там вам никогда не простят того, что вы погубили самого великого матадора, когда-нибудь родившегося в Триане!
Удар был неожиданным, и Консепсьон потеряла весь свой напор.
— Вы говорите чушь! Я никогда и никого не губила!
— Не губили? А Рохиллья? Эстебан Рохиллья, которому вы, и это знали все, давали слово? Каким он стал с того дня, как вы предали его ради этой куклы из Валенсии?
— Уходите!
— Конечно же, я уйду. И не нужно становиться в позу величия, ведь я служила у вашего отца еще до вашего рождения. Кстати, ваш отец тоже не может простить вам того, что вы сделали с Эстебаном.
Я на цыпочках вышел и вернулся через четверть часа, стараясь топать погромче. У Консепсьон были красные глаза. Она взяла меня за руку:
— Эстебанито! Это правда, что ты больше не выступаешь из-за меня?
— Ты об этом много думаешь?
— Да.
— Не мучай себя…
* * *
Целых шесть лет мы жили в бешеном ритме беспрерывных выступлений. С приходом сезона мы едва успевали переезжать с одной корриды на другую. Мы исколесили весь полуостров, от Саламанки и до Мурсии, от Севильи до Мадрида. Консепсьон, которая разбиралась в корриде не хуже меня, становилась все мрачнее: от нее невозможно было скрыть того, что Луис не становился уверенней в себе. Его ноги были по-прежнему слабы, и каждый раз можно было ожидать несчастья. «Очарователь из Валенсии» мог производить прекрасное впечатление на кого угодно, но только не на нас. Слишком много раз в жизни я видел страх в глазах матадоров, поэтому сразу же замечал его в лихорадочном взгляде Луиса, когда он подходил к баррера[171] за шпагой и мулетой. Вначале этот страх был довольно редким явлением: только два или три раза за сезон его одолевало такое состояние. Затем он стал появляться все чаще. Теперь каждый или почти каждый раз его охватывала настоящая паника. И когда в Аранхесе он стал на колени перед быком, что вызвало у публики восхищение, я понял, что он сделал это только потому, что ноги его больше не держали. Консепсьон, которая раньше нас повсюду сопровождала, перестала с нами ездить. У нее больше не было сил видеть натянутую улыбку этого человека, который неизвестно каким чудом находил в себе силы скрывать страх перед быком, маскируя его привычной элегантностью. Изгиб спины, напряжение рук и ног выдавали страх, уже ставший неотъемлемой частью его самого.
Я не чувствовал ненависти к Луису, хоть он и отнял у меня Консепсьон. Он был моим другом, моим товарищем по оружию, и всякий раз, когда я наблюдал за его поединком, тревога сжимала мне горло: с каждым днем для меня становилось все очевидней, что однажды «Очарователь из Валенсии» не сможет уберечься от корнады[172], против которой будут бессильны и Пресвятая Дева, и хирурги. По мере того, как у Луиса накапливались миллионы песет, я все больше желал, чтобы он ушел с арены в зените своей славы и поселился в красивой усадьбе, купленной недалеко от Валенсии.
Через десять лет после посвящения в тореро Луис считался одним из лучших матадоров Испании. Он сохранил стройную фигуру и бархатный взгляд, напоминающий нашим матерям о нежных взорах Рудольфо Валентино, запечатленного крупным планом на экране. Я же, наоборот, постарел, и Консепсьон тоже. Она всегда так сильно переживала, когда мы ехали выступать, что садилась у телефона и не отходила от него до моего звонка и сообщения о том, что все прошло хорошо и что ее муж был великолепен. Это давало ей несколько дней передышки, потом все начиналось снова. С каждым годом я замечал все больше морщин у ее глаз, и, главное, она окончательно потеряла веру, столь необходимую для супруги тореро.
Еще одно горе Консепсьон заключалось в том, что у нее не было детей. Быть может это случилось из-за того, что Луис постоянно был в разъездах? Я, со своей стороны, несмотря на нежность к подруге детства, не очень сожалел об отсутствии ребенка, который стал бы осязаемым воплощением любви, когда-то принадлежавшей мне. Родись у Консепсьон мальчик — он заставил бы меня переживать, что это не мой сын; если бы была девочка — она бы напоминала мне ту девчонку, для которой я когда-то устраивал представления на берегу Гвадалквивира.
Когда в нашу жизнь вошел Пакито, все изменилось.
* * *
Луис постоянно отказывался от выступлений в Мексике. Он считал, что достаточно устает во время сезона в Испании и едва успевает отдохнуть за зиму. Но однажды ему сделали такое заманчивое предложение, что его уверенность поколебалась. И когда еще, в довершение, Консепсьон согласилась его сопровождать, он уступил. У нее уже, очевидно, не было сил надолго оставаться одной и ожидать уже не телефонных звонков, а писем и телеграмм. Итак, она ехала вместе с нами. Мы взяли с собой старшего пикадора Рафаэля Алохью, который должен был сделать все возможное, чтобы «Очарователь из Валенсии» блестяще выглядел на арене. С нами следовали два бандерильеро, которые выступали с Луисом с самого начала — Мануэль Ламорилльйо и Хорхе Гарсиа. Короче говоря, у нас получилось нечто вроде семейного путешествия.
Мексиканцы, которые отдают предпочтение именно зрелищной стороне корриды, высоко оценили манеру ведения боя Луиса. Это были триумфальные гастроли. Быки попадались легкие и бесхитростные, а публика, богато украшенная золотом, была щедрой и радушной.
Однажды февральским вечером, который я запомнил на всю жизнь, мы сидели во внутреннем дворике небольшой гостиницы в Гвадалахаре[173], где незадолго до этого блестяще выступал Луис. Консепсьон смеялась, на время избавившись от своих переживаний, и ее смех воскрешал в моей памяти наше детство. Луис отдыхал, устроившись в кресле, а я готовил статью для мадридских журналистов.
Он появился совершенно незаметно. Это был мальчик лет двенадцати, худощавый, красивый, со сверкающим взглядом. Как загипнотизированный, он смотрел на Луиса. Одежда ребенка свидетельствовала о том, что он пришел к нам вовсе не за милостыней. Консепсьон спросила первой:
— Чего тебе, малыш?
Он даже не повернул голову в ее сторону. Продолжая неотрывно смотреть на Луиса, он вдруг упал перед ним на колени и стал горячо умолять:
— Возьмите меня с собой, сеньор Вальдерес! Я хочу стать таким же великим матадором, как вы… Возьмите меня!
Мы с большим трудом успокоили паренька, и только после этого он смог рассказать нам, что зовут его Пакито Лакапаз и что живет он в пригороде Гвадалахары вместе с матерью. Подарив ему платок с вышитыми инициалами Луиса Вальдереса, мы наивно решили, что избавились от него. Когда он ушел, Консепсьон предалась мечтаниям, в которых нам, очевидно, не было места. Хорошо зная ее, я понимал, что в то время, как Луис говорил о своих прошлых и будущих выступлениях, она думала об этом мальчике, который мог бы быть ее сыном.
Назавтра Пакито опять появился. Все уговоры Консепсьон оказались напрасными. Он приехал за нами даже в Вера-Круз, и, как оказалось, совершил это путешествие на подножке товарного вагона. Мы усадили совершенно уставшего мальчугана в большую американскую машину, предоставленную нам для переездов, и объявили Пакито, что он допущен в мир корриды, чему он был несказанно рад. Я чувствовал, что Консепсьон все больше привязывалась к нему, и стал замечать, что даже во время выступлений она чаще смотрела не на Луи, а на Пакито, стоящего со мной в каллехоне. Он сопровождал нас и в Монтеррей, и в Мериду, и в Тампико, а во время последнего выступления «Очарователя из Валенсии» даже подал Луису мулету и шпагу в последнем терцио[174]. Собираясь уезжать из Мексики, мы решили отметить наш последний вечер в этой стране, пригласив единственного гостя, которому завидовали все афисионадос[175] — Пакито. Луис как раз завязывал галстук, когда Консепсьон спросила:
— А Пакито?
Луис удивленно обернулся.
— Что Пакито?
— Мы берем его с собой?
— Берем? Ты хочешь взять его с нами в Испанию?
— Да.
— Ты с ума сошла?!
— Думаю, что с ума сойдет он, если мы его оставим.
— Но у него же есть мать, Консепсьон!
Она ответила с присущим любящим женщинам эгоизмом:
— Ну и что?
— Мы не имеем права отнимать у нее сына!
— Мы его не отнимаем, ведь он едет по собственному желанию.
Спор обещал стать бесконечным, и Луис, сдавшись, обернулся ко мне:
— Что ты об этом думаешь, Эстебан?
Если быть честным, то я думал, что огорчение Пакито рано или поздно пройдет, но очевидно, из желания угодить Консепсьон, я солгал:
— Проще спросить у него самого.
Мнение Пакито было совершенно однозначным. Он хотел сразу же бежать домой за вещами, но Луис заметил, что, будучи несовершеннолетним, он не мог выехать из страны без согласия матери и разрешения властей. Мне было дано неприятное поручение сообщить сеньоре Лакапаз, что мы забираем у нее сына.
* * *
Сеньора Лакапаз жила в маленьком домике с голубыми, цвета неба, ставнями на опушке одичавшего сада, ставшего похожим на небольшой лес. Несмотря на седые волосы, мать Пакито была еще нестарой женщиной. Очевидно, жизнь у нее была не из легких. Я говорил с ней стоя, держа Пакито за руку. Она выслушала меня, не проронив ни слова. Когда я закончил, она подняла на нас глаза, и в ее зрачках появился блеск, напомнивший мне что-то давно забытое. Сеньора Лакапаз обратилась к сыну:
— Ты хочешь уехать, Пакито?
— Да, мама.
— И тебе не трудно меня оставлять?
— Трудно, мама, но я же вернусь!
— Нет, ты не вернешься. Твой отец тоже обещал вернуться. Он уехал семь лет назад. Я умру женой без мужа и матерью без сына. На мне лежит какое-то проклятие!..
Она говорила все громче, потом голос ее сорвался на крик. За дверью послышались осторожные шаги любопытных.
— Ты — неблагодарный сын, Пакито! Эти испанцы тебя обманут! Предать свою землю — большое преступление, а украсть у матери ребенка — еще большее, сеньор! Уходите! Вон! Будьте вы прокляты! И ты, Пакито, достойный сынок своего папаши! И этот матадор со своей женой, и все эти люди, которые живут за счет смерти животных, и ты, посланник несчастья! Я проклинаю вас! Вы сдохнете в крови и от боли! Будьте прокляты!
Выйдя на улицу в холодную мексиканскую ночь, мы прошли мимо мужчин и женщин, молчание которых не скрывало их враждебности. Я суеверен, как и каждый цыган, и проклятие этой матери нависло надо мной тяжелой глыбой. В эту ночь страх оставил глубокий рубец на моем сердце. С этого момента он никогда не покидал меня, но скоро я, наконец, от него избавлюсь. Когда дверь моей комнаты откроется, чтобы впустить смерть, с ней вместе уйдет и мой страх.
* * *
Три года мы жили по-иному. Консепсьон, казалось, позабыла о своих привычных волнениях и жила только для ребенка, по ее словам, посланного ей небом. Луис не вполне понимал все происходящее, хотя было видно, что Пакито стал вытеснять его из сердца Консепсьон, которой хотелось быть больше матерью, чем женой. Я бы солгал, если бы сказал, что не ревновал ее. На какое-то время присутствие Пакито придало новый импульс «Очарователю из Валенсии», который старался все время блистать перед своим «сыном», являющимся одновременно и самым горячим из его поклонников. Луису было уже тридцать пять лет, и пресса стала реже хвалить достоинства Вальдереса. А после крайне неудачной корриды в Виктории, когда Луис буквально зарезал троих быков, вал критики обрушился на него. Через несколько дней после этого скандала мы прибыли для выступлений в Севилью. Гуляя по Сьерпес[176], Луис вдруг взял меня под руку и прошептал:
— Хочешь услышать новость, Эстебан… Я решил уйти!
— Это правда?
— Я поклялся перед Макареньей. Вот выступлю последний раз по контракту в Линаресе, и мы займемся сельским хозяйством.
— Мы?
Он по-дружески толкнул меня в бок.
— Надеюсь, ты нас не бросишь?
— А что я буду делать на вашей гасиенде[177]?
— Прежде всего, составишь нам компанию, ну а потом мы все вместе будем давать советы Пакито.
— Советы! В чем? Ты же знаешь, что я разбираюсь только в корриде!
— Именно в этом! Я уверен, несмотря на возражения Консепсьон, что Пакито все равно будет выступать на арене.
Я полностью разделял его точку зрения.
Решение Луиса окончить свою карьеру в Линаресе, городе, где погиб великий Манолете, гордость Кордобы, мне очень не нравилось. Я ведь суеверен, как все цыгане…
* * *
До самой смерти я буду помнить эту корриду. Своим посредственным боем с первым быком Луис вызвал крики негодования в свой адрес. Второй бой был несколько лучше, но как только на арене появился третий бык, публика затихла. Это было небольшое нервное животное, полное задора, с высоким лбом и угрожающими рогами. Все понимали, что бой с этим быком будет трудным. Страх, притаившийся в Луисе, дал о себе знать с небывалой силой. Стоявший рядом со мной Пакито побледнел. Мы оба догадались о панике, охватившей Луиса. Он стоял в нескольких шагах от нас, за ближайшим бурладеро[178], и я хорошо видел его профиль и даже капли пота, появившиеся на виске. Рафаэль и Хорхе заставили быка пробежаться, чтобы было видно, каким рогом он атакует. Вальдерес, похоже, старался как можно дольше оттянуть момент, когда ему придется выйти на арену. Наконец, он решился и издалека стал дразнить быка, чтобы заманить его в угол. Животное сразу же среагировало, и, видя первую веронике[179] «Очарователя из Валенсии», мы даже подумали, что он обрел прежнюю грациозность. Но, увы!.. Пробегая в пятый раз, бык толкнул его, в седьмой — Вальдерес споткнулся, и, не удержавшись, упал. Животное неумолимо надвигалось, опустив низко рога. Вдруг Пакито перепрыгнул через барьер и, вырвав из рук одного из бандерильерос красный плащ, бросился прямо к быку. Тот удивленно остановился, чтобы рассмотреть нового противника, и почти сразу напал на него. Вальдерес подвел быка слишком близко к барьеру, и у Пакито не было необходимого пространства для отступления. Я хотел оттащить его в сторону, но бык оказался быстрее меня. Он буквально пригвоздил Пакито к барьеру, когда тот уже почти выпрыгнул за бурладеро. Несмотря на дикий вопль толпы, я отчетливо услышал, как рог ударился о дерево, пронзив живот мальчика. Этот звук сидит у меня в ушах до сих пор, и заглушить его можно только вином.
Пакито умер на операционном столе. Луис, который был лишь контужен, проклинал судьбу, а я вдруг отчетливо вспомнил проклятье сеньоры Лакапаз: «Вы все сдохнете в крови и от боли!»
* * *
Больше недели мы буквально следили за Консепсьон, боясь, что она покончит с собой. Она очень тяжело перенесла смерть мальчика. Мы с Луисом заливали свое горе вином и курили крепчайшие сигареты. Луис считал себя виновником смерти Пакито, я же опасался за жизнь Консепсьон. Так продолжалось до воскресенья. В этот день Консепсьон сама вошла в нашу комнату. Она подошла к нам почти вплотную, и я заметил, как она постарела. Сеть морщин покрыло ее лицо, щеки впали. Она посмотрела на нас обоих и произнесла усталым голосом:
— Кончено… Мы больше никогда не будем о нем говорить… Мы больше никогда не будем говорить о корриде.
Мы поклялись в этом, не зная, что самое страшное было еще впереди.
— Прежде, чем навсегда закрыть дверь в прошлое, я должна сказать, что считаю вас убийцами. Пакито погиб из-за твоей трусости и неумелости, Луис! А ты, Эстебан, никогда не любил его и не захотел спасти из-за своей ревности!
Я порывался возразить, но она меня остановила:
— Молчи! Закончим на этом!
В тот же вечер я уехал в Мадрид.
* * *
В начале года я узнал, что Луис и Консепсьон покинули Севилью и устроились в своей усадьбе недалеко от Валенсии. Итак, Вальдерес вернулся к родным местам. Я решил поступить точно так же, потому что никак не мог привыкнуть ни к Мадриду, ни к кастильцам[180]. Тем более, что мне всегда казалось, что в Мадриде я люблю Консепсьон меньше, чем в Севилье, родных местах, напоминающих о счастливом прошлом. Возможно, мне все это только казалось, и, тем не менее, я твердо решил вернуться домой.
Сойдя с поезда на вокзале Кордобы, я сразу же почувствовал прилив бодрости, несмотря на ночь, проведенную в вагоне третьего класса[181]. В холодном воздухе января носились едва различимые запахи, которые волновали меня больше, чем все приветствия на свете. С тощим узелком в руках я медленно шел по проспекту Маркез де Парада. У меня было чем заплатить за такси, но мне хотелось самому пройти по вновь обретенной андалузской земле. Я смотрел с улыбкой на всех прохожих, и они улыбались мне в ответ, очевидно, просто видя счастливого человека. Я свернул на улицу Католических королей, и оттуда, с моста Изабеллы Второй, я увидел Триану, мою Триану. От нахлынувших чувств у меня перехватило дыхание, и я вынужден был опереться о стену. Какая-то девушка сразу же подошла ко мне и озабоченно спросила:
— Вам плохо, сеньор?
Мне показалось, что она была похожа на Консепсьон.
— Спасибо, сеньорита, дело не в этом… Я разволновался, увидев Триану — мой родной квартал…
— Вы цыган?
— Да, сеньорита.
— Я тоже.
Было глупо задавать ей такой вопрос, но это было сильнее меня:
— Ваше имя случайно не Консепсьон?
Она с удивлением посмотрела на меня, рассмеялась, а потом снова стала серьезной.
— Мне очень жаль, но меня зовут Ампаро… До свидания, сеньор! И радостного вам возвращения в Триану!
Радостного возвращения… Я смотрел, как она удалялась, и сразу же вспомнил, как всегда смотрел вслед Консепсьон, когда мы расставались после свидания. Правильно ли я поступил, вернувшись сюда? Быть может мне придется страдать еще сильнее в этом квартале, в этом городе, где призрак любви будет повсюду следовать за мной? Каждая улица, каждый сад, каждый памятник будет напоминать мне о Консепсьон. Но разве не за этим, пусть не совсем осознанно, я приехал в Севилью?
Я знал, что родители Консепсьон давно уже почивают на кладбище под кипарисами, но не мог удержаться, чтобы не пройти перед булочной на улице Кавадонга. Я долго смотрел на мальчишек и девчонок, входящих и выходящих из лавки, куда их послали за покупками, и мне казалось, что это маленькие Эстебаны и Консепсьон… Я ушел только тогда, когда на пороге появился хозяин, удивленный моей неподвижной позой. В конце улицы Евангелистов я вошел в дом матери. Увидев меня, она сложила руки в немой молитве, очевидно, чтобы поблагодарить Святую Покровительницу Трианы за возвращение сына. Я сжал ее в объятиях.
Я стал вести прежнюю жизнь, встречался с постаревшими друзьями, которые, вспоминая прошлое, избегали говорить со мной о Консепсьон. Чтобы зарабатывать на жизнь, я вновь вернулся к корриде, ведь ничего другого я не умел. Меня хорошо приняли в маленьких кафе, где собирались и афисионадос, и знаменитые тореро, и те, кто безнадежно искал контракты. Мне удалось содействовать многим удачным начинаниям и помочь кое-кому из молодежи, подающей надежды О деньгах я почти не заботился и зарабатывал ровно столько, сколько было нужно, чтобы скрасить последние годы жизни матери. Все остальное не имело для меня никакого значения. Единственным моим удовольствием было приходить на берег Гвадалквивира, на то самое место, где я когда-то сражался с вымышленными быками под восхищенными взглядами Консепсьон. Я часами мог стоять на этом месте, вспоминая счастливое прошлое.
Вскоре умерла моя мать. Траурная процессия была небольшой: в мое отсутствие население Трианы успело значительно омолодиться. Я узнавал отдельные лица, но не всегда мог вспомнить имена. После смерти матери я опять остался одиноким. Правда, я сам избрал это одиночество в тот самый день, когда Консепсьон ответила «да» Луису в Санта-Анне.
Для уборки квартиры и стирки белья я нанял старушку. Сам же вставал поздно и, как правило, выходил из дому только к полудню. Медленно доходя до своего кафе около Сьернес, я садился за стол, пил манцапиллью[182], ел чуррос[183] и рассказывал о корридах.
В одно мартовское утро ко мне подсел человек, которого я не сразу узнал, и хлопнул по плечу.
— Как дела, дом Эстебан?
Присмотревшись, я узнал в нем Пабло Мачасеро, с которым я когда-то познакомился в Мадриде. Он тоже занимался корридой, будучи менеджером. Его прогрессия навсегда запечатлела на ею лице выражение крайней любезности.
— Привез, Пабло. Какими ветрами в Севилье?
— Вы не поверите, если скажу!
— Попытайтесь.
— Я приехал, чтобы встретиться с вами.
— Действительно?
— Да.
— Слушаю вас!
Он запнулся, явно тяготясь присутствием людей, сидевших со мной за одним столом.
— То, что я должен сказать вам, — сугубо личное.
Я извинился перед друзьями и вместе с Мачасеро сел за укромный столик — излюбленное место влюбленных, иногда забредавших в наше кафе.
— Итак…
— Вот что… В Мадриде я познакомился с одним очень состоятельным человеком по имени Амадео Рибальта, который, как и все богатые люди, хотел бы стать еще богаче. У Рибальты есть две страсти: игра и коррида.
— И что же?
— Он хотел бы соединить их и организовать выступления необычных тореро.
— Необычных?
— Иначе говоря, людей, появление которых удивит и тем самым привлечет публику. Рибальта решил даже рискнуть своим состоянием, чтобы ею желание исполнилось.
— Это его право, но я не понимаю своей роли в этом проекте. Я почти не нуждаюсь в деньгах, и у меня нет волшебной палочки, могущей явить на свет неизвестных, но способных достойно выступить на арене тореро.
Я понимал, что Мачасеро еще не все сказал.
— Ну, Мачасеро, выкладывайте все! Ведь вы проделали этот длинный путь не для того, чтобы молчать?
— Конечно, нет. Хорошо, дело вот в чем: дон Амадео хотел бы вернуть на арену «Очарователя из Валенсии»…
Это меня огорошило.
— Вы что, смеетесь надо мной?
— Вовсе нет, дон Эстебан. Рибальта прежде был в восхищении от Вальдереса. Он не может поверить в его окончательный уход и совершенно правильно считает, что все афисионадос будут стремиться его увидеть.
— Какая чушь! Послушайте, Мачасеро, вы давно связаны с корридой. Неужели же вы до сих пор не поняли, что тореро, который покинул арену, никогда не возвращается обратно!
— Да, но только если он больше не может выступать. А Вальдерес ушел после несчастного случая, сам не пострадав при этом…
Имя Луиса Вальдереса всегда напоминало мне о Консепсьон. Разлука с ней была невыносимой, и поэтому, даже понимая тщетность подобного предприятия, я был готов уступить в надежде увидеть любимую.
— Почему вы обратились именно ко мне?
— Потому, что мы знаем о вашей дружбе с Луисом Вальдересом и думаем, что только вы сможете его убедить вернуться на арену.
— Но у меня нет такого права! Ведь арена — это всегда риск погибнуть или, по крайней мере, получить опасную рану. Я сомневаюсь, чтобы Луис согласился.
— Должен вам признаться, что перед тем, как что-то предпринять, мы навели в Альсире кое-какие справки. Так вот, дон Луис изображает из себя фермера только потому, что не знает, чем бы ему заняться.
— Неужели?
— Именно так… Каждый день он бесцельно обходит свои владения и оживает только вечером, когда встречается с друзьями в кафе. И знаете, о чем они говорят? О корриде, дон Эстебан!
Он сделал секундную паузу, выжидая, какой будет моя реакция, но поскольку я не отвечал, добавил:
— От корриды невозможно выздороветь, дон Эстебан…
Вполне возможно, что Луис не был счастлив, хоть я и не понимал, как можно жить с Консепсьон и быть несчастным. Правда, он не любил ее так безумно, как любил я.
Анализируя предложенное, я пришел к выводу, что проект этого Рибальты не такой уж и идиотский. Правда, мой внутренний голос пытался протестовать, подсказывая, что я поступаю нечестно, преступно, и только для того, чтобы опять увидеть Консепсьон. Я придумывал массу оправданий для своего решения, главным из которых было то, что я не собирался силой тащить его на арену. Он сам должен был все решить. И я сдался.
— Нужно подумать…
Мачасеро издал вздох облегчения. Похоже, он всерьез опасался, что его миссия может провалиться.
— Я должен вам сказать, дон Эстебан, что сеньор Рибальта хотел бы, чтобы вы стали «доверенным лицом» дона Луиса в случае, если он решит вернуться на арену. Так же мне поручено сообщить, что вам будут отчисляться пять процентов от доходов. К концу сезона это может составить круглую сумму.
Я пожал плечами. Ни Мачасеро, ни человек, которого он представлял, очевидно, не могли понять, что мне было наплевать на деньги. Я бы даже совершенно бесплатно но постарался бы испытать случай, приближавший меня к Консепсьон, которая была мне нужней, чем хлеб и вода.
— Когда можно будет увидеть этого Рибальту?
— Он остановился в гостинице «Колон»… Я договорился с ним, что, возможно, приведу вас к обеду.
— Вы сомневались что я соглашусь?
Мачасеро засиял профессиональной улыбкой.
— Мы надеялись, дон Эстебан.
* * *
Амадео Рибальта оказался большим, красивым и сильным мужчиной, которого уже начинала одолевать полнота. Я дал бы ему немногим более пятидесяти лет. Встретил он меня с изысканной любезностью и был искренне рад, что я принял его предложение. Мы сели за стол. После эмпадильяс де полло[184], который мы запили белым Борнанским, нам подали сальмотес фритос[185], вслед за которым дон Амадео заказал бутылку красного старого Риоха[186], чтобы легче было справиться с фаршированной рисом уткой. Окончили мы обед бразо де хитана[187] и бутылкой хереса. Наш хозяин подождал, пока принесут кофе, и перешел к основной теме нашего разговора.
— Дон Пабло поставил вас в известность о моих планах, сеньор Рохиллья?
— Конечно, иначе я бы не пришел сюда, сеньор.
— Что вы об этом думаете?
— Я оговорил с доном Пабло некоторые вопросы. В частности, вы, очевидно, знаете, что вся история коррид свидетельствует о том, что возврат тореро на арену после более или менее продолжительного перерыва всегда кончается фиаско.
— Как вы думаете, почему так происходит?
— Потому, что в них нет прежнего азарта.
— Получается, если я вас правильно понимаю, что тореро, поддерживающий хорошую физическую форму и не потерявший любви к корриде, может вернуться на арену?
— Теоретически, да.
Я сказал вовсе не то, что думал, но мне так хотелось опять увидеть Консепсьон…
— Вы уже знаете, что сведения, собранные нами в Альсире, свидетельствуют, что Вальдерес тоскует по корриде и ничуть не оброс жиром?
— Как бы там ни было, но пока мы не переговорим с ним, все эти расчеты не имеют никакого смысла.
— Я точно такого же мнения, сеньор. Поэтому я хотел бы попросить вас как можно скорее отправиться в Альсиру и встретиться с доном Луисом. Если он откажется и у вас создастся впечатление, что его отказ окончателен, мы с доном Пабло останемся здесь. Если же дон Луис согласится, то мы приедем сразу же после вашего сообщения и поговорим с ним о тренировках, программе и… конечно, о песетах.
— Вижу, что ваши планы хорошо рассчитаны.
— Дон Эстебан, я должен открыть вам то, о чем пока не говорил дону Пабло. Надеюсь, — он меня простит, узнав об этом одновременно с вами. Я был очень богат, но теперь мои дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Я ставлю все, что у меня есть, на возрождение «Очарователя из Валенсии». Если он провалится, я погибну вместе с ним. Чтобы этого не случилось, я приложу все силы. Прежде всего, необходимо вызвать к этому событию как можно больший интерес. Кстати, дон Эстебан, вы не знаете, живы ли еще люди, входившие когда-то в квадрилью дона Луиса?
Из тех, кто повсюду сопровождал дона Луиса и меня, остались только пикадор Рафаэль Алохья и двое бандерильерос.
— Хорхе Гарсиа и Мануэль Ламорильйо.
— Как, по-вашему, можно ли будет их разыскать?
— Конечно… но зачем, черт возьми?
— Мне бы хотелось, чтобы дон Луис чувствовал себя как можно уверенней, хотя бы поначалу. Ему будет легче войти в прежнюю форму, если вы станете помогать ему советами. Кроме того, рядом будут его старые товарищи — пикадор и бандерильерос.
— Может быть, вы и правы…
Рибальта вынул из кармана какую-то бумагу.
— Сегодня 5 марта. Необходимо, чтобы через неделю мы определились. В случае положительного решения дон Луис немедленно должен будет приступить к тренировкам. Я рассчитываю провести первую корриду во Франции в июне.
— Выбор хорош, и время мне кажется реальным.
— После этого, в июле, мы за весьма умеренный гонорар выступим в Пампелупе с единственной целью — показать, чего стоит дон Луис. А вообще я считаю, что не стоит требовать слишком многого от первого года.
— Вот с этим я целиком согласен, дон Амадео.
— Если в Пампелупе все пройдет гладко, мы попытаемся показаться в конце июля в Валенсии. В августе в Сан-Себастьяне много иностранцев, и это сделает нам хорошую рекламу. Я попытаюсь устроить так, чтобы мы выступили 15-20-го в Толедо и 28-го в Линаресе.
— Нет! — сказал я так резко, что Мачасеро и Рибальта пораженно уставились на меня.
— Нет, только не в Линаресе!
— Объяснитесь, дон Эстебан, ведь арена в Линаресе — прекрасный трамплин для прыжка к успеху! Не мне вам это объяснять.
— Для Вальдереса арена в Линаресе — проклятое место!
— Из-за Манолете?
— Нет, из-за Пакито…
И мне пришлось рассказать им грустную историю, которая положила конец карьере «Очарователя из Валенсии». Они с молчаливой серьезностью выслушали меня. Когда я окончил говорить, то почувствовал, что вновь пережил кровавые события того рокового дня, восстановившие против меня Консепсьон. Дон Амадео положил мне руку на плечо.
— Хомбре![188] Я понимаю вас, но не думаю, что о том же следует напоминать дону Луису. Триумф в Линаресе избавит его от всех переживаний и предрассудков. Но прежде он сам должен все решить.
* * *
В этот же вечер впервые после моего возвращения в Севилью я зашел в церковь Сан Лаученцо, чтобы попросить Пресвятую Богородицу защитить меня от себя самого
Глава 2
Я целый день бродил по Валенсии, рассчитывая приехать в Альсиру только к вечеру. Я совершенно не знал, как предстать перед Луисом, и поэтому решил отдаться на волю случая. Но, конечно, больше всего меня интересовало, как меня примет Консепсьон. Мы не виделись со времени гибели Пакито. Забыла ли она ребенка, почти украденного у матери, которая прокляла нас за это страшным проклятьем. Я спокойно ехал по направлению к Альсире и еще не знал, что наше будущее уже предначертано нам этой мексиканкой.
Альсира была прекрасным маленьким городком у подножья сьерра[189] Мурта и славилась лучшими апельсинами в Испании. Наверное поэтому воздух здесь был напоен апельсиновым запахом почти круглый год. Луис сумел выбрать замечательное местечко! Мне казалось, что его усадьба обязательно должна была находиться на склонах сьерры, по которым растут до самой вершины апельсиновые деревья.
Недалеко от церкви Санта Каталина, на углу главной улицы и переулка, загроможденного небольшими лавчонками по продаже фруктов, находилось кафе «Под солнцем Хуэрты». Сюда, по утверждению Мачасеро, Луис приходил выпить манцанилльи на заказе дня. Я устроился в отдаленном уголке, позволявшем видеть всех входивших. Прождав более двух часов и уже почти потеряв всякую надежду его увидеть, я вдруг услышал, как за соседним столом произнесли:
— Вот он!
Не рассмотрев лица входившего, я тем не менее сразу же узнал слегка приплясывающую походку, от которой никогда не могут избавиться бывшие тореро. По мере приближения Луиса сердце мое билось все быстрей. Когда он поравнялся со мной, я с некоторой горечью отметил, что он совсем не изменился и был так же молод, как и пять лег назад. По сравнению с ним я выглядел намного старше, несмотря на очень незначительную разницу в возрасте. Эти восточные испанцы с упругими мускулами и манерами женщин, надолго сохраняют свою молодость, тогда как мы, цыгане, как только нам перевалит за тридцать, становимся похожи на высушенную годами виноградную ветвь. Сидящие за соседним столиком, первыми заметившие его появление, встретили Луиса громкими дружескими приветствиями. Мысль о том, что он даже не догадывается, что я нахожусь в пяти метрах от нею, заставила меня улыбнуться. Я услышал, как он заказал аперитив. Его голос тоже остался прежним, все тем же нежным и ласкающим голосом, который сумел очаровать Консепсьон. Словно для того, чтобы развеять мои сомнения, Луис сразу же принялся говорить о корриде. Он анализировал достоинства тореро, которые должны были появиться на аренах Валенсии 19 марта на празднике Святого Хосе. В разговоре чувствовались та же увлеченность и то же знание дела, что и прежде. Он азартно объяснял слабые и сильные стороны участников, подробно рассказывал, почему нужно было следить за фаролес одного тореро и за чикелинас[190] другого. Я знал людей, о которых шла речь, и с уверенностью мог сказать, что он в курсе событий, и его мнения верны. Теперь я был уже уверен, что Луис никогда не расставался с корридой. Предприятие дона Амадео мне сразу же стало казаться более надежным, чем прежде. Но кроме того, что знали все, было еще и то, о чем знал только я: конечно, официальной причиной ухода Луиса с арены была смерть Пакито, но первопричиной все же был его страх перед разъяренным быком, страх, который его буквально парализовывал. Поэтому теперь все зависело только от того, избавился ли он от этого страха? К сожалению, проверить это можно будет лишь на арене. И, кто может дать гарантию, что тогда это не будет слишком поздно… Мне хотелось спросить Луиса об этом напрямик, ведь раньше мы ничего не скрывали друг от друга. Но я боялся, что он и сам просто может не знать правды: вдали от опасности все — храбрецы.
Он просидел в кафе около часа и когда поднялся, на улице уже было темно. Я последовал за ним и дождавшись, когда мы были уже достаточно далеко от кафе, приблизился и окликнул:
— Ке таль, Луис?[191]
Он обернулся, какую-то долю секунды рассматривал меня, потом подошел ближе, чтобы убедиться, что не произошла ошибка, и, наконец, вскрикнул:
— Мадре де Дио![192] Ты!..
— Луис… как я рад тебя опять видеть.
— И я!
Мы обнялись.
— Скажи, Эстебан, откуда ты взялся в такое время? Это же чудо, что мы не прошли друг мимо друга в такой темноте!
— Это не совсем так. Я целый вечер просидел в кафе позади тебя.
— Черт возьми! И ты ко мне не подошел?!
— Я не решался.
Конечно же я солгал, но эта ложь сейчас была необходима.
— Прошло столько времени… Я не знал, будешь ли ты рад меня видеть. Ведь мы расстались не в лучшие времена…
— Эстебан… Мы знали и любили друг друга задолго до этих времен. А что ты делаешь в Альсире?
— Как тебе сказать… Просто я ходил по Валенсии и вдруг увидел автобус с табличкой «Альсира». Мне захотелось с тобой поговорить. Но я не знал, где ты живешь, и зашел в кафе, чтобы спросить адрес. Потом ты сам туда зашел. Вот и все.
— Если я правильно понял, Эстебан, ты никогда не собирался к нам приезжать, и если бы не этот случайный автобус…
Когда он произнес «к нам», мое сердце забилось быстрей.
— Ты остановишься у нас. Твои вещи с тобой?
Я показал ему маленький чемодан.
— Ты не занят в ближайшие дни?
— Вроде бы нет.
— Тогда останешься у нас погостить подольше…
— Но…
— Прошу тебя, Эстебан!.. Этим ты окажешь мне большую услугу…
— Услугу?
И тогда он со вздохом признался:
— Мне здесь очень тоскливо…
* * *
Усадьба Луиса, как я и предвидел, находилась на склонах сьерры Мурта. Его автомобиль с открытым верхом легко брал подъемы, и незначительный шум мотора ничем не тревожил покой ночи, которую северяне непременно приняли бы за весеннюю. В поездке мы не обменялись ни единым словом. Очевидно, нам нужно было слишком много сказать друг другу, и никто не знал, с чего начать. Я не решался расспрашивать его о Консепсьон, боясь выдать свое волнение, Луис же, несомненно, был занят мыслями о своей неудавшейся жизни. Мы почти подъехали, когда он спросил меня с деланным безразличием:
— Ты, по-прежнему, занимаешься корридой?
* * *
В страшном волнении я встал, увидев, что Консепсьон входит в приемную нижнего этажа, оформленную в крестьянском стиле. Она же сразу меня узнала и сказала, словно мы расстались накануне:
— Добрый вечер, Эстебан. Рада тебя видеть у нас.
— Добрый вечер, Консепсьон… Да пребудет с тобой Господь…
Луис рассказал о нашей встрече. Консепсьон оказалась менее доверчивой, чем он. С иронией она спросила:
— Это правда, Эстебан, что ты боялся приехать к нам?
Ее муж попытался перевести все в шутку:
— С тех пор, как дон Эстебан стал мадридцем, он больше не думает о своих друзьях из провинции. Мне кажется, он попросту забыл о нас!
Консепсьон внимательно посмотрела на меня и отчетливо выговаривая слова произнесла:
— Не думаю… Эстебан не из тех, которые забывают…
Была ли она искренней? Я слишком мало знал женщин, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Поэтому я предпочел обратиться к Луису.
— Я больше не живу в Мадриде… С января я в Триане.
— Вот это да!
Не глядя на Консепсьон, я объяснил:
— Я уже не юноша, Луис, а ты ведь знаешь, что одинокий старый зверь всегда возвращается подыхать в места, где родился.
Они оба рассмеялись: Луис — чтобы подтвердить полное доверие моим словам, Консепсьон — чтобы скрыть свое смущение. Она спросила:
— Ты вернулся к матери?
— Да, но только ее уже больше нет с нами…
Перекрестившись, она прошептала:
— Мир праху ее…
Чтобы разрядить сгущавшуюся атмосферу, я добавил:
— Но зато я вновь обрел то, что ближе всего моему сердцу, — Гвадалквивир.
Вальдерес, чтобы сменить тему разговора, обещавшего стать не совсем приятным, торжественно объявил:
— Знаешь, Консепсьон, Эстебан останется у нас на несколько дней. Мы покажем ему все самое интересное, и он, быть может, признает, что Триана — не единственное место на земле, где можно жить.
Несмотря на всю свою выдержку, Консепсьон не смогла полностью скрыть удивления. Я чувствовал, что ее будет гораздо труднее убедить в бескорыстных целях моего визита, чем ее мужа.
Конец вечера прошел спокойно. После ужина, за которым нас обслуживала красивая девушка, которую легче было представить с кастаньетами в руках, чем накрывающую или убирающую со стола, мы перешли к кофе. Когда пришло время ложиться спать, я встал, и Консепсьон вызвалась показан, мне мою комнату.
— Надеюсь, тебе здесь понравится?
— Я не привык к такому уюту, если ты еще помнишь Триану…
Опустив голову, она просто сказала:
— Я не забыла Триану… Спокойной ночи. Эстебан.
— Спокойной ночи, Консепсьон.
Я почувствовал, что она хотела еще что-то сказать, но не решалась. Только выходя из комнаты, она задала вопрос, который ее мучил:
— Эстебан, зачем ты приехал?
Луис, показавшись на пороге, чтобы посмотреть, как я устроился, избавил меня от необходимости солгать ей.
* * *
Мне плохо спалось. Мысль о том, что Консепсьон совсем рядом, была одновременно и радостной, и невыносимой. Моя привязанность к той, которая предала меня, имела привкус горечи: помимо воли, мне становилось обидно за ее счастье и за то, что она не испытывала ни малейших угрызений совести из-за того, что по ее вине моя жизнь была сломана и исковеркана. Удивительно, но я был больше настроен против Консепсьон, чем против Луиса. В конечном счете, он поступил так, как поступил бы любой другой мужчина, ухаживая за понравившейся ему девушкой. Мои мрачные мысли развеялись только тогда, когда со двора послышался голос Консепсьон, что-то приказывающей слугам. Я опять был счастлив, благодаря своей чистой и нежной привязанности.
Солнце Левантии[193] уже заливало золотом эту благодатную землю. Я нашел Консепсьон в саду, где она поливала цветы. Какое-то время мы не могли найти темы для разговора, и, чтобы прервать это молчание, она наконец сказала:
— Видишь, Луис занимается апельсинами, а я довольствуюсь своими цветами и встаю так рано только из-за них. Ты обратил внимание, какое жаркое здесь солнце уже с самого утра…
— Ты ведь привыкла к этому… Помнишь, когда мы гуляли там, на берегу Гваделквивира, и не обращали внимания на жару!
Она не сразу ответила, а когда стала говорить, ее голос слегка дрожал:
— Неужели ты так и не простил меня?
— Сердцу невозможно приказать… А где Луис?
Она подошла ко мне и прикоснулась к руке. Я сделал шаг назад:
— Не прикасайся ко мне!
Я увидел, что ее глаза наполнились слезами.
— Ты меня ненавидишь, Эстебан?
Ненавижу! Да больше всего на свете мне хотелось обнять и прижать ее к себе!
— Зачем ты вернулся?
— Чтобы увидеть тебя…
Она долго смотрела на меня, прежде чем сказать:
— Я не верю тебе, Эстебан…
— По-моему, ты впервые сомневаешься во мне, Консепсьон.
— Я впервые боюсь тебя.
Отчужденные, мы стояли друг перед другом… Да, она не без оснований опасалась меня.
— Счастье тебя очень изменило, Консепсьон. Раньше ты никогда не сомневалась в моих словах.
Она невесело улыбнулась:
— Счастье? Бедный Эстебан… Знай же, если тебе будет от этого легче, что я очень несчастна. Луис совсем не такой, как я думала. Он безвольный и мягкотелый эгоист, забывающий обо всем, что его смущает или заставляет задуматься… Например, о Пакито, который им всегда восхищался.
Я понял, что она ничего не забыла, так и не простив Луису смерти того, кого считала своим сыном. Не простила она, конечно, и меня. Но к чему скрывать, — я испытал какое-то мрачное удовлетворение, узнав, что Луис не пользуется любовью той, которую он у меня отнял.
— Консепсьон, где Луис?
— Иди по дорожке за хлевом
и найдешь его…
Я долго шел среди апельсиновых деревьев, не встречая ни единой живой души. И вдруг, выходя из затененной впадины между плантациями, я увидел столь неожиданную сцену, что поначалу не поверил своим г лазам. Вверху, надо мной, танцевал человек, и отсутствие музыки превращало этот танец в какую-то галлюцинацию. Я узнал в нем Луиса. Ступая как можно тише, я укрылся за апельсиновыми деревьями, стоявшими в нескольких метрах от бывшего тореро, не подозревавшего о моем присутствии. Со своего места я видел его в профиль, и меня сразу же поразила высоко поднятая голова, неподвижность взгляда, напряжение мышц. Я все понял! Луис Вальдерес в этом удаленном от глаз людей уголке земли, прислушиваясь к несуществующей музыке, выступал для самого себя. Насколько же сильно он оставался во власти корриды! Мне даже слегка сдавило горло. Я почувствовал неловкость, поняв, что проник в тайну, не принадлежащую мне. Вдруг, словно услышав звук трубы, «Очарователь из Валенсии» приподнялся на носках, протянул в приветствии к солнцу свою кордобскую шляпу с прямыми жесткими полями, потом швырнул ее в траву и продемонстрировал такую великолепную фаэну, какой я никогда прежде не видел. Сражаясь с невидимым противником, Луис давал такое блестящее сольное представление, о котором мог бы помечтать каждый матадор. Безо всякой спешки, соизмеряя все движения, он выискивал самые трудные и исполнял их с такими живостью и скоростью, которые вызвали бы восхищение самой скептической публики. С блеском он демонстрировал обыкновенный проход, проход слева по кругу, проход у груди, проход камбиада снизу вверх, классические проходы, к которым он прибавил, словно вдохновенный артист, прелесть народных: молинете, афораладо, манолетину[194]. Своего предполагаемого быка он убил способом, заимствованным у матадоров прежних времен, а именно: вызывая опасность на себя и эффектно убивая мчавшегося прямо на них быка. Еще я увидел, как Луис наблюдал за агонией своего соперника, а затем мелким шагом прошел вокруг воображаемой арены, отвечая на предполагаемые крики восхищения. Я удалился прежде, чем он завершил свой круг почета, вышел на верхнюю дорогу и только оттуда позвал его. Луису потребовалось некоторое время, чтобы вернуться к реальной жизни.
— Как ты меня нашел, Эстебан?
— Консепсьон посоветовала мне пойти по этой дорожке. Она поливала цветы.
Луис вздохнул:
— Да, знаю… Для нее вполне достаточно цветов.
— Тогда как тебя апельсины не очень-то привлекают, а?
— Нет, не очень. Вернемся?
— Как хочешь.
Мы оба чувствовали, что сейчас произойдет важный разговор. Я решил начать первым:
— Твоя жена боится меня.
Он удивленно остановился:
— Боится?
— Похоже, она опасается, что я приехал вовсе не для того, чтобы засвидетельствовать вам свою старую дружбу.
— Но это же не так, правда?
Я не сразу ответил. Он весь напрягся в ожидании.
— Теперь, когда я удостоверился в вашей благополучной жизни, мне лучше сразу же уехать. Ты сможешь отвезти меня в Альсиру, когда мы вернемся домой?
Он взял меня под руку.
— Не знаю, что вообразила себе Консепсьон, но я хочу, чтобы ты остался, нравится ей это или нет! Я изнываю от скуки, разыгрывая из себя помещика. Меня не интересует сельское хозяйство, разве только животные…
— А именно быки, да?
— Да.
Мы двинулись вперед, и каждый думал о том, как продолжить прервавшийся разговор. Луис принудил себя рассмеяться, прежде чем сказал:
— Знаешь, я сохранил отличную форму.
— Да, я уже удостоверился в этом.
— Как это?
Я решил сжечь за собой мосты:
— Я только что видел, как ты работал.
Он отреагировал совсем не так, как я ожидал. Дрожащим голосом Луис спросил:
— Твое мнение?
— Положительное.
— Правда, Эстебан?
— Правда.
Он вздохнул полной грудью. Казалось, я снял с него тяжелый груз и вернул ему уверенность в самом себе, уверенность, которая теплилась, но не могла проявиться без подтверждения другого человека.
— Спасибо, амиго…
В долгом молчании мы уже подошли почти к дому. Вдруг он робко спросил:
— Как ты думаешь, если бы представился такой случай, я смог бы выступить и не вызвать смеха?
— Уверен в этом.
Он очень крепко сжал мне руку.
— Ты вернул мне жизнь, Эстебан.
Как ребенок, которому хочется игрушку и который не решается ее попросить, Луис прошептал:
— Только кто сможет мне поверить? И рискнуть поставить на меня свои деньги?
— Кроме того, существует Консепсьон…
Он пожал плечами, как бы показывая, что это не станет для него главным препятствием.
— Но ведь после смерти Пакито ты ей пообещал…
— Что из того? Пойми, Эстебан, что я продолжаю думать о корриде только потому, что не смог обрести того, на что рассчитывал! Знаю: для тебя Консепсьон — чудо из чудес! Но эта Консепсьон существует только в твоем воображении, дружище! Ты продолжаешь видеть в этой женщине душу и сердце прежней девочки. Консепсьон не любит меня, и думаю, что она никого не любит и вовсе не способна на это чувство… Подожди, не спеши возражать, Эстебанито… Она любила только Пакито, но это была слепая материнская любовь. Она не простила мне его смерти, уверен, не простила и тебе… Пакито всегда будет стоять между ней и мною. Вот почему я изо всех сил хочу вернуться на арену, Эстебан! Я хочу жить, а здесь я прозябаю… Слышишь? Я хочу жить! Поэтому я твердо решил уехать отсюда. Я готов делать, что угодно, если не смогу стать тореро, но я больше не останусь среди этих апельсинов, от одного запаха которых меня тошнит… Меня тошнит от такой жизни…
Тогда я рассказал ему все: о встрече с Мачасеро, об ужине с доном Амадео и, наконец, о главной цели моего визита. Рассказывая, я видел, как менялось его лицо и как глаза наполнялись тем самым блеском, который мне так понравился во время нашей первой встречи. Передо мной был человек, которому я, без сомнения, вернул жизнь.
Я думал о том, как Луис объявит обо всем жене, и ожидал трудного разговора. Во время завтрака он не сказал ни слова о моем предложении, но был так весел и многословен, что Консепсьон никак не могла понять причины резкой перемены, происшедшей с ее мужем.
— Что с тобой, Луис?!
— Не знаю.
— На тебя произвело такое впечатление присутствие Эстебана?
— Может быть…
— Тогда жаль, что он не приехал раньше.
Она произнесла эту реплику таким тоном, что не осталось никакого сомнения: их отношения были далеко не идеальными. Чтобы изменить тему разговора, «Очарователь из Валенсии», который становился все более похожим на прежнего Луиса, спросил:
— Скажи-ка, Эстебан, своим старым друзьям: почему ты покинул нас?
Я почувствовал на себе взгляд Консепсьон.
— Я не мог больше видеться с Консепсьон.
За этим признанием последовал миг смущения, но Луис, приняв мою игру, рассмеялся:
— Как я вижу, ты по-прежнему влюблен?
— Ты же знаешь, Луис, люди говорят что цыгане любят только раз в жизни…
В свою очередь, Консепсьон шутливо бросила:
— Но цыгане тоже мужчины, и, значит, тоже могут лгать. Эстебан, я ведь могу подумать, что если ты снова здесь, то тебе больше не больно встречаться со мной, и, стало быть, ты меня больше не любишь…
Я сделал решительный шаг:
— Давайте поговорим откровенно, раз и навсегда. Я люблю тебя, Консепсьон, с того возраста, когда только может появиться такое чувство. Для Луиса все это не ново. Ты клялась мне в верности и вдруг отдала предпочтение Луису. Это твое право. Но я-то вовсе не обязан перестать тебя любить только потому, что ты меня разлюбила?! Цыганам не приказывают. Вспомни это, Консепсьон, ты ведь долго жила рядом с нами в Триане. Я не стал ненавидеть Луиса потому, что любил тебя. С тех пор я живу своими собственными воспоминаниями, и это касается только меня. Выходя за Луиса, ты отвергла наши общие воспоминания. И если я вернулся, то лишь затем, чтобы узнать, изменило ли время вас, как меня. Похоже, нет. Теперь, даже если мне от этого горько, это только мое дело, и был бы тебе признателен, Консепсьон, если бы ты больше не задавала таких вопросов.
— И все же я тебе задам еще один, Эстебан… Можешь ли ты поклясться на распятии, что приехал только для того, чтобы повидать нас?
Если бы Луис не был в курсе моих дел, — мне пришлось бы солгать. Теперь же я просто склонил голову, чтобы спрятать взгляд:
— Нам воспрещается брать Господа в свидетели для подобных дел.
— Я была уверена, что ты лжешь, Эстебан. Для чего ты лжешь?
Вмешался Луис:
— Ты невежлива с нашим гостем, Консепсьон! Это на тебя не похоже.
— Я ненавижу тайны и заговоры!
— И все же ты достаточно долго знаешь Эстебана, и он не заслуживает такого обращения, особенно с твоей стороны!
Раздраженная, она поднялась и вышла, не сказав ни слова. Луис вздохнул:
— Вот так… Она стала такой со дня смерти Пакито. Помнишь о ее клятве больше не говорить об этом несчастье? Да, мы сдержали слово, но это оказалось еще труднее, чем постоянно говорить об этом! Пакито все время здесь, между нами. Когда он погиб, Консепсьон стала жесткой и замкнутой. Раньше я был уверен, что она горячо любит меня, сейчас я сомневаюсь в этом. Мы живем, как живут чужие люди под одной крышей. Каждый день я читаю упрек в ее глазах. Хочешь знать, что я иногда думаю, Эстебан? Она бы предпочла, чтобы в Линаресе бык убил меня, а не Пакито! Иногда мне кажется, что она просто меня ненавидит.
— Ты преувеличиваешь, Луис.
— Не думаю. Надеюсь, ты теперь лучше поймешь мое желание вздохнуть другим воздухом, услышать шум трибун и опять одеть костюм тореро! Ты мне только что принес надежду, Эстебан… Осуществится она или нет, но я буду признателен тебе до самой смерти.
— Я позвоню сеньору Рибальте, как только ты получишь согласие Консепсьон. Он хочет обязательно приехать к тебе, чтобы обсудить программу тренировок. Я уже знаю эту программу. Составлена она с умом. Если ты согласишься, то твой дебют состоится в июне во Франций.
— Неплохая мысль.
— В конце концов, ты сам сможешь все обсудить с ним.
Луис поднялся.
— Можешь на меня рассчитывать, Эстебанито. Я сегодня же вечером переговорю с Консепсьон, и, хочет она того или нет, я опять стану лучшим в Испании тореро! «Очарователь из Валенсии» снова обретет власть и над быками, и над толпой!
Я хотел бы в это верить так же, как и он…
* * *
Луис ушел исполнять обязанности хозяина. Я же курил сигару, устроившись в шезлонге на террасе, выходящей на великолепную хуэрту[195] Хукара, устав думать о вчерашнем и не собираясь думать о завтрашнем дне. Я не слышал шагов Консепсьон, и когда оказалась рядом, я подумал, что она пришла из моей мечты.
— Эстебан, прости мне вчерашнее. Я была жестока и несправедлива с тобой… Но я обязана быть такой… Иначе, к чему мы придем, я и Луис?
Я принес еще один стул, и она села рядом со мной. Глядя на нее, я думал, что несколько недель назад одна только возможность такой близости вознесла бы меня до небес. Теперь же, когда это произошло, я испытывал почти страх, настолько альсирская Консепсьон была непохожа на ту, из Трианы. Не придавая особого значения своему жесту, я взял ее за руку:
— Если бы ты не была так забывчива, то помнила бы, что уже бывала несправедлива и даже жестока со мной, но поверь, что это не имеет никакого значения потому, что ничто не сможет изгнать из моего сердца один образ. Твой образ, Консепсьон.
Она тихо прошептала:
— Эстебанито…
Интонация ее голоса, словно по мановению волшебной палочки, стерла с моих глаз пейзаж Валенсии, и передо мной возник Гвадалквивир, по берегу которого мы шли с Консепсьон, взявшись за руки, опьяненные планами на будущее, которым, увы, не суждено было сбыться…
— Эстебанито, я рада, что ты здесь.
— У тебя часто меняется настроение, Консепсьон.
— Нет. Это случилось со мной только раз, когда мне показалось, что я люблю Луиса.
Я умолк, догадываясь, что, разговаривая со мной, она, в первую очередь, объясняла все это себе.
— Я не обижена на Луиса. Он такой, каким был и раньше. Таким же он будет всегда. Луис ни в чем не виноват… Это человек без храбрости, к тому же постоянно живущий иллюзиями. Он все время придумывает и разыгрывает роль человека, которым хотел бы быть сам, и ему иногда начинает казаться, что он и есть тот человек… Жить с ним невесело, Эстебан.
— Ты слишком строга.
— Нет. Мое существование приобрело новый смысл с появлением Пакито. Этот ребенок указал мне цель жизни. А погиб он из-за Луиса, из-за трусости Луиса…
— Ты забываешь, Консепсьон, что Пакито пошел на смерть за Луиса…
— И он оказался недостойным подвига ребенка, что заслуживает еще большего осуждения. Помнишь старую Кармен, которая помогала мне по дому в Санта-Круз?
— Не очень…
— Она была родом из Трианы и знала нас еще детьми.
— Ну и что?
— Однажды, в сердцах, она мне сказала одну вещь, которую я с тех пор никак не могу забыть. Я хотела бы, чтобы ты мне честно сказал, Эстебанито…
— Обещаю.
— Эта женщина сказала, что если бы я тебе не изменила, — ты бы стал великим матадором. Ты тоже так думаешь?
— Думаю, Консепсьон.
Тогда она, в свою очередь, взяла меня за руку и прошептала:
— Прости, Эстебанито мио[196]…
* * *
Вечер был необычайно нежным, даже для этого климата. Мы пили кофе, глядя на звезды, и время от времени легкий ветерок доносил до нас городской шум Альсиры. Никто из нас не мог даже подумать, что это последние спокойные часы в нашей жизни. Уставшая Консепсьон достаточно скоро оставила нас вдвоем, пожелав спокойной ночи. Не без удовольствия я узнал, что Консепсьон и Луис уже давно жили в разных комнатах. Когда она ушла, Луис бросил:
— Я приготовил тебе сюрприз, Эстебан!
— Правда?
— Я подожду, пока Консепсьон уснет, и выйду. Ты еще полчаса отдохни, а потом поднимайся по лестнице на чердак. Увидишь, я переделал его в очень красивую комнату, теперь это — мои владения, и Консепсьон туда никогда не заходит.
— Тебе не кажется, что сейчас не совсем подходящее время для посещения твоего чердака?
— Но мой сюрприз ждет тебя там, Эстебан!
Я согласился. Через четверть часа, решив, что жена уже уснула, он вышел.
— Так через полчаса, слышишь?
— Хорошо…
Я остался один, и от этого мне стало лучше. Говоря правду, я сожалел о своем приезде. Возможно, узнав, что у Луиса с Консепсьон — дружная семья, я страдал бы, но и их обоюдное разочарование друг в друге тоже было мне в тягость. Это чувство, несомненно, происходило еще и от того, что, несмотря на всю мою пристрастность, приходилось признать, что не все худшее здесь исходило от Луиса. И потом, я увидел, что Консепсьон ужасно изменилась. Ведь такой жесткости не было в моей, трианской Консепсьон!
Постепенно мои мысли изменили направление, и я стал думать о порученной мне миссии. Конечно, «Очарователь из Валенсии» внешне сохранил свою прежнюю гибкость и даже слегка наигранную элегантность, которая когда-то так нравилась публике и так раздражала меня. Ведь вопрос состоял в том, избавился ли Луис от своего страха, который еще больше, чем трагическая смерть Пакито, повлиял на его уход с арены? Если он преодолел свой страх, — тогда, конечно, я оказывал ему большую услугу. В противном случае, я рисковал стать убийцей. Еще было время, чтобы отступить. Нужно было только позвонить в Колон, в Севилью, и сказать дону Амадео, что Вальдерес утратил свои способности, и всякая попытка вернуть его на арену будет обречена на полный провал. Но имел ли я право лгать тем, кто целиком и полностью доверял мне? Имел ли я право предать дружбу Луиса, для которого возврат на арену, возможно, станет спасением? А Консепсьон? Я не мог отказаться от возможности находиться рядом с ней, работая вместе с ее мужем. Чтобы избавиться от этих назойливых мыслей, я встал, посмотрел на часы, посветив себе зажигалкой, и увидел, что полчаса, о которых говорил Луис, уже прошли. Как можно тише я поднялся по лестнице. Из-под двери Консепсьон на первом этаже не проникал ни единый луч света. Должно быть она спала, не подозревая о наших странных развлечениях. Я поднялся на второй этаж, толкнул дверь чердака и замер на пороге от удивительного зрелища, открывшегося моим глазам. Луис расставил на полу по углам несколько фонарей. В центре освещенного круга я увидел «Очарователя из Валенсии», одетого в «костюм света»[197] и стоявшего в той же позе, в какой его изображали афиши во времена пика его славы. Казалось, что вместо двери на чердак я открыл дверь в прошлое. Я никак не мог насмотреться на этого тореро, одетого во все белое, с серебряными вышивками и яркими пятнами галстука, пояса и чулок. Монтера[198], надвинутая на лоб, придавала его взгляду недостающую ранее глубину. Луис был очень красив, и я понял, что если сейчас его талант хоть немного превзойдет средний уровень, то публика будет покорена уже одним его внешним видом. Он смотрел на меня, пытаясь уловить первое впечатление:
— Ну как, Эстебан?
— Фантастика, Луис… Это стоило увидеть!
Его смех остался таким же молодым.
— Думаешь, я еще смогу соперничать с молодежью, о которой сейчас говорят?
— Для того, чтобы ответить, мне нужно увидеть тебя на арене.
— Об этом можешь не беспокоиться: у меня такие же быстрые ноги и такая же крепкая рука! Увидишь, Эстебан, я еще убью нескольких быков, если только ты захочешь быть со мной.
— Как ты мог подумать, что я тебя брошу, Луис?
Он подошел ко мне и расцеловал в обе щеки. Эта сцена напомнила мне об Иисусе, целующем Иуду, прежде чем войти в оливковую рощу. Радости же Луиса не было предела. Он уже видел себя собирающим трофеи и триумфы.
— У нас впереди еще будет красивая жизнь, Эстебан!
Прежде, чем я успел ему ответить, из-за двери донесся голос:
— А что ждет меня в этом будущем?
Мы обернулись. Консепсьон, одетая в халат, строго глядела на нас. Сконфуженные, мы не знали, что ответить. Она вошла и, обращаясь ко мне, сказала:
— Значит, ты приехал за этим? — и, не дождавшись ответа, вышла. Я бросился за ней и настиг ее уже внизу, когда она взялась за ручку своей двери.
— Консепсьон, послушай, меня!
— Нет, ты тоже лжец, Эстебан! Я сожалею, что была с тобой откровенна, ты этого не заслуживаешь! Ты снова предал меня, как предал в тот день, когда я тебе доверила Пакито. Этого я тебе никогда не прощу.
Тогда я ей не поверил. Но я ошибся.
* * *
Вопреки тому, что можно было ожидать, Консепсьон не стала противиться планам Луиса, когда он официально поставил ее в известность о своих намерениях. Она лишь удовольствовалась замечанием:
— Ты, Луис, дал мне слово, и ты, Эстебан, тоже… Я вам больше не верю. Делайте, что хотите. Но я буду сопровождать тебя в поездках, Луис, чтобы все видели, что я полностью согласна с твоим возвращением.
Рибальта и Мачасеро, предупрежденные мной, нашли нас в Валенсии. После того, как при общем согласии была разработана программа тренировок, было решено, что я буду жить у моего друга, чтобы руководить им. Я должен был держать в курсе наших дел дона Амадео, которому нужно было вернуться в Мадрид. Мы условились, что когда я решу, что Луис уже обрел хорошую физическую форму, мы переедем к одному моему приятелю на его андалузскую[199] ферму, где «Очарователь из Валенсии» для восстановления автоматизма движений попробует свои силы с молодыми бычками. Рибальта дал мне месяц, чтобы составить окончательное мнение о возможностях Луиса и решить, стоит ли ему тратить такие большие средства, чтобы вернуть позабытую славу Луиса. Кроме меня Луис еще очень хотел видеть рядом с собой своего старого пикадора Рафаэля Алохью и двух бандерильерос — Мануэля Ламарилльо и Хорхе Гарсиа, которые прежде сопровождали его повсюду. Мне нужно было убедить вернуться этих людей, которые покинули арену одновременно с их матадором. Я понимал, что это будет трудно, но рассчитывал привлечь их высокими заработками и обещаниями значительного страхового полиса. Дон Амадео полностью разделял мое мнение. Он понимал, что Луис будет чувствовать себя уверенно, находясь рядом с тремя старыми помощниками, которые хорошо знали его манеру ведения боя.
Мы расстались, преисполненные планов и надежд. Мачасеро и Рибальта возвращались в Мадрид, а я направлялся в Севилью, чтобы сделать все необходимые распоряжения по поводу своего длительного отсутствия. Друзьям, интересовавшимся моими планами, я давал уклончивые ответы. Зная, что это действует интригующе и что я возбуждаю любопытство, я стремился к тому, чтобы вскоре в Сьерпесе и окрестностях все афиспонадос стали говорить, что старый лис Эстебан Рохиллья что-то задумал. Это было необходимо для того, чтобы возвращение Луиса Вальдереса вызвало как можно больше шума и интереса. Дон Амадео не скрывал от меня, что в случае провала Луиса он будет разорен. Но страсть игрока, верящего в свою удачу, заставляла его ставить все состояние на то, что целиком зависело только от судьбы. Мачасеро должен был заняться подготовкой людей, обслуживающих корриду. Рибальта пока предпочитал оставаться в тени.
* * *
Дон Амадео иногда наезжал в Альсиру, чтобы время от времени убеждаться в хорошей форме Луиса. Вскоре она стала просто отличной, и, понемногу забывая о моих прежних опасениях, я стал думать, что вторая карьера «Очарователя из Валенсии» обещает стать еще более блестящей, чем первая. Я изо всех сил старался привести его к этому результату, не давая Луису никакой передышки. Интенсивные занятия спортом (чтобы согнать жировую прослойку, которая у него, как и у большинства левантийцев[200], стала образовываться на животе) сменялись отработкой движений с плащом. Нанятый нами мальчишка двигал голову быка, установленную на легких колесах, и, следуя моим наставлениям, Луис вспоминал механику классических движений. Чуть позже мы должны были заняться импровизацией.
Мне такая жизнь нравилась, а вот отношение к ней Консепсьон удивляло. Казалось, она позабыла об обмане и полностью разделяла наши заботы и надежды. Она старалась готовить для мужа специальную пищу, следила за тем, чтобы он вставал достаточно рано и мог работать до дневной жары, регулярно напоминала ему о сиесте[201] и часами занималась его гардеробом. Я не осмеливался расспрашивать о причинах перемены в ее поведении. Когда после обеда Луис поднимался к себе для отдыха, мы часто оставались вдвоем, но почти не разговаривали. После сцены на чердаке она стала просто любезной хозяйкой, заботящейся о госте. Ее изысканная вежливость, больше, чем гнев убеждала меня, насколько я стал ей безразличен. Я страдал от этого, но не решался жаловаться, опасаясь нового взрыва гнева, который усложнил бы мое пребывание под одной крышей с ней.
Тем не менее, что-то подсказывало мне, что хорошее настроение Консепсьон было наигранным. Несколько раз в минуты, когда она не догадывалась о моем присутствии, я видел ее лицо, настоящее ее лицо, которое обычно она скрывала под маской любезности. Оно было жестким, со складками горечи у рта и таким ненавидящим взглядом, который не оставлял никаких сомнений в настоящих ее чувствах по отношению к нам. Но тогда какой же смысл разыгрывать всю эту комедию? Чтобы мы успокоились? Но зачем? Казалось, что теперь Консепсьон больше всех желала возвращения своего мужа на арену, а ее заботы даже превосходили мои собственные. В своих заботах она не позволяла Луису совершить ни малейшего отступления от программы подготовки. Настоящие причины этих перемен были скрыты от меня. Я не так уж проницателен, особенно в том, что касается женщин. Доказательством тому была сама Консепсьон, Консепсьон, которой раньше я так доверял. Итак, единственный вывод, который я сделал, исходя из ее поведения, был следующий: жена Луиса делала все возможное, чтобы он был как можно лучше подготовлен к возвращению на арену, и, чтобы в случае провала (на который она, безусловно, надеялась) он не смог бы подобрать себе достаточных оправданий, чтобы испытать судьбу еще раз. Я считал ее расчет неверным с самого начала: неприязнь к мужу мешала ей видеть, как день ото дня он становился все уверенней.
К концу апреля я смог сообщить дону Амадео, что Луис находится в превосходной физической форме. С согласия патрона, я съездил в Андалузию к моему другу Педро Ибурасу, который выращивал быков недалеко от Ла Пальма дель Кондадо. Естественно, я был вынужден поделиться с Педро нашими планами относительно Луиса Вальдереса. Будучи человеком, знающим толк в этом деле, Ибурас поначалу проявил естественный скептицизм. Он повидал немало тореро, которые принимая желаемое за действительное, возвращались, в результате чего память об их прежних выступлениях была обесславлена. Я постарался убедить Педро, что уверен в Луисе, который сохранил все свои прежние качества. Мы разговаривали, опершись на ограду загона, где некоторые из работников Ибураса, половчее и посмелее, упражнялись с молодыми бычками. Хозяин вынул изо рта сигару и сказал:
— Дон Эстебан, я давно знаю и очень уважаю вас. Я уверен по сей день, что если бы вы захотели, то стали бы великим матадором — для этого у вас было все необходимое. Я говорю это для того, чтобы показать, как я доверяю вашему мнению. Быков вы знаете так же хорошо, как и я, а тореро — лучше меня. Если вы уверены, что Луис Вальдерес не опозорит свой костюм матадора и былую славу, я согласен вас принять и предоставить все необходимое для тренировок.
Мы приехали в Ла Пальма дель Кондадо в тот самый день, когда в Мадриде начались корриды, посвященные Сан Изидро. Консепсьон сразу же покорила дона Педро.
В первый раз, когда я увидел Луиса наедине с быком, от волнения мне сдавило горло. Охватит ли его паника, которую он мог просто позабыть, думая, что избавился от нее навсегда? Когда Вальдерес работал, подошел дон Педро. Он тоже рассматривал, вглядывался и оценивал каждое движение Луиса с мулетой, которые он проделывал перед молодым и горячим быком. Луис продемонстрировал весь свой арсенал движений, и я обратился к нашему хозяину:
— Что скажете, дон Педро?
— Думаю, вы правы, дон Эстебан. Луис Вальдерес еще может показать, на что он способен.
Рибальта, уведомленный о прекрасной физической форме Луиса, приступил к сложным переговорам о начале выступлений «Очарователя из Валенсии». Я же, поручив Ибурасу следить за тренировками своего подопечного, отправился в Мадрид, чтобы собрать квадрилью.
* * *
Мануэля Ламорилльйо я нашел в квартале «Лос Матадерос». Мне было нелегко раздобыть его адрес. Как и все, кто покинул арену после неудачи, Мануэль канул в безвестность. Ему очень не хотелось, чтобы прежние поклонники знали, где он живет, потому что жил он теперь очень скромно, довольствуясь зарплатой служащего администрации скотобойни. Мне очень нравился Мануэль, один из самых умелых и умных бандерильерос, которые мне пришлось когда-либо видеть. Почти одновременно со мной он заметил деградацию Луиса. И ему тоже не хватило мига, чтобы спасти Пакито в Липаресе.
Жилье Мануэля и его жены Кончиты было почти нищенским. Я пришел к ним во время ужина, что позволило мне сделать вывод об их крайне бедственном положении. Ламорилльйо, увидев меня, покраснел от стыда, но чувство уважения, которое он питал ко мне, и радость встречи одержали верх над его самолюбием. У них не было детей, и это делало их стесненные условия существования более сносными. После радостных приветствий и поцелуев я объяснил цель моего прихода. Он выслушал меня, не проронив ни слова, и, когда я окончил, его жена ответила мне первой:
— Сеньор, мой муж чудом избежал смерти от быков, даже когда он был молод и силен. Сейчас он не так быстр и уверен в своих силах. Нет, я не могу согласиться на его возвращение туда.
Мануэль нежно взял ее за руку:
— Подожди, Кончита миа[202]. Дон Эстебан, я вас очень уважаю и думаю, что если вы считаете возвращение Луиса Вальдереса возможным, то это действительно так. Что бы ни говорила Кончита, но меня еще не настолько изъела ржавчина, и я уверен, что несколько недель тренировок смогут вернуть мне прежнюю форму.
Кончита простонала:
— Мануэль, ты не можешь согласиться!
— Я просил тебя подождать, кверида[203]. Дон Эстебан, если бы речь шла только обо мне, я бы сейчас же ответил вам «да», — уж очень мне надоела эта работа на скотобойне. Но есть еще Кончита… Мы бедны, дон Эстебан, очень бедны, и если меня ранят или, хуже того, — убьют, что же с ней будет?
Пока Кончита всхлипывала, дав волю своему воображению, я раскрыл свои карты:
— Ваш гонорар, Мануэль, будет значительным, еще более значительным, чем тот, который вы получали прежде.
— Почему?
— Потому что, если возвращение «Очарователя из Валенсии» будет удачным, его импрессарио, синьор Рибальта, получит огромную сумму денег. А он отлично знает, что Луис будет чувствовать себя уверенно, только если ему станут помогать прежние друзья. И, наконец, последнее. Ваша жизнь будет застрахована на триста тысяч песет…
— Триста тысяч песет!..
Размеры суммы поразили Кончиту и Мануэля, и, таким образом, их сопротивление было сломлено…
Мы договорились, что Мануэль как можно скорей присоединится к тренировкам Луиса в Ла Пальма дель Кондадо. Кончите же я оставил достаточно денег, чтобы она могла дождаться первого гонорара своего мужа.
* * *
С пикадором Рафаэлем Алохьей у меня не возникло никаких трудностей. Бедняга Рафаэль, который заметно потолстел, никак не мог прокормить свою жену Ампаро и семерых детей. Когда я нашел их дом, находящийся неподалеку от кладбища Сан Хусто, у меня от жалости сдавило сердце. Со слезами на глазах Рафаэль признался:
— Видите, дон Эстебан, я не могу даже предложить вам вина!
Его исхудавшая жена с большими воспаленными глазами, смотрела на меня, не говоря ни слова. Время от времени она поднималась, чтобы заняться младенцем, лежащим в колыбели, под которую они приспособили ящик из-под сардин, или чтобы дать оплеуху одному из грязных мальчишек, которые все время ссорились между собой. Несмотря на свой вес, Алохья выглядел неважно, о чем свидетельствовали мешки под глазами, да и вся его полнота была какой-то нездоровой. Я объяснил ему причину своего прихода и, поняв, что наконец он сможет заработать, Алохья сразу же согласился. Он едва не запрыгал от радости, когда я объявил о размерах его доли и о страховке. Положив на стол несколько банкнот по сто песет в виде аванса, я потребовал от него привести себя в форму и, особенно, прекратить пить. Он поклялся в этом жизнью своих детей.
— Возможно, мы начнем в июне во Франции.
— Только дайте знать и вышлите денег, чтобы взять напрокат костюм.
Когда я уже собирался уходить, Алохья спросил:
— Дон Эстебан… а как он, дон Луис?
— Лучше, чем когда-либо!
Это его искренне обрадовало.
Самым трудным оказалось убедить Хорхе Гарсиа и его жену Кармен, которая не хотела даже слышать о бое быков. Хорхе полностью позабыл о корриде и занимал скромную должность в больнице Сан Рафаэль в квартале Шамартин, в котором и жил с дочерью и сыном. Он довольно скептически отнесся к возможности новой карьеры Луиса Вальдереса, и мне долго пришлось убеждать его. Деньги в этом случае тоже сыграли не последнюю роль. Гарсиа вместе с женой подсчитал, что если все будет в порядке, то через три сезона они смогут купить себе домик, о котором мечтали со дня свадьбы. Кармен была полненькой и болтливой. Говорила со мной, в основном, она, отчего легко было догадаться, кто в этой семье главный. Размеры страховки убедили ее окончательно.
* * *
В гостинице «Эль Чикоте» дон Амадео вручил мне значительную сумму для передачи ее компании, специализировавшейся на страховании рискованного труда тореро. Отдавая мне деньги, сеньор Рибальта заметил:
— Молю Бога, чтобы вы не ошиблись в вашей оценке возможностей дона Луиса, иначе мне придется занять место рядом с нищими на паперти.
Я еще раз искренне его успокоил. Мы вместе уточнили, с кем из журналистов необходимо связаться для лучшей рекламы наших выступлений, которая бы сразу заставила организаторов поверить в наши силы.
В страховом обществе, куда я вложил несколько тысяч песет, меня приняли очень церемонно, как большого сеньора.
С чувством исполненного долга я вернулся в свою гостиницу «Флорида» на площади дель Каллао.
Назавтра, когда я оканчивал утренний туалет и собирался на поезд, идущий в Ла Пальма дель Кондадо и на Севилью, откуда, кстати, поступали превосходные новости, зазвонил телефон. Мне сказали, что некий Фелипе Мервин будет рад встретиться со мной. Я хорошо знал Мервина прежде и поэтому передал, чтобы он поднялся ко мне в номер.
Глава 3
Прежде я довольно часто встречался с Фелипе Мервином, поскольку он всегда присутствовал на корридах с участием знаменитостей, застрахованных его компанией. Фелипе был чем-то вроде частного детектива при той самой страховой компании, в которую я недавно обращался. Его роль заключалась в расследовании случаев гибели участников корриды, когда владельцы компании должны были выплачивать значительные суммы. Они же, в свою очередь, никогда ничего не предпринимали, не ознакомившись с выводами Марвина. Будучи ненамного старше меня, Фелипе походил на лиса из-за своего заостренного выступающего носа, — чтобы лучше вмешиваться в чужие дела, — как он шутливо говорил о самом себе. Но своей честностью он сумел завоевать симпатии всех, кто его знал. Некоторые пытались его подкупить, но безуспешно, и поэтому он был причиной провала многих мошенников, пытающихся заработать на страховании. Какое-то время мы были почти друзьями, поскольку мне нравились его глубокие знания в области корриды и жизни тореро. Фелипе было достаточно увидеть работу новильеро, чтобы предсказать его будущее. В этом он почти никогда не ошибался.
Когда он вошел в номер, я отметил, что кроме появившейся седины на висках он ни в чем не изменился. Улыбаясь, он начал:
— Здравствуйте, дон Эстебан, — рад вас видеть.
— Я также, дон Фелипе. Давно мы не встречались.
— Да, с тех самых пор, как вы больше не стоите за баррера…
Я предложил ему манцанильи. Мы подняли бокалы за прошлое.
— Знаете, дон Эстебан, я на вас по-прежнему обижен, несмотря на то, что уже прошло столько времени.
— Действительно? Из-за чего же?
— Покинув арену, вы лишили Испанию великого матадора!
— Кто это может знать, дон Фелипе?
— Я, дон Эстебан, и конечно же, вы. Ваш уход глубоко огорчил настоящих знатоков, которых не привлекают новомодные манеры, в которых форсу больше, чем таланта.
— Не уйди я тогда, все равно мне пришлось бы уйти сейчас.
— Почему? Я узнал, что Луис Вальдерес собирается вернуться, а он не на много младше вас.
— У Луиса есть качества, которых у меня никогда не было, дон Фелипе.
— Позвольте не согласиться с вами. Он умел пускать пыль в глаза, но нетрудно было догадаться, что за внешним блеском в нем ничего особенного не было… Кстати, он довольно жалко завершил свои выступления. Прошу извинить, если я задеваю ваши дружеские чувства.
— Согласен, у Луиса были трудные времена, но они давно забыты.
— Конечно, раз он возвращается.
Не зная, что еще сказать, мы какое-то время сидели молча. Почему он так настойчиво говорил мне о Луисе?
— Дон Эстебан, вам, конечно, известно, что я работаю в компании еще с тех пор, как вы сами участвовали в корридах?
— Конечно.
— У нас принято, чтобы я просматривал каждый полис перед тем, как его окончательно подпишут. Таким образом, я недавно ознакомился с полисами двух бандерильерос и одного пикадора, давно сошедших с арены. Честно говоря, меня это удивляло, пока я не узнал из мадридских слухов, что Луис Вальдерес собирается продолжить свою карьеру матадора. Если память мне не изменяет, то эти люди из прежней квадрильи Вальдереса?
— Именно так.
— Почему же сам дон Луис не застрахован, или он обратился в другую компанию?
— Нет, просто Луис достаточно богат, и его жена, в случае чего, не будет ни в чем нуждаться. Кроме того, у них нет детей…
— Понял. Значит, вы занимаетесь организацией его выступлений, дон Эстебан?
— Нет. Я только посредник и займу свое прежнее место в команде Луиса.
— Можно спросить, кто финансирует это мероприятие?
— Амадео Рибальта, азартный человек, который обожает корриду. Он надеется на большую прибыль. Думаю, он заставит Вальдереса подписать драконовские контракты, но я уже говорил, — тот достаточно богат и мечтает только о славе.
— У него есть такой шанс. Я не хотел бы казаться чрезмерно настойчивым, дон Эстебан, но почему вы набрали в команду людей не первой молодости?
— Потому что Луис, особенно во время первых выступлений, должен быть уверен в себе, и старые друзья, как никто, смогут ему в этом помочь. К тому же у этих ребят не сложилась жизнь, и они приложат все усилия, чтобы выполнить свою задачу хорошо.
— Но все же я обязан это сказать, большие суммы страховок потребуют больших взносов, а это значительно уменьшит прибыль сеньора Рибальты.
— Мне обязательно нужно было убедить бандерильерос и пикадора! А вот когда у них опять появится вкус к корриде, и, если они окажутся достойными своего прошлого, дон Амадео уменьшит выплату их взносов.
— Отлично. Я бы сомневался в этом деле, если бы в нем не участвовали вы, дон Эстебан. Смею вас заверить, что ваше участие доказывает его чистоту. Итак, я дам положительный отзыв. Когда и где начнет выступать «Очарователь из Валенсии»?
— В июне во Франции.
— Вы его менеджер?
— Нет. Просто я больше месяца тренировал его, и, должен сказать, что он сейчас в отличной форме. Он в Ла Пальма дель Кондадо, опять привыкает к быкам.
Фелипе Марвин встал.
— Рад был вас увидеть, дон Эстебан. Надеюсь, что мы очень скоро встретимся вновь: я хочу лично посмотреть на попытку дона Луиса вернуться. Если ему это удастся, будет настоящая сенсация. У меня к этому делу свой интерес: афиссион[204] к корридам у меня в крови.
* * *
Я почувствовал какую-то неприятную тяжесть после его ухода. Что его насторожило? Какой подлог учуял этот лис? Я напрасно ломал голову над этим вопросом, не понимая, что смог бы выиграть дон Амадео в случае провала Луиса, ведь он же сам признался мне, что если Вальдерес окажется не на уровне, то он потеряет все. Может быть, Фелипе был просто от природы чересчур подозрительным?
В Ла Пальма дель Кондадо я отметил, что Луис прогрессирует с каждым днем. Он почти полностью восстановил свою прежнюю ловкость. Ему оставалось лишь доработать движения ног, чтобы стать таким, каким он был прежде. Даже этого уже было вполне достаточно, чтобы добиться среднего уровня. Луис не стал скрывать своего удовлетворения, когда я объявил, что Ламорилльйо, Алохья и Гарсиа согласны участвовать вместе с ним в выступлениях.
— Увидишь, Эстебанито, как все удивятся. Я догадываюсь, что будут говорить обо мне, когда узнают о моем возвращении, но мне все равно: я уверен, слышишь? — уверен, что заставлю их замолчать и начать аплодировать!
Я предпочитал его мальчишескую уверенность сомнениям и опасениям от встречи с публикой.
Консепсьон удивляла меня все больше и больше. Она теперь никак не напоминала ту, которая со злостью говорила со мной в Альсире, и казалась столь же увлеченной, как и ее муж. Так же внимательно она следила за его режимом и была еще придирчивей к тренировкам. Я никак не мог понять, с чем было связано такое усердие.
День приезда Ламорилльйо и Гарсиа стал радостным для всех. Мы долго обнимались и даже позволили себе сделать некоторые отступления от режима, касающиеся напитков, но уже со следующего дня принялись за дело с еще большей страстью. Увидев работу Луиса, Ламорилльйо, мнение которого я очень ценил, сказал:
— Это настоящее воскресение, дон Эстебан! Он никогда не был так хорош. Если Луис будет так же работать на арене, успех ему обеспечен!
Я тоже так считал и был рад услышать подтверждение своих надежд.
Амадео Рибальта появился во второй неделе мая со множеством подписанных контрактов. Он пояснил, что представил скромные запросы по выступлениям в Арле и Пампелуне, но если они принесут триумф во Франции, особенно в Басконии[205], он договорился с организаторами в Сантадере и Валенсии о пересмотре суммы гонораров. Оставшийся в Мадриде Мачасеро деятельно занимался рекламой: объявление о скором возвращении «Очарователя из Валенсии» уже наделало немало шума в кругах, близких к корриде. Его прежние почитатели демонстрировали свое полное доверие к бывшему кумиру, в отличие от прессы, которая начала мощную кампанию по дискредитации Вальдереса, очевидно не желая возвращения человека, от которого можно было всего ожидать. Луис оставался к этому безразличен и даже подбадривал нас.
— Пусть они вопят, сколько им нравится. Скоро я заставлю их сменить тон, а если они и нападают на меня, — то потому, что далеко не уверены в моем провале. В противном случае они обошли бы меня молчанием.
Как я и ожидал, дон Амадео оказался очень требовательным в условиях контракта, заставив Луиса подписать его на пять лет. Несмотря на возражения Консепсьон, контракт был подписан, после чего Рибальта справедливо заметил, что если Луис рисковал только именем, то он — всем своим состоянием. И все же Консепсьон заметила:
— Луис рискует потерять не только имя, но и жизнь, дон Амадео!
Рибальта отделался неясным жестом:
— Об этом я не беспокоюсь, у дона Луиса достаточно опыта, чтобы избежать ненужных случайностей.
* * *
Несколько дней спустя, проезжая через Севилью, я сам смог убедиться в силе кампании, развернутой против моего друга. Я как-раз сидел с приятелями за столиком в нашем излюбленном кафе, когда ко мне подошел журналист, с которым меня связывали не очень приятные воспоминания:
— Так это правда, дон Эстебан?
— Что именно?
— Что Луис Вальдерес снова выходит на арену?
— Говорят, да.
— А, интересно, что стоит за этим?
Я взглянул на него с крайней неприязнью:
— Не понял вашего вопроса, сеньор?
Безо всякого приглашения он устроился за нашим столом.
— Не разыгрывайте комедию, дон Эстебан. Здесь какая-то афера!
— Какая еще афера?
— Именно это я и хотел от вас услышать. Луиса Вальдереса всегда хвалили больше, чем он того заслуживал, и вряд ли после долгого перерыва он стал лучше.
— Это ваше мнение, но не мое.
— Пор Диос![206] Я так и думал, иначе вы бы в этом не участвовали. Наверное, можно загрести много песет, дон Эстебан?
Вместо ответа я выплеснул ему в
лицо стакан манцанильи. Он выругался, а затем медленно вытерся.
— Вы об этом еще пожалеете, дон Эстебан!
— Может вам еще добавить?
Он тяжело поднялся:
— Послушайте, вы! Мне наплевать на ваши махинации, но публику вы не обманете. Мы еще сможем оградить ее от таких мошенников!
На этот раз я дал ему оплеуху, в которую вложил столько силы, что ее должны были услышать в самом Серпьесе. Окружающим пришлось удерживать нас, иначе бы мы подрались. Мой соперник задыхался от ярости:
— Я всегда считал вас скотиной, Рохиллья…
— А я вас — шантажистом! Хотите, чтобы я купил ваше молчание, да? Так вот! Имейте в виду, что нам наплевать на ваше мнение и на мнение тех, кто вместе с вами! Нас рассудит публика, и я уверен, что ей не понадобится ваше мнение. Она сама поймет, что Луис Вальдерес — это настоящий тореро, в противоположность тем марионеткам, которые вас купили!
— Мы еще встретимся, Рохиллья!
— Когда угодно!
Он вышел, бормоча угрозы и ругательства, и я подумал, что они обязательно выльются в разгромную статью. Утешало то, что в Ла Пальма дель Кондадо я внимательно следил за тем, чтобы Луис не читал газет.
В тот же вечер я рассказал Консепсьон об эпизоде с журналистом и попросил, чтобы ни одна газета или журнал не попали на глаза ее мужу. Она пообещала сделать все от нее зависящее. Наш разговор происходил во время сиесты. Луис, Ламорилльйо и Гарсиа отдыхали после утренней тренировки. Мы с Консепсьон сидели на скамейке в тени густых ветвей. Чуть ощутимый ветерок гнал волны по луговой траве, со стороны моря с криками пролетали птицы… Покой, который, казалось, никто и никогда не тревожил и который существовал вечно. Я видел профиль Консепсьон. Возраст слегка заострил ее черты, сделав их более жесткими. Это лицо, которое я так любил, с годами все больше отражало внутренний мир Консепсьон. Ровный нос, овал лица, подчеркнутый впалыми щеками, тонкие губы. У нее по-прежнему оставалась девичья шея. Меня наполнила безграничная нежность к ней.
— Почему ты так смотришь, Эстебан?
Я невольно вздрогнул, оторванный от созерцания и воспоминаний.
— Почему? Тебе не понять…
— Неужели я до сих пор самая лучшая для тебя, Эстебанито?
— Ты же знаешь.
— Странно, раньше я думала, что я тебя очень хорошо знаю, а теперь я вижу, что не понимаю тебя. Может и прежде мне только казалось, что я понимаю твои мысли?
— Нет, ты их действительно понимала, но только тогда, когда владела ими.
Она легко толкнула меня локтем и наигранно рассердилась:
— Что это с вами, сеньор, как вы смеете говорить о любви с замужней женщиной, муж которой — ваш друг?
— Успокойся, разговор не об этом. Ты неправильно меня поняла. Я, очевидно, не вполне опытен в таких разговорах.
Она засмеялась.
— А мне казалось, что прежде…
— И прежде нет, Консепсьон… Просто тогда ты меня любила, и поэтому мне не нужно было произносить еще какие-то слова.
— Мы были детьми и нежности того возраста…
— …единственные, которые существуют. Зачем ты сейчас разыгрываешь неверие в мою прежнюю искренность…
Она встала и ушла, не сказав ни слова в ответ.
* * *
Однажды утром, когда из-за бессонницы я с опозданием вышел к импровизированной арене, на которой тренировались Луис и его товарищи, передо мной остановилась машина, из которой вышел Фелипе Марвин.
— Здравствуйте, дон Эстебан.
— Здравствуйте, дон Фелипе. Какими ветрами?
— У меня были дела в Севилье, и, находясь так близко от вас, я подумал, что может быть вы разрешите мне посмотреть на работу дона Луиса?
— Конечно, с удовольствием. Я как раз иду к нему.
Старый лис хотел убедиться, что я не обманул его и что дело было чистым. Сеньор Марвин по-настоящему любил свою работу и скрупулезно выполнял все ее правила.
— Не знаю, чем вы обидели прессу, дон Эстебан, но она яростно ополчилась на вашего протеже. Злобные заглавия чередуются с насмешливыми. Никто не верит в возможность успеха бывшего тореро.
— Вы ведь знаете эти журналистские игры?
— Да уж…
— Только попрошу вас, дон Фелипе, здесь не говорить об этом ни слова. Я стараюсь поддерживать не только физическую готовность Луиса…
— Можете рассчитывать на меня.
Около часа мы наблюдали за работой «Очарователя из Валенсии» и его команды и удалились прежде, чем они ее окончили.
— Итак, дон Фелипе?
— Покидаю вас, обретя полную уверенность, дон Эстебан. Примите мои поздравления с тем, что вам удалось привести его в отличную форму. Уверен, что если Вальдерес будет точно так же работать перед публикой, то клеветники непременно опозорятся. До свидания, и желаю вам успеха!
— Вайя кон Диос![207]
Марвин сел в машину. Прежде, чем отъехать, он заметил:
— Я узнал, что после Арля Вальдерес будет выступать в Пампелуне?
— Да, 7 июля.
— Я тоже буду там.
— Тем лучше, у него не так много друзей, которые бы его поддерживали.
* * *
Мы выехали из Ла Пальма дель Кондадо только за четыре дня до корриды. На рассвете мы с трудом разместились в двух машинах. Одну из них, в которую сели Ламорилльйо и Гарсиа, вел дон Амадео. Я ехал с Луисом и Консепсьон. До вечера мы добрались до Мадрида, где нас ждал пикадор Алохья. Они обнялись с Луисом, как старые друзья. С Мачасеро мы договорились встретиться в Сеговии, чтобы не привлекать к себе особого внимания. Мачасеро с людьми, необходимыми для полной хвадрильи, ждал нас в гостинице «Комерсио Эропео» на калле Мелитона Мартина. Вечером, за ужином они все сидели молча. Это были старые, изможденные тореро, оставшиеся к началу сезона без контрактов. Я не придавал этому никакого значения. Роль их была незначительной, и эту работу они вполне могли выполнить хорошо. Я обратил внимание на то, как они ели, подолгу смакуя каждый кусочек, как люди, не привыкшие есть досыта каждый день. Сразу же после кофе они отправились спать, пожелав нам спокойной ночи. Я отвел Мачасеро в сторону:
— Где вы, черт возьми, откопали этих типов?
— Вы смеетесь, дон Эстебан! Да я просто не смог найти никого другого. Против Вальдереса развернута ужасная кампания, и все, к кому я обращался, посылали меня подальше.
— Не понимаю, почему? Ведь тореро может работать с кем угодно, лишь бы ему платили:
— Оказывается, что все не так просто, дон Эстебан. Одни говорили мне, что им еще не хочется умереть, другие — что им не нравится, чтобы их провожали на вокзал пинками в зад, и так далее. К счастью, у этих троих не было выхода, и они соглашались на любое предложение. Нам еще повезло, что у них есть достаточно свежие костюмы.
Он немного подумал и добавил:
— Надеюсь, что вы и дон Амадео понимаете, что решились на очень трудное предприятие, и не стоит этого скрывать.
— Кажется, вы потеряли былую уверенность?
— Я не думал, что дело примет такой оборот. Но почему они так ополчились на нас?
— Все эти писаки говорят не от себя, а от имени тех, кто им платит. Будьте уверены, среди этих последних есть знаменитые матадоры, которые опасаются, что конкуренция заставит их работать серьезней, чем они это обычно делают!
Мачасеро вернулся в Мадрид. Несмотря на семьсот километров, которые мы проехали за день, мне не хотелось спать. Я вышел прогуляться по старым улочкам Сеговии, города, который мне нравился в Испании больше других. Старинные кварталы вернули мне покой, и я пришел в гостиницу в хорошем настроении. К удивлению, в холле я встретил Консепсьон.
— Ты еще не ложилась в такое время?
— Я ждала тебя.
Я хотел пошутить:
— Даже не надеялся на такое. Ты решила проявить сочувствие?
У Консепсьон не было ни малейшего желания шутить.
— Не будем отвлекаться, Эстебан. Присядь, пожалуйста.
Я подчинился.
— Эстебан, я только что слышала твой разговор с Мачасеро. Думаешь, он сказал правду?
— Да.
— Что стоит за этой кампанией?
— Если ты все слышала, то знаешь мое мнение.
— Я слышала только то, что ты сказал Мачасеро, но я не уверена, что ты на самом деле так думаешь, Эстебан. Кто платит, чтобы оскорблениями вывести Луиса из равновесия?
— Завистники.
— Говори точней, Эстебан!
— Что же я могу тебе сказать?
— Правду!
— Если бы я ее знал!
— У этой кампании есть своя цель — заставить Луиса пойти на любой риск, чтобы оправдать себя в глазах публики. Ты понимаешь, Эстебан, что значит — любой риск?
— Да.
— Кто-то хочет смерти моего мужа.
— Ты с ума сошла!
— Признайся, разве ты не думал об этом?
— Если смотреть на вещи под определенным углом…
— А кто может желать смерти Луиса, кроме того, кто его ревнует, кто до смерти его ненавидит за то, что именно он оборвал его ослепительную карьеру? Кроме того, кто не может ему простить того, что он отнял у него любимую женщину?
Я не сразу понял смысла ее слов, а когда до меня, наконец, дошло, что Консепсьон обвиняет меня в том, что я желаю смерти мужа, то я даже не нашел, что ответить. Я был просто подавлен. Она смотрела на меня с такой ненавистью, что у меня побежали мурашки по коже.
— Признавайся!
Ярость во мне сменилась удивлением. Мне казалось, что я уже достаточно много вынес от этой женщины, чтобы ожидать от нее подобных обвинений.
— Ты считаешь, что я способен на такое, Консепсьон?
— Почему бы нет? Ведь это из-за тебя умер Пакито, которого ты ревновал ко мне!
Итак, все возвращалось к погибшему в Линаресе мальчику. Я даже подумал, не сошла ли она с ума после смерти приемного сына?
— Что я могу тебе сказать? Это настолько дико…
— Дико или нет, но я тебя предупреждаю: если что-то случится с Луисом, я тебя убью!
Она произнесла это таким тоном, что у меня даже не возникло никакого желания что-то объяснять ей, чтобы рассеять это ужасное подозрение.
Закрыв дверь своей комнаты, я сел на кровать. Возможно ли настолько плохо знать тех, кого мы любим? Что случилось с нашей прежней любовью? Консепсьон ненавидела меня… Она меня ненавидела… Я не переставал повторять эти три слова, которые звучали для меня как надгробная молитва. Маленькая Консепсьон с берега Гвадалквивира ненавидела меня… Но, что бы она ни сделала, она не сможет перечеркнуть нашего прошлого. У сегодняшней Консепсьон не было ничего общего ни с девочкой, для которой я изображал бесстрашного тореро, ни с девушкой, прогуливающейся со мной под руку по улицам Трианы, что изумляло жителей квартала. Их изумляла чистота наших отношений, слышишь, Консепсьон?
Я снимал туфли, когда мне на память пришло то, что сказала Консепсьон о кампании, развязанной против Луиса. Она и вправду превосходила все допустимое, доходя до ненависти. Почему?
Даже несмотря на отличную форму Луиса, современным тореро не приходилось, по-моему опасаться до такой степени за свою репутацию. Я бы мог повторить это при всех. Тогда откуда это бешенство? Еще и еще раз я повторял этот вопрос, но так и не нашел на него ответа. Я собирался уже погасить ночник, когда мой мозг пронзила одна мысль, задержавшая мою руку в воздухе. Мы все говорили только о Луисе, но а если он — только предлог? Что если через него хотели дотянуться до Рибальты, зная, что он рискует всем состоянием? У бизнесменов противники всегда безжалостны. Я пообещал себе поговорить об этом завтра с доном Амадео.
* * *
Пообедав в Барселоне, мы днем уже были во Франции, а к вечеру добрались до Арле, улицы которого были полны шумных и смеющихся людей. Я хотел, чтобы у Луиса и его спутников оставался целый день для отдыха перед выступлением. Нужно было начинать понемногу, ведь у Вальдереса еще не было достаточной закалки, чтобы вынести бешеный ритм жизни знаменитых тореро во время сезона коррид.
Подымаясь из-за стола, я попросил дона Амадео уделить мне несколько минут. Он вышел со мной на улицу и, прогуливаясь под платанами, я рассказал ему все, что мне пришло в голову о настоящих причинах кампании, проводившейся против Вальдереса.
— Скажите, дон Амадео, у вас есть враги, способные потратить немало денег только для того, чтобы вас разорить?
— Конечно, дон Эстебан, в нашей профессии мы часто вынуждены сражаться оружием, благородство которого вызывает сомнения. Я не смогу назвать кого-то одного, кто ненавидит меня больше других, но его существование вполне возможно. Я постараюсь поискать в редакциях источник этих денег. Позвольте мне самому с этим разобраться. Ведь если вы правы, дон Эстебан, эта история принимает личный характер, а с личными делами я привык разбираться сам. Во всяком случае, будьте уверены, им так просто со мной не справиться. Вам же необходимо сделать все, чтобы дон Луис не потерял равновесия и мы выиграли этот поединок.
Пожав друг другу руки, мы расстались. Рибальта оказался человеком, на которого можно было рассчитывать, и это придавало мне уверенность.
Прежде, чем подняться к себе, я подошел к двери комнаты Луиса и Консепсьон, которые во время поездки вынуждены были жить вместе, чтобы не давать повода для сплетен. Заметив из-под нее свет, я постучал. Когда я назвал свое имя, мне разрешили войти. В комнате с двумя кроватями Консепсьон в домашнем халате заканчивала разбирать багаж и с предосторожностью раскладывала «костюм света» своего мужа. Луис уже лежал в кровати и встретил меня шуткой, свидетельствующей о его хорошем настроении:
— Что, наседка хочет увидеть, благоразумно ли ведет себя ее цыпленок?
Консепсьон сделала вид, что не замечает моего присутствия, и от ее чересчур заметного презрения мне сдавило горло. Я присел на кровать Вальдереса.
— Луис, ты, ведь знаешь, что пресса ополчилась на тебя?
— А! Не беспокойся… Они умолкнут, когда им это надоест.
Я заметил некоторую наигранность в его тоне. Безусловно, это задело его больше, чем он хотел показать.
— Ладно. В конце концов, в таких делах публика — единственный арбитр и, если будешь работать как следует, они быстро прикусят язык. И все же я долго думал над этим. У меня был разговор с доном Амадео, и мы пришли к согласию.
— То есть?
— То есть вполне возможно, что, несмотря на мнение некоторых, эта кампания направлена вовсе не против тебя.
Я почувствовал, как позади меня Консепсьон перестала работать и внимательно стала прислушиваться к нашему разговору. Луис не скрывал своего удивления.
— В таком случае, против кого же?
— Против дона Амадео.
Я рассказал ему о выводах, к которым я пришел и с которыми согласился Рибальта. Луис словно освободился от тяжелого груза. Когда я уходил, он был полностью спокоен. Консепсьон проводила меня до порога и, прикрыв за собой дверь, чтобы в комнате не было слышно ее слов, сказала:
— Надеюсь, что ты был искренен, Эстебан.
Не отвечая, я пожал плечами и ушел к себе спать.
Следующий день был посвящен прогулке, осмотру арены, некоторым визитам вежливости и, наконец, проверке быков. Они были из Камарчи[208]. Животные казались быстрыми, живыми, имели большие рога но, к счастью, были легкими и бесхитростными. Лучших соперников для дебюта Луиса нечего было и желать. Он с этим был полностью согласен и весь день находился в прекрасном настроении. После легкого ужина мы рано отправились спать. Завтрашний день имел огромное значение. Мы должны были во что бы то ни стало выиграть.
Луис со своими спутниками съел на завтрак лишь несколько кусочков слегка поджаренного мяса, чтобы желудок не был перегружен к моменту корриды. Не скрою волнения, охватившего меня, когда Консепсьон оставила нас вдвоем, и я стал одевать Луиса. В то же время, мы оба были радостными и уверенными в себе еще и потому, что за несколько минут до этого мне повезло в жеребьевке, и я вытянул для своего матадора номера двух быков, которых считал наилучшими.
После того, как Луис одел нижнее белье, я стал помогать ему облачаться в белую рубаху с жабо и шелковые белые брюки, очень суженные и поэтому надевавшиеся с трудом. Затем следовал широкий пояс, который несколько раз оборачивался вокруг талии, розовые чулки, черные туфли и, наконец, куртка с серебряной вышивкой. Когда я приколол к его волосам колету[209], он был полностью готов и сиял в своей нетронутой белизне. Только после этого Консепсьон получила право увидеть своего мужа. На ее глазах появились слезы: она увидела прежнего Луиса. Правда ли, что все может начинаться снова?
Два других матадора, выступавших вместе с Луисом, были из молодых и поэтому начали принимать участие в корриде совсем недавно. С почтением они пришли поприветствовать старшего товарища. Один из них, баск Мигель Арапурун, произвел на меня прекрасное впечатление своим пурпурным костюмом. Второй, мадридец Энрике Каламон, одетый во все зеленое, казался несколько тяжеловатым. Это был храбрый, но лишенный утонченности человек, один из тех, на кого вечно сыплются все шишки из-за его смелости.
Наступило время, когда нужно было под аплодисменты выехать на арену в открытой машине. Я смотрел, как Луис спокойно улыбался направо и налево в то время, как у Гарсиа и Ламорилльйо, чувствовалось, разгоралась прежняя страсть. Пикадор Алохья, будучи меланхоликом по натуре, казалось, дремал, но я был уверен в его силе. Еще до их выхода, я посоветовал ему не повредить быка пикой, как это обычно делают в первый день. Мне, Луису, всем остальным нужно было, чтобы «Очарователь из Валенсии» провел красивый бой.
Все изменилось, когда мы прибыли к месту, предназначенному для тореро и находящемуся в отдалении от публики. Шум от сидящих на трибунах людей долетал сюда в виде приглушенного звука, похожего на морской прибой. Пока пикадор занимался своей лошадью и разговаривал с другим пикадором, каким-то арлезианцем[210], Луис и его бандерильерос зашли в часовню, чтобы помолиться. Затем они приготовились к парадному выходу, а я, покинув Вальдереса, направился за баррера, неся мулету[211], шпагу и бандерильи. Консепсьон, которая сидела как раз позади меня, спросила:
— Ну, как он?
— Очень хорошо.
Больше мы не говорили. Да и зачем… Дон Амадео устроился со своей сигарой рядом со мной.
— Как дела?
— Лучше быть не может.
— Тогда остается только ждать.
И вправду, оставалось только ждать. В такие минуты время тянется бесконечно долго. Звук трубы оторвал меня от переживаний. Церемония началась. Оркестр заиграл ритуальный пасодобль, двери широко открылись и, следуя за алгвазилами[212], на резвых конях выехали матадоры, каждый со своей квадрильей. Луис был посредине, и «Оле!» публики предназначались, в основном, ему. Затем квадрильи разъехались в разные стороны, и Луис подошел ко мне: у него был бой только со вторым быком. Начинал бой Энрике Каламон. Он неплохо справился с бесхитростным быком, но не более того. Ему поаплодировали, и он вернулся на свое место с недовольным видом. Вышло так, как я и предполагал: он хорошо знал свое дело, но был лишен всякого вдохновения.
Когда бык Луиса выбежал на арену, послышались крики восхищения. Это было животное, полное огня и с превосходными рогами. Гарсиа и Ламорилльйо заставили его пробежать за их плащами, которые они держали позади себя. Это делалось для того, чтобы Вальдерес смог понять, каким из рогов его соперник предпочитает атаковать. Наконец, когда они подвели быка к нужному месту, я хлопнул Луиса по плечу и подтолкнул его вперед. Я видел, как тысячи людей затаили дыхание, когда «Очарователь из Валенсии» продемонстрировал целую серию превосходных веронике с присущей ему грациозностью и гибкостью! Ламорилльйо радостно подмигнул мне. Я посмотрел в сторону Консепсьон. Она мне улыбнулась. Дон Амадео, жуя свою сигару, прорычал:
— Лишь бы он продолжал так же — и мы выиграли!
Луис оставил быка с пикадорами и вернулся ко мне слегка побледневший.
— Ну что, Эстебанито?
— Ты еще лучше, чем прежде!
Он улыбнулся, и улыбка вернула ему молодость и блеск в глазах. Казалось, он совсем не думал о Консепсьон. После пикадоров Гарсиа и Ламорилльйя вонзили свои бандерильи четко и уверенно, но Луис снова превзошел их на целую голову. Перед «преданием смерти» он с артистичной галантностью продемонстрировал проходы раэна. Когда наступил последний момент, на трибунах, где во время работы матадора постоянно слышались восклицания и аплодисменты, внезапно наступила тишина. Вопреки всякому ожиданию, Луис посвятил этого быка мне. Держа мулету в правой руке, он поднял правой монтеру и указал ею в мою сторону, произнеся громко и отчетливо:
— В благодарность этот бык посвящается тебе, брат Эстебан Рохиллья!
Я даже не осознал, что плачу. Луис убил быка с такой храбростью, которую можно было увидеть лишь в старые добрые времена, когда тореро не боялись ничего. Ему удалось поразить животное с первого раза, и это буквально взорвало публику. Луис получил оба уха и хвост, и это было полным триумфом. После такого выступления Мигель Арапурун выглядел бледно, несмотря на свою рискованную манеру. Вслед за Луисом Вальдересом блистать было невозможно.
Почти так же хорош был «Очарователь из Валенсии» и со вторым быком, но я все же заметил в нем некоторую усталость. Публика не обиделась на него за некоторое снижение мастерства, и он получил одно ухо. Когда мы вернулись в гостиницу, дон Амадео угостил всех шампанским и, взяв меня под руку, сказал:
— Не кажется ли вам, дон Эстебан, что им все же придется умолкнуть?
— Я уверен, что они сменят курс и станут воспевать возвращение Луиса.
Я обольщался. Наши противники не сразу сложили оружие. Если французская пресса наградила самыми лестными эпитетами Луиса Вальдереса, лучшего, по их мнению, матадора, которого когда-либо видели в Арле, то наши соотечественники оказались куда более сдержанными. Поток яростных нападок сменился молчанием. Появилось лишь несколько статей, рассказывающих о том, что Вальдерес хорошо выступил в Арле, но тут же было замечено, что совсем немногие верят в воскресение бывшего «Очарователя из Валенсии», и что об этом сможет судить только испанская публика, то есть, — настоящие знатоки. Меня это взбесило, но Луис оставался абсолютно спокойным.
— Они же не могут отступить сразу. Здесь замешано их самолюбие, понимаешь? Но все же им придется это сделать, если я хорошо выступлю в Пампелуне, а я выступлю хорошо, Эстебан, обещаю.
Прежде я опасался, что у Луиса недостаточно энергии, теперь меня беспокоила ее чрезмерность. Но все же одна вещь утешала меня: движения ног Луиса значительно улучшились, ведь до его ухода в этом была основная его слабость, которая усиливалась от одного выступления к другому, и которую, казалось, он никогда не сможет преодолеть. Тореро с ногами, не контролирующими скорость их движений, обречен на уход с арены или на смерть.
Консепсьон, единственная из нас, не проявила особой радости. Под предлогом приступа мигрени она поднялась к себе, оставив нас самих праздновать успех ее мужа. Может, она опасалась будущего, открывавшегося перед Луисом после первой удачи? Или скучала по своей усадьбе в Альсире? Но зачем, в таком случае, нужно было сопровождать нас?
Июль был трудным, ведь после триумфа во Франции я не позволял Луису расслабиться и почивать на лаврах. Я заставлял его упорно работать, чтобы исправить небольшие шероховатости, замеченные мной и Ламорилльйо. Необходимо признать, что он беспрекословно подчинялся моим требованиям. Иногда, приходя в себя между двумя упражнениями, Луис говорил:
— Без тебя, Эстебан, мне бы этого никогда не осилить.
— Не говори глупостей! Коррида у тебя в крови… Ты работаешь так же легко, как другие дышат. Но именно этой легкости тебе следует опасаться. Нужно думать не о красоте, а об уверенности, не о том, чтобы нравиться, а о том, чтобы убедить.
Незадолго до отъезда в Пампелуну Луис зашел ко мне в комнату. В это утро я позволил себе подольше отдохнуть.
— Эстебан, ты хорошо знаешь Консепсьон. Может ты понимаешь, что с ней происходит?
Мне не нравилось говорить о Консепсьон с Луисом, и я всякий раз избегал этой темы.
— Что ты хочешь этим сказать?
— У меня возникли некоторые сомнения.
— Говори, слушаю.
— Не знаю, как и начать… Ты уже понял, что между мной и Консепсьон не все ладно со дня смерти Пакито. Когда ты приехал в Альсиру просить меня вернуться на арену, я даже боялся ее реакции, ожидая скандала. А вместо этого кроме нескольких упреков, она никак не противилась нашему проекту. Наоборот, судя по тому, как она ухаживала за мной, мне стало казаться, что она вновь обретает прежнюю любовь к корриде. Но вскоре я понял, что она как-бы стоит в стороне от наших радостей и переживаний. У меня такое чувство, что она ожидает чего-то…
— Чего она может ждать?
— Возможно, дня, когда со мной произойдет то, что случилось с Пакито?
Я выпрыгнул из кровати и, схватив Луиса за плечи, со злостью встряхнул его.
— И тебе не стыдно? Скажи, тебе не стыдно так говорить о своей жене? Я запрещаю тебе так думать, иначе лучше от всего отказаться!
— Не сердись, Эстебан.
Я отпустил его.
— Как же не сердиться, когда ты говоришь такие глупости?
— Хорошо, наверное, я был не прав… До встречи.
Насвистывая, он вышел из комнаты, но я понял, что не убедил его. Быть может, я не сумел найти подходящих слов? Трудно убедить кого-то, когда сомневаешься сам. Загадка Консепсьон становилась проблемой, решения которой я не находил.
* * *
Быки в Пампелуне ничем не напоминали их сородичей в Арле. У басков все серьезно, и коррида в том числе. Они любят тяжелых животных с длинными рогами, с которыми бывает очень трудно справиться. Жеребьевка завершилась. Я рассматривал выпавших нам животных, когда кто-то хлопнул меня по плечу. Обернувшись, я оказался лицом к лицу с Фелипе Марвином.
— Как дела, дон Эстебан?
— Подождем до вечера, и тогда я вам скажу. Вы видели быков?
— Да, отличные животные. Ваши — те, серые?
— Да.
— Нелегкий противник. Посмотрим, чего стоит дон Луис.
— Вы приехали из Мадрида специально?
— Да, а разве я вам не обещал? Кстати, несмотря на молчание прессы, я слышал, что дон Луис произвел отличное впечатление во Франции.
— Признаюсь, я даже не надеялся на такое блестящее возвращение.
— Рад за вас, дон Эстебан. Могу ли я остаться рядом с вами во время выступления?
— Это будет для меня честью, дон Фелипе.
Он отошел в сторону своей танцующей походкой, поблагодарив меня с изысканностью, на которую способны только кастильцы[213], конечно, когда этого захотят. Но за этой вежливостью чувствовалась какая-то напряженность. Из-за чего?… Что беспокоило сеньора Марвина?
* * *
В пустынном зале гостиничного ресторана Луис и его люди сидели за далеко не обильным, как принято в дни корриды, столом. Вдруг на улице послышались голоса мальчишек, продававших газеты. Мне показалось крайне необычным, чтобы газеты продавались в воскресенье в такое время. Мальчишки что-то выкрикивали, но мне не удавалось разобрать слова, которыми они хотели привлечь покупателей. Единственное, что я отчетливо услышал, было слово квадрилья. Я вышел наружу и, подозвав одного из них, купил газету, как оказалось посвященную корриде в Пампелуне. Над восьмью колонками жирным шрифтом было набрано заглавие: «Ла квадрилья де лос фантасмас»[214]. Я сразу же понял, что речь шла о нас. То, что я прочитал было отвратительно. Какой-то аноним, совершенно позабыв написать об успехе Луиса во Франции, выступал против «старой кокетки-матадора, желающего вновь вкусить славы». Моего друга, исказив его элегантное прозвище, он называл «Очковтирателем из Валенсии». Он подробно разбирал прежнюю манеру выступлений Вальдереса, и это напоминало поток грязи, лжи и клеветы, в котором изредка проскакивали справедливые замечания и верные наблюдения. Из-за привычки Луиса к тому, чтобы за ним ухаживали, и из-за некоторой склонности к полноте, журналист, естественно в завуалированных терминах, чтобы избежать процесса, — сочинил несколько измышлений о нравах тореро. Вслед за Луисом этот жулик взялся за Гарсиа, Ламорилльйо и Алохью, определив их, как старье, могущее только волочить ноги по песку арены. Он напоминал, что эти трое тореро очень давно не выступали, и что их участие в команде Луиса Вальдереса красноречиво доказывает, что матадор из Валенсии не нашел никого более достойного, чтобы помогать ему. Выступление Луиса было названо «просьбой о милостыне, а не спортом». В завершение, негодяй призывал публику встретить «квадрилью призраков» так, чтобы навсегда избавить испанские арены от проходимцев, наносящих ущерб национальному искусству корриды.
Дрожа от гнева, я подумал, что убил бы на месте типа, состряпавшего эту статью. Скомкав газету, я швырнул ее в желоб для собак[215] и дал себе обещание не спускать с Луиса глаз, чтобы ему не попалась в руки эта мерзость. В этот момент ко мне подошел дон Амадео, возвращавшийся с арены. Он держал в руке газету и был заметно взволнован.
— Вы читали это, дон Эстебан?
— Да.
Он сжал кулаки:
— Знать бы имя того, кто состряпал эту статейку! Негодяй здорово перегнул палку, и я готов заплатить не одну тысячу песет, чтобы добраться до этой свиньи!
— Во всяком случае, дон Амадео, нашим об этом не нужно знать. Уберите эту дрянь, а я постараюсь сделать все, чтобы Луис и остальные ни о чем не догадались.
— Естественно. Все билеты проданы, значит, что касается финансовой стороны, то их выходка провалилась. Конечно, публика будет подогрета этой статьей, и если, к несчастью, дон Луис не будет достаточно хорош…
— Об этом можете не беспокоиться.
Он долго смотрел на меня, а затем протянул руку:
— Без вас, дон Эстебан, это наверняка стало бы катастрофой. До свидания.
Я не помню, что отвечал на вопросы Луиса и его спутников о новостях, но все же мне как-то удалось обратить все их мысли на корриду.
— Это уже не тренировка, амигос[216]. Сегодня начинаются серьезные вещи. Не будем строить иллюзий. С этими быками будет посложней, но, к счастью, они тоже бесхитростны и позволят показать все ваше умение, в котором я полностью уверен. Мы должны одержать безоговорочную победу, если вы хотите зарабатывать столько, сколько заслуживаете. Уверен, что вам будут аплодировать.
Я поднялся в комнату Луиса, чтобы помочь ему одеться. На лестнице я догнал Консепсьон, которая возвращалась после прогулки по Пампелуне. У меня было скверное настроение, и я не преминул упрекнуть ее:
— Думал, что ты пообедаешь с нами… Ты ведь знаешь, как Луис нуждается в поддержке перед выступлением?
— Мне не хочется есть в такое время… Я ведь не тореро, как он. К тому же, не вижу необходимости в двух няньках.
Она показала газету:
— Ты читал?
— Это ужасно!
— Но в чем-то и справедливо.
Я едва не задохнулся:
— Как ты смеешь?…
— А разве это неправда, Эстебан? Похоже, что автор этой статьи хорошо знает Луиса, почти так же хорошо, как ты…
Я услышал, как Луис стал подниматься по лестнице.
— У меня сейчас нет времени говорить об этом. Спрячь эту гадость, чтобы он ничего не знал, по крайней мере, до конца корриды!..
Она посмотрела на меня с нескрываемой враждебностью и скрылась в своей комнате.
Я зашнуровал брюки на Луисе, когда вдруг в памяти всплыли слова Консепсьон об этой статье. Я понял, что в авторстве она подозревала меня и пришел в такое волнение, что даже мой друг это заметил:
— Что с тобой, Эстебан?
— Ничего. Я старею, Луис, и уже не могу справляться с эмоциями.
Он рассмеялся.
— Я постараюсь поднять твое настроение?
Оставив квадрилью за молитвой в часовне, я направился к своему привычному месту за баррера. Марвин уже ждал меня.
— Дон Эстебан! Каково ваше мнение: что значит эта атака на дона Луиса?
— Я ничего не понимаю, и это выводит меня из себя!
Он задумался.
— Странно все же. На своей памяти не припомню такого скандала перед выступлением. Это переходит обычные рамки критики. Автор настолько ненавидит вашего друга, что готов на все, чтобы его погубить.
— Но сейчас он опоздал! Посмотрите, сколько народа!
Дон Фелипе кивнул.
— Я думаю, дон Эстебан, этот пасквиль специально напечатали перед самым выступлением. Им наплевать на ваш финансовый успех. Они хотят ошарашить дона Луиса, чтобы лишить его хоть части способностей.
— Но тогда, — это покушение на убийство?
— Думаю, да, дон Эстебан.
Оставив Марвина, я побежал к квадрилье, которая готовилась к парадному выходу, и сразу же заметил отсутствие Луиса. Я обратился к Ламорилльйо:
— Где он?
— У часовни. Он готовит себя до последней секунды.
У меня чуть не остановилось сердце, когда я застал Луиса за чтением этого бульварного листка. Во мне вскипела ярость: как он попал ему в руки? Я подбежал к нему, вырвал газету из рук и закричал, дрожа от злости:
— Кто тебе дал это?
Совершенно спокойным голосом он произнес:
— Консепсьон.
Глава 4
Я практически не видел работу Луиса с первым быком. Ответ моего друга поверг меня в какую-то прострацию. Я был похож на боксера, растянувшегося в нокауте на полу ринга: потерявшись в неясном тумане, наполненном криками и резким светом, он не может сориентироваться в мире, ускользающем от него. Когда, наконец, я вернулся на свое место за баррера, дон Фелипе спросил:
— Я уже стал волноваться… Что с вами случилось, дон Эстебан? Эй! Дон Эстебан, вы меня не слышите?
— Извините… Не знаю, что со мной, но я не могу сосредоточиться.
— Это стоит сделать: дон Луис выступает великолепно!
Я предпринял усилие, чтобы вырваться из оцепенения, парализовавшего меня с того момента, как Луис назвал имя той, которая, несмотря на мои предостережения, все-таки вручила ему подлый памфлет, могущий повлиять на его выступление. Вдруг до моего слуха долетел неистовый крик публики. Она устроила овацию «Очарователю из Валенсии», который великолепно, с прежде не присущей ему точностью, работал на арене. Все, что бы он ни делал, удавалось ему превосходно, а скупость жестов свидетельствовала о профессионализме и таланте тореро. Публика понимала в этом толк и одобряла каждое движение матадора долгим и громким «оле!», которое так ободряло Луиса. Перед заключительным торено мой друг подошел за мулетой и шпагой. Он весь сиял.
— Ну как, Эстебан?
— Продолжай так же, и мы выиграли!
Видимо, мне не удалось придать моему голосу достаточной уверенности, Я это понял по удивленному взгляду Луиса. Он вернулся на арену, чтобы произнести посвящение быка председательствующим, а я старался не оборачиваться в сторону Марвина, цепкий взгляд которого ощущал на себе. Луис убил своего противника по правилам, но не более того. Тем не менее, за работу с плащом он получил одно ухо.
Почему? Почему она это сделала? С какой целью? Тысячи предположений громоздились у меня в голове, но я не мог остановиться ни на одном из них. Прежде, чем отыскать Консепсьон, я обождал, пока Луис выйдет во второй раз на арену. Внезапно я обнаружил, что Консепсьон была совсем рядом, и меня поразила жесткость взгляда, которым она следила за движениями мужа.
От корриды в Пампелуне у меня остались неясные воспоминания. До сегодняшнего дня я не могу понять, как мне удалось почти полностью отключиться в то время, когда на чашу весов было поставлено будущее Луиса, когда он должен был быть принят или навсегда отвержен болельщиками. Все, что я помню: Луис был самым лучшим из трех тореро, выступавших в тот день. За оба выступления он получил по бычьему уху. Это не было как в Арле триумфом, но все же было успехом, создававшим хорошую рекламу. Мне припоминается, как Луис, сделав неверный шаг, едва не попал быку на рога и увернулся лишь в последний момент, — настолько близко, в стиле знаменитого Бельмонте, он работал с быком. Публика издала дикий крик, считая, что матадор задет. В этот момент я посмотрел на Консепсьон. Она не вскочила, как большинство ее соседей, либо уже поняв, что ее муж увернулся от несчастного случая, либо… она его ждала? Дон Фелипе, стоявший рядом со мной, весь сжался в комок, и когда Луис продолжил работу, вздохнул с облегчением.
Несмотря на все попытки, в этот вечер мне не удалось застать Консепсьон одну. Она не пошла в свою комнату, как сделала это утром, когда тореро завтракали, а осталась с нами выпить шампанского за успех мужа. Консепсьон была беспечна и весела, но мне показалось, что она избегала оставаться со мной наедине. Ламорилльйо сказал мне, что «Очарователь из Валенсии» стал совсем прежним, и если бы не трудности с дыханием, которого у него не хватило на обоих быков, он был бы даже лучше, чем обычно.
После Пампелуны газеты вынуждены были сменить тон. Все обозреватели, присутствовавшие на Сан-Фирминской корриде, признали, в той или иной степени, что Вальдерес остался великолепным тореро, заслуживающим внимания. Особенно отмечалась его работа с плащом. Только самые злобные клеветники завершили свои репортажи вопросом, не было ли это сиюминутным явлением. Но к ним никто не стал прислушиваться, и организатор из Сантандера увеличил на пятьдесят процентов ставки за корриду, назначенную на следующее воскресенье. Мы еще на один день остались в Пампелупе, решив поехать напрямик в сторону Кантабрии[217], дабы избежать, по возможности, утомительных переездов.
Проездом мы остановились в Виктории и устроили себе небольшой отдых.
Наконец мне удалось застать Консепсьон одну. Она пошла за покупками на пласа де ла Вирген Бланка. Я подождал, пока она вышла из магазина, и преградил ей дорогу.
— Почему ты два дня избегаешь меня, Консепсьон?
— Не понимаю, что ты хочешь сказать?
Я пошел рядом с ней.
— Видишь ли, Консепсьон, никто не знает тебя так хорошо, как я… Ты сможешь солгать кому угодно, только не мне. Мы оба прекрасно понимаем, почему тебе не хотелось оставаться со мной наедине.
— У тебя бывают странные мысли, мой бедный Эстебан!
Я чувствовал, что она предельно напряглась.
— Так что же ты хотел сказать?
— Я хотел спросить, зачем ты дала Луису газету прямо перед выходом на арену? Консепсьон, и почему ты это сделела? Ты же не сошла с ума? Неужели ты не понимаешь, что могла вывести его из равновесия! Ты же могла его этим убить или, по меньшей мере, сделать его выступление неудачным, что было бы равноценно смерти?
Она повернула ко мне обозленное лицо:
— Дон Эстебан Рохиллья, который знает все! Дон Эстебан, который один все видит! Дон Эстебан, несбывшийся тореро…
Почти ласково я заметил:
— Не тебе упрекать меня в этом, Консепсьон.
Она продолжала:
— Это оправдание неудачника и труса, Эстебан! Ты, как и Луис: вы всегда ищете и находите оправдания вашим слабостям и вашей трусости. Вам обязательно нужно найти виновного в ваших ошибках, и когда нет никого подходящего, вы обрушиваетесь на случай, на невезение! Ведь так вы отделались от вины за смерть Пакито? И ваша совесть спокойна?
Надеяться было больше не на что. Никакие аргументы и доказательства не избавили бы ее от этого наваждения.
— Так ты дала мужу газету перед выступлением из чувства мести?
— И ты еще говоришь, что любишь меня, Эстебан? Любишь настолько, что считаешь преступницей? А мне казалось, что любовь невозможна без уважения? Или я ошибалась?
— Но тогда объясни мне, зачем ты это сделала?
— Просто потому, что я знаю Луиса лучше, чем ты! Потому, что в нем гордость превыше всего! В отличие от тебя, я знала, что эта статья только подстегнет его. Когда я давала ему газету, то сказала: «Луис, ты можешь заткнуть рот этим негодяям, и если покажешь, на что способен, публика им ответит за тебя!» Ты видел результат?
— И все же это было опасно…
— У Луиса вообще опасная работа. Разве ты забыл об этом? За сим, Эстебан, буду тебе обязана, если ты больше не станешь обращаться ко мне, во всяком случае, когда мы будем вдвоем. Твоя нежность — это ложь, ведь если бы ты действительно любил меня, то не стал бы сомневаться.
Она очень быстро удалилась, оставив меня стоять на одном месте. Мои мысли вовсе запутались. Наконец я побрел по старинным улицам Виктории, переполненный отвращения ко всему на свете. Я почувствовал, что даже новая карьера Луиса вдруг перестала меня интересовать. Мне хотелось поскорей оказаться в Триане, в моем квартале, в моей комнате, чтобы забыть настоящее и упиваться прошлым, которое становилось все более нереальным и существовало, возможно, только в моем воображении. Вернувшись в гостиницу, я решил уйти от дона Амадео, как только окончится сезон.
* * *
До начала подготовки к корриде мы решили поесть. За столом царило молчание. Чувство тревоги не оставляло нас: все старые тореро знали, что выступления в Кантабрии и Астурии[218] считаются одними из самых трудных в Испании. Это объясняется прежде всего беспощадностью публики, не прощающей ни малейшей ошибки и скупой на аплодисменты. Затем — потому что приходится проводить бой с огромными быками знаменитой породы миура, которые внушают страх самым лучшим и смелым тореро. В Сантандери и в Бильбао репутация многих была испорчена. Во всяком случае, нас ожидала трудная борьба, но такова уж участь тореро — испытывать судьбу. Дон Амадео нервничал, и лишь Марвин, присоединившийся к нам накануне, источал уверенность, согревавшую нас.
Но больше всего меня беспокоило состояние Гарсиа. Наш бандерильеро жаловался на судороги в желудке, от которых, по его словам, он страдал и раньше. Вопреки своей привычке, он попросил чашку кофе — единственное, как он говорил, лекарство, способное облегчить его состояние. Консепсьон, как и я, знала, какой опорой был для ее мужа Гарсиа. Он во что бы то ни стало должен был прийти в себя до выступления. Консепсьон оставила нас, чтобы приготовить кофе. Все искоса посматривали, как Гарсиа массировал себе живот. Рибальта, который нервничал больше всех, попросил нас его извинить, сказав, что хочет увидеть, как идет продажа билетов. Атмосфера становилась очень тяжелой. Необходимо было что-то предпринять, так как только действие могло освободить нас от неясной тревоги, сжимавшей наши сердца.
Когда мы вернулись к Гарсиа, он заверил, что чувствует себя намного лучше и что Консепсьон приготовила ему целый термос кофе, чтобы он смог его выпить еще и после обеда, если опять почувствует себя плохо. Следует заметить, что для всех испанцев кофе — самое главное лекарство, — страдают ли они от зубной боли или от того, что болит голова.
Ни я, ни Луис никогда прежде не выступали на арене Сантадера, расположенной при въезде в город, на Кватро Калинос[219]. И все-таки я предпочитал выступать здесь. Торерос — люди суеверные, и поэтому я решил не позволять Луису выступать в Линаресе, где погиб Пакито, по крайней
мере, пока я буду его опекать. Дон Амадео ожидал нас у дверей. Он весь сиял.
— Это настоящий успех, дон Эстебан! В кассах все билеты проданы, а на черном рынке их перепродают по давно невиданным ценам. Организаторы на седьмом небе! Это — верная слава для дона Луиса…
— И состояние для вас.
— Конечно, дон Эстебан, я надеюсь.
В Астурии у меня появилось ощущение, что корриды теряют здесь свое значение «народного гуляния» и превращаются в нечто священное. В этих краях ко всему относятся серьезно: жизнь здесь трудная, и ничто не воспринимается легко. Я знал, что если Луис хорошо выступит в Сантадере, он затем сможет показываться любой публике.
Тореро, выступавший перед Луисом, с треском провалился, и я, естественно, счел это удачей для нас. А ведь этот арагонец[220], о котором говорили как о восходящей звезде нового поколения, превзошел себя в бою с круторогим миурой. То, что он делал, было безупречно, но явно недостаточно для такого противника, каким был его бык. Публика безжалостно его освистала и наградила обидными эпитетами. Бедный матадор занервничал, едва не попал на рога и убил животное, словно мясник. Мне даже показалось, что публика вот-вот выбежит на арену, чтобы наградить его пинками.
Тишина еще не установилась, когда по резкому звуку трубы выпустили животное, с которым должен был сразиться Луис. Чувствовалось, что публика уже была заведена до предела. Я горячо молился, прося Бога, чтобы Вальдерес не допустил ни единой ошибки. Я опасался, что свист публики заставит его излишне нервничать. Ламорилльйо, который вынудил быка пробежать за ним, в изнеможении прислонился к баррера, где мы с Марвином и доном Амадео следили за ходом событий. Я услышал как бандерильеро сказал Луису:
— Видели? Будьте осторожны с левым рогом!
— Хорошо!
Спокойный и деловой тон этих реплик успокоил меня, и я прошептал дону Амадео:
— Все будет хорошо, сеньор!
Импресарио незаметно перекрестился.
Действительно, все прошло замечательно. Луис блестяще работал и с бандерильями, и с плащом. Реакция публики явно запаздывала, но когда уже успех стал явно очевиден, над трибунами пронеслось громовое «оле!». Ободренный «Очарователь из Валенсии» показал игру, полную трудностей и невероятного риска, и убил быка с такой ловкостью и уверенностью, что вся арена стала похожа на извергающийся вулкан. Президиум наградил триумфатора обоими ушами животного. Под крики ликования Луису пришлось совершить круг почета в сопровождении квадрильи, которая возвращала на трибуны головные уборы зрителей, бросаемые ими в знак почета или восхищения. Дон Амадео сдавил меня в объятиях, а более спокойный дон Фелипе сказал:
— Мне, как святому Фоме: нужно было увидеть, чтобы уверовать…
Когда Луис подошел к нам, вытирая лицо, по которому струился пот, я не мог удержаться и прошептал ему:
— Я думал, что знаю тебя до конца, амиго, но, прости, — я не думал, что ты сможешь так выступить. Ты был наравне с самыми великими!
Он доверчиво улыбнулся.
«Очарователь из Валенсии» приковал к себе всеобщее внимание, и публика, желая поскорей увидеть его вновь, была несправедлива по отношению к двум другим тореро, выступавшим вместе с Луисом. Толпа скандировала: «Эн-кан-та-дор!.. Эн-кан-та-дор! Эн-кан-та-дор!»[221] Теперь Луис Вальдерес мог с уверенностью думать о своем будущем, а дон Амадео — подсчитывать доходы. Когда Луис вновь появился на арене, крики публики сменились полным молчанием. Сотни людей как-бы слились воедино с матадором в исполнении давнего ритуала корриды. После терсио[222] пикадоров началось терсио бандерильерос. В это время ко мне подошел Гарсиа с искаженным от боли лицом.
— Я адски страдаю, дон Эстебан… Дайте мне кофе…
Я поспешно открыл термос и налил ему полную чашку. Он выпил ее одним глотком, несмотря на то, что жидкость была очень горячая, и, поблагодарив, бросил:
— Теперь быку придется держаться крепче…
Меня что-то беспокоило, но я не мог определить, что именно. До сих пор все шло хорошо, даже слишком хорошо, и моя старая цыганская кровь, веря во всякого рода предсказания и проклятья, без конца подсказывала, что счастье не может быть бесконечным. Тем временем Луис отлично воткнул свои бандерильи, и публика приветствовала его криками «оле!». Затем началась работа с плащом. Вдруг дон Фелипе толкнул меня локтем.
— Посмотрите на Гарсиа!
Прислонившись к баррера, бандерильеро стоял с совершенно отсутствующим видом. Такой отход от работы был слишком необычен, и я направился в его сторону, чтобы узнать в чем дело. Когда я хлопнул Гарсиа по плечу, мне показалось, что я его разбудил.
— Что с тобой, Хорхе? Опять желудок?
— Нет… дон Эстебан… Не знаю, что со мной…
Он говорил с трудом, словно пьяный, и взгляд его был затуманен. Марвин подошел ко мне.
— Что с ним?
— Я ни черта не понимаю!
В этот момент Луис, окончив первую серию работы с плащом, чтобы перевести дух, позвал Гарсиа подменить его. По зову матадора Хорхе встряхнулся и направился было к Вальдересу. Я удержал его.
— Если вам плохо, Хорхе, оставайтесь здесь… Я все объясню Луису.
Он отстранился и возмущенно сказал:
— Тореро я или нет?
Пот стекал по его лицу, чувствовалось, что он производит над собой невероятные усилия. Внезапно я понял, что бандерильеро шел к быку, не понимая, где он находится: Хорхе Гарсиа шел к своей смерти. Я крикнул:
— Гарсиа! Вернитесь! Я приказываю вам вернуться!
Он меня, конечно же, не услышал. Удивление, заставившее замолчать публику вокруг меня, вскоре охватило все трибуны. Некоторые вставали, пытаясь понять, что происходит на арене. Дон Фелипе заметил:
— Он идет, как лунатик!
Я прокричал матадору:
— Луис! Внимание на Гарсиа!
Торерос из квадрильи ничего не поняли. В это же время Хорхе продолжал идти и вскоре оказался почти в центре арены, в нескольких метрах от быка, еще не успевшего обратить на него внимание. Я схватился за баррера, чтобы перепрыгнуть, но дон Фелипе удержал меня:
— Слишком поздно!
Подбежал дон Амадео:
— Дон Эстебан, сделайте что нибудь! Он сошел с ума!
Изо всех сил я закричал:
— Луис!.. Ламорилльйо!.. Помогите ему! Задержите его! Прикройте его!
Наконец, Луис и остальные поняли, что происходит что-то страшное, и что это связано с Хорхе. Только теперь они заметили непонятное поведение их товарища, все ближе подходившего к быку, словно для того, чтобы потрогать его рукой. Публика наблюдала за ним стоя в молчании. Смерть уже шагнула на арену, и каждый из этих тысяч людей понимал это. Луис и другие побежали к быку, развернув плащи и громко крича, чтобы отвлечь внимание животного, которое уставилось на Гарсиа, идущего ему навстречу. Оно опустило голову. Кровь текла из его морильйо[223], оставляя пурпурные ручейки на черной шерсти, словно вытканной из муаровой ткани. Ноги животного словно вросли в песок. Огромный бык с большой головой и убийственными рогами словно символизировал смерть, пришедшую из глубины веков и наполненную беспощадной дикостью первобытных степных богов. Схватившись за баррера, дон Амадео, дон Фелипе и я наблюдали небывалое зрелище. У меня пропал голос. Лишь на секунду у меня появилась надежда, что Ламорилльйо все-таки успеет добежать, но ему не хватило этой секунды. Бык рванулся с места. Гарсиа не уклонился ни на дюйм. Похоже, он даже не видел животного. Я закрыл глаза и услышал удар. Крик, поднявшийся до неба, оглушил меня. Я открыл глаза. Луис и Ламорилльйо отвлекали быка. Достаточно было взглянуть на неподвижное тело Гарсиа, чтобы понять: пришла смерть. Его положили на носилки и понесли к врачу.
* * *
Вопреки всем правилам, я не присутствовал на поединке Луиса с быком, только что убившего Гарсиа. Я доверил дону Амадео передать шпагу и мулету матадору, когда наступит час финального терсио.
Хорхе лежал на большой кровати. Повязки не могли скрыть ужасную рану на животе. В скрещенные руки ему вложили четки. Он стал похож на каменное изваяние, лежащее на надгробии. Большая потеря крови придала его лицу желтый оттенок мумий. Я заплакал, ведь я давно знал Гарсиа и уважал его.
Каждый раз, когда кто-то открывал дверь, до нас долетал шум арены. Хирург, недоумевая, высказывал свои мысли вслух:
— Не понимаю… Никогда не видел, чтобы люди так умирали… Похоже, ему казалось, что он находится на пляже… Можно даже предположить, что это — самоубийство!
— Помилуйте, доктор! У Гарсиа никогда не возникало мысли о самоубийстве.
— Тогда почему же он даже не шелохнулся, чтобы увернуться от быка?
— Уверен, что он не видел его…
Пожилой хирург посмотрел на меня поверх очков.
— Если бы не мое уважение к вам, дон Эстебан, я бы подумал, что вы смеетесь надо мной?!
— Я бы себе этого никогда не позволил. Кроме того, сейчас не время для этого.
— Тогда, ради святого Сантьяго, объясните мне, как человек с хорошим зрением, долгие годы участвующий в корридах, находясь на арене почти один на один с пятисоткилограммовым быком, может не заметить такое животное и не слышать криков предупреждения об опасности?
— Не знаю…
Старик проворчал:
— Вы далеко пойдете, если вам достаточно такого ответа!
Он с отвращением отвернулся и вышел, оставив меня наедине с трупом Хорхе. Для всех, живущих корридой, смерть каждого тореро — личное горе. Я услышал, как позади меня открылась дверь, и каблуки тихо застучали по каменным плитам пола. Консепсьон стала рядом со мной и прошептала:
— Он умер сразу?
— Думаю, да.
В знак сострадания она склонила голову.
— Значит, у него не было времени раскаяться и получить прощение.
— В чем раскаяться? За что получить прощение?
— У каждого из нас есть за что просить прощения, Эстебан…
Пока она говорила, я всматривался в ее лицо. На нем не было ни слез, ни каких-то иных следов горя. Она наклонилась ко мне и сказала:
— Луис выступил очень хорошо… Как обычно, немного хуже, чем с первым быком, но все же хорошо, — он получил одно ухо быка. Теперь больше нечего опасаться за его новую карьеру.
Это было все, что она нашла нужным сказать у тела Хорхе Гарсиа, друга и помощника ее мужа. Это показалось мне чрезмерным и, показывая на покойного, я почти прокричал:
— Ему тоже нечего опасаться! Если бы Луис, вместо того, чтобы красоваться перед публикой, следил бы за работой Хорхе, как это должен делать матадор, он бы понял, что происходит нечто ненормальное и смог бы спасти его! Но тебе на это наплевать!
Она сжала губы.
— Эстебан… Когда был убит Пакито, Луис тоже не подоспел вовремя, но тогда ты считал это естественным, а сейчас — возмущаешься…
* * *
Несмотря на успех Луиса, мы покидали Сант-Андер с тяжелым сердцем. Один из тореро, привезенных Мачасеро, занял место Гарсиа, не высказав по этому поводу ни радости, ни печали. Толстяк Алохья, наш главный пикадор, единственный сохранял свое обычное настроение, но вовсе не потому, что у него было черствое сердце и он не сожалел о погибшем товарище. Просто по природе своей он был фаталистом.
— Что вы хотите, — изрек он, — такова наша работа…
Незадолго до нашего отъезда дон Фелипе зашел попрощаться. Он вошел ко мне в комнату, когда я оканчивал одеваться: мы хотели добраться до Мадрида, где Рибальта, Ламорилльйо, Алохья и я решили остановиться. Луис и Консепсьон возвращались в Альсиру, чтобы насладиться там заслуженным отдыхом.
— Дон Эстебан, мне жаль Хорхе Гарсиа… Славный был человек.
— Да, дон Фелипе, славный человек, и я чувствую себя частично виновным в его смерти. Я не спал из-за этого всю ночь.
— В чем же вы виновны?
— Хорхе оставил корриду… В Шамартине у него была трудная, но спокойная жизнь… Мне пришлось долго настаивать, чтобы он решился. Что теперь будет с его женой и детьми?
— А три тысячи песет?…
— Деньги не могут все заменить, дон Фелипе.
— Конечно, я понимаю. Для меня же эти три тысячи песет становятся непростой проблемой.
— Но почему?
— Боже мой, дон Эстебан, вы должны понять, что моя компания не очень-то обрадуется выплате такой суммы после единственного первого взноса.
— Отвечу вам словами Алохьи: такова ваша работа.
— Естественно, страховка была бы немедленно выплачена, если бы только смерть клиента не наступила при обстоятельствах, которые меня заинтриговали.
— Но ведь не в первый же раз тореро попадают на рога?
— Конечно, но я уверен, что это первый случай, когда тореро от них не уклоняется, как Гарсиа… Мы не платим за самоубийство, дон Эстебан. Это записано в страховом полисе.
Мною начала овладевать ярость. Я подошел к нему и сказал, глядя прямо в глаза:
— Сеньор Марвин, я всегда считал вас порядочным человеком. Так вот, я даю вам честное слово, что Хорхе не был самоубийцей! Если вы ищете предлог, чтобы не…
Он поднял руку, чтобы я помолчал.
— Осторожно, сеньор! Вы можете сгоряча произнести слова, которые я не смогу ни забыть, ни простить!
— Извините…
— Дон Эстебан, вы ведь не могли не заметить, как, впрочем, и все остальные, непонятное поведение Гарсиа.
— Действительно.
— Рад, что вы согласны с этим. В таком случае, вы понимаете, что я не могу позволить своей компании выплатить три тысячи песет, не разобравшись прежде в этой истории?
— Чем я могу вам помочь?
— Скажите: на что была похожа походка Гарсиа на арене?
— Не знаю… Наверное, на походку человека, который отключился… как…
— Как?
— … Как лунатик, что ли?
— Я ждал этого слова! Лунатик! Почему же Гарсиа был похож на лунатика, дон Эстебан?
— Честно говоря, не знаю. Быть может, ему хотелось спать? Но это совершенно невозможно! Профессиональный тореро не засыпает перед быком!
— Вы не совсем правы.
— В некоторых случаях это возможно.
— Ради Бога, не мучайте меня, что это за случаи?
— Такое могло случиться, если бы он принял наркотик, дон Эстебан.
— Что такое вы говорите, дон Фелипе?
— На этот счет у меня достаточно опыта… До страховой компании я работал в уголовной полиции… и по опыту работы там могу вас заверить, что Гарсиа перед смертью принял наркотик.
— Вы хотите сказать, что он кололся?
— Нет, он выпил транквилизатор.
— Нет, это, наконец, смешно! Зачем, черт возьми, Хорхе понадобилось принимать транквилизатор перед выходом на арену? Что, он вдруг сошел с ума?
— Просто он принимал его не сам, дон Эстебан, точней — он не знал, что принял.
Я посмотрел на своего собеседника и неожиданно для себя понял, что сам с момента смерти Гарсиа тоже догадывался, что за кулисами событий что-то происходит. Я с трудом выдавил:
— Но тогда речь идет об…
— Об убийстве, дон Эстебан. Кстати, куда девался термос, из которого вы налили кофе Гарсиа?
— Я, кажется, оставил его там же.
— Да ну! Как раз нет, амиго… Как только я понял, что произошло, сразу же поспешил туда, чтобы взять его… Гарсиа еще только уносили с арены, а термос уже исчез.
— Наверное, его кто-то просто подобрал!
— Это решение самое простое, дон Эстебан, но оно неверно.
Я не мог понять, что он хочет этим сказать.
— Почему вы не хотите допустить, что его кто-то подобрал?
— Нет. Я уверен, что кто-то поспешил от него избавиться. Чувствуете нюанс?
Конечно, я чувствовал, а Марвин своими блужданиями вокруг да около сути дела начинал меня раздражать.
— Но кто мог попытаться избавиться от этого термоса?
— Тот, кто положил в него наркотик и не захотел, чтобы об этом узнали.
— Пор Диос![224] Ведь бедный Гарсиа не был такой величиной, чтобы стоять у кого-то на пути!
Марвин сел на мою кровать и закурил сигарету. Он сделал глубокую затяжку, прежде чем начал излагать свою точку зрения.
— Для меня, дон Эстебан, существуют только два объяснения. Если кто-то, как вы изначально предполагали, хочет разорить Рибальту, то поняв, что кампания в прессе не удалась из-за полного успеха дона Луиса, этот кто-то мог решить попытаться деморализовать всю квадрилью. На Вальдереса не покушаются потому, что хотят, скорей всего, его провала, а не гибели. Возможно, это неплохой расчет. Кто знает, как ваш матадор перенесет этот удар? Это может поколебать его уверенность. Посмотрим, что будет в Валенсии.
— Меня бы это удивило, дон Фелипе. Луис достаточно эгоистичен, и его карьера для него — прежде всего!
Он внимательно посмотрел на меня.
— Мне казалось, что он ваш друг.
— Именно потому, что он мой друг, я хорошо знаю все его достоинства и недостатки. Ну, а второе объяснение?
— Оно касается вещей более деликатных. Три тысячи песет составляют неплохую сумму. Есть немало людей, готовых и не на такое даже ради гораздо меньшего.
Я взорвался:
— Это уже слишком! Наследниками Хорхе становятся его жена и дети. Вы что думаете, что сеньора Гарсиа, смешавшись с толпой убила или убедила кого-то убить ее мужа, чтобы получить страховку?
— Нет, конечно… Мне ужасно неловко, дон Эстебан, но я должен считаться со всеми версиями. Этого требует прогрессия и доверие ко мне моего руководства. Поэтому еще один вопрос: нет ли у вас, случайно, подписанных договоров со всеми наследниками лиц, застрахованных на большие суммы?
Я не сразу понял, что он хотел этим сказать, но постепенно мне стал открываться смысл его вопроса, и я почувствовал, что бледнею. Мой гость тоже заметил происходившую со мной перемену. Он встал:
— Поймите меня, дон Эстебан…
— Уходите, пока я вас не вышвырнул отсюда!
— Но…
— Уходите!
Подойдя к двери, он бросил:
— Кроме всего прочего, но ведь именно вы налили кофе Гарсиа, не так ли?
Я бросился на него прежде, чем он успел переступить порог. Марвин упал на спину, и я уже было поднял кулак, чтобы его ударить, как вдруг он спокойно заметил:
— Если бы вы были виновны, вы бы так не поступили.
Я отпустил его и позволил подняться. Отряхиваясь, Марвин сказал:
— Примите мои извинения и благодарность за то, что сдержали ваш воинственный порыв, если, конечно, вы невиновны.
— Послушайте: я требую вскрытия Гарсиа.
— Это невозможно. У меня нет достаточных доказательств, чтобы говорить об убийстве. Без этого получить разрешение на официальное вскрытие нельзя. Кроме того, обязательно должно быть согласие вдовы. И, наконец, остается еще одно: если мне даже удастся обнаружить наркотик, как доказать, что ваш тореро принял его не по собственной воле?
— Но зачем это ему могло понадобиться?
— Все знали, что Гарсиа жаловался на боли в желудке. Барбитураты же можно использовать и как обезболивающее средство. Вот так! Убийца все предвидел. Это — настоящий ас. Я должен с ним посчитаться — и либо он меня победит, либо я заставлю его предстать перед судом. Аста ла виста[225], дон Эстебан. Увидимся в Валенсии.
— Нет.
— Нет?
— Я предпочел бы больше не встречаться с вами, дон Фелипе. Мне будет очень трудно переносить присутствие человека, считающего меня убийцей!
— И все же, дон Эстебан, вам придется смириться с моим присутствием, поскольку, если не вы убили, то, значит убийца находится где-то рядом с вами, что, правда, вовсе не значит, что вы его знаете. Один совет: опасайтесь незнакомых людей, которые вертятся вокруг квадрильи. Надеюсь, что у вас хватит терпения переносить меня, пока дело не прояснится. До встречи, амиго.
Амиго… Я бы задушил такого друга!
После ухода Марвина я еще долго оставался в прострации, потеряв всякий отсчет времени. То, что он подозревал, больше того, почти обвинял меня в убийстве старого товарища, доказывало, насколько этот Фелипе низкий человек… Убить Хорхе… но зачем? Зачем? Чтобы украсть несколько тысяч песет у вдовы и ее детей? Какой позор! Я злился на себя за то, что не ударил этого негодяя! Я стал опять запихивать свои вещи в чемоданы, но теперь уже с такой злостью, из-за которой делал это еще более неловко, чем обычно.
Никто не понял причины моего отвратительного настроения. Консепсьон не проронила ни слова, а Ламорилльйо и Луис старались говорить о чем угодно, но только не о смерти Гарсиа. Чтобы их не расстраивать, я ничего не сказал друзьям о гипотезах Марвина.
Мы расстались, как это и было договорено, в Мадриде. Назавтра я должен был приехать в Альсиру. При прощании Луис после минутных колебаний спросил:
— А что мы сделаем для Гарсиа?
— Я сам этим займусь.
Его эгоизм это устраивало, и он, улыбаясь, простился со мной.
* * *
Я всегда недолюбливал квартал Шамартин, но в это утро он был мне еще отвратительнее, чем обычно. Меня мучили угрызения совести, и чем ближе я подходил к дому Гарсиа, тем тяжелей становились мои ноги. Я опасался сцены, от которой меня никто не мог избавить, и ругательств, которые придется услышать в свой адрес. Я был злым гением этой бедной семьи, которая без меня, без моего вмешательства, жила бы еще в надежде на лучшее будущее, надежде, неистребимой у нас, испанцев. Дорога к дому Гарсиа, которую я прежде столько разыскивал и которая казалась мне такой трудной в первый раз, сейчас стала удивительно короткой и простой. Мне казалось, что я ее почти пробежал. На самом же деле, я едва переставлял ноги. Но все имеет свой конец, и вот я оказался у двери Гарсиа. Я подождал немного, прежде чем постучать, но когда уже поднял руку, дверь вдруг открылась сама и показалась Кармен Гарсиа, одетая во все черное.
— Входите, сеньор… я ждала вас. Я видела, как вы шли… Вы не решались…
— Простите меня, сеньора, ведь если бы не я…
— Нет, сеньор, ни вы, ни он, ни я, никто не виноват. Все мы в руках Божьих, и ничто не происходит без Его Воли. Я знаю, что вы пришли к нам как друг. Мы приняли ваше предложение только для того, чтобы купить маленький домик… Я куплю его на деньги от страховки, но Хорхе уже не будет в нем. Уверена, — он на вас не в обиде за случившееся. Не первый тореро умирает на арене, правда, всегда считаешь, что гибнут только другие, и вдруг, однажды… Хорхе будет рад видеть оттуда, где он сейчас, что я куплю домик, и что его дети, возможно, будут в нем счастливы.
Она спросила, что необходимо сделать для того, чтобы получить три тысячи песет, и я не решился сказать ей о возможной задержке их выплаты. Когда разговор о формальностях подошел к концу, она подняла на меня красные заплаканные глаза:
— Сеньор… я не решалась читать газеты… Вы были там, когда это случилось?
— Да.
— Он долго мучился?
— Он сразу же умер.
— Правда?
— Клянусь Христом!
— Я верю вам, мне легче. Сеньор, вы должны рассказать мне, как произошло это несчастье, чтобы я затем могла передать это детям.
Для нее, а еще больше для детей, я сочинил образ бандерильеро, с честью погибшего на арене. Он получился таким, каким она знала его еще до замужества. Я говорил о представительности и грациозности Хорхе, о его успехе перед публикой, о храбрости погибшего и о том, что именно эта храбрость стала причиной его смерти. Для этой женщины, которая думала не о мертвом, а о живом муже, о муже, который для нее всегда останется живым, — я нарисовал летопись его триумфальных выступлений. У нее на лице появилась улыбка, а взгляд затерялся в потерянном прошлом. Она стала еще красивей от воспоминаний, в которых уже невозможно было отделить вымышленное от настоящего. Я говорил ей то, что она хотела услышать. До последнего дыхания она будет хранить созданный мной образ Хорхе, и это в какой-то степени оправдывало мою ложь.
Когда я уже собирался уходить, она удержала меня за руку:
— Сеньор… вы любили Хорхе, правда?
— Я его очень любил, сеньора.
— Тогда я хотела бы вам подарить одну старую фотографию.
Это портрет Хорхе. На нем он был таким, каким я его знал по совместным с Луисом выступлениям: молодой, еще без следов трудной жизни. Я положил фотографию в карман и вышел из этого дома, где я оставил женщину, которая отныне будет жить воспоминаниями…
Когда я отошел достаточно далеко, я еще раз достал фотографию из кармана, чтобы посмотреть на Хорхе. Я уже знал, что этот неподвижный взгляд навсегда останется со мной и будет преследовать меня до тех пор, пока я не узнаю, кто его настоящий убийца. Он, Мервин и я знали, что это был не бык.
* * *
Находясь под тяжелым впечатлением, я зашел в страховую компанию, где мне необходимо было встретить дона Фелипе. Он разыграл удивление, увидев меня:
— Дон Эстебан! Я удивлен… Помнится, вы говорили, что один мой вид вам отвратителен?
— Я только что от Гарсиа…
— И как там?
— Нужно как можно скорей выплатить им страховку.
— Вы думаете, что вы говорите!
— Хотите, я попрошу у дона Амадео гарантий под эту сумму до окончания вашего расследования? Уверен, что он согласится. В противном случае я верну ему весь мой заработок.
Он немного помолчал, словно колебаясь, а затем сказал:
— Завтра мы все выплатим вдове Гарсиа.
Я подал ему руку.
— Спасибо, дон Фелипе… Я этого не забуду.
— Извините, дон Эстебан, я понимаю, что рискую опять вас рассердить, но я не могу пожать вам руку.
Пламя гнева вспыхнуло на моих щеках.
— Почему же, обьясните, пор фавор[226]?
— Будет нечестно с моей стороны пожимать руку человеку, которого завтра, возможно, я отправлю в тюрьму.
Наступило такое глубокое молчание, что было слышно, как закрылась дверь, по крайней мере, двумя этажами ниже нас. Я с трудом подавил желание вцепиться ему в горло и хриплым голосом сказал:
— Я стараюсь… уловить ход ваших мыслей, но это трудно, очень трудно! Я много думал о нашем последнем разговоре в Сантадере. Мне кажется, что вы правы. Кто-то убил Хорхе… Зачем? Я об этом ничего не знаю… Возможно, что-то прояснится, если удастся найти того, кто финансировал статьи против нас…
Он кивнул, не прерывая меня, и я продолжил:
— Если бы вы знали, что такое квадрилья, то не стали бы меня подозревать, дон Фелипе… Мы работали вместе с Хорхе долгие годы…
— Иногда люди убивают друг друга после многих лет совместной жизни.
— Возможно, но вы не знаете психологии квадрильи, где все зависят друг от друга… Вы обо всем знаете только снаружи. Чтобы понять это, нужно самому выйти на арену!
— Конечно, дон Эстебан, конечно, но, как я вам уже говорил, я был детективом в уголовной полиции и там понял, что от человека можно ожидать, чего угодно, слышите, чего угодно! Брат убивает брата, друг предает друга, сын убивает мать, дочь становится убийцей отца. Когда верх берут страсти, не существует ни закона, ни правил, ничего!
— В таком случае, я рад, что никогда не работал в уголовной полиции!
— Кажется, я тоже не говорил, что рад этому?
Этот человек каждый раз ловил меня на слове, и все же я не мог не восхищаться им. Мало того, — я доверял ему.
— Дон Фелипе. Мне недостает вашего хладнокровия, когда речь идет об отрицательных сторонах жизни. Но я очень хочу вам помочь найти того, кто убил Хорхе Гарсиа, и сделаю для этого все, что вы скажете.
— Вы производите впечатление искреннего человека, дон Эстебан, но меня часто обманывали разные субъекты, которые умели придавать правдивость своим словам.
— Так вы не хотите, чтобы я доказал вам свою невиновность?
— Это я сам смогу установить, если вы дадите мне возможность, как можно чаще и незаметней бывать среди вашей команды. Совершенно необходимо определить, откуда наносятся удары.
Прощаясь, мы все-таки не подали друг другу руки.
* * *
Вернувшись в Альсиру, я обнаружил совершенно спокойного Луиса, который при встрече заметил:
— Я долго ждал тебя. Нужно вместе поупражняться в технике работы с плащом. Я заметил, что у меня в ней есть пробелы, а у себя, в Валенсии, я не хочу допустить никакой слабости.
Я заверил его, что сделаю все возможное для того, чтобы он находился в отличной форме.
На лестнице, ведущей в мою комнату, я встретил Консепсьон. Мы молча кивнули друг другу. В отсутствии Луиса мы не считали нужным разыгрывать дружеские отношения. Да и настроение у меня было не то… Смерть Хорхе Гарсиа, оскорбительные подозрения Марвина, мой визит к Кармен Гарсиа и, наконец, скрытая вражда той, которую я не переставал любить, давили на меня тяжелым грузом.
За ужином Луис говорил почти один и, увлеченный своим монологом, не обращал никакого внимания на наше молчание. Комментируя свое последние выступление, он подчеркивал свои достоинства, уточнял ошибки, планируя, как можно их исправить. Меня он одновременно и радовал, и раздражал. С одной стороны, его уверенность в себе успокаивала меня в плане будущих выступлений, с другой же, мне было очень досадно, что все его мысли были заняты только собственной персоной: о бандерильеро, погибшем на его глазах, он даже не упомянул. Только за десертом он, очевидно, решил отвлечься от своих проблем и, скорее из чувства долга, чем из личной заинтересованности, спросил:
— Ты был у Гарсиа?
— Да.
— Неприятная миссия, старина… Ну, и как это восприняла Кармен?
Если бы он знал, какое вызывал раздражение!
— А как она могла это воспринять? Танцуя хоту[227]?
Смутившись, он пробормотал:
— Что… что с тобой, Эстебан?
Я понял, что поступил излишне резко.
— Прости меня, но я очень устал. Должен заметить, что она восприняла этот удар лучше, чем я ожидал. Кармен — умная женщина. Страховка позволит ей осуществить совместную с Хорхе мечту: купить маленький домик, где она воспитает детей.
Было заметно, что Луису стало гораздо легче, когда он узнал, что вдова еще не потеряла интереса к жизни.
— Я никак не могу понять одного: почему Гарсиа, видя разъяренного быка, даже не попытался двинуться с места. В этом есть что-то необъяснимое…
Как тренер и менеджер, я не мог допустить, чтобы он углублялся в эту тему.
— У него болел желудок… Помнишь, Консепсьон даже пришлось приготовить ему кофе?
Я стал добавлять всякие красочные детали, чтобы придать правдивость своему рассказу. В этот день я лгал во второй раз, и опять, чтобы утешить и смягчить боль. Уткнувшись носом в тарелку, я уточнил:
— Кармен говорила, что ее муж очень страдал от язвы желудка, но лечить ее не хотел. Когда боль уж слишком его донимала, он принимал успокоительное. Должно быть, в тот день он выпил его слишком много, что и вызвало замедленную реакцию.
— Он был хорошим парнем, — завершил Луис поминки по Хорхе Гарсиа, тореро из Шамартина. Сразу же после этого он вернулся к единственной теме, которая его интересовала: к себе.
* * *
Было еще довольно рано, когда я попросил у хозяев разрешения покинуть их и поднялся к себе. Мне вовсе не хотелось спать, просто я должен был побыть один. В моем мозгу все время навязчиво возникала параллель между бедной лачугой Гарсиа и жильем Луиса. А ведь у Хорхе был почти такой же талант, как и у Луиса, просто ему не хватало везения «Очарователя из Валенсии». Это часто случается с бандерильерос. Такова жизнь: всегда будут счастливчики и неудачники, люди, которых будут любить и такие, которых никогда не полюбят, ребята, которых убивают… Думаю, что если бы в этот момент у меня нашелся какой-то крепкий напиток, то я бы обязательно напился.
В дверь постучали, когда я собирался снять пиджак. В удивлении я замер на несколько секунд, а затем сказал: «Войдите!» В комнату зашла Консепсьон.
— Никогда не видела Луиса в такой хорошей физической форме. Он пошел на прогулку.
— И ты поднялась сюда, чтобы объявить мне эту великую новость?
— Нет, чтобы спросить, зачем ты солгал Луису о смерти Гарсиа.
— А что ты об этом знаешь?
— Знаю, что его убили… Я слышала кое-что из твоего разговора с Марвином в Сантадере.
— Хорошо, и что из того?
— Почему ты не сказал правду Луису?
— А ты не догадываешься? Можешь теперь сделать, как в Пампелуне: пойти и все ему рассказать. Это обязательно его успокоит перед выступлением в Валенсии!
— Кто убийца?
— Кто? Да конечно же, я! Сегодня утром Марвин рассказал мне о своих подозрениях! Получается, что я убил своего друга Гарсиа, я же финансировал кампанию против своего друга Луиса, и, кроме того, из-за меня убили Пакито. Удивительно, как я еще не в тюрьме!
— Успокойся, Эстебан!
— Успокоиться? Но, Бога ради, меня обвиняют в убийстве самых дорогих людей, а ты хочешь, чтобы я был спокоен? Я больше так не могу! Все против меня!
Мы, цыгане, умеем выдерживать удары судьбы, но когда наши нервы сдают, — мы срываемся — грубо и безнадежно. Именнно это и произошло со мной. Плача, я продолжал кричать:
— Что я вам всем сделал? Вы все объединились против меня! Луис украл у меня смысл и цель жизни, а жалеют его! Есть из-за чего биться головой о стену, когда единственная женщина, существующая для меня на земле, говорит, что я лжец, а, возможно, еще похуже? Я все потерял, вы у меня все отняли… У меня нет больше ничего… Оставьте меня в покое!
Она выслушала меня, и когда, в изнеможении, я упал на стул, она тихо сказала своим прежним голосом, голосом с берега Гвадалквивира, — Эстебанито… — и вышла.
Глава 5
Когда началась коррида в Валенсии, казалось, Луис был спокойнее нас всех. Во время пасео Рибальта, сидевший справа от меня и жевавший свою сигару, не переставал повторять:
— Господи, помоги, чтобы он хорошо выступил… Господи, помоги, чтобы он хорошо выступил…
Наконец, я не выдержал и сказал ему:
— Да помолчите же хоть немного, дон Амадео, Бога ради!
— Вы что, не понимаете, дон Эстебан, что речь идет о моем состоянии? Если дон Луис не будет лучшим здесь, то я даже не верну себе затрат, сделанных с самого начала!
— Вас никто не заставлял! Вы сами пришли к нам!
Он замолчал, будто действительно понял, что сам все это затеял, и что ему ничто не мешало спокойно продолжать жить на доходы по экспорту-импорту. Я тут же пожалел о своем взрывном характере, и, дружески похлопывая его по спине, постарался успокоить:
— Не беспокойтесь. Луис много тренировался в последние дни. Если нам достались хорошие быки, это будет блестящая коррида!
— Да услышит вас Господь, дон Эстебан, ведь тогда я смогу потребовать на следующей неделе в Сан-Себастьяне двойную плату!
Я не смог удержаться от смеха, услышав эту непосредственную реакцию бизнесмена. Слева от меня сидел Фелипе Марвин и ни на секунду не отрывал взгляда от людей из нашей квадрильи. Каким бы умным ни был убийца Хорхе Гарсиа, я был уверен, что Фелипе, в итоге, обязательно поймает его. Марвин принадлежал к редкой породе людей, умеющих собрать всю свою волю и направить ее на достижение единственной цели. Я понимал, что преступник был для детектива не только убийцей, который должен был предстать перед правосудием, но еще и жуликом, сыгравшим скверную шутку со страховой компанией и тем самым оскорбившим лично дона Фелипе.
Консепсьон заняла свое обычное место. Когда я повернул к ней голову, наши взгляды встретились, и она мне улыбнулась. С момента нашего последнего разговора, когда у меня сдали нервы, она стала более любезной со мной. Да, это не была прежняя Консепсьон, но сейчас она, наконец-то, оставила свою злость, и, казалось, была на пути к возвращению наших дружеских отношений. Женщины любят только униженных мужчин и уж совсем обожают их, когда те проявляют свою слабость.
Звук труб вернул меня к действительности.
* * *
В этот памятный воскресный вечер не сразу удалось вернуться в Альсиру: поклонники «Очарователя из Валенсии» не хотели отпускать вновь обретенного идола. Их страсть к корриде и местная гордость были полностью удовлетворены. Луис проявил себя во всем своем великолепии. Никогда, за всю свою карьеру он не выступал так, как в этот вечер. Публика была сразу же восхищена, поражена и покорена. Женщины истерично кричали, мужчины обнимались. Потребовалось более четверти часа, чтобы освободить арену от всего, что набросала туда публика в честь великолепного матадора. Я навсегда запомню дона Амадео, который, словно мальчишка, вскакивал с места и издавал неясные крики. Он приостанавливался только для того, чтобы прокричать мне:
— Целое состояние, дон Эстебан! Мы получим целое состояние!
И он опять принимался танцевать, охваченный всеобщим ликованием. Один дон Фелипе не участвовал во всем этом. Он спокойно стоял рядом со мной.
— Не знаю, согласны ли вы со мной, дон Эстебан, но мне бы хотелось, чтобы на сегодня все закончилось.
Я подмигнул ему в ответ. Ко мне подошел Ламорилльйо:
— Ну, что вы об этом думаете? Невероятно, да?
— Невероятно, Мануэль. Скажу честно, я даже представить себе не мог такого успеха!
— Нужно смотреть правде в глаза, дон Эстебан. Луис в данный момент лучше всех. Если он так будет продолжать, мы никогда не останемся без работы… и я, наконец, смогу немного побаловать мою Кончиту. Она заслужила это. Спасибо, что не забыли меня тогда, дон Эстебан.
Мы с трудом вышли из гостиницы, где Луис переодевался, настолько толпа осаждала двери. Остановившись на пороге, Консепсьон, Луис и я в сопровождении носильщиков с нашим багажом не решались подойти к толпе. Организаторы выступления, с трудом проложив себе дорогу к нам, стали упрашивать Луиса удостоить своим присутствием их клуб, где, в знак благодарности, его ждало угощение. Луис дал свое согласие, и фанатики понесли Вальдереса туда на своих плечах. Ему все же удалось улучить момент и назначить нам встречу в «Метрополе».
В роскошной обстановке этой дорогой гостиницы мы с Консепсьон сидели за стаканом аниса и ждали, когда герой дня соблаговолит к нам присоединиться. Впервые за долгое время мы вновь оказались наедине. Помимо своей воли я напомнил ей о прошлом:
— Ты помнишь, Консепсьон, как нам было неловко и почти страшно, когда в Триане мы зашли в маленькое бистро выпить лимонада? Я экономил деньги целую неделю на эту роскошь. А сегодня я оставлю официанту на чай куда больше…
— Замолчи, Эстебан.
Это была скорей просьба, чем приказ, но успокоившаяся было ревность опять стала прорываться наружу:
— Понимаю, — тебе не нравится, когда с тобой говорят о далеко не блестящем прошлом… Это естественно. Все женщины, у которых, в конечном итоге, жизнь сложилась, не любят говорить о ее начале и, особенно, со свидетелями.
— Я просила тебя замолчать, Эстебан!
На этот раз ее слова прозвучали, как приказ. Она добавила:
— Если ты будешь продолжать, я уйду!
— Хорошо, как хочешь.
Начал играть оркестр, и это позволило нам какое-то время хранить молчание. Иногда я бросал на свою спутницу осторожные взгляды. У нее было все то же непроницаемое лицо. О чем она могла думать? Глядя на стакан в своей руке, я тихо сказал:
— Сегодня Луис меня насторожил. Он был великолепен, и я почти не заметил ошибок в его работе, но он стал слишком рисковать, очевидно, из желания понравиться публике. Я хотел бы избавить его от влечения к театральным позам и заставить работать просто и четко. Настоящим знатокам это очень нравится.
— Тебе не изменить натуру Луиса. Он всегда был таким. Он постоянно играет для себя и восхищается собой. Не старайся бороться с его характером, ты ничего не добьешься, только напрасно выбьешь его из колеи. Нам придется принимать его таким, какой он есть, с его обольстительно-пустыми улыбками, грациозными, но заученными позами, расчетливой нежностью. Заметь, в Луисе нет ничего естественного, все просчитано заранее.
— Даже его любовь к тебе?
— Даже это… Только он ошибается, если думает, что сумел меня обмануть.
В ее голосе прозвучала глухая обида, и это позволило мне задать вопрос, который сидел у меня в голове со времени моего возвращения в Альсиру:
— Консепсьон, ты все еще любишь Луиса?
— Бедный Эстебанито… Тебе бы хотелось, чтобы я ответила «нет», так ведь?
— Я просто хочу знать правду.
— Пожалуйста. Я люблю Луиса. Он — мой муж, и одного этого достаточно для того, кто верит в Бога. Но все-же мне бы хотелось, чтобы ты знал: если бы я могла вернуть время назад, я вышла бы замуж за тебя, а не за него, или вообще ни за кого не пошла бы, — быть может именно это и есть настоящее счастье.
— Спасибо, Консепсьон.
— За что ты меня благодаришь?
— За то, что твое признание оправдывает мою верность нашей памяти. Однажды мне показалось, что ты ненавидишь меня. Это было крушением всей моей жизни, и прежней, и настоящей. Чтобы ты лучше поняла мое состояние, я приведу один пример: представь, что глубоко верующему человеку в конце жизни говорят, что Бога нет.
Она положила свою руку на мою.
— Ты никогда не знал меры, Эстебанито, ни в разговоре, ни в молчании. Тебе нужно бы жениться и создать семью…
— Жениться на другой и думать о тебе?
— Ты забыл бы меня… Все забывается.
— Цыгане не забывают!
Мы больше ни о чем не говорили: все уже было сказано. Как же быстро у Консепсьон менялось настроение! Поначалу она обвиняла меня в преступлении, а минуту спустя дала мне понять, что сожалеет о том, что не вышла за меня замуж… Объяснить все это было очень трудно, но я понимал, что в ее жизни что-то произошло…
В Альсиру мы вернулись вместе с ликующим Луисом. Рассказывая о приеме, которого он удостоился со стороны отцов города, он считал его заслуженным. Луис уже был полностью уверен, что никакой тореро не составит ему конкуренции, и был готов красоваться на афишах рядом с самыми великими именами матадоров. Нужно признать, что пресса полностью изменилась по отношению к нему. Эпитеты в превосходной степени украшали статьи так же, как прежде ругательства. Организаторы бегали за ним, и дон Амадео подписывал контракт за контрактом, позабыв о решении ограничить первый сезон «Очарователя из Валенсии» дюжиной выступлений. Кстати, Луис поддерживал его в этом. Успех опьянил его. Время от времени он говорил жене:
— Только подумать, Консепсьон, а ведь ты не хотела, чтобы я вернулся на арену!
Она не отвечала. Тогда он хлопал меня по плечу, заявляя:
— К счастью, в меня сохранил веру он, Эстебан!..
* * *
Я воспользовался тем, что отличная форма Луиса уже не требовала постоянного присмотра за ним, и заехал в Севилью. Один из друзей, которого я встретил у своего дома, попросил меня о встрече в нашем привычном кафе, где на стенах желтели афиши, рассказывающие об истории корриды за последние пятьдесят лет, по которым молодежь могла узнать имена, которые сейчас произносили только старые фанатики. Довольно часто эти имена были прозвищами, выражавшими народное признание и восхищение. Кто среди молодежи знал, что великого Манолете в действительности звали Мануэлем Родригесом, а знаменитого Галлито — Хосе Гомесом?
Кроме моих друзей в кафе еще были люди, которых я прежде не знал. По их слегка
переваливающейся с ноги на ногу походке, по привычке распрямлять грудь, поджарым и загорелым телам я сразу признал в них старых тореро. Они продолжали настойчиво тренироваться и, несмотря на возраст, еще верили в возможность контракта, который вернет их на арену, где, как они считали, они смогут еще блистать. Очевидно, им, в конце концов, удалось убедить себя, что их прежние неудачи были вызваны исключительно невезением или завистью. При этом обязательно рассказывалось о матадоре, завидовавшем своему бандерильеро и, из опасения, что тот оттеснит его; отделавшемся от него. Извечное объяснение всех неудачников. Правда, иногда случалось, что в последнюю минуту из-за отсутствия кого-то из участников корриды, обращались к ним за помощью, но, как правило, это всегда плохо оканчивалось: либо бывший тореро впадал в панику, оказавшись перед быком, от которого отвык, либо наоборот, он хотел преподать урок тем, кто считал, что его взяли из милосердия, и перенапрягал свои силы настолько, что однажды оказывался в больнице или в морге.
Меня радостно встретили, расцеловали и сразу заставили подтвердить, что воскрешение Луиса было не пустым звуком и что он сохранил все свои способности, даже улучшив их. Мое сообщение о том, что «Очарователь из Валенсии» приедет в Севилью 29 сентября и будет выступать на корриде, посвященной Сан-Михелю, было встречено овацией. Выражая общее мнение, Педро Ллано произнес, подняв стакан:
— Прошу всех выпить за здоровье дона Эстебана, лучшего знатока тореро, которого когда-либо знала Испания!
Когда аплодисменты стихли, Педро добавил:
— Как жаль, дон Эстебан, что вы не прошли свой путь до конца… Только вы смогли бы когда-нибудь сравниться с Манолете!
Всякий раз, когда произносилось имя человека, бывшего в свое время гордостью Кордовы, среди этих людей воцарялось молчание, которым почиталась память тореро, погибшего, как и Пакито, в Линаресе. Мне было легко со старыми друзьями. Устроившись за столиком маленького темного кафе, куда входили, спустившись по лестнице на одну ступеньку, и которое содержал Хасинто Руис, бывший пикадор, ушедший с арены из-за возраста и веса, — я чувствовал себя очень далеким от Альсиры и людей, живущих там. Их роскошь не стоила душевного покоя моей комнаты в Триане. Зачем я ее покинул? Возможно, Хорхе Гарсиа продолжал бы жить, если бы я остался в этом квартале?
Мне было невероятно трудно отказаться от всяческих дружеских предложений, которые сыпались на меня со всех сторон. Пришло время возвращаться к себе домой. Я не прошел и сотни метров по Сьерпес, куда выходит улочка нашего кафе, как меня тихо окликнули.
Я обернулся, и как только увидел зовущего, — сразу же догадался, о чем пойдет речь. Это был Пабло Коллеро, бывший бандерильеро, шесть или семь лет назад вынужденный покинуть арену из-за раны в бедре. Несмотря на все его усилия найти работу, никому до него не было дела, и он бродил по кругам, близким к корриде, с надеждой, что какая-то добрая душа поможет ему вернуться к любимому делу. У Пабло был пристыженный вид бедняка, просящего милостыню в первый раз.
— Дон Эстебан, не позволите ли немного пройтись с вами.
— Конечно…
Мы двинулись вперед и, видя усилия, которые прилагал Коллеро для того, чтобы не хромать, у меня сжалось горло. Я шел как можно медленней, но все же не настолько, чтобы он понял, что я делаю это из-за него. Встречавшиеся друзья приветствовали меня, и тогда Пабло принимал такой важный вид, будто приветствия были адресованы только ему. Афисионадос оборачивались нам вслед. Уверен, что некоторые из них решили, будто несмотря на его физический недостаток, я захотел попробовать спасти этого бандерильеро. У моего спутника, должно быть, возникли такие же мысли, — украдкой взглянув на него, я увидел, как он улыбается воображаемой картине. Мы уже подошли к мосту Изабеллы II, когда Каллеро наконец решился:
— Дон Эстебан, то, что вам удалось с Луисом Вальдересом, — великолепно!
— Нет, вовсе нет… великолепен сам Луис. Своим блестящим возвращением он обязан, прежде всего, самому себе.
Это его не убедило, и он отрицательно кивнул головой:
— Нет, дон Эстебан. Вы принесли ему то, чего нам больше всего не достает, когда неудачи разлучают с корридой, — доверие. Меня же никто не захотел спасти. А ведь я не был самым худшим… Возможно, именно из-за этого? Ведь были такие, которых очень устраивал мой уход.
Извечное утешение…
— Может быть, амиго, может быть. Есть разные люди.
— В основном, безжалостные. Дон Эстебан, я один на свете и сейчас подыхаю с голода.
Я едва не потянулся к кошельку, но вовремя остановился. Мой собеседник расценил бы такую подачку, как оскорбление.
— Дон Эстебан, я хотел бы вернуться к корриде… Нет ли у вас чего-нибудь для меня?
Не знаю, что со мной случилось, но, даже не подумав, я сказал:
— Возвращайтесь домой, Коллеро, и собирайте чемоданы. Сегодня вечером я отвезу вас к моему другу Педро в Пальма дель Кондадо.
Он смотрел на меня выпученными глазами и только бормотал:
— Эго правда?… Неужели, это правда?…
— Да, но вы должны понять, что о вашем возвращении на арену не может быть и речи, Пабло! Для вас, как и для меня, с этим все покончено, и необходимо это признать. В Пальма дель Кондадо вы будете присматривать за быками, сможете развлекаться с молодняком и помогать матадорам, которые будут приезжать туда для тренировок. Это поможет вам избавиться от нужды и заниматься любимым делом.
Он едва смог выдавить из себя:
— Спа… спасибо, дон Эстебан, — и повернулся ко мне спиной, чтобы не было видно его слез.
* * *
Дон Педро не оказал никакого сопротивления и даже поблагодарил за человека, разбирающегося в животных: в таких помощниках он всегда нуждался. Почему я сделал это для Коллеро, о котором, честно признаться, никогда особенно не думал? Очевидно, это получилось из-за его взгляда, взгляда человека, готового на все и уже уступающего перед отчаянием. Конечно, мы все могли бы быть на его месте: я, если бы продолжал жить мечтами, Луис, не сумей он тогда уйти в нужный момент. Я поймал себя на мысли, что думал о Луисе не слишком хорошо. Неужели Консепсьон была права? Любил ли я Луиса так, как говорил об этом?
В Сан-Себастьяне, где дону Амадео удалось добиться условий, превзошедших наши ожидания, Луис выступил хорошо, но не более того. Ни один тореро не может всегда выступать превосходно. Кроме того, в Сан-Себастьяне всегда слишком много иностранцев, и потому у матадора нет того контакта с публикой, который в другом месте заставляет его иногда превзойти себя, как это случилось, например, в Валенсии. Хоть это выступление не было блестящим, и животные были весьма посредственны, пресса очень тепло отзывалась о Вальдересе, описывая то, что ему больше всего удалось и оставляя без внимания все остальное. Луис неуклонно шел к успеху.
Несколько дней спустя мы должны были участвовать в корриде в Ла Коронье. В благодарность за доходы, которые мы ему приносили, дон Амадео предоставил нам почти неделю отпуска, который мы провели в Галиции[228]. Находясь там, мы, конечно же, не могли не заехать в Компостелле, чтобы помолиться святому Якобу. Луис и дон Амадео поставили огромные свечи, что вызвало почтительное восхищение всех прихожан.
В Ла Коронье Луис должен был опять встретиться с породой миура, тяжелыми и сильными быками, которых опасаются все тореро. Но это не смутило «Очарователя из Валенсии» и мы, зарядившись от него уверенностью, приступили к корриде без излишней нервозности. Один дон Амадео, как всегда переживавший больше всех, был чрезмерно взволнован. Я не удержался от замечания:
— Дон Амадео, если так будет продолжаться, с вами может случиться инфаркт, и тогда, косвенно, вы станете жертвой Луиса!
— Простите, дон Эстебан, но я еще не очень уверен в Вальдересе. Может быть это глупо, но думаю, что мне нужно еще побывать на многих выступлениях нашего друга, чтобы подходить к арене без переживаний.
Ни за что на свете и никому я бы не признался, но у меня тоже не было полной уверенности в Луисе. Я не мог до конца поверить, что искусство Луиса, — это не блестящая шелуха, которая развеется при первом серьезном испытании. В этой оценке я руководствовался чем-то иным, чем просто знанием тореро.
Впервые с того времени, как собралась наша квадрилья, я поссорился с Луисом незадолго до начала корриды. По жребию нам выпали два быка, один из которых весил на пятьдесят килограммов больше другого. Таким образом, с одним было выступать гораздо труднее, чем с другим. Опасаясь за дыхание и быструю утомляемость Луиса, я советовал ему прежде вступить в бой с тем, что потяжелей, и оставить того, что полегче, на вторую часть корриды. Луис ничего не хотел слышать. Он желал сразу же предстать во всем блеске, будучи уверен, что если ему удастся произвести впечатление на публику с самого начала, то тогда ему простятся ошибки, допущенные во втором выходе. В этом был весь Луис. Он выступал не из любви к делу, а ради аплодисментов.
Когда первый бык выскочил на арену, публика разразилась овациями, так как животное было действительно великолепно. Дон Амадео побледнел.
— Господи! Это же настоящая крепость!
— Подождите, вы еще увидите второго!
Марвин, который повсюду сопровождал нас, спросил:
— Почему он начал с более легкого?
— Потому, что он обожает эффекты!
После секундного колебания дон Фелипе отметил:
— Понимаю вас, дон Эстебан…
И затем тихо добавил:
— Мне кажется, что все-таки он, — не настоящий тореро.
Я не ответил. Вальдерес был великолепен в поединке с этим храбрым, постоянно, но бесхитростно атаковавшим животным. Поначалу он был несколько скован, но постепенно, поддерживаемый криками «оле!», его уверенность окрепла, и он продемонстрировал одно из своих лучших сольных выступлений. Предание смерти не было блестящим, а только достаточно хорошим, и президиум наградил его одним ухом. Дон Амадео горячо расцеловал Луиса. Я тоже, чтобы сгладить впечатление от моей недавней вспышки, вложил в свои поздравления как можно больше тепла, и лишь затем мы немного перевели дыхание перед вторым выходом «Очарователя из Валенсии» на арену.
Когда подошло время начать бой со вторым быком, Луис, как мне показалось, был скован больше обычного и не чувствовал противника. Бык появился на арене, и публика пораженно умолкла. Нечасто можно было увидеть животное таких размеров. По всеобщему мнению, это был бык предельного веса. Дон Амадео тихо выругался, а Марвин присвистнул.
Испытывая быка на бег, Ламорилльйо едва не попал ему на рога, но все же успел перепрыгнуть через баррера и попал ко мне в объятия. В боевом порыве, бык попытался было последовать за ним. Придя в себя, бандерильеро прошептал:
— Дону Луису придется очень трудно…
Я тоже этого опасался.
Пикадор, первым вонзивший свою пику в холку быка, был поднят в воздух со своей лошадью, и другим тореро стоило неимоверных усилий отвлечь быка от лошади и ее всадника. Дон Амадео прохрипел:
— Это же настоящий убийца!
Очевидно, бык Луиса относился к категории тех, кого непросто обмануть движениями материи и кто ищет за плащом человека. Марвин довольствовался предсказанием:
— Нам останется только преклоняться перед ним, если он справится с этим, как с первым.
Алохья получил строгие указания. Он должен был наносить раны так, чтобы бык потерял как можно больше крови и ослабел. Я был уверен в нашем старом пикадоре и в его необычайной силе. Зрелище было великолепное. Крепко стоя на ногах и высоко подняв рога, бык, казалось, презирал своих противников, которые прижались к баррера, опасаясь отойти от нее подальше. Лицо Луиса было в нескольких сантиметрах от моего. По его выражению я понял, что он сомневается в себе и в своем успехе.
Красиво сидя в седле и твердо держа пику, Алохья, направляя одной рукой лошадь, напуганную запахом, ударил быка, которому потребовалось некоторое время, чтобы увидеть своего обидчика. Неожиданно он решился и бросился, выставив рога вперед, на пикадора, поставившего лошадь перпендикулярно направлению его бега. Алохья вонзил свою пику туда, куда хотел, и привстал в седле, навалившись на правое стремя, чтобы устоять при ударе противника. И вдруг грянул гром, родившийся из крика многих тысяч зрителей. Я услышал, как дон Амадео прохрипел что-то, в чем с трудом можно было разобрать призыв к Господу, и, парализованный ужасом, увидел, как Алохья упал с седла прямо под ноги быку. Позабыв о лошади, разъяренный бык набросился на человека, лежащего на земле и вонзил в него рога прежде, чем другие тореро успели отвлечь его. Ламорилльйо даже схватил быка за хвост и, скрутив его, заставил животное обернуться назад. Вальдерес тоже поспешил со своим плащом, и ему удалось увлечь убийцу на середину арены. Пока пикадора уносили, он демонстрировал превосходную работу с плащом, на которую, впрочем, никто не обращал внимания.
Алохья был жив, но уже близок к смерти. Прежде, чем приступить к операции, хирург отвел меня в сторону:
— Я попытаюсь что-то сделать… Не стану скрывать: у него один шанс из тысячи — пробиты кишечник и печень. Будем надеяться на его крепкое здоровье…
Сдерживая слезы, я подошел к моему старому Рафаэлю, который лежал тихо, и склонясь над ним, изобразил улыбку.
— К твоей коллекции шрамов прибавятся новые, Рафаэль!
Его глаза уже остекленели. Он попытался что-то сказать, и я приблизил ухо к его губам:
— Не понимаю… Не понимаю… дети… Ампаро… простите…
Я поцеловал его. Он умер прежде, чем анастезиолог приступил к работе.
Я вернулся за баррера, когда после терсио бандерильерос Луис и его товарищи работали с плащами. Марвин еще не вернулся. Дон Амадео задал единственный вопрос:
— Что с ним?
Вместо ответа я пожал плечами. Рибальта, казалось, был невероятно удручен.
— Вначале Гарсиа, теперь Алохья…
Я старался не оборачиваться в сторону Консепсьон, которая, как я чувствовал, внимательно следила за мной. Наконец, не удержавшись, я посмотрел на нее, и на немой вопрос лишь развел руками в знак бессилия. Я видел, как она поднесла платок к глазам. Когда товарищи подменили его, Луис подошел к баррера и стал рядом со мной.
— Как он?
— Он выкарабкается… Ему повезло: рог прошел совсем рядом с печенью…
Было видно, что Луис в это не очень поверил, но, как и я, предпочел на время не углубляться. Ему, прежде всего, нужно было подумать, как самому выйти целым и невредимым из этого последнего боя.
— Чертова тварь! Что скажешь, Эстебан?
— Да, но ты нормально управляешься с ней.
— Думаешь?
— Уверен. До сих пор ты все делал отлично. Бык прет напролом, и тебе достаточно следить за ним, чтобы не пропустить момента, когда он бросится. Будь осторожен с его левым рогом: он им чаще пользуется, когда проходит под плащом.
— Ладно… Должен признаться, что был не прав, когда не прислушался к твоим словам и не начал корриду с этого быка…
Впервые с тех пор, как Луис вернулся на арену, я прочел на его лице то, чего больше всего боялся — страх, и я отчетливо понял, что повторная карьера Вальдереса не состоится. Я настолько часто видел этот страх, что научился ощущать и определять его задолго до того, как его жертва сможет дать себе в этом отчет. У тореро вдруг начинает бегать взгляд, опускаются уголки губ, дыхание становится учащенным, движения происходят с секундным опозданием и ноги больше не держат его. Найдет ли Луис в себе силы, чтобы отказаться от выступлений, пока не произошел несчастный случай, который случится так или иначе, если он не станет выходить на арену с уверенностью в победе? Мне казалось, что только Консепсьон могла бы сломить его гордость.
Призывно зазвучали трубы.
Вальдерес посвятил быка своему другу, пикадору Рафаэлю Алохье, и этот знак внимания был тепло воспринят публикой. В этот раз фаэна с мулетой, показанная матадором, была чересчур быстрой, а предание смерти — не очень уверенным, но зрители простили ему, считая, что несчастный случай с Рафаэлем мог выбить его из колеи. Луиса проводили аплодисментами. Партия была выиграна. А мы надеялись, что пресса запомнит, в основном, его прекрасную работу с первым животным.
После выступления Луис изъявил желание пойти в больницу, и я вынужден был сказать ему о смерти Алохья. Это так глубоко его взволновало, что, вопреки изначальным намерениям, он захотел вернуться в этот же вечер в Валенсию и Альсиру. Мы ехали всю ночь. Дон Амадео сел сзади, рядом с телом пикадора Рафаэля Алохьи.
Час спустя, когда я в своей комнате завершал последние приготовления к отъезду, зашла Консепсьон.
— Что случилось с Алохья, Эстебан?
— Трудно сказать. Очевидно бык оказался слишком силен. Думаю, он выбил Рафаэля из седла. Не вижу другого объяснения. У него остались жена и семеро детей.
— Я вас предупреждала. Вы участвуете в ужасной игре. В молодости этого не понимаешь, привлекают только костюмы, аплодисменты, солнце… Значительно позже осознаешь, что существует жена, дети, больницы и, в конечном счете, нищета за этой сверкающей скорлупой, всем этим светом, где иногда приходится сталкиваться и со смертью.
— Консепсьон, нужно сказать Луису, чтобы он оставил корриду!
— Ты же знаешь, что это невозможно!
— Речь идет о его жизни.
— Он знал это, когда решил, вернее, когда вы вместе решили начать опять.
— Нет… До сегодняшнего дня с Луисом все било в порядке, но сейчас я понял, что все это осталось в прошлом!
— Из-за Алохья? Мой бедный Эстебан, ты же хорошо знаешь своего друга. Завтра он о нем даже не вспомнит: Луис не способен думать о ком-то, кроме себя.
— Консепсьон… Луис боится.
Она выросла около тореро и понимала что это значило.
— Ты уверен?
— Совершенно уверен.
— Хорошо… Я подумаю, что можно сделать, но… ты очень ошибаешься, если думаешь, что я имею над ним власть.
Она уже приготовилась выйти, как вошел Фелипе Марвин. Его лицо было враждебно.
— Не возмущайтесь, дон Фелипе… Я уже понял, что вы хотите мне сказать. Компания вынуждена выплатить страховку второй раз за пять недель. Конечно, для нее и, быть может, для вас, это тяжелый удар, но для Рафаэля Алохья он ведь еще хуже, не так ли?
Не говоря ни слова в ответ, дон Фелипе выложил передо мной на стол стремя. Я ничего не понял и поэтому спросил:
— Что это за стремя?
— Это стремя коня Алохья.
— А зачем вы принесли его мне?
— Чтобы вы посмотрели на ремень, которым оно крепится к седлу.
Я осмотрел ремень и не нашел ничего особенного.
— Ну, и что из этого? Он просто лопнул и…
— Нет!
— Как это, нет? Мне кажется…
— Нет, ремень не лопнул, дон Эстебан. Его надрезали!
— Что?!
— Его надрезали на три четверти потому, что прекрасно знали указания, которые вы дали Рафаэлю, дон Эстебан. Убийца знал, что пикадор должен был вложить в удар всю силу и противостоять ответному удару всем своим весом, и если в этот момент ремень лопнет, он наверняка будет убит озверевшим от боли быком! Отличный план!
— Но в таком случае…
— В таком случае, мы во второй раз сталкиваемся с убийством, замаскированным под несчастный случай!
Консепсьон издала легкий крик удивления, а я попытался взять себя в руки.
— Вы уверены в том, что говорите, дон Фелипе?
— Уверен!
— В таком случае, следует немедленно сообщить в полицию…
— Нет.
— Почему, объясните, пожалуйста?
— Потому, что для государственной полиции нет достаточных доказательств. Даже вы не заметили, что ремень был надрезан, так ловко это было сделано. А кроме того, у меня теперь личные счеты с убийцей.
— Если вы его найдете!
— Я найду его, — твердо сказал дон Фелипе.
С этого момента у меня появилась уверенность, что убийца проиграл партию. Консепсьон спросила:
— Но кто же мог желать смерти этого бедняги Рафаэля?
— Тот, кто убил Гарсиа, сеньора.
— Но зачем?
— Если бы я знал мотивы преступления, то давно бы уже нашел убийцу. Единственная вещь остается неоспоримой: преступник находится в вашей команде, дон Эстебан!
— Пока, слава Богу, это всего лишь ваше мнение!
— Подумайте сами: Гарсиа погиб потому, что ничуть не опасался того, кто налил ему кофе с наркотиком; Алохья погиб потому, что в точности следовал вашим указаниям. Кто мог знать, что Гарсиа во время приступов смягчал боль при помощи кофе? Кто мог знать насколько Алохья рисковал, выходя против такого сильного быка? Только тот, кто был в курсе всего этого, а лучше всех был осведомлен…
Он, в смущении, запнулся, и я завершил фразу за него:
— …Я, не так ли, дон Фелипе?
— Вы, дон Эстебан.
В голосе Консепсьон послышалось скорей удивление, чем уверенность:
— Но это же неправда, Эстебан?
— Спроси дона Фелипе.
Тот бросил в ответ:
— Мне кажется, я уже все сказал.
— Тогда, Консепсьон, спроси у проницательного дона Фелипе, как он объясняет мотивы моих преступлений?
— Вы удивитесь, дон Эстебан, но я их знаю. Все они сводятся к одному: к ревности.
— Как вам это нравится?! Я ревновал Рафаэля… Может быть, к его толстой Ампаро, с семерыми детьми?
— Присядьте, дон Эстебан… И вы тоже, сеньора, прошу вас. Я хочу рассказать вам одну историю. Вы готовы? Тогда начну: в Севилье, точней, в квартале Триана, жил-был один цыганенок, который любил только две вещи на свете: корриду и одну девочку, отвечавшую ему взаимностью. Дети росли вместе, и с каждым годом росло их чувство друг к другу. Об этом в Триане говорят до сих пор. Цыган подавал надежды в искусстве корриды, его первые выступления привлекли к себе внимание. Знатоки уже видели в нем тореро, равного самым великим, но никто не знал, что цыган ставил свою возлюбленную выше корриды…
Я внимательно слушал историю моих несчастий из уст человека, считавшего меня убийцей. Консепсьон склонила голову и, казалось, ничему не внимала.
— …Все складывалось отлично для этой пары. Им оставалось только собрать немного денег, чтобы предстать перед священником в церкви, но вдруг появился третий персонаж, тоже тореро, — красивый, веселый, беззаботный, блестящий парень, которому удалось понравиться сеньорите. Покинутый цыган отрекся от корриды и многообещающей карьеры, и с тех пор в его сердце поселилась глубокая ненависть к тому, кто украл у него счастье и сломал жизнь. Он существовал только с мыслью о мести, которая стала целью его жизни и терпеливо, годами ждал такой возможности. Но неожиданное решение человека, которого он ненавидел уйти с арены, лишило его возможности возмездия. Могу только догадываться, что значила эта новая неудача для него. А потом произошло чудо. Его недруг решил вернуться на арену, и тогда в голове нашего цыгана зародилась одна дьявольская мысль. Ему нужно было сделать из своего противника посмешище, нужно было, чтобы его пинали и освистывали. Но первым желанием отвергнутого влюбленного было унизить его не только в глазах публики, но, главное, еще в глазах жены. Должна же она была наконец понять, чего стоит тот, которого она предпочла. Кампания в прессе ничего не дала, и тогда цыган убил Гарсиа, убил Алохья, чтобы создать атмосферу подавленности, в которой его противник не сможет долго устоять и обязательно допустит смертельную ошибку. Преступник не рассчитал только одного: эта женщина не сможет простить ему всего этого, когда он предстанет в своем настоящем обличье. Что вы скажете об этой небольшой истории, дон Эстебан?
— Что это — полный абсурд.
— Это ваше мнение…
— Вы допустили две ошибки, дон Фелипе. Первая — вы не можете утверждать, что я люблю Консепсьон по-прежнему; вторая — если бы я захотел отомстить, мне пришлось бы убить не Луиса, а Консепсьон. Ведь не взял же он ее силой! Она сама пошла за ним. Это Консепсьон меня обманула, а не Луис.
У Консепсьон от раздумий появились на лбу морщины. Она вмешалась:
— Тем не менее, Эстебан, только что ты говорил, что Луис начинает бояться…
Марвин что-то воскликнул, и Консепсьон обернулась к нему:
— Он просил убедить его навсегда оставить корриду.
— Предвидев, и не без оснований, что дон Луис откажется это сделать!
— Может быть… И все же, дон Фелипе, существует третий аргумент в пользу этого бедняги Эстебана. Ему нечего рассказывать о муже, которого я знаю лучше кого-либо. Я совершила ошибку и готова расплатиться за нее, сеньор.
Мой обвинитель смолк и вышел, даже забыв попрощаться.
* * *
Пока Луис отдыхал в Альсире, он заметно растерял свой задор и не хотел тренироваться под предлогом, что в Хуэске, где он должен был выступать, арагонцы, которых он неизвестно почему недолюбливал, и так увидят зрелище. Я же в это время направился в Мадрид с миссией, которую мне предстояло выполнить уже во второй раз.
Войдя в барак, где ютились Ампаро и семеро детей, я почувствовал, что у меня от волнения отнялись ноги. Вдова Рафаэля, сидя на стуле со скрещенными на переднике руками, спросила:
— Что вы хотите?
— Сеньора, я пришел…
— Вы отняли у меня Рафаэля… У меня больше нечего взять. Что вам еще нужно?
— Вы скоро получите большую сумму, которая позволит вам несколько лучше устроиться.
— И что?
— Ничего. Я хотел бы сказать, что сочувствую вашему горю…
— Вы лжете…
— Но, сеньора…
— Вы лжете! Никому никогда не было дела до нас. Никто не спрашивал, досыта ли едят мои дети и ели ли они когда-нибудь досыта, сеньор. Никто ни разу не помог Рафаэлю найти работу, которая позволила бы нам хоть как-то жить. Его жизнь никого не интересовала, а теперь вы хотите сказать, что его смерть что-нибудь для кого-то значит? Вы — лжец!
— Уверяю вас, что…
— Уйдите…
Я выскользнул за дверь, не дожидаясь худшего. Я не был рассержен. Мне было стыдно. В самом деле, дон Фелипе не намного ошибся, сказав, что на моей совести — две смерти.
* * *
Вернувшись в Альсиру, я, к моему удивлению, застал там дона Амадео, который, по его словам, заехал, чтобы повидаться. Этот предлог был смешон: через день мы все вместе должны были отправиться в Хуэску. У импрессарио, конечно же, было что-то на уме, и мне очень хотелось узнать, что он скрывал. Рибальта раскрыл свои карты сразу же после обеда, за которым мы собрались все вместе. Обратившись ко мне, он начал:
— Дон Эстебан, вы были у вдовы этого несчастного Алохья?
Его вопрос меня удивил, ведь он был прекрасно осведомлен о моей нелегкой миссии.
— Конечно…
— Невеселые дела, дон Эстебан… Вчера — Гарсиа, сегодня — Алохья, а кто завтра?
Чего он этим добивался? Во всяком случае, у него была странная манера успокаивать Луиса, который делал вид, что ничего не слышит и продолжал есть фрукты. Не получив поддержки, дон Амадео, после некоторого колебания, продолжил:
— Я вам должен сказать одну очень деликатную, и даже трудную вещь…
Мы с интересом смотрели на него.
— Так вот… Эти две смерти произвели на меня такое глубокое впечатление, что я подумал: даже если я потеряю много денег и не смогу оплатить все свои долги, я ни в коем случае не буду в обиде на дона Луиса, если он решит оставить эту затею.
Так вот в чем было дело!
Вальдерес с удивлением посмотрел на него:
— Я? Оставить? Но почему?
Дон Амадео смутился и пробормотал:
— Чтобы… я не хотел бы, чтобы с вами что-то случилось, дон Луис. Ведь это же мне пришла в голову мысль о вашем возвращении…
— И я вам за это очень признателен.
— Да, но я чувствую себя в ответе перед вами, перед сеньорой.
Луис неожиданно отодвинул тарелку.
— Послушайге, дон Амадео, давайте договоримся один раз и навсегда. Ваше дело — заниматься организацией, а мое — выступать. Когда вам надоест ваше занятие, — вам достаточно будет об этом сказать прямо; если же мне надоест выступать, то я перестану это делать, не спрашивая ни у кого разрешения. И вообще, дон Амадео, если вы боитесь за свои деньги…
Тот подскочил на стуле, словно его ужалила оса.
— Я боюсь не за свои деньги, а за вас, дон Луис!
— В таком случае, будьте спокойны, амиго. Мне вовсе не хочется умирать, и я сумею предпринять необходимые меры предосторожности!
Консепсьон, сухой тон которой нас удивил, с горечью обратилась к мужу:
— Неужели ты думаешь, что Гарсиа и Алохья хотели умереть?
Вальдерес схватил тарелку с десертом и с яростью бросил ее на пол. Она раскололась на маленькие кусочки.
— Замолчи!
Никогда прежде я не слышал, чтобы Луис так разговаривал с женой. Единственным объяснением этому я считал страх, тот самый, появление которого я заметил в Ла Коронье. Он продолжал свою медленную работу.
— Замолчи, Консепсьон! Все замолчите! А вы, Рибальта, просто вы боитесь, что я не выдержу, и ваши грязные деньги пропадут!
— Уверяю вас…
— Замолчите! А тебе, Консепсьон, уже удалось швырнуть меня оземь пять лет тому назад, но предупреждаю, сегодня это у тебя не получится!
Не досталось только одному мне. Луис встал и, не извинившись, вышел из комнаты. Дон Амадео был огорчен больше всех:
— Извините меня. Я начал этот разговор не из плохих намерений, наоборот… Я надеялся, что дон Луис поймет.
Я попытался успокоить его:
— Сейчас Луис просто не в состоянии слышать что-нибудь подобное. Уверен, что после смерти Гарсиа, гибель Алохья очень сильно его потрясла. Он боится, чтобы опасения не переросли в панику. И если хотите знать мое мнение, — он недалек от срыва. С ним нужно быть очень деликатным.
И добавил для Консепсьон:
— …И не обращать внимания на его слова и жесты, которые, скорей, — защитная реакция.
Она улыбнулась мне:
— Спасибо, Эстебан…
— С вашего позволения, я пойду к нему. Нехорошо оставлять его одного в такой момент.
Я нашел Луиса сидящим у дерева, под которым у меня произошел первый серьезный разговор с Консепсьон. При звуке моих шагов он поднял голову с самым агрессивным видом, но, увидев меня, успокоился.
— А, это ты…
Я сел рядом с ним.
— Что с тобой, Луис?
— Мне опротивел этот Рибальта со своими деньгами! Чего ему бояться? По сравнению с моим первым выступлением во Франции нам платят все больше и больше. К концу сезона я буду получать столько же, сколько Домингуин!
— Ну а Консепсьон, она-то думает не о деньгах, Луис.
Он неприятно рассмеялся.
— Да уж! Все ее счастье состоит в том, чтобы собирать апельсины, продавать их, один раз в неделю заезжать в Альсиру, чтобы разыгрывать там светскую даму, и один раз в месяц ездить в Валенсию, чтобы тратить эти деньги. Она стала крестьянкой в большей степени, чем те, кто не выезжал отсюда, не знаю уже в котором поколении! Но я, Эстебан, не из этой породы! Я рожден не для того, чтобы стоять в конюшне! Мне нужен воздух, движение, риск, музыка.
— И крики «оле!».
— А почему бы и нет? Когда я вижу, как они вскакивают с мест и выкрикивают мое имя, мне кажется, что я обладаю ими, как своими рабами. Это ощущение пьянит больше алкоголя. И они еще хотят, чтобы я отказался от того, что составляет и всегда составляло мою жизнь? Никогда!
Я не знал, что сказать, чтобы не обидеть его. Чуть подумав, я осторожно попытался:
— Их беспокоит то, что случилось с Гарсиа и Алохья. Ты это должен понять, Луис, даже если не согласен с ними.
— Ну и что? Наша прогрессия не для школьниц! Нам хорошо платят именно за риск. Когда быкам на рога станут одевать защитные шары, нам будут платить не больше, чем циркачам, которые разъезжают на деревянных коровах! Всегда были раненые или погибшие тореро. И что из этого? В автогонках тоже бывают жертвы. Но их же не запрещают из-за этого! И если существуют хорошие тореро, то значит можно избавиться от страха перед быком!
Он лгал. Я почувствовал, как дрожали его пальцы, когда он взял меня за руку.
— Скажи, наконец, Эстебан, ведь ты разбираешься в этом лучше остальных, хорошо я работаю или нет?
— Отлично, Луис.
— Следовательно, я принадлежу к тем, у кого больше всего шансов избежать рогов быка. Я бы никогда не допустил такой ошибки, как Гарсиа. А случай с Алохья — это судьба… Может быть, он забыл проверить свою экипировку?
К чему было говорить ему правду? Я только бы расстроил его и все равно не добился бы отказа от выступлений.
Мы вернулусь в дом, где нас ждали Консепсьон и Рибальта, которые обрадовались, увидев, что Луис улыбается. Кроме того, он извинился с той непринужденной манерой, которой он всегда пользовался в трудные моменты, попросив жену и гостя отнести вспышку его плохого настроения на счет гибели друзей, а также его усталости. Кроме того, Луис был уверен в удачном выступлении в Хуэске и утверждал, что после него никто и никогда в мире корриды больше не сможет оспаривать его мастерство. В подтверждение своих слов он предложил дону Амадео обсудить программу на конец сезона. Обрадованный импрессарио вытащил из кармана свои бумаги, разложил их на столе и принялся комментировать наши будущие выступления.
— Итак, 10-го вы будете выступать в Хуэске. Похоже, это будет достаточно просто, потому что вы будете практически единственным на афише. В следующее воскресенье — Толедо. Там будет значительно сложнее, ведь толедцы считаются знатоками корриды.
— Ничего! Я всегда очень хорошо выступал в Толедо. Этот город вдохновляет меня.
— Тем лучше. Затем мы будем в Хуэльве, после — в Малаге. Практически, все время мы остаемся на юге.
— Потом мы едем в… А, нет, я забыл, что отказался.
— От чего вы отказались, сеньор?
— От корриды в Линаресе, назначенной на 28-е этого месяца.
— Почему? Они плохо платят?
— Наоборот! Это был бы самый большой гонорар за весь сезон!
— Тогда в чем дело?
Дон Амадео бросил взгляд в сторону Консепсьон, затем в мою сторону, как бы прося о поддержке, но мы оба молчали. Тогда он улыбнулся, но эта улыбка была похожа скорее на оскал.
— Я… я подумал, дон Луис, что вы не станете выступать в Линаресе.
Лицо Консепсьон напряглось, и она закрыла глаза, как бы вновь переживая тог день, когда погиб Пакито.
— А почему я не стану выступать в Линаресе, сеньор?
По тому, как у Луиса запульсировала вена на виске, я понял, что им овладела ярость.
— Потому что, похоже, у вас остались неприятные воспоминания о Линаресе, и я опасаюсь, что это не позволит вам хорошо выступить.
Вопреки ожиданию, Луис не взорвался гневом. Он повернулся к Консепсьон:
— Это твоя работа?
Я воспротивился:
— Нет, Луис, — моя.
Он с удивлением посмотрел на меня.
— Твоя? За кого же меня принимаешь — за девочку-истеричку?
Он медленно встал.
— Послушайте, вы все. Я — тореро и только тореро. Воспоминания — это одна вещь, а бой — другая. Если бы было невозможно выступать на арене, где произошло несчастье с вашим другом или с вами самими, пришлось бы закрыть большинство арен в Испании. Сеньор Рибальта, если вы не подпишете контракт с Линаресом, я от вас уйду, даже если мне придется для этого начать против вас судебный процесс!
* * *
Я выехал из Альсиры на день раньше Луиса и Консепсьон, с которыми договорился встретиться в Мадриде, откуда мы вместе должны были ехать в Арагон.
Ужинал я с Ламорилльйо и его женой. Кончите, родившейся в Валенсии, превосходно удавалась паэлла[229].
Мануэль и его жена приняли меня, как брата. Они считали, что обязаны мне своим благосостоянием. И все же, молодая жена Мануэля не смогла удержаться:
— Да, мы, действительно, живем лучше, но ценой каких переживаний! Каждый раз, когда Мануэль уезжает, я считаю часы до прихода его телеграммы, где он сообщает, что все прошло хорошо. А какие муки я терплю после смерти двух его товарищей!
Ламорилльйо нежно обнял свою жену и привлек ее к себе.
— Постой, Кончита миа, ты ведь обещала мне быть благоразумной?
Она простонала:
— Клянусь, что стараюсь сдерживать мое обещание, но у меня не всегда выходит, Мануэль…
После ужина Ламорилльйо вышел меня проводить. Светлая ночь была полна свежего воздуха, опустившегося с северных гор.
— Дон Эстебан, могу ли я рассчитывать на вашу помощь, чтобы… чтобы Кончита не наделала глупостей, если со мной что-то произойдет?
— Ничего себе! Что за мысли у вас?! Что с вами, Мануэль? Вы ведь уже не новичок в корриде!
— Не знаю… Может быть, это из-за Гарсиа и Алохья, но у меня такое чувство, что нашу квадрилью начали сопровождать сплошные неудачи.
— Не говорите глупостей, Мануэль! Хорошо еще, что Кончита вас не слышит!
— Именно для этого я и решил вас проводить.
Мне было очень неприятно его слушать и, главным образом, потому, что его переживания совпадали с моими.
— Что заставляет вас так думать?
— Не знаю, дон Эстебан. Но я буду впервые в жизни выступать с чувством страха в сердце. Что-то мне подсказывает, что в Хиэске будет мое последнее выступление.
Я слишком хорошо знал Ламорилльйо, чтобы несерьезно относиться к его словам.
— В таком случае, Мануэль, мы можем сказать, что у вас грипп, и я подменю вас. Я надеюсь, что через несколько дней вы справитесь со своими нервами?
Он тряхнул головой.
— Это ничего не изменит, дон Эстебан. Меня ждет смерть от рогов быка, и если этого не случится завтра, то все равно произойдет послезавтра.
— В таком случае давайте порвем контракт?
— И вернуться к нищете? Никогда. Если я погибну, Кончита получит три тысячи песет моей страховки.
Я дружески стукнул его кулаком в плечо.
— Вам нужно поскорей избавиться от таких мыслей, Мануэль!
— Это невозможно… Я уже вижу, как меня уносят на носилках с арены в Хуэске.
* * *
Он ошибся на пять дней.
Глава 6
Вопреки опасениям Ламорилльйо, коррида в Хуэске прошла очень хорошо. Пикадор, заменивший Алохья, оказался парнем, хорошо знавшим свое дело, а оба бандерильерос, выступавшие с самого начала, начали приживаться в нашей квадрилье. Мы надеялись на создание новой дружной команды. Дон Амадео, позабыв о своих опасениях, понемногу вернулся к радостям жизни, и, пребывая в самом лучшем настроении, мы готовились начать, после Толедо, наше южное турне по Хуэльве, Малаге, Линаресу и Севилье. Последний город должен был стать для нас апофеозом. После него, перед зимним отдыхом, выступлений планировалось гораздо меньше.
Во всей команде только Мануэль Ламорилльйо оставался мрачным. Я понапрасну старался подбодрить его. После корриды в Хуэске я отвел его в сторону:
— Ну что, Мануэль, все прошло хорошо?
— На этот раз — да.
— Теперь вы видите, что ваши мрачные мысли не имели под собой никаких оснований?
— Я ошибся в дате, вот и все.
— Мануэль, мне не понятно, как такой человек, как вы испугался призраков!
До самого последнего дыхания я буду вспоминать его взгляд, когда он ответил:
— Вы хорошо знаете, дон Эстебан, что смерть можно почувствовать. Так вот, я ее почувствовал…
Я предложил ему выпить, старался по-дружески подшучивать над ним, но это не произвело на него никакого впечатления. Он переживал черную полосу в жизни, но я ничего не мог для него сделать.
Луис опять стал болтлив и, несмотря на то, что в Хуэске он выступал хорошо, но не более того, — он предрекал себе такие великие подвиги, благодаря которым его имя будет вписано в историю корриды. Консепсьон оставалась непроницаемой. Невозможно было понять, рада она успеху мужа или нет. Марвин, повсюду следовавший за нами, со мной совершенно не общался. Зная, что он пристально наблюдает за мной, я тоже не хотел говорить с ним.
Власти Толедо приняли нас прекрасно. Быки, выпавшие нам по жребию, не отличались чем-то необычным, и я был уверен, что «Очарователь из Валенсии» с честью выполнит свою задачу. Если бы не Ламорилльйо с его похоронным настроением, я бы ни о чем не беспокоился. За обедом перед корридой Мануэль почти ничего не ел, и я снова стал его упрашивать отдохнуть и временно передать свои обязанности другому. Он отказался.
— От судьбы не уйдешь, дон Эстебан… Можно только отодвинуть то, что должно случиться, но когда-то все равно придется заплатить сполна.
С тяжелым сердцем я прибыл к месту, думая о том, не стоит ли совсем расстаться с Ламорилльйо. Я опасался, как бы, в итоге его настроение не передалось остальным. Но отказаться от его услуг обозначало вернуть его к той нищете, из которой он и Кончита никак не могли выбраться. Имел ли я на это право?
Работа Луиса с первым быком сопровождалась радостными «оле!» толпы. Ламорилльйо же выступал откровенно плохо. Он был боязлив, неуверен и неловок, вызвал несколько неодобрительных возгласов публики и усложнил задачу своего матадора, вынудив его делать почти невозможное, чтобы не снизить общего впечатления. После этого жалкого выхода бандерильеро подошел к баррера, где были дон Амадео, Марвин и я. Он признался:
— Я больше не чувствую ног. Не знаю, что со мной…
— Быстро идите переодеваться, Мануэль. Я найду кого-то другого.
— Нет, дон Эстабан. Мне обязательно нужно преодолеть эту слабость, иначе я стану бояться. А тогда все будет кончено.
Я объяснил происходившее с Ламорилльйо Луису, который подошел ко мне посоветоваться в то время, когда выступали его соперники.
— Позаботься о нем. Дай ему сделать одну-другую «веронике» и пошли кого-нибудь другого. Лучше пусть он думает, что ты торопишься покончить с быком, чем решит, что ты сомневаешься в нем.
— Ладно. Можешь на меня рассчитывать.
Дон Амадео обеспокоенно спросил:
— Как вы думаете, что с ним?
— Ничего определенного не могу сказать.
Это было правдой. На этом мы расстались и вновь сошлись вместе, когда второй бык Луиса выскочил на золотистый песок арены. Я сразу же заметил отсутствие Мануэля и уже собрался было сходить узнать, в чем дело, как вдруг появился он сам. Мануэль сразу же поспешил ко мне, и я с удовольствием заметил блеск в его глазах:
— Не беспокойтесь, дон Эстебан, — теперь все в порядке! Мне сделали укол, и я чувствую себя так, что готов съесть этого быка сырым!
Возбуждение Ламорилльйо, поначалу удивившее меня, вовсе не сделало меня более спокойным. Я еще ничего не успел сказать, как вдруг Марвин, грубо оттолкнув меня, закричал бандерильеро:
— Кто сделал вам этот укол?
Ламорилльйо посмотрел на него и не сразу нашел ответ, настолько был удивлен этим вопросом. Наконец, он было начал:
— Это же…
И вдруг послышался короткий приказ Луиса:
— Ваша очередь, Мануэль, скорей!
Бандерильеро повернулся к нам спиной и побежал к быку. Марвин спросил:
— Вы знаете, кто сделал ему этот укол?
— Нет.
— А вы, дон Амадео?
— Нет, а почему вы спрашиваете?
— Потому, что
теперь я не могу оставаться спокойным!
Рибальта пожал плечами.
— Зачем же видеть во всем преступление, дон Фелипе? Вот, посмотрите! К Ламорилльйо вернулась вся его…
Но слова застыли у него на губах: Мануэль, воткнув бандерилью, вдруг зашатался и недостаточно отступил в сторону. Бык задел его боком, пробегая мимо, и тут же повернулся к Ламорилльйо. Тот стоял, безвольно опустив руки. Это до боли напомнило мне поведение Гарсиа перед смертью. Я сразу же понял, что Мануэль сейчас умрет. Схватившись за баррера, я закричал изо всех сил:
— Мануэль! Осторожно! Мануэль!
Казалось, он меня не слышит. Тогда я крикнул Луису:
— Луис!
Матадор с остальными уже бежал к бандерильеро, но бык опередил их: Мануэль был поднят на рога и подброшен в воздух. Его предсказание сбылось, и я не мог сдержать слез.
Спустя некоторое время ко мне обратился дон Фелипе:
— Теперь вы согласны, дон Эстебан, что нужно узнать, кто сделал ему этот укол?
Я, не совсем понимая, смотрел на него.
— Вы думаете, что…
Он пожал плечами.
— Как будто вы этого не думаете!
Я и вправду все понял, но еще не отдавал себе полностью отчета о случившемся.
* * *
Тяжело вспоминать о том, что происходило после. Ясно было одно: Мануэль Ламорилльйо был убит так же, как Гарсиа и Алохья. Убийца вновь принялся за дело и одержал очередную, жуткую победу. Фелипе Марвин был вне себя от ярости. Еще никто за всю его карьеру так над ним не насмехался. Меня он больше не подозревал, ведь во время гибели Мануэля он находился рядом со мной. Но это не продвинуло дела ни на шаг. Я знал, что Луиса глубоко потрясла смерть его любимого бандерильеро, но он старался этого не показывать. Его удерживали гордость и самолюбие, и когда дон Амадео пришел умолять его оставить выступления хотя бы на год, они сцепились так, что, казалось, поссорятся навсегда. Что делать, — нам пришлось искать замену Мануэлю для корриды в Хуэльве.
Как можно дольше я оттягивал свой визит к Кончите. Еще совсем недавно мы вместе провели чудесный дружеский вечер, и от этого мне было еще тяжелее. Вечером в Альсире, когда я решился съездить назавтра в Мадрид, ко мне подошла Консепсьон.
— Луис говорил, что ты собираешься завтра в Мадрид?
— Я должен туда поехать.
— Ты едешь к Кончите Ламорилльйо?
— Да.
— Передай, что мне жаль ее от всего сердца.
— Передам.
— Мне жаль и тебя, Эстебанито…
— Спасибо.
Затем установилось долгое молчание и, наконец, она все-же решилась спросить:
— Ты что-то понимаешь в этом?
— В чем?
— В этих трех убийствах?
— Нет.
— Ни одной догадки?
— Нет. А у тебя?
— И у меня нет. А у Марвина?
— И у него тоже.
— Но ведь должен существовать какой-то серьезный мотив для того, чтобы так взяться за нашу квадрилью!
— Конечно, должен! И заметь, что если бы мы нашли ответ на этот вопрос, мы сразу же нашли бы убийцу.
— Как ты думаешь, конечная цель убийцы — это Луис?
— Раньше я действительно так думал, но теперь не уверен.
— Почему?
— Потому, что убийца находится постоянно рядом с нами, он прекрасно осведомлен о всех наших радостях и огорчениях и, значит, знает, что Луису, в конечном итоге, безразлична смерть его троих товарищей.
— Ты говоришь ужасные вещи, Эстебанито!
— Да, но это правда.
— Именно поэтому они еще ужасней. Но тогда, против кого же все это может быть направлено, если не против Луиса?
— А дон Амадео?
— Чтобы разорить человека, не убивают других. Существуют другие способы. К тому же, зачем убивать людей, которых можно заменить? Если бы кто-то всерьез хотел развалить дело Рибальты, то ему, прежде всего, понадобилось бы убить Луиса. Как ты считаешь?
— Так же, как и ты.
Мы еще долго говорили, но так ни к чему и не пришли, а только обнаружили наше полное бессилие найти хотя бы малейший намек, который указал бы нам на решение этой задачи.
* * *
— Я всегда знала, дон Эстебан, что мы с Мануэлем не созданы для счастья. Я всегда боялась корриды. Я чувствовала на нем какое-то проклятие. Даже когда мне удалось заставить его уйти с арены, я все равно не нашла покоя. Что-то подсказывало, что это — только отсрочка, и что коррида все равно у меня его отнимет. И вот… Теперь все свершилось.
Она стояла, выпрямившись, и черная одежда с траурной вуалью, покрывавшей волосы и лицо, делала ее какой-то нереальной. Я взял ее за руку.
— Кончита, мне очень больно. Я любил Мануэля… После Луиса он был моим лучшим другом.
— Поверьте, — он отвечал вам тем же. Для другого человека он никогда бы не вернулся, но для вас…
— Теперь меня будет мучить совесть, Кончита. Если бы не мое предложение, он остался бы жить, пусть даже в бедности и без надежд.
— Мир с вами, дон Эстебан. Что предначертано — должно свершиться. Вы были только орудием высшей Воли. Судьба Мануэля была предопределена, и ни вы, ни я ничего не смогли бы поделать.
— Хочу надеяться, что три тысячи песет его страховки немного помогут вам в жизни.
— Я отнесу их в монастырь Нуэстра Сеньора де лас Ангустиас, куда скоро войду послушницей. В тот благословенный день, когда я одену ризу, я буду чувствовать себя ближе к Мануэлю, чем сегодня. Да пребудет с вами Бог до самого конца вашего пути, дон Эстебан.
Перед расставанием мы обнялись.
* * *
Мне было очень трудно набрать новую квадрилью для Хуэльвы. В профессиональных кругах шептались, что на нас был положен маль суэрте[230], что значительно уменьшало число желающих. И все же, успех Луиса еще привлекал к себе, но, в основном, уже уходящих с арены тореро, мечтавших о новом невероятном.
На сей раз Вальдерес выступал не так хорошо, как прежде. Поняв это, он вышел из себя и буквально зарезал второго быка. Его уход сопровождался свистом, и это еще больше его злило: он понимал, что заслужил негодование публики. Когда мы вместе вошли в раздевалку, он спросил:
— Скажи, я был очень плох?
— Правильней сказать, — не так хорош, как обычно. А что, второй бык оказался очень трудным?
— Не очень, но сегодня у меня почему-то все валится из рук. Я работал с опозданием, и это испортило весь бой.
— Не стоит переживать, амиго, ведь ты — опытный тореро и знаешь, что бывают дни, когда все не клеится. Вчера — отлично, сегодня — неважно: такой закон у нашей профессии, если только, конечно, не быть сверхчеловеком. Но тореро-сверхчеловек еще не родился.
Я знал, как нужно было говорить с Луисом. В таких случаях важно было ему не перечить, но и не давать возможности продолжить дальше, чтобы он не смог до конца разувериться в себе. Нужно было говорить в том же ключе, что и он, но смягчая и уменьшая предмет спора. Луис был очень чувствителен, и спокойный тон действовал на него больше, чем слова. Когда я уже собирался закрыть за собой дверь, он взял меня за руку.
— Спасибо, Эстебан. Без тебя мне было бы намного трудней. Хотя я, действительно, не могу понять, что со мной сегодня происходит.
Я знал, что с ним. Я видел, как страх понемногу, шаг за шагом, овладевал им. Я понимал, что еще будут моменты, когда Луис будет самим собой, но главная пружина уже сломана, — страх однажды овладеет им целиком, и тогда… Ему необходимо было все бросить, но я не решался этого советовать прежде всего потому, что он все равно не согласился бы. Кроме того, я рассчитывал, что он все же устоит перед этим страхом до конца сезона. А зимой, взяв в союзники Консепсьон и Рибальту, я надеялся что нам постепенно удастся уговорить его больше не возвращаться на арену. Таковы были мои надежды.
И все же я нуждался в советчике. Зная, что Консепсьон здесь ничем не сможет мне помочь, а дона Амадео заботят только его деньги, я поделился своими сомнениями с Марвином. Мы с ним остались на день в Севилье под предлогом, что я покажу ему Триану, тогда как остальные отправились в Альсиру и Мадрид. Мне хотелось поговорить с ним наедине, и я привел Марвина в любимое кафе. Мы уселись за столом маленького темного бистро, и, взглянув на него, я сразу понял, что он обо всем догадывался. Начал он:
— Так что вы хотели мне сообщить, дон Эстебан?
Я рассказал ему о своих заботах и сомнениях. Он внимательно выслушал меня, а затем сказал:
— Итак, вы хотите услышать мой совет?
— Именно так, дон Фелипе.
— Я тоже заметил то, что происходит с доном Луисом, и понимаю ваши сомнения. Конечно, проще всего было бы прямо поговорить с ним, но я тоже думаю, что он вам не поверит. Давайте станем на его место. Его возвращение оказалось сверх всяческих надежд блестящим. Человек, к которому пришел такой успех, никогда не захочет поверить, что он его больше недостоин, тем более, что пока привселюдно не случилось ничего такого, что говорило бы об обратном. Никто не замечает, что прошел возраст любви или возраст славы, дон Эстебан. Для дона Луиса радостные крики публики — все равно, что признание в любви. Он никогда не откажется от них сам по себе. По-моему, это время еще не наступило.
— И что же делать?
— Вы выбрали правильную политику. Присматривайте за ним еще внимательней, чем обычно, в случае, если его нервы сдадут раньше, чем мы думаем. Зимой дома, когда он вернется к тишине и покою, ему будет легче прислушаться к голосу разума.
* * *
В Малаге Луис выступал великолепно. У этого человека были невероятные взлеты и падения. Именно эти перемены и обеспечивали ему успех, поскольку афисионадос не могли знать наперед, каким он будет сегодня, и придется его освистывать или же аплодировать. Любопытство подстегивало болельщиков.
Вернувшись из Малаги, Луис совершенно позабыл о своих переживаниях на предыдущей неделе. После того, как он совершенно непревзойденно предал смерти второго быка, став вровень с самыми великими матадорами, Марвин прошептал мне:
— Как сказать такому диесто[231], что он должен уйти? И имеем ли мы на это право? Посмотрите на Рибальту…
Импрессарио был на седьмом небе. Пока Луис демонстрировал блестящую фаэну, заглядывая в глаза смерти, тот, безусловно, подсчитывал тысячи песет, которые попадут в его карман после такого выступления. Каково же будет его возмущение, если мы посоветуем Луису прекратить выступления?!
Местные газеты в своих похвалах дошли до того, что сравнили Луиса с Хуаном Бельмонте, который считался одним из чудес корриды, и мой друг, отнюдь, не страдал от такого сравнения. Один лишь я не участвовал во всеобщем ликовании, которое охватило даже Консепсьон, потому, что знал: в следующее воскресенье коррида будет проходить в Линаресе. В Линаресе, где погиб Пакито…
В первые два дня пребывания в Альсире Луиса не покидало воодушевление. Он с горячностью строил планы и даже подумывал о зимней поездке в Мексику. В своей беззаботности он даже не вспомнил о Пакито, что еще раз убеждало в его непробиваемом эгоизме. Он так трещал, как попугай, и мы с Консепсьон, переглянувшись, сразу поняли друг друга. Если Луис собирается в Мексику, он поедет туда без нас, но все же, я рассчитывал прежде дать ему понять неприглядность такого поступка.
Дон Амадео появился среди недели и чувствовал себя триумфатором: ему недавно удалось подписать великолепный контракт на корриду в Севилье ко дню святого Мигеля. Марвина, который привез его на своей машине и вечером должен был отвезти обратно, мы встретили, как старого друга. Правду говоря, мы уже привыкли постоянно видеть его с нами и считали его членом нашей квадрильи. Мы с доном Фелипе вышли погулять, пока Луис и Рибальта обсуждали финансовые вопросы, а Консепсьон готовила прохладительные напитки. Когда мы были в глубине сада, он сказал:
— Надеюсь, мое присутствие не слишком донимает вас, дон Эстебан?
— Поверьте, оно доставляет мне удовольствие, дон Фелипе.
— Спасибо. Значит, вы мне простили те несправедливые подозрения?
— На вашем месте я действовал бы точно так же.
— Ценю ваше понимание. Сейчас я с вами для того, чтобы получше войти в вашу компанию и попытаться понять мотивы убийцы. Видите ли, дон Эстебан, если бы мне удалось найти другую связь между Гарсиа, Алохья и Ламорилльйо, кроме общей профессии, возможно, мне удалось бы напасть на след, который пока от меня скрыт. Я собрал данные о их прошлом. Ничего. Помимо работы они не вступали ни в какие отношения с одними и теми же людьми. Кроме того, погибшие принадлежали к различной среде и за последние пять лет не общались между собой. Тогда почему же кому-то понадобилось всех их убить?
Я и сам постоянно наталкивался на неодолимые преграды в этом вопросе и ничего не смог ответить. Марвин вздохнул:
— Это самое трудное дело в моей жизни, дон Эстебан. Иногда мне хочется сообщить в государственную полицию, а иногда… И все-таки, я чувствую, что эти преступления чем-то необычны. Хоть я сейчас иду в полной темноте, но верю, что смогу выиграть.
— Желаю вам этого, дон Фелипе, от себя и от наших погибших друзей.
Он протянул мне руку.
— Я повторил вам все это, чтобы вы знали: я не выхожу из игры.
— Такая мысль мне еще никогда не приходила в голову, дон Фелипе.
* * *
Первое письмо пришло в четверг. Мы собрались сесть за стол, когда принесли почту. Луис извинился и стал ее разбирать. Он принял вид человека, пресыщенного славой (даже наедине со мной и со своей женой он всегда разыгрывал эти спектакли), и стал раскрывать конверты с новыми предложениями и со словами похвалы. Вдруг произошло что-то неожиданное. Лицо «Очарователя из Валенсии» побледнело, и лист бумаги в его руке задрожал. Консепсьон первой поспешила к нему:
— Что случилось?
Вместо ответа он протянул ей письмо. Она прочла, сдавленно вскрикнула и передала его мне. В нем были две строки без подписи:
«
Преступник всегда возвращается на место преступления. Вспомни о Пакито, трус!»
Мы были потрясены и не могли найти слов. Первым хладнокровие вернулось к Луису. Он ударил кулаком по столу и закричал:
— Знать бы, кто этот мерзавец!
Я осторожно вставил:
— В любом случае кто-то пытается выбить тебя из колеи перед корридой в Линаресе.
— Все равно ему ни черта не удастся!
Консепсьон спросила:
— Может быть, перенесем твое выступление на следующее воскресенье?
— Ты что же, считаешь меня трусом?
— Луис!
— Мой успех заставляет некоторых подыхать от зависти, и для них все средства хороши, чтобы меня уничтожить! Если я не приеду в назначенное время в Линарес, они будут думать, что выбрали верный путь! Для них это будет радость, а для меня — конец!
Консепсьон настаивала:
— Эстебан тоже против корриды в Линаресе!
— Потому что Эстебан, как и ты, считает меня бабой!
Я возразил:
— Луис, если бы я не верил в тебя и в твои достоинства, я не был бы здесь!
— Извини, Эстебанито… прошу вас, давайте забудем об этой истории и сядем за стол, — я умираю от голода!
За столом Луис был весел, и все пытались вторить ему, но у меня, во всяком случае, это не получалось: я чувствовал неестественность этого веселого настроения. Что бы ни говорили, но враги подбирались к нему, и в нем исподволь зарождался страх.
После кофе я вышел немного прогуляться, чтобы отойти от переживаний и поразмышлять, откуда исходило это нечестное нападение. Кто, кроме Консепсьон и иногда меня мог думать о Пакито? И вдруг мой рассудок прояснился. Наконец я нашел то, что безуспешно искал дон Фелипе, — связь между тремя погибшими тореро. Луис, Гарсиа, Алохья и Ламорилльйо были единственными живыми членами квадрильи, выступавшей в Линаресе, когда погиб Пакито. Значит, убийцей руководила не зависть. Им руководила месть.
* * *
И вдруг, в одночасье, я понял, кто убийца, и что Луис и я сам погибнем от одной и той же руки, если ее не остановить!
Совершенно подсознательно, с самого начала я подозревал Консепсьон. Она одна любила Пакито настолько, что так и не смогла простить нам его смерть. Консепсьон сошла с ума, несмотря на внешнее спокойствие, которое было ее главным оружием! Какую комедию она разыграла со мной! Дикая ярость заставляла напрягаться мои мускулы, и все же я не мог возненавидеть ее! Моя любовь была давней и жила со мной всю мою жизнь. Я понял, что никогда не смогу сдать ее полиции. Лучше я убью ее своими собственными руками, чем увижу, как ее увозят в тюрьму. И все же мне необходимо было защитить Луиса и позаботиться о собственной жизни. Больше, чем преступления, меня ранили воспоминания о тех сценах, когда она разыгрывала несуществующие чувства и просто издевалась надо мной. Если попытаться поговорить с ней, она станет все отрицать, а я лишусь своих козырей. Дон Фелипе не знал бы этих сомнений и колебаний, расскажи я ему правду. А что, если я исчезну вместе с ней?
В моем воспаленном рассудке сталкивались и смешивались совершенно противоположные мысли, раздирая меня на куски. Меня охватывала ярость, когда я думал о погибших товарищах, меня мучил ужас, когда я думал о скором выступлении Луиса и при этом я боялся за Консепсьон. Мне хотелось одновременно ее ударить и обнять, обругать и сказать ей все те нежные слова, которые так долго жили во мне.
Я чувствовал ответственность за судьбу Луиса. Необходимо было отговорить его ехать в Линарес и при этом не показать, что я знаю ужасную правду. Вернувшись в дом, я узнал, что Консепсьон уехала за покупками в Альсиру. Это принесло мне облегчение: увидев ее, я все равно выдал бы себя. Луис отдыхал у себя в комнате. Я ждал, когда он проснется, чтобы поговорить с ним, и опять задумался. То, что я должен был сделать, было трудным, даже смертельно опасным в случае неудачи. Если мне не удастся убедить Луиса не ехать в Линарес, я только усилю этим его страх за себя, прибавив свой собственный.
Когда Луис сошел вниз, я сразу же по его лицу и глазам понял, что он не переставал думать о полученном письме. Безо всякого удовольствия он согласился на небольшую прогулку со мной. Мы оба думали об одном и том же, и оба стеснялись признаться в этом, поэтому шли молча. Я постарался говорить как можно более весело и непринужденно:
— Надеюсь, наступит такой день, когда мы сможем объясниться наедине с нашим анонимом.
— Я тоже.
Наш разговор быстро прервался. Мое вступление ничего не дало. Пришлось начать сначала:
— Лишать спокойствия человека, который ведет бой с быками! Никогда бы не подумал, что испанец способен на такое!
— Вот именно, Эстебанито, твоя мысль доказывает, что этот подлец не из нашей среды. Этот человек, действительно, не любит корриду и его стоит искать за ее пределами.
Как всегда, эгоизм ослеплял Луиса и не позволял ему догадаться, что со времени смерти Пакито Консепсьон ненавидела и корриду, и торерос. Я приступил к наиболее деликатной стороне моей задачи.
— Я думаю, что этот тип не остановится на одном письме и попытается еще что — то устроить до того, как ты выйдешь на арену.
— Это не имеет никакого значения.
— Хотел бы быть в этом уверен.
Он резко остановился. По инерции я сделал еще два или три шага и обернулся к нему.
— Что ты хочешь этим сказать, Эстебан?
— Что обязательно будут еще анонимные письма, которые будут тебя беспокоить…
— Что же в таком случае делать?
— Я думаю, что лучше послушать Консепсьон и не выступать в это воскресенье.
— Нет!
— Но, Луис, ты…
— Больше об этом ни слова, Эстебан, иначе — ты мне больше не лучший друг!
Вернувшись в дом, мы застали Консепсьон, возвратившуюся из Альсиры. Она обрадовалась, увидев нас. Создавалось впечатление, что она хотела развеять тучи, собравшиеся над нашей маленькой группой, и я, зная правду, не мог не восхищаться и не приходить одновременно в ужас от такого ее актерского таланта.
Второе письмо пришло Луису в пятницу после полудня и было таким же кратким и исполненным злобы, как и предыдущее:
«
Мертвые мстят за себя. Не забыл ли об этом «Очарователь из Валенсии»? Пора заплатить за Пакито».
Луис был вне себя от ярости. Пока он злобно рвал на мелкие клочки записку, я подобрал конверт. Штемпель на нем был поставлен накануне в Альсире. Именно туда Консепсьон ездила за покупками… С этого момента я принял решение.
— Луис! Мы оба знаем, что обо всем этом думаем. И все же у меня не такие крепкие нервы, как у тебя, и я предлагаю собрать вещи и сегодня же вечером уехать в Линарес. У тебя будет день отдыха до корриды, и я буду чувствовать себя легче!
По его благодарному взгляду я понял, что мое предложение было вершиной его желаний и, что взяв на себя его боязнь, я позволил ему спасти свое самолюбие.
— Хорошо, Эстебан, если это сможет тебе помочь…
И, улыбаясь, он добавил:
— Мне нужно, чтобы у тебя была ясная голова!
Консепсьон одобрила мою инициативу.
— Я поднимусь собрать вещи. Если хотите, мы можем выехать уже через час.
— О, нет, ты останешься!
Она сделала вид, что не понимает, что я хочу сказать, в то время, как Луис действительно ничего не понял.
— Что с тобой, Эстебан? Почему ты не хочешь, чтобы Консепсьон ехала с нами?
— Думаю, что так будет лучше.
Консепсьон, у которой на глазах появились слезы, прошептала:
— Ты гонишь меня от вас, Эстебан?
Я чувствовал, что если бы я дал ей пощечину, мне стало бы легче. Луис настаивал:
— Объясни, почему Консепсьон не может поехать с нами?
— Потому, что… мы едем в Линарес…
Она оборвала мое объяснение:
— Буду обязана тебе, Эстебан, если ты позволишь мне самой решать за себя.
Дрянь!
* * *
Мы остановились на час в Альбасете, и я воспользовался этим, чтобы предупредить Марвина и Рибальту. Мне казалось, что чем больше будет людей около Луиса, тем лучше он будет защищен от всякой преступной попытки. Сам же я решил не оставлять его в день корриды с той самой минуты, как только он встанет. Ни у кого из нас не было желания разговаривать, и поэтому наша поездка получилась какой-то мрачной. Луис, углубившись в свои мысли, с трудом сдерживал нервы, и каждое его движение наполняло меня беспокойством. Сможет ли он взять себя в руки на арене? У неподвижной, как статуя, Консепсьон живым был только взгляд, искавший объяснений в моих глазах. Похоже, зная о своей власти надо мной, она вновь хотела ее проверить, чтобы уничтожить меня. Я был для нее единственным препятствием. Она была достаточно умна и понимала, что я обо всем догадался. Всем известно, что люди, одержимые маниакальной идеей, способны на любую хитрость ради ее осуществления. Я вел машину, и мне было невероятно трудно сосредоточиться на дороге.
Рибальта и дон Фелипе приехали в гостиницу «Сервантес», где мы остановились, только ночью. Утром, в субботу, Марвин был уже в моей комнате.
— Мне показалось, дон Эстебан, что я вам нужен и что вы желали моего приезда. Я не ошибся?
— Ничуть, амиго. Луис в смертельной опасности. Вы должны мне помочь защитить его.
Он закурил сигарету и, выпустив дым через нос, спросил:
— Опять?
— Еще как!
И я рассказал ему о письмах.
— Пакито — это тот мальчик, который погиб в Линаресе на последнем выступлении дона Луиса?
— Да.
— А кто он?
Я наговорил ему неизвестно чего, чтобы он не пришел к единственному выводу, вытекавшему из этой истории. Мой рассказ получился неубедительным.
— Непонятно… Если речь идет о маленьком мексиканце, у которого почти никого не было, то кто может мстить за его смерть?
— Не знаю. Разве что под видом мести кто-то хочет скрыть нечто другое?
— Но, в таком случае, зачем предупреждать дона Луиса, тогда как этого не делали с Гарсиа, Алохья и Ламорилльйо?
— Быть может, наслаждения ради… Очевидно, кто-то очень хорошо знает Луиса, его нервозность и хочет увидеть его страдания…
— Увидеть?
— Думаю, что преступник присутствует на всех выступлениях Луиса и убил тех троих, чтобы испугать его.
— Возможно, вы и правы, но честно признаюсь, что ничего не понимаю в этой истории и почти уверен, что вы не говорите мне всего, что знаете. Нет, нет, не убеждайте, что это не так, дон Эстебан, — ваши возражения не смогут поколебать мое предчувствие. Во всяком случае, я буду помогать вам изо всех сил и надеюсь, что сегодня вечером мы выиграем эту партию. Я с сомнением покачал с головой.
* * *
Я быстро оделся и зашел к Луису. Он был один.
— А где Консепсьон?
— Она ушла.
— Так рано?
— Она очень плохо спала и захотела немного прогуляться, чтобы подышать воздухом. Мне нужно бы сделать то же самое: я всю ночь не сомкнул глаз. Должно быть, — это из-за жары.
К чему отвечать ложью на его ложь? Я просто остался с ним и, когда возвратилась Консепсьон, тоже демонстративно не покидал комнату Луиса. Пока он умывался, я стал возле двери ванной. Заметив это, Консепсьон с ехидством спросила:
— Он у тебя под крылышком, как цыпленок у курицы?
Я ничего не ответил, чтобы не позволить выйти наружу переполнявшей меня ярости. Она подошла ко мне:
— Что с тобой, Эстебанито?
Еще одна сцена нежности!
— Оставь меня в покое!
— Мы что же — больше не друзья?
Напрасно она настаивала: я изо всех сил боролся с собой, чтобы не бросить правду ей в лицо. Луис, появившись, избавил меня от необходимости отвечать. Он заканчивал одеваться, когда постучали а дверь. Это был слуга с письмом на подносе.
— Для сеньора Вальдереса. Только что принесли.
Получив чаевые, он вышел. Луис вскрыл конверт.
«Луис Вальдерес, приведи в порядок свои дела с Господом, — бык убьет тебя завтра вечером».
Никогда я еще не слышал, чтобы Луис так ругался. Консепсьон перекрестилась, ведь одна из примет гласила: нельзя ругаться перед боем, — этим ты искушаешь дьявола и небеса. Я подошел к телефону и позвонил администратору гостиницы. Мне сказали, что письмо принес обычный уличный мальчишка, и поэтому найти или узнать его представлялось делом невозможным. Повесив трубку, я вспомнил об утренней прогулке Консепсьон. Она легко могла найти подальше от нашей гостиницы какого-то мальчишку и дать ему несколько песет, чтобы он принес письмо в определенное время. Если разоблачить ее сейчас, это может спасти Луиса, но добьет его окончательно. Поэтому я решил, что поговорю с ним после корриды.
Послеполуденное время Луис провел в своей комнате. Приехавший к исходу дня Рибальта не скрывал своей озабоченности по поводу поведения тореро. С ним приехали и остальные члены квадрильи.
Назавтра я заставил Луиса оставаться в постели до полудня. Сидя около него, я читал. За все утро он не сказал ни слова. Страх делал свое дело. Он почти не притронулся к завтраку, и когда пришло время его одевать, я заметил, что по лицу его струился пот. Из-за того, что он неожиданно делал непроизвольные движения, мне стоило огромного труда одевать его. Не понимая, что виноват в этом сам, Луис набросился на меня:
— Осторожнее же! Да что с тобой сегодня?
Я старался не вступать в спор. Обычно ему хотелось, чтобы я стягивал пояс как можно туже, а сейчас он впервые сказал:
— Не затягивай так сильно! Ты хочешь, чтобы я задохнулся?
Я понял, что ему трудно дышать, и поэтому будущий бой рисовался мне во все более мрачном свете. Одевшись, он сел в кресло и попросил у меня сигарету.
— Послушай, Луис, перед боем лучше бы не курить…
— Делай, что я тебе говорю! Ты получаешь деньги от меня? Тогда делай, что сказано, и замолчи!
Грубый тон заставил меня замолчать. Глядя на беснующегося Луиса Вальдереса, я понял, что передо мной уже не мой старый друг, а совершенно незнакомый человек, потерявший голову от страха. Мне было не по себе из-за невозможности чем-то помочь ему. Вдруг он произнес мрачным голосом:
— У меня глупая профессия…
Теперь страх возобладал над его волей. Я был ошеломлен.
— Тебе, конечно, на все наплевать. Ты стоишь за баррера. Пусть удары рогов достанутся другому, лишь бы тебе платили!
Я твердо решил выслушать и вынести до конца все от этого человека, которого страх постепенно лишал рассудка. Бросить его сейчас было бы преступлением. Я молчал, и это выводило его из себя.
— Ну ответь! Отвечай же!
Я старался двигаться как можно медленней. Нужно было, чтобы мое внешнее спокойствие повлияло на нервы Луиса.
— Что я могу тебе сказать, Луис? Ты оскорбляешь меня. Ты одним махом уничтожаешь нашу дружбу, а я даже не знаю, почему…
Он взорвался, и злоба исказила его лицо.
— Наша дружба? О чем ты говоришь?! Ты ненавидишь меня с тех пор, как я отбил у тебя Консепсьон!
— Ты говоришь глупости!
— Глупости? А разве не из-за нее ты не женился? Или ты хочешь меня убедить, что больше ее не любишь? Или будешь клясться, что тебе не хочется занять мое место, если я погибну?
Луис зашел слишком далеко. Все мои благие намерения куда-то исчезли, и, глядя ему прямо в глаза, я медленно произнес:
— Да, я не женился из-за Консепсьон. Да, я ее люблю и буду продолжать любить. Да, я хотел бы прожить остаток жизни с ней. Но, кажется, я никогда этого от тебя не скрывал?
И вдруг я понял, что говорю об умершей для меня женщине, потому что Консепсьон, ставшая преступницей, ничем не была похожа на ту, память о которой я хранил всю жизнь. Луис бешено набросился на меня, и я увидел совсем близко его обезумевшие глаза.
— Так ты признаешься, да? О, теперь я вижу всю твою игру! Ты надеешься, что бык сделает за тебя то, на что ты сам не можешь решиться! Избавит тебя от меня! Ты для этого приезжал в Альсиру? Ты — убийца, Эстебан, ты — убийца!
— Луис!
Мы оба обернулись к двери. Консепсьон с ужасом смотрела на нас. Очнувшись, Луис пробормотал:
— Ты была здесь?
— Да, и все слышала… Как тебе не стыдно, Луис, обвинять своего старого друга, почти брата, который всю жизнь жертвовал собой для тебя? Ты забыл, чем обязан Эстебану?
Он не выдержал и расплакался. Она бросилась к нему, но я на ходу ее остановил.
— Оставь его… Он может не простить, что ты увидела его в таком состоянии… Позволь мне остаться с ним наедине.
После некоторого колебания она подчинилась. Я проводил ее до двери. Уже в коридоре она прошептала;
— Что с ним?
— Страх!
Не знаю, ошибся ли я, но мне показалось, что в ее глазах сверкнул огонек триумфа. Мое сердце сжалось.
Когда я вернулся обратно, Луис сказал:
— Извини меня, Эстебан, за все эти глупости.
Я остановил его:
— Это не имеет никакого значения, Луис. Просто тебе нужно сейчас взять себя в руки.
Он покорно вздохнул:
— Да, ты прав. Ведь меня ждут тысячи людей. Они хотят видеть мой бой. Большинство из них мечтает посмотреть, как я убью быка, но, уверен, что многие ожидают и обратного…
— Ты с ума сошел!
— Перестань, Эстебан, как будто ты не знаешь.
К сожалению, он был прав.
— Дай мне куртку.
Он одел короткую курточку белого цвета, расшитую серебром, и его бледность на этом фоне делала его вовсе похожим на призрак. Вдруг он сказал:
— Быка, который убил здесь Манолете шестнадцать лет назад, звали Исленьо.
Растерявшись, я не знал, что сказать. Страх, делая свое черное дело, продолжал разрушать рассудок Луиса. Не стесняясь моего присутствия, он продолжал говорить, словно читал молитву:
— Того, который убил Хосемито в Талавера де ла Рена, — Байлаором, а Гранадино убил Игнасио Санчеса Мехиаса в Мансанересе-эль-Реале… Интересно, запомнят ли того, который убьет меня?
Я подошел к нему, схватил за плечи и с силой встряхнул:
— Ты что, сошел с ума, Луис? Разве можно так себя вести, когда до боя осталось меньше часа?
Он посмотрел на меня невидящим взглядом и вдруг замогильным голосом начал читать стихи, написанные Федерико Гарсиа Лоркой на смерть Игнасио Санчеса Мехиааса:
Un ataud con rueda es la cama.
A las cinco de la tarde.
Huesos у flautas suenas en su oido.
A las cinco de la tarde.
El toro ya mugia por frente.
A las cinco de la tarde.
El cyarto se irisaba de agonia.
A las cinco de la tarde.[232]
Я чувствовал, что схожу с ума.
— Ты можешь замолчать? Ты замолчишь, наконец?!
Казалось, он не слышал меня:
A lo lejos, ya viene la gangrena.
A las cinco de la tarde.
Trompa de lirio por las verdes ingles.
A las cinco de la tarde.[233]
Я заткнул уши, но все равно продолжал слышать этот надрывный стон стихов, которые все испанцы знают наизусть.
La heriadas quemaban como soles.
A las cinco de la tarde.
Y el gentio rompia les ventanas.
A las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.[234]
Его голос поднялся в высоком стоне, напоминая канте хондо андалузских певцов.
Ay, que terribles cinco de la tarde!
Eran las cinco en todos los relojes!
Eran las cinco en sombra de la tarde![235]
Внезапно стенания оборвались, и совершенно естественным гоном Луис сказал:
— Пора идти, Эстебан.
* * *
Я прошел путь от гостиницы до арены в каком-то тумане. Мне никак не удавалось вернуться к действительности. Луис долго, очень долго оставался в часовне, и я не решался к нему подойти, но наблюдал, чтобы никто, кроме тореро, туда не входил, исполняя роль сторожевого пса. Я не имел права скрывать своего смятения от Марвина и дона Амадео и рассказал им о невероятной сцене, в которой мне пришлось участвовать. Рибальта, думавший только о доходах, захныкал:
— Так он не сможет хорошо выступить?
Я бы с большим удовольствием плюнул ему в лицо.
— Возможно, он даже погибнет, дон Амадео!
Дон Фелипе заметил более прозаично:
— Итак, автор анонимок достиг своей цели: он полностью выбил дона Луиса из колеи…
Рибальта спросил:
— Каких анонимок?
— Это я объясню вам попозже… Дон Эстебан, но если вы считаете, что дон Луис не в состянии проводить бой, нельзя ли его отговорить?
— Я попытаюсь.
В этот момент из часовни вышел Луис. Он вежливо улыбнулся моим спутникам. На секунду мне показалось, что он овладел собой, но судороги, пробегавшие по его лицу, доказывали обратное.
— Луис, я считаю, что после этих двух страшных дней ты не сможешь показать все лучшее, на что ты способен.
— И что из того?
— Не лучше ли отказаться сейчас?
— Между осторожностью и трусостью существует граница, как между храбростью и безрассудством!
С трибун до нас докатилась волна шума, крика и смеха, и Луис, указав подбородком в ту сторону, с иронией сказал:
— Может ты пойдешь и объяснишь им? Уверен, что они оценят твои аргументы!
Затем он обратился к моим собеседникам:
— Сеньоры, Эстебан прав, когда говорит, что моя нынешняя физическая форма хуже обычной. Но во мне есть еще неизрасходованный запас, и я уверен, что вам не будет стыдно за меня. Можете на меня рассчитывать!
Послышался призыв к пасео[236], и он повернулся к нам спиной. Чтобы до конца избежать всяких неожиданностей, я оставил его лишь в тот момент, когда он с товарищами, вслед за алгвазилами, исчез за большими воротами, ведущими на арену.
* * *
С самого начала Луис был тяжеловесен и неловок. Толпа не сразу на это отреагировала. Головы болельщиков были слишком заняты подвигами «Очарователя из Валенсии», чтобы увидеть и понять, что он выступает плохо. Кроме того, ему достался легкий бык. Наконец, одна очень слабая «веронике» вызвала первый свист. Он был просто жалок. Это был уже не тот Луис, за работой которого мы с восторгом наблюдали последние два месяца. Но начинающий новильеро был бы не так смешон. Со стиснувшимся сердцем я следил за жалким представлением и просил у неба только одного: чтобы оно позволило Луису выйти живым из этого боя, пусть даже погибла бы его слава и закрылись бы двери в блистательное будущее. Спеша покончить с этим спектаклем, президиум дал сигнал к преданию смерти, что, по-моему, было все же несколько преждевременно. Когда Луис подошел к нам за мулетой и шпагой, у него был невменяемый вид. Он даже не слышал, как я, стараясь перекричать обезумевшую толпу, давал ему советы. От нас, спотыкаясь, Луис направился к быку, и я вдруг отчетливо понял, что сейчас он умрет. Рискуя быть разорванным на куски орущими мужчинами и женщинами, я попытался прыгнуть через баррера, но Марвин схватил и удержал меня.
— Вы понимаете, что творите?
Если бы не дон Фелипе, я поступил бы так же, как когда-то Пакито… Мысль о мальчишке навела меня на Консепсьон. Я обернулся к ней. Она закрыла лицо ладонями. Изо всех сил я крикнул ей:
— Имей смелость досмотреть до конца, ты хотела этого!
Но мой голос не достиг ее.
Став перед быком, Луис развернул мулету, на краю которой я заметил непонятное белое пятно. Луис окаменел, словно загипнотизированный этим пятном. Бык рванулся с места…
* * *
Тело Луиса Вальдереса лежало в часовне арены Линареса. Все свершилось. Из той квадрильи в живых остался один я. Скоро наступит и мой черед.
Как только Луис оказался на земле, орущая публика сразу же утихла. Смерть тореро вернула ему утраченное достоинство. Животное еще уводили с арены, а мы с доном Фелипе уже бежали к телу нашего друга. С пробитой грудью он умирал, не приходя в сознание. Внезапно, сквозь слезы я увидел белое пятно на мулете. Мы с Марвином подобрали красную ткань. Белое пятно оказалось запиской, которая гласила:
«
Яжду тебя, Луис. Пакито».
Дон Фелипе аккуратно положил записку себе в бумажник.
Стоя на коленях, я молился у останков моего погибшего друга, но вдруг до меня дошло, что я сам тоже нахожусь в смертельной опасности. Ведь я оставался последним свидетелем, как говорила Консепсьон, — последним виновником смерти Пакито. Она убьет меня, как убила тех четверых! Я поднялся на дрожащие ноги, и дон Фелипе спросил:
— Что с вами?
— Я уезжаю… Мне нужно уехать!
— Подождите, дон Эстебан…
— Да разве вы не понимаете, что она убьет и меня!
Он вывел меня на улицу и заставил сесть с собой в такси. Вернувшись в гостиницу, мы заперлись в ею комнате.
— Так кто же убийца, дон Эстебан?
— Консепсьон Вальдерес…
И я расплакался, как мальчишка. Дон Фелипе на миг растерялся, но затем быстро пришел в себя.
— Вот оно значит что…
Он подошел ко мне и по-дружески обнял за плечи.
— Возьмите себя в руки, дон Эстебан.
— Извините…
— Я знаю, что с вами случилось худшее, что может случиться с мужчиной: оказалось, что та, которой вы посвятили всю жизнь, — ничего не стоит. Но все-таки же почему столько убийств?
— Из-за Пакито.
И я рассказал ему все. Когда я окончил, дон Фелипе спросил:
— По-вашему, дон Эстебан, она сошла с ума?
— Думаю, да. Смерть Пакито оказалась для нее таким тяжелым ударом, какой мы не могли себе даже представить. В тот день в ней что-то сломалось, и она стала жить только для тою, чтобы когда-нибудь отомстить. Страшно то, что предложив Луису вернуться, я сам предоставил ей такую возможность.
— В общем, вы оказались перстом судьбы, дон Эстебан. Ну, а если бы вы не вернулись в Альсиру?
— Возможно, сдерживая все в себе, она окончательно сошла бы с ума… возможно, она убила бы мужа…
— А возможно, вовсе ничего бы не предпринимала, — пойди угадай!
— Именно это я и не перестаю себе повторять: если бы я не встретил Мачасеро…
— Что же, дон Эстебан, наша судьба зависит от случая, не мне вам об этом говорить, но скажите, как она это делала?
— Здесь я тоже чувствую свою вину. Я должен был насторожиться. Она слишком легко согласилась с возвращением Луиса на арену. Женщина, у которой остались ужасные воспоминания о корриде, должна была воспротивиться. Нас с Луисом удивила эта победа, но мы не поняли, что это был заранее подготовленный план.
— Похоже на то…
— Во всяком случае, она во многом помогала Луису, следя за его тренировками и готовя еду. Надо отдать ей должное: она вела себя, как страстная любительница корриды.
— Ну, а преступления?
— Если вы помните, дон Фелипе, именно она приготовила кофе для Гарсиа. Делая вид, что заботится об Алохья, часто расспрашивала о его семье. Он был уже на коне и готовился к пассео, когда она подошла к нему, чтобы пожелать удачи. Она хорошо умела делать уколы и часто, еще до замужества, помогала больным в Триане. Наконец, одно из анонимных писем было опущено в Альсире, куда Консепсьон накануне ходила за покупками. Затем, вчера утром, она, будто случайно, захотела прогуляться по Линаресу, и только после того, как она вернулась, Луис получил новую записку. Наконец, дон Фелипе, именно она готовила одежду и складывала багаж для Луиса. Нет ничего проще, чем приколоть бумажку к мулете…
Марвин задумался над перечисленными мной обвинениями.
— Да, все отлично сходится… Что вы собираетесь делать, дон Эстебан?
— Спасаться, я уже говорил.
— Вот это на вас не похоже, амиго.
— Люди меняются с возрастом… Вообще же, дон Фелипе, я боюсь не столько смерти, сколько смерти от ее руки.
— Но ведь она вас любила?
— Меня любила другая, от которой осталась только внешность.
— Куда же вы поедете?
— К себе в Триану. Хотя, у меня нет иллюзий. Она найдет меня и там.
— А вы не можете спрятаться в другом месте?
— Нет. Я чувствую себя хорошо только там, и потом, дон Фелипе, я все-таки сказал вам неправду… Я не боюсь умереть от ее руки, лишь бы не здесь, а только там, где прошли годы нашей любви.
— Во всяком случае, дон Эстебан, я постараюсь не позволить ей совершить задуманное, можете на меня рассчитывать.
* * *
Выйдя из гостиницы по направлению к вокзалу, я встретил Консепсьон.
— Куда ты пропал? Ты… ты уезжаешь?
— Я возвращаюсь к себе, в Триану.
— Ты покидаешь Луиса? Ты и меня покидаешь?
— Я не хочу умереть здесь.
— Умереть? Почему умереть?
— Потому, что я последний из квадрильи, выступавшей в тот день, когда погиб Пакито.
Она пристально посмотрела на меня и медленно сказала:
— Значит, ты все понял?
— Да, все понял, Консепсьон… Я еду в Триану и буду там тебя ждать.
— Ждать? Зачем?
— Чтобы умереть.
Эпилог
30 сентября.
Я продолжаю свои записи после месячного перерыва. Завтра я выхожу из больницы, а сейчас мне приходится делать над собой усилия, чтобы вернуться к событиям той ужасной ночи, когда страх и смерть были моими спутниками. За моими окнами забрезжил рассвет, когда в своем рассказе я поставил точку. Мне хотелось, чтобы она прочла эти страницы после того, как убьет меня. Быть может, вместе с угрызениями совести к ней вернется рассудок? Утром мой животный страх притих. Я больше не опасался присоединиться к Луису, Гарсиа, Алохья, Ламорилльйо и к несчастному Пакито, ставшему причиной этой ужасной драмы. Под крышами Севильи еще двигались тени. Я в последний раз обратился с молитвой к Нуэстра Сеньора де ла
Эсперанца[237], святой покровительнице Трианы, которая всегда помогала мне. Я просил у нее дать мне силы, чтобы пройти этот последний этап.
Вдруг я услышал приглушенный звук шагов. Все происходило, как я и рассчитал, и от этого я почувствовал жутковатое наслаждение. Слушая, как она тихо-тихо поднимается по лестнице, я закрыл свои записи и вложил их в картонную папку. Шаги приближалась. Я затаил дыхание, когда она осторожно постучала в дверь и прошептала:
— Эстебан… это я…
Я медленно поднялся и очень спокойно сказал:
— Входи, Консепсьон.
Дверь, слегка скрипнув, тихонько открылась, и в комнату вошла та, которую я так и не смог возненавидеть. В ее руке блеснул револьвер. Я улыбнулся:
— Я ждал тебя, дорогая…
И затем закрыл глаза, чтобы не видеть, как она выстрелит, и сохранить иллюзии до конца. Мне показалось, что я услышал несколько выстрелов, но только один раз я почувствовал удар в грудь. Больше я ничего не помнил.
* * *
Я пришел в сознание в очень белой комнате. Когда мои глаза стали видеть, я узнал дона Фелипе, сидевшего на стуле у моего изголовья. Он улыбался мне.
— Ну что, дон Эстебан, наконец-то вы решились вернуться к нам?
Я посмотрел вокруг.
— Где я?
— В клинике Санта Мария.
— Значит, я не умер…
— Нет, но это едва не случилось. Пуля прошла у самою сердца.
И смеясь, он добавил:
— Сам Господь Бог не хотел смерти человека, так хорошо знающего торерос и корриду. Через две недели вы будете на ногах, и вам не придется ничего опасаться. Дело закрыто.
Я это знал. Раз не убили меня, значит убили ее. Слезы навернулись мне на глаза.
— Вы подоспели вовремя?
— Не совсем, раз в вас успели выстрелить.
— Дон Фелипе, что вы сделали с… убийцей?
— Застрелил.
Слезы теперь текли у меня уже по щекам. Марвин склонился надо мной.
— Что вы, дон Эстебан, что с вами? Не знал, что вы испытываете к убийце такие чувства, и эта смерть вызовет у вас столько эмоций.
— Я любил ее. Я буду любить ее всегда…
И вдруг я услышал родной голос:
— Я тоже люблю тебя, Эстебанито.
Дону Фелипе пришлось меня удерживать, чтобы не дать мне подняться с постели. Когда я увидел живую Консепсьон, я смог лишь еле слышно прошептать:
— Ты… ты!
Она склонилась надо мной и поцеловала в лоб.
— Ты и вправду считал меня сумасшедшей, Эстебанито? Как ты мог подумать, что я стала убийцей?
Я больше ничего не понимал. Марвин стал рядом с Консепсьон:
— Вы ошибались… Убийца — дон Амадео.
— Дон Амадео? Но почему? Зачем?
— Потому, что его настоящее имя не Амадео Рибальта, а Хуан Лакапаз.
— Лакапаз? Как и…
— Да, он Лакапаз, как и Пакито. Вы разгадали мотивы этих преступлений, дон Эстебан, но не смогли понять, кто убийца. Месть за Пакито стала навязчивой идеей дона Амадео, и здесь вы оказались правы: речь шла о сумасшествии. Знаете, я много работал, много размышлял… Возможно, если бы вы мне больше доверяли, мне удалось бы найти решение несколько раньше. Я не знал всех обстоятельств, сопутствовавших гибели Пакито. Я подозревал всех вас. Когда погиб Луис, круг подозреваемых значительно сузился. Оставались только вы, донья Консепсьон и дон Амадео. Вы отпали, когда поделились со мной вашими подозрениями о Консепсьон. Но я, в отличие от вас, не мог поверить в виновность женщины, у которой до этого никогда не появлялись признаки душевной болезни. Существовал еще один человек, о прошлом которого я ничего не знал: дон Амадео. Начав анализировать, я понял, что против него есть масса улик: его внезапное появление в этой среде, выбор, павший на Луиса Вальдереса. Я провел расследование, и мне удалось установить его подлинную личность. С этого момента все стало на свои места. Но у меня не было никаких материальных доказательств его вины. Тогда я стал за ним следить. Я стал его тенью, понимая, что если убийцей окажется он, то в опасности будете и вы, и донья Консепсьон. В Альсире, из-за моего присутствия, он ничего не мог с ней сделать. Вчера, под вечер, я заметил, как он готовил свою машину, но донья Консепсьон тоже это заметила. Она подозревала его и догадалась, что он едет к вам. Она поехала за ним, а я — за ней.
Сеньора Вальдерес взяла оружие, чтобы защитить вас. Она совсем немного опередила Лакапаза. Можно себе представить, как он обрадовался, увидев, что она входит в дом. Ведь ему представлялся случай убить сразу вас обоих. Из-за непредвиденного поступка сеньоры я потерял несколько секунд. Убийца поднялся на лестничную клетку, когда донья Консепсьон входила в вашу комнату. Он и выстрелил в вас. Мне же пришлось стрелять в него с лестницы. К счастью, мне удалось попасть с первого раза. Вот и все, дон Эстебан. Теперь мы вам дадим отдохнуть. Успехов вам, амиго!
Он пожал мне руку. Консепсьон поцеловала меня и тихо сказала:
— Я снова приду к тебе сегодня вечером…
— И ты будешь ждать меня до тех пор, пока я не выйду отсюда?
— Я буду ждать тебя вечно, Эстебанито…
* * *
Они ушли. Все вокруг показалось мне ярким и солнечным. Меня больше не интересовала недавно пережитая трагедия. Я думал только о будущем и видел, как мы с Консепсьон идем рука об руку по берегу Гвадалквивира.
ПОЙ, ИЗАБЕЛЬ!
Глава 1
Вот уже месяц, как я перешел на службу в Региональный Отдел уголовной полиции[238] города Лиона и получил звание комиссара. Своим новым местом службы я доволен: поступив в полицию, я мечтал однажды получить назначение домой и там завершить свою карьеру полицейского. Правда, я не лионец. Но в Сент-Этьене, моем родном городе, к сожалению, нет подразделения РОУП, и потому мне пришлось согласиться на Лион.
В свои тридцать два года я наконец-то стал настоящим комиссаром полиции. Для этого мне вначале пришлось пройти вступительный конкурс, прослужить десять лет в звании инспектора и пройти двухгодичную стажировку в РОУП города Бордо. Теперь, как мне казалось, меня ждали неплохие перспективы.
Я сохранил глубокую привязанность к Сент-Этьену, но ни разу не возвращался в родной город с тех пор, как моя мать почила рядом со своими родителями на кладбище Крэ-де-Рош. Мне тогда было пятнадцать лет. Мой опекун, которого я почти не знал, переводил меня из колледжа в колледж, где я попусту тратил время. Так продолжалось до совершеннолетия. Из денег, завещанных мне покойной матерью, практически ничего не осталось. В армии мне не хватало денег на то, чтобы приятно проводить свободное время, и поэтому я всерьез занялся учебой, готовясь к экзаменам в школу полиции.
Чтобы стать своим человеком на улице Вобан[239], мне понадобился месяц. После этого я почувствовал себя таким уставшим, что несколько дней отдыха мне были совершенно необходимы. Кроме того, я начал испытывать внутреннюю необходимость съездить наконец-то в Сент-Этьен. Мне хотелось понять, признаем ли мы друг друга, — мой родной город и я. О своем желании я доложил непосредственному начальнику, старшему комиссару, который передал мою просьбу по инстанции — дивизионному комиссару.
Пожалуй, было бы трудно подыскать двух столь малопохожих друг на друга людей, как дивизионный комиссар Жозеф Агрийи и его заместитель, старший комиссар Этьен Ретонваль.
Дивизионный комиссар Агрийи имел вид человека, полные щеки и круглый живот которого, казалось, внушали доверие к их, с виду, сонному обладателю. Но это была всего лишь маска, о которой были хорошо осведомлены и вынуждены были считаться все его подчиненные. Сквозь полуприкрытые веки дивизионный комиссар отлично видел и запоминал все, что ему было необходимо. В противоположность ему старший комиссар Ретонваль держался всегда несколько натянуто. Будучи намного старше Агрийи, он был высокого роста, худощав, с лицом несколько желчного цвета, придававшим ему выражение постоянно удрученного человека. Он оканчивал службу в полиции в звании старшего комиссара. Ретонваль был по натуре формалистом и в совершенстве знал все, что только можно знать о полицейской технике. Инстинктивно он был противником всего нового и придерживался техники скрупулезного расследования мельчайших фактов. По правде, старший комиссар, которого я подозревал в антипатиях к амбициозным подчиненным, мне не очень нравился. Между тем, он меня очень хорошо принял и, казалось, был доволен новым сотрудником. Ретонваль считал, что в нашей профессии основное — это постичь умонастроение людей, с которыми предстоит жить и работать.
Итак, я получил восьмидневный отпуск. К тому моменту это было предметом моих мечтаний, и в тот же день, около двух часов дня, направляясь по пути к местам, где прошла моя юность, я пересек мост Мюлатьер в направлении Виенны.
Очень скоро я оказался в этом древнем галло-римском городе и сразу же сбавил скорость: здесь каждый поворот дороги, каждая ямка напоминали мне о детстве и оживляли, казалось, давно поблекшие воспоминания. Кондрие, Шаване, Сен-Пьер-де-Беф — все это были названия мест, некогда выбранных моими дедушкой и бабушкой для каникул их любимого Шарля.
В Серрьер, свернув направо, я выехал на долгий подъем, ведущий в Анноне. Чуть позже, сидя за стаканом вина на площади Кордилье, я пытался восстановить в памяти облик этого ардешского городка, за которым для нас когда-то начиналась граница Юга Франции. Что поделаешь, из-за нехватки географических знаний детству присуще богатое воображение.
Я не сразу заметил женщину, которая присела за соседний столик. Ее ответ на вопрос гарсона о том, что бы она хотела заказать: «Я не знаю… о… Боже мой!.. я не знаю», — заставил меня обернуться.
Это была блондинка лет сорока, внешне еще достаточно привлекательная. Было очевидно, что совсем недавно она пережила какое-то потрясение. Гарсона начали раздражать столь неопределенные манеры его клиентки, и я поспешил на помощь женщине:
— Простите, мадам, не случилось ли чего-нибудь с вами?
Она посмотрела на меня, и я вспомнил, что однажды видел такой же взгляд у утопающего человека, вытащенного из Жиронды, когда он уже почти пошел ко дну.
— Случилось?… Почему случилось?… Нет, но… я только что опоздала на автобус до Сент-Этьена, на последний… Муж будет очень переживать… у нас нет телефона… Я не знаю, как его предупредить…
Она была настолько потрясена случившимся, что я, позабыв о приятной прогулке по набережной Пилата, которую хотел совершить до приезда в родной город, предложил:
— Мадам, я тоже еду в Сент-Этьен, и в моей машине есть свободное место.
— Правда, месье?… Вы так любезны… О, я не знаю, что сказать… А… вы туда скоро едете?
— Мы сможем выехать, когда вы пожелаете, мадам.
Мое предложение, казалось, пробудило отблеск молодости на ее усталом лице.
— Какая удача, что я выбрала именно этот столик и именно на этой террасе! Без вас, месье, я не знаю, что бы со мной было…
Подобное отчаяние начинало мне казаться чрезмерным. Я подумал, что причиной ее столь подавленного состояния стал вовсе не пропущенный до Сент-Этьена автобус. Чисто профессионально я всегда присматриваюсь к тому, что происходит внутри человека, — вот почему эта незнакомка показалась мне любопытной.
* * *
Выезжая из Анноне, мы обогнали нежно обнявшуюся пару. Когда мы поравнялись с ними, моя спутница сказала:
— Они… они в это верят… Они не догадываются, что любовь — это в конечном счете слезы… заботы и сожаления.
— Вы разочарованы жизнью, мадам?
Она натянуто улыбнулась:
— Разочарована? Нет! Наоборот, я очень счастлива… многого ожидаю от будущего… А вы, месье, чего вы ждете от будущего?
— У меня, мадам, есть правило: никогда не думать о завтрашнем дне. Мне вполне достаточно сегодняшнего.
Ее руки нервно теребили платочек, который она время от времени подносила ко рту. Около Сен-Марселя-лез-Анноне незнакомка спросила:
— Месье, вы живете в Сент-Этьене?
— Нет, мадам.
Больше ее ничего не интересовало. Незаметно поглядывая в ее сторону, я заметил, что она без видимой причины постоянно покусывала губы и дергала вверх-вниз золотой браслет, который украшал ее левую руку. Я тихо посоветовал:
— Вам необходимо успокоиться, мадам…
— Да, да, конечно… да, успокоиться… Нет причин…
Когда мы уже въезжали в Бург-Аржантель, она неожиданно произнесла:
— У меня есть подруга, ее зовут Изабель… Правда, Изабель — красивое имя?
— Действительно, очень красивое имя.
— У Изабель очень серьезные проблемы, и я боюсь за нее.
— Всегда очень сложно решать чужие проблемы.
— Знаю… знаю… Но я очень люблю Изабель и боюсь, как бы она не натворила глупостей…
— Каких глупостей?
— Которые нельзя повторить дважды. Она должна принять очень важное решение, и я думаю, она его уже приняла.
Ничего не ответив, я углубился в пейзаж, встреча с которым доставляла мне большое удовольствие. Мне даже казалось, что ветерок из открытого окна машины начинал омолаживать мое лицо. А на перевале Республики я испытал что-то вроде головокружения, которое усилилось на длинном спуске к Сент-Этьену.
Прервав молчание, моя спутница начала говорить. Казалось, будто разговор помогал ей не думать о чем-то угнетающем ее с того самого момента, как мы встретились:
— Мы с мужем живем на очень красивой вилле возле Рон-Пуэн. Муж несколько старше и балует меня, как ребенка. Знаете, в последний раз на день рождения он подарил мне машину с откидным верхом. Какое безумие! У нас уже есть две машины. Правда, муж занимает очень хорошее положение. Его считают одним из самых богатых людей в Сент-Этьене.
Она повернулась ко мне, и ее лицо было лицом человека, видящего галлюцинации:
— Разве деньги приносят счастье? Изабель, кажется, так не думает…
— А вы?
— Я? У меня нет своего мнения… у меня никогда нет своего мнения…
Мы проехали Планфуа.
— Заходите к нам, месье. Мне бы очень хотелось, чтобы муж смог поблагодарить вас за помощь.
— С удовольствием, мадам.
Она, очевидно, забыла, что не назвала своего имени и не дала адреса. Когда мы въехали в Сент-Этьен, незнакомка попросила остановиться на площади Бельвю. Я притворился удивленным:
— Может быть, довезти вас до дома?
— Нет, нет, лучше я выйду здесь. У меня назначена одна встреча, которую я не могу и не имею права пропустить. От нее зависит очень многое…
Я не удержался, чтобы не съязвить:
— А вы не боитесь, мадам, что ваш муж станет беспокоиться?
— Муж? Я ему сейчас же позвоню.
— Да? Но ведь вы говорили, что у вас нет телефона? До свидания, мадам!
Я остановил машину, открыл ей дверцу, попрощался и снова сел за руль. Не двигаясь с места, женщина продолжала стоять на тротуаре. Казалось, она не могла на что-то решиться. Наклонившись ко мне, она произнесла:
— Я, наверное, неточно объяснила насчет телефона…
— Это совершенно не имеет значения, мадам. До свидания.
И я включил скорость. Проезжая по улице Пасмонтье, я думал об этой странной попутчице: что же все-таки в ее словах было правдой, а что ложью. Но чтобы определить это, нужен был психиатр. И Изабель, о которой она так беспокоилась, существует ли она на самом деле, или она тоже из басни, как, возможно, крупное состояние, красивая вилла и машины, которыми якобы забит придуманный гараж.
Я ехал по Сент-Этьену автоматически, словно никогда и не уезжал отсюда. Когда это дошло до моего сознания, меня наполнило некоторое чувство гордости. Я проехал улицу Вальбенаут, двор Жорж-Надо, двор Созеа, проспект Освобождения и выехал на улицу Франсуа-Жийе, где заказал номер в гостинице «Черная лошадь».
Припарковав машину и оставив багаж в гостинице, я сразу же пошел в мужской лицей, находящийся неподалеку. В нем я когда-то учился, точней начинал свою учебу. Здесь ничего не изменилось. Консьерж, которому я объяснил сентиментальные причины, натолкнувшие меня вспомнить прежние шумные перемены, к моему удивлению, несмотря на время, пропустил меня посмотреть дворики и коридоры лицея. Мне показалось, что декорации моего детства почти не изменились. Старые стены пробуждали в памяти лица мальчиков, ставших мужчинами, которых я скорей всего уже не узнал бы при встрече. Остановившись посреди «двора почета», я пытался возобновить в своих ощущениях вкус того воздуха, который некогда наполнял нас воинственным духом. Из лицея я вышел с сознанием встречи с детством.
Поднявшись до площади Фурнейрон, я внезапно понял, что стою на границе квартала Крэ-де-Рош, где я вырос. Пройдя несколько десятков метров по улице Братьев-Шапп, я свернул направо, по улице Филипп-Блан, до площади Поль-Панлеве. Мной овладело неясное волнение. Казалось, что сейчас, именно сейчас, я оказался у себя дома. С площади Поль-Панлеве я пошел по улице Вечности. За улицей Вечности — Моя улица. Здесь я родился. Здесь умерла моя мать, и ее родители умерли тоже здесь. Я шел медленно, внимательно рассматривая все и не замечая прохожих. Мой взгляд был как-бы устремлен в другое время, и не знаю, каким чудом, но я явно услышал стук от работы басонных[240] станков, — давно пришедшего в упадок труда. Мне показалось, что я вновь стал мальчишкой. Углубленный в воспоминания, я как бы погрузился в серый шелк предвечерья, и понемногу город возрождался во мне, все больше мною овладевая. Словно лунатик, я шел, равняя шаг по шуму работающих станков. Остановившись перед «нашим домом» и всматриваясь в окна второго этажа, я приготовился крикнуть, как делал это раньше, возвращаясь домой после выполненного поручения. Но ставни моего дома закрывали прошлое, которому никогда не суждено было ожить.
Продолжая прогулку, на перекрестке улиц Вечности и Карон я почти столкнулся с пожилой женщиной. Чтобы она не упала, я придержал ее за руку. Мы стояли под окном какой-то кухни, ставни которой позабыли закрыть, и пока я извинялся, старуха со сморщенным лицом, на котором по-молодому ясно блестели глаза, не переставала разглядывать меня. Я уже был готов продолжить свой путь, когда она удержала меня за руку:
— Боже мой! Вы, случайно, не Шарль Лавердин?
Поначалу я был настолько удивлен, что ничего не смог ответить. Она заполнила возникшую паузу новым вопросом:
— Внук Лавердинов, которые держали позументную мастерскую по улице Вечности?
Я скорей пробормотал, чем ответил:
— Но… кто же вы?
— Так это действительно ты! Черт побери, как ты изменился! А ты помнишь Леони Шатиняк?
Конечно же, я помнил Леони Шатиняк! Она была самой старшей среди работниц моего деда.
— Леони…
Я обнял старушку за плечи и расцеловал в обе щеки. У нее заблестели слезы на глазах.
— Мой маленький Шарль… Боже мой, не может быть, чтобы это был ты?… Я уже не надеялась когда-нибудь тебя увидеть… Ведь я уже не первой молодости… Какими мы были и какими стали! Посмотри, как я осунулась и высохла.
— Ты живешь по-прежнему там же, Леони?
— Ниже на несколько метров. Я собственно вышла на вечернюю прогулку… и вот, — натолкнулась на тебя… А ты, малыш, где сейчас ты?
— Меня перевели в Лион, но я предпочел бы маленькую хибарку «у себя», в Сент-Этьене, в этом районе.
— Ты не женат?
— Нет.
— Тогда, мне кажется, я смогу помочь тебе найти то, что нужно. Позавчера, после мессы, Сюзанна Онесс говорила, что ищет постояльца в свою меблированную комнату. Это тебе, случайно, не подойдет?
— Где это?
— В самом начале улицы Вечности, почти на площади Панлеве.
— А что, если сходить туда прямо сейчас?
И мы пошли, рука об руку. Я с удовольствием слушал болтовню Леони, слова которой зажигали в моей памяти огоньки детства.
— Не обращай внимания на Сюзанну, — быстро говорила Леони, — она настоящая старушенция и не может без болтовни. Любопытней ее нет никого на свете. Тебе просто нужно будет сразу же поставить ее на место, и тогда она оставит тебя в покое. Я не очень тебя разглядела, Шарль, но, кажется, ты — вылитая мать… Благодарение Бога, ты не похож на отца, не хочу даже говорить об этом человеке…
* * *
Сидя на маленькой чистой кухне, я припоминал позабытые вкусы и запахи. А поев «дерунов», я окончательно почувствовал себя стефанцем. Пока Леони заваривала кофе, я рассматривал эту более чем скромную обстановку, думая о том, что мне тоже было бы приятно так жить. Как и полагалось, центральное место занимала чугунная печь, на горелке которой стояла горячая кофейница.
— Ты по-прежнему пьешь так же много кофе, Леони?
Она обернула ко мне улыбающееся лицо:
— Я никогда не расстаюсь с кофеваркой. Это моя лучшая подруга. Не знаю, как бы я жила без кофе. Ты был очень маленьким, и не помнишь как мы страдали в войну: сколько я выпила всякой гадости под видом кофе!
Думаю, никто не умеет готовить свиные потроха лучше. Она положила мне в тарелку вторую порцию, и пока я с усердием работал вилкой, она рассказывала о своей жизни, отмеченной праздниками, траурами, рождениями, редко — свадьбами. Почти все ее сверстницы уже умерли, их дочери, ставшие в свою очередь бабушками, даже не знали, кто такая Леони Шатиняк. С горечью она подытожила:
— Понимаешь, Шарль, не стоит переживать людей, из которых состоит твой мир. Ну, а что же было с тобой за это время?
Я рассказал о себе.
Около одиннадцати часов покинув свою старую знакомую, я пообещал заглянуть к ней при первой же возможности.
* * *
На улице царила ласковая ночь, освежаемая ветерком, который, казалось, долетал сюда прямо с гор. Я спустился по улице Карон и повернул налево, на улицу Руайе. Мое внимание сразу же привлекла толпа людей. Перед одним из домов стояли машины, среди которых я сразу же узнал машину полиции. Отодвинув в сторону нескольких зевак, стоявших перед домом, я спросил у жандарма, преграждающего вход:
— Что там случилось?
Он проворчал:
— Вас это не касается! Шли бы лучше спать!
— Комиссар Лавердин из Национальной Безопасности.
Он сразу изменил тон:
— О, извините, месье комиссар, я не мог знать… право же… Это супруги…
— А что с ними?
— Они покончили с собой.
Не знаю, почему я вмешался в эту историю, которая меня никак не касалась, и почему я не ушел спать, оставив ворчливого жандарма вместе с его постом. Нужно признать, что иногда судьба ведет нас по жизни, крепко держа за руку.
— Где это?
— На первом этаже.
На лестничной площадке соседи в ночной одежде живо обсуждали происшествие. Мое появление на какой-то миг прервало их бесконечную болтовню. Предъявив удостоверение, я прошел вовнутрь мимо еще одного жандарма. Здесь ожидали доктора. Вначале меня приняли за него, но мой коллега из первого округа, занятый этим делом, обнаружив ошибку, не счел нужным скрывать свое неудовольствие:
— Я думал, что это… а вы, собственно, кто, месье?
— Комиссар Лавердин из лионского ЮУП.
Я рассказал о своей поездке в Сент-Этьен и о прогулке по родному городу… Мой собеседник в свою очередь представился:
— Комиссар Жан Претен, а это — мой секретарь, Альбер Ладонзель, — и он указал мне на молодого человека в очках, который, казалось, был немного возбужден.
— Я очень рад знакомству с вами, но, честно говоря, не очень понимаю цель вашего присутствия здесь.
— Признаю, это чистое любопытство. Я увидел толпу, и… Кроме того, я рад случаю познакомиться с вашей службой.
— Вы очень любезны, но, боюсь, — будете разочарованы, если надеетесь на нечто сенсационное. Здесь обычное убийство с последующим самоубийством. Такое бывает на каждом шагу. Он убивает ее, потом — себя. Занавес. Остается понять, почему это произошло? Пока я не знаю.
В этот момент дверь открылась, и поспешно вошел маленький человечек.
— Что у вас произошло, если вы вызвали меня в такое время, Претен? Мой сон не дает вам покоя?
— Вам, доктор, наверное кажется, что мне больше нравится быть здесь, чем у себя дома… Комиссар Лавердин из лионского РОУП. Оказался здесь из любопытства… Доктор Камбрай, — сейчас он здесь в качестве эксперта.
После обычных в таких случаях приветствий доктор, который казалось куда-то спешил, наконец поинтересовался:
— Итак, в чем дело?
— Убийство и самоубийство, как мне кажется.
— Где они?
— Рядом, в кабинете.
— Пошли.
Сначала я увидел тело мужа. Сидя в кресле, он навалился на рабочий стол. С моего места была видна большая лужа крови, которая вытекла из его виска и почти скрыла лицо. Доктор склонился над трупом и почти сразу же выпрямился:
— На первый взгляд, все в порядке: следы пороха вокруг раны, отек в месте, где он прижал ствол, а вот и само оружие. Я вскрою его только из принципа.
Я получил разрешение осмотреть оружие, которое покойный уронил на стол. Это был малораспространенный пистолет, в котором я признал девятизарядный «Токарев», калибра 7,62. Окончив осмотр мужа, доктор перешел к жене, лежавшей на ковре возле дивана. Видна была спина сжавшегося в комок тела. Взявшись за плечо, доктор перевернул тело и опустился на колени для осмотра, закрыв собой женщину.
— Попадание в грудь. Без сомнения, две пули. На первый взгляд, смерть наступила пару часов назад, примерно в полдевятого — девять часов.
Он встал.
— Извините меня, господа, но я тороплюсь вернуться в свою постель. Распорядитесь, чтобы перевезли тела, Претэн. Завтра с утра я ими займусь. Прощайте.
Отойдя в сторону, доктор, наконец, дал мне возможность увидеть погибшую.
— … соседи снизу совершенно ничего не слышали, потому что по телевизору показывали вестерн со множеством выстрелов. Драму обнаружила соседка по лестничной площадке, вдова Бельвез, менее получаса назад… она зачем-то зашла к Ардекурам… Ландозель, наложите печати. Дорогой коллега, сожалею, что дело столь банально. Ведь так, господин комиссар?
Я едва вышел из состояния прострации и рассеянно ответил:
— Да, да… конечно, коллега… конечно…
Комиссар Претэн как-то странно посмотрел на меня. Должно быть он пытался понять, что со мной происходит, но не решался задать мне вопрос, который так и вертелся у него на языке. И правильно делал: все равно, я бы ему не ответил. Мне не хотелось ставить его в известность о том, что в убитой я опознал красивую и немного увядшую блондинку, которую я подвозил из Анноне в Сент-Этьен.
* * *
Я снова шел по улице Руайе, такой тихой в этот час. Случившееся стояло у меня перед глазами. Эта несчастная женщина, которая так беспокоилась о своей подруге Изабель, принимавшей какие-то важные решения… Сейчас я упрекал себя за то, что не прислушался к ее рассказу. Внезапно я вспомнил, что она говорила о какой-то срочной встрече, когда просила остановиться на Бельвю. Стала ли эта встреча причиной ее смерти? И если покойная просто так встречалась с кем-то на Бельвю, то к кому она ездила в Анноне? К Изабель?
Я как раз проходил по лестнице, поднимавшейся к Крэ-де-Рош, когда мне на ум пришла одна странная деталь, которой на месте преступления я не придал особого значения. Ведь, если придерживаться версии комиссара, муж выстрелил в жену, когда она входила. Почему же он сам был одет, словно собирался уходить? Я вновь увидел на столе его фетровую шляпу с загнутыми полями. Женщина была в шляпе и перчатках, и это выглядело совершенно естественно. Но редко кто одевает шляпу, чтобы застрелиться.
Я повернул назад. Подсознательно мне казалось, что я не имел права просто так бросить эту женщину, которая, конечно, лгала мне, но которая мне все же доверилась. Это, как казалось, к чему-то обязывало.
Мне предстояло действовать неофициально, но я успокаивал совесть офицера тем, что был кем-то вроде друга погибшей.
Дом, в котором произошла драма, казалось, совершенно уснул, и я не сразу нашел кнопку включения реле света. Напротив двери Ардекуров, — а именно так звали несчастных, — я прочел надпись на медной табличке: «Вдова А. Бельвез» и как можно тише постучал. Очевидно, взвинченная происшедшим мадам Бельвез не спала, так как сразу же открыла дверь, представ предо мной в халате цвета сливы.
— В чем дело?
— Полиция…
— А…!
Она заметно обрадовалась моему визиту.
— Проходите…
Я вошел за ней в небольшую приемную. Вдова Бельвез, маленькая полная женщина с круглыми щеками, несмотря на свои шестьдесят лет, казалось, сохранила привычки маленькой девочки.
— Комиссар Лавердин.
— Господин комиссар, я ведь уже рассказала все то немногое, что об этом знаю…!
Казалось, что она сожалеет о том, что так поступила. Я принял меры предосторожности.
— Мадам, я здесь не по службе. Просто случай свел меня с мадам Ардекур несколько часов тому назад, и, признаюсь, ее внезапная смерть меня поразила…
— О, господин комиссар, меня тоже!
— Вы давно знаете Ардекуров?
— Еще бы! Лет десять, по крайней мере…
— Не могли бы вы рассказать мне немного о них?
— Ничего особенного и не скажешь… Господина Анри в городе очень уважали. Клиенты были верны конторе Ардекуров из поколения в поколение.
— Клиенты?
— У него была контора по купле-продаже недвижимости. Но знаете, он вовсе не из тех, кто любит пускать пыль в глаза. Ардекур занимался делами среднего оборота, солидными и честными.
— Вам не приходилось слышать о его финансовых затруднениях?
— Конечно никогда не знаешь, что у кого в карманах. Но, честно говоря, нет. Наоборот, Ардекуры были весьма обеспеченными. Вряд ли они смогли бы так содержать свою дочь, будь у них затруднения с деньгами, — многозначительно сказала она.
— У них есть дочь?
— Да, Мишель — красивая высокая девушка, двадцати четырех — двадцати шести лет. Она не захотела продолжать дело отца, и учится на фармацевта в Лионе. Для нее, бедняжки, это будет тяжелый удар.
— А мадам Ардекур?
— Она жила только добрыми делами. Не было души чище, чем у нее. Как только она узнавала о каком-нибудь несчастном в нашем квартале, сразу же спешила ему на помощь.
Я начал сомневаться в том, что вдова Бельвез знала Ардекуров настолько хорошо, как это себе воображала.
— При встрече мадам Ардекур показалась мне очень жизнелюбивой и элегантной, не правда ли?
Моя собеседница по-заговорщицки усмехнулась.
— Действительно, мадам Элен много занималась собой. Она хотела быть достойной мужа. Разве можно ее в этом упрекнуть?
— Конечно, нет! Интересно, как бы вы объяснили это двойное самоубийство, или, вернее, убийство с последующим самоубийством?
Она развела руки в стороны, выражая непонимание.
— Я не могу в это поверить! Господин Ардекур обожал свою жену. О, я знаю, что мужчины иногда любят ломать комедию. Но никогда, вы слышите, никогда бы мне не пришло в голову, что он смог бы убить свою жену! Никогда! Это невозможно.
— Однако…
— Есть одна деталь, которую я не могу понять. Если бы они ссорились, то я, живя по-соседству, это обязательно бы услышала? Так вот, они никогда не ссорились, и я никогда не слышала, чтобы они разговаривали на высоких тонах! Как же можно говорить, что он стрелял в свою жену, а после застрелился сам? Я вам еще раз повторяю: это невозможно! Подумайте! Люди, которые ходили в церковь каждое воскресенье, а при случае, и в будние дни! Этого решительно не может быть!
Я мягко возразил.
— Тем не менее, мадам Бельвез, они оба мертвы?
— Черт возьми, конечно они мертвы. Но как они умерли, — вот что непонятно, если вам интересно мое мнение.
Увы, это было и моим мнением.
— В этот вечер не было ли хоть какого-нибудь намека на драму у ваших соседей?
— Нет, конечно. Я уже рассказывала другому комиссару, что смотрела фильм по телевизору. Вестерн. Там стреляли на каждом шагу. Может быть, я даже и слышала выстрелы у Ардекуров, но не придала этому значения. Кроме того, я должна вам сказать, господин комиссар, что когда я сижу в своем кресле, то иногда, так сказать, отсутствую… и немного теряю нить… Вы понимаете? Это не сон, нет… ну как вам объяснить? Короче, я отсутствую! И после мне иногда бывает сложно включиться в события…
— Почему вы зашли к Ардекурам так поздно, мадам Бельвез?
— Потому, что я ела паштет.
— …?!
— Паштет, господин комиссар, я его перевариваю с трудом, но очень люблю, ну и иду иногда на риск… Когда вестерн закончился, и я собралась было спать, то почувствовала боль в желудке. Обычно, я принимаю мелисовые капли с сахаром, — это приносит мне облегчение. Но в этот вечер я обнаружила, что их не осталось. Ардекуры были хорошими соседями, они всегда помогали мне. Кроме того, у них повсюду горел свет, — и я подумала, что не помешаю. Я позвонила. Мне не ответили. Тогда я постучала в дверь. Мне опять не ответили. Все это показалось странным, и я решила повернуть ручку. Дверь открылась сама. Я вошла. В первой комнате — никого. Тогда я решилась пройти в кабинет. Еще раз постучала, и поскольку мне опять не ответили, открыла дверь. Какой же ужас я увидела! Хорошо еще, что у меня неплохое здоровье, господин комиссар, иначе вы нашли бы еще один труп! Сколько крови! Естественно, — о лекарстве я больше не думала, и от паштета не осталось и воспоминаний! Я выбежала оттуда, как сумасшедшая, начала кричать и звать на помощь.
— Почему вы были уверены, что Ардекуры мертвы?
— Я это сразу почувствовала, господин комиссар. А полицию вызвал господин Гранше, служащий мерии. У него есть телефон. О, если бы не мои лекарства, никто бы ничего не знал, и завтра утром господин Жан увидел бы всю эту картину. Каким бы это было для него ударом! Ведь он очень чувствителен, и, говорят, у него слабое сердце.
— Кто это, господин Жан?
— Служащий господина Ардекура, — Жан Понсе. Старый холостяк, всю жизнь проработавший здесь.
— Он ладил с господином Ардекуром?
— О, господин комиссар! Он был частью их обстановки, вы понимаете меня? К господину Жану все так привыкли, что никто даже не обращал на него внимания. Он был тенью господина Анри. Клиенты не делали различия между ним и патроном.
— Каковы были его отношения с мадам Ардекур?
— Он особо не интересуется женщинами. Мадам Элен была его хозяйкой. Что с ним, беднягой, теперь будет? Он ведь не накопил миллионов.
— Мадам Бельвез, где живет этот господин Понсе?
— Мне, кажется, в 147 доме по улице Тавернье.
— Где находится эта улица?
— Вы должны спуститься по улице Вечности в направлении площади Панлеве, повернуть налево по улице Репо, и тогда вы выйдете точно на улицу Тавернье.
* * *
Разговор со вдовой наводил меня на мысль, что в драме Ардекуров не было убийства с последующим самоубийством. Нужно признать, что с самого начала я думал о чем угодно, только не о самоубийстве. Почему так, а не иначе, я и сам не смог бы ответить. Смутное предположение о том, что Элен Ардекур рассчитывала на меня, чтобы объяснить другим, как она умерла, не покидало меня. Из этой мысли логически вытекала и следующая: она рассчитывала на меня, чтобы отомстить. Мои размышления привели к тому, что, несмотря на позднее время, я решил разбудить Жана Понсе.
Жилище Жана Понсе, которое я нашел, следуя указаниям мадам Бельвез, представляло собой маленький домик, поддерживаемый стенами двух больших зданий. На первом этаже находился гараж с мастерской. Второй этаж, придавленный косой крышей, казался намного больше первого. Жилище Понсе идеально подходило старому холостяку, портрет которого набросала мне вдова. Оно должно было очень нравиться человеку, желавшему жить незаметно. Похоже, Понсе был единственным жильцом этой хибары, которая безусловно вскоре должна была пойти на слом, и поэтому я, отбросив все понятия о приличиях, постучал в дверь. Я был вынужден сделать это еще несколько раз, прежде чем услышал в ночной тишине дома стук шлепанцев по полу. За дверью послышалось астматическое дыхание, затем недовольный голос спросил:
— Кто там?
— Полиция.
— Полиция!?
Вслед за этим восклицанием донеслось неразборчивое ворчание. Наконец, Понсе решился отпереть. Взгляд, которым он удостоил меня сквозь очки, был отнюдь не самым располагающим.
— Что нужно от меня полиции?
— Вы — Жан Понсе, служащий господина Ардекура?
— Да, ну и что?
— Я хотел бы с вами переговорить.
— В такое время?
— Именно.
Он почесал бока и после паузы проговорил:
— Хорошо, проходите…
Понсе проводил меня в кабинет. Эта претенциозно названная комнатушка была маленькой и загроможденной неописуемой рухлядью. Я сел в кресло, давно потерявшее свою упругость.
— Итак, я вас слушаю.
— Вы знаете, что произошло сегодня вечером?
— Где произошло?
— У Ардекуров, ваших хозяев?
Его лицо изменилось, и тон стал более озабоченным:
— У Ардекуров?
— Я только что от мадам Бельвез, которая, собственно, и посвятила меня в то, что вы — правая рука господина Ардекура.
Он проворчал:
— И когда она перестанет соваться в дела других!?
— Во всяком случае, именно благодаря ей я пришел вас предупредить.
— О чем предупредить?
— О смерти господина Ардекура.
— О смер… Это правда?
— Да. Он умер этим вечером, примерно в 9-10 часов.
— Не может быть!
Жан Понсе совсем потерял самообладание. Упав на стул, он представлял собой картину полного паралича.
— Я не понимаю… не понимаю… Когда я уходил, он был полностью здоров… Вообще, у него было прекрасное здоровье… Он никогда на него не жаловался…
Вдруг он забеспокоился:
— Но почему приходит комиссар полиции…
— Потому, что господин Ардекур покончил с собой.
— Что?
— Он выстрелил себе в голову из пистолета. Мы нашли это оружие. Им оказался русский пистолет Токарева.
— Но это невозможно!
— Вы знали, что у него был пистолет?
— Конечно… Память со времен Сопротивления… Извините, я что-нибудь выпью, иначе упаду…
Он с трудом поднялся, подошел к некогда окрашенному шкафу, достал оттуда бутылку и быстро поднес ее ко рту.
— Простите меня, хорошо? Ну вот, уже лучше… но до меня не доходит… господин Анри… Мне нужно туда пойти, ведь мадам, должно быть, не находит себе места…?
— Она тоже мертва. Прежде, чем покончить с собой, господин Ардекур застрелил свою жену двумя выстрелами в грудь из пистолета.
— Нет, это же невозможно! Вы сошли с ума! Вы все сошли с ума!
С трудом взяв себя в руки, он извинился и спросил:
— Итак, они оба мертвы?
— Оба.
Вдруг случилось непредвиденное: Жан Понсе расплакался. Он плакал настоящими слезами, теми, которые невозможно подделать. Всхлипывая, он шептал:
— Господин Анри… Мадам Элен… И бедная Мишель… и я… Куда мне теперь идти… Бедный господин Анри… они оба…
Я поднялся и слегка хлопнул его по плечу:
— Ну же, старина, возьмите себя в руки — будьте мужчиной.
Он нервно ударил себя по лбу:
— Это непостижимо! Вы слышите? Это непостижимо! Я знаю, что вы говорите мне правду, но не могу в это поверить! Я не могу в это поверить потому, что это не-ве-ро-ят-но! Господин Анри обожал свою жену. Вы слышите? Он ее обожал! А вы мне говорите, что он ее убил? Почему он это сделал?
— Я хотел спросить об этом вас.
— У меня?
— Вы знаете Ардекуров лучше всех и дольше всех.
— Правда… Я работаю с господином Анри уже двадцать два года…
— Понсе, вы убеждали меня, что господин Ардекур обожал жену. Но любила ли она своего мужа?
— Трудно сказать, ведь я ничего не смыслю в женщинах. Если бы я их понимал, то давно уже бы был женат.
— Но вы же сказали, что двадцать два года знали Элен Ардекур?
— Не двадцать два, а только пятнадцать.
— Вот как… в таком случае, ее дочь Мишель…
— Она от первого брака господина Анри. Когда он женился во второй раз, Мишель было уже около десяти лет.
— Она ладила с мачехой?
— Вполне.
— Значит, Ардекуры жили хорошо?
— Если вы хотите знать ссорились ли они, я вам отвечу отрицательно. У них царило полное согласие. Мадам Элен всегда помогала своему мужу. А он, со своей стороны, ее баловал.
— Мадам Ардекур всегда была рядом с ним?
— Всегда, кроме вторников, когда она ездила в Анноне.
— Зачем она туда ездила?
— В Анноне находится монастырь Сент-Кристин. Это нечто вроде дома для престарелых. Мадам очень любила ухаживать за несчастными, посвящая им свои заботы.
— Мишель Ардекур часто навещала родителей?
— Каждую неделю. Обычно, она приезжает в пятницу вечером и уезжает вечером в воскресенье, чтобы в понедельник успеть на лекции.
— Вы знаете, где она живет в Лионе?
— Да. Площадь Валлон, у мадмуазель Лезортер.
— Господин Понсе, я здесь не в качестве официального лица. Мне хотелось бы побольше узнать об Ардекурах из личных соображений.
— Разве вы их знали?
Второй раз за день я рассказал о своей встрече с Элен Ардекур.
— Господин Понсе, вы, случайно, не знаете, с кем она должна была встретиться около Бельвю?
— Думаете, она меня посвящала в свои дела?… И потом, меня это не интересовало.
— Мне кажется, вы не очень любили мадам Ардекур?
— Я вообще не очень люблю женщин, господин комиссар.
Он проводил меня до двери. Уже выходя, я решил задать ему еще один, неожиданный вопрос:
— Кстати, вы знаете Изабель?
С секундной паузой он ответил:
— Какую Изабель?
— Не знаю. Родственницу или подругу мадам Ардекур.
— Нет, я никогда не слышал о ней, — сказал он и закрыл за мной дверь. Трудно объяснить, но во мне родилась уверенность в том, что он солгал.
* * *
Итак, Жан Понсе, как и вдова Бельвез, аргументировано отрицал гипотезу самоубийства. Но мой опыт полицейского советовал мне не забывать, сколь мало мы знаем о том, что происходит в душах других людей.
Поскольку Леони Шатиняк заверила меня, что она мало спит, я безо всяких сомнений направился к ней. Пройдя вдоль всей улицы Вечности и встретив лишь нескольких котов, ищущих, что бы поесть, я свернул на улицу Карон и осторожно поднялся по маленьким каменным ступенькам к моей старой знакомой. Постучав, я почти сразу услышал:
— Кто там?
— Это я, Шарль.
Она открыла.
— Ты? Я не думала увидеть тебя так скоро. Ты не включал свет у входа?
— Я не нашел реле.
— Черт возьми! Ты же мог сломать шею, поднимаясь на ощупь. Входи скорей!
Устроившись на кухне, я рассказал Леони о смерти Элен Ардекур и самоубийстве ее мужа. Она тоже не могла поверить в эту трагедию.
— Разве ты знала Ардекуров, Леони?
— Конечно, и довольно хорошо. Во-первых, они живут недалеко отсюда, а во-вторых, — это заметные люди. Одно время я даже работала у них: стирала, шила. Молодая мадам Ардекур не очень-то умела все это делать.
— Сколько лет было Элен Ардекур?
— Около сорока, сорока двух лет. Она вышла замуж пятнадцать лет назад. Я была на ее свадьбе.
Тогда ей было примерно двадцать восемь или двадцать девять лет. Кстати, это очень просто сосчитать, ведь в то время маленькой Мишель было около десяти. Сейчас ей двадцать пять лет.
— Что ты думаешь об Ардекурах?
— Это люди с хорошей репутацией, можешь мне поверить, Шарль.
— Господин Ардекур был вдовцом?
— Да. Его первая жена, Жизель, умерла, кажется, от туберкулеза.
— А что представляет его дочь, Мишель?
— Красивая высокая девушка. И, к тому же, умная. Мишель — бакалавр. Сейчас она в Лионе учится на фармацевта. Хорошая профессия для женщины, не правда ли? И потом, это приносит хорошие доходы. Только вот учеба, очевидно, наложила отпечаток на ее жизнь. Иначе Мишель давно бы вышла замуж: она ведь красавица и дочь обеспеченных родителей. Трудно говорить, но наконец-то она сама станет обеспеченной. Господину Ардекуру никогда не нравилось то, что его дочь решила стать фармацевтом. Он хотел, чтобы Мишель унаследовала его дело, и она бы с этим справилась, будь уверен! Теперь, очевидно, зять сумеет повести дела конторы. Тем более, его отец работает в этой же сфере.
— Чей отец?
— Ну конечно же, отец жениха Мишель!
— Так она помолвлена?
— Уже давно.
— Ты уверена, Леони?
— Я сейчас тебе все объясню. Когда твои родители, Шарль, умерли, я не знала, что делать, а мне ведь нужно было как-то жить, правда? Что за работу можно делать в моем возрасте? Не забывай, мне было уже за семьдесят. И тогда я нашла себе место у Ардекуров и поступила туда как раз тогда, когда господин Анри собирался жениться. У них я оставалась два или три года, точно не помню. Так вот, господин Анри был тесно связан с семьей Вальеров. Жюль Вальер был младше господина Ардекура, но они очень дружили, потому что работали в одной области. Только господин Вальер занимался более значительными делами, чем господин Ардекур. Их пути всегда пересекались. Мадам Жермен Вальер когда-то работала у твоих родителей. Это была высокая худощавая девушка, которая хорошо знала, чего хотела. Когда я ее увидела, то была немало удивлена ее новой фамилией. Отец Жермен был простым каменщиком, и она провернула неплохое дело с таким выгодным замужеством, ведь у нее почти не было сбережений. Господин Вальер — человек безвольный. Мне кажется, он поначалу навещал Жермен, чтобы немного поразвлечься, но она не упустила свою добычу, и он был вынужден предстать перед господином мером и господином кюре. Теперь у Вальеров есть сын Пьер, старше Мишель на четыре или пять лет. Красавец парень. Настоящий киноактер. Когда они были детьми, то играли всегда вместе. Сразу было понятно, что у них все кончится свадьбой. Вот только мадмуазель Мишель нелегко вскружить голову. Да и Пьер не способен на решительный поступок. В этом он весь в отца. Итак, Мишель решила, что имея такого мужа, неплохо бы запастись хорошей профессией. Для этого она и уехала изучать фармакологию. Вальеры хотели, чтобы свадьба была как можно скорей, но мадмуазель Мишель была непреклонной. Она заявила: «Если Пьер любит меня по-настоящему, он меня дождется. Если нет, — значит это не любовь». Заметь, ее очень поддерживал отец, которому хотелось, чтобы дочь удачно вышла замуж.
— Как ты думаешь, в чем причина безволия Пьера?
— В этом виновата его мать. Жермен настолько властная, что никто перед ней не может устоять. Муж, сын, — все должны ей подчиняться. Она неплохая женщина, но терпеть не может, чтобы кто-то, кроме нее, командовал в доме.
— Чем занимается Пьер?
— Он помогает своему отцу, собирая фонд для продажи.
— Спасибо тебе, Леони, тебе нужно отдохнуть. Мне тоже хочется хоть немного поспать, и поэтому я сейчас пойду в гостиницу.
— После всего, что ты мне рассказал, малыш, не думаю, чтобы я смогла уснуть. Бедные Ардекуры… Ты до сих пор уверен, что господин Анри убил свою жену?
— Похоже на то.
— А я никак не могу в это поверить.
Возвращаясь в «Черную лошадь», я не переставал думать о людях, с которыми я сегодня встретился, людях, хорошо знающих несчастное семейство и все-таки, казалось мне, ошибающихся в своих оценках.
Глава 2
Главный комиссар не мог скрыть удивления, увидев меня в своем кабинете.
— Уже вернулись, Лавердин? Неужели поездка вас так разочаровала, что вы удрали из Сент-Этьена раньше времени?
— Нет, дело в том, что произошли некие досадные вещи.
— …?
Я рассказал ему о вечере, предшествовавшем трагедии в семье Ардекуров. Главный кивнул головой.
— Вы не новичок в нашем деле, Лавердин, и понимаете всю сложность таких историй. Хотя, с другой стороны, я уверен, что будет объявлено, что ваш Ардекур действовал якобы в состоянии аффекта.
— Итак, внезапное состояние аффекта?
Он удивленно взглянул на меня:
— Что вы хотите этим сказать?
— Только то, что в результате небольшого расследования, которое я провел, выяснилось, что Ардекур не был подвержен внезапным переменам настроения.
Господин Ретонваль нахмурил брови:
— Я не ослышался, Лавердин? Небольшое расследование?
Я рассказал ему в деталях о том, что было предпринято мною в ту ночь. Он внимательно выслушал, но когда я окончил, заметил:
— Послушайте, Лавердин, давайте не будем все осложнять. Если в рапорте городской полиции сказано, что господин Ардекур убил свою жену и затем сам покончил с собой, пусть будет так. Нас это не касается. А мнение людей, которых вы допросили, кстати, превысив полномочия, не имеет значения. Вы хорошо понимаете, сколько домыслов они могли привнести, чтобы придать этому случаю побольше драматизма. Такие истории нужно поскорее забывать. Разрешите дать вам совет: прекратите играть в странствующего рыцаря и займитесь своими делами.
— А если все же это не было самоубийство, господин Главный комиссар?
Он ударил кулаком по столу.
— Я считаю, что у вас нет оснований утверждать подобные вещи.
Я вынужден был рассказать ему о встрече с Элен Ардекур. Это ничуть не изменило его мнение.
— Конечно, — сказал он, — когда в машине подвозят молодую привлекательную женщину, у которой какие-то неприятности, ее, естественно, утешают и расстаются с ней… с чувством сожаления о невозможности еще раз встретиться. Позже вдруг узнают о ее смерти… Известие заставляет сильно переживать, ведь совсем недавно она была живой и нравилась вам… Так вот все это романтические выдумки, мой дорогой!
— Я придерживаюсь другого мнения, господин Главный комиссар.
— Меня не интересует ваше мнение, господин комиссар! Здесь только мое мнение имеет значение, — повысил он голос.
Я понимал, что отношения между мной и начальником начинали портиться, но упрямство — мое основное качество и огромный недостаток.
— Мне трудно, господин Главный комиссар, подчиниться вам: я уверен, что произошло убийство, но убийцу никто не разыскивал.
— Почему вы решили, что это убийство?
— Потому что я никогда не видел, чтобы самоубийцы одевали шляпу перед смертью.
Он возразил:
— Если бы вы знали, на какие выходки способны те, кто решился умереть…
— Но только не человек возраста и положения господина Ардекура.
Тон господина Ретонваля стал ледяным:
— Боюсь, господин комиссар, что наши отношения в будущем могут приобрести сложный характер.
— Я тоже этого опасаюсь, господин Главный комиссар, и сожалею об этом.
— В таком случае, господин комиссар, я предлагаю попросить господина Дивизионного комиссара рассудить наш спор и принять необходимое решение.
— Слушаюсь.
Дивизионный не сразу понял, что же произошло.
Главный в нескольких словах сообщил начальнику о причинах нашей размолвки. Дивизионный слушал, по привычке полузакрыв глаза. Когда его подчиненный окончил рассказ, он некоторое время разглядывал меня, прежде чем спросить:
— Вы производите впечатление уравновешенного парня, Лавердин. У вас превосходный служебный аттестат. Так что же случилось?
— О, почти ничего, господин Дивизионный комиссар, если не считать того, что мы невольно прикрываем убийство, замаскированное под самоубийство.
Ретонваль пожал плечами, а Агрийи с легкой иронией уточнил:
— Но никто же не говорит, что убийства не было: ведь этот Ардекур сначала убил свою жену, а потом уже застрелился сам.
— Господин Дивизионный комиссар, я думаю, что господин Ардекур никого не убивал. Он и его жена стали жертвами убийцы.
— И вы сможете мне объяснить, на чем основывается ваша уверенность?
Спокойно, стараясь не упустить ни одной детали, я рассказал Дивизионному о своем вечере в квартале Крэ-де-Рош: о Леони, о вдове Бельвез, о Жане Понсе. Мне хотелось, чтобы он, наконец, понял, что мои предположения строятся на прочной основе. Когда я окончил, он секунду раздумывал, а затем сказал Главному:
— Согласитесь, Ретонваль, что все это не так просто.
Тот не хотел признать себя побежденным:
— Когда человек решился во всем видеть таинственное, то самые ясные и простые вещи начинают казаться сложными.
— Сразу должен признаться вам, Лавердин: я далек от того, чтобы полностью разделить ваше мнение. Я скорей, склонен к мысли, что несколько необычная атмосфера вашей первой ночи в старом квартале… груз воспоминаний, как бы точнее сказать?., повлиял на ваши нервы, и вы, возможно, помимо воли, преувеличили некоторые детали. Но тем не менее… тем не менее вы меня… заинтересовали…
Господин Ретонваль, вставая, пожал плечами:
— Прошу извинить, господин Дивизионный комиссар, но меня ждет работа.
— Пожалуйста, Ретонваль, пожалуйста.
Когда Главный вышел, Дивизионный весело подмигнул мне.
— Не придавайте этому инциденту особого значения, Лавердин. Главный — отличный полицейский, но ему недолго до пенсии. Поэтому иногда он противится прогрессу, продвижению молодых, наконец, новой ориентации полиции, в которой психология, безусловно, играет такую роль, которой не было в его время. Поэтому вам следует проявить благоразумие, понимание и простить ему недостатки, которые ничего не стоят по сравнению с заслугами. А теперь вернемся к происшествию. Согласитесь, мне трудно будет открыть дело без достаточно веских улик. Поэтому я предлагаю: возвращайтесь в Сент-Этьен, отдыхайте дальше, но если, случайно, появится что-то новое, — возвращайтесь поскорей и доложите мне. Согласны?
— Согласен, господин Дивизионный комиссар.
В коридоре я встретил Главного.
— Зайдите на минутку в мой кабинет, Лавердин.
Я пошел за ним.
— Признаю, Лавердин, у меня нелегкий характер. Но все же я не способен на тупую злопамятность по отношению к подчиненным. Я убежден, что ваша версия ошибочна. Но похоже, Дивизионный в этом сомневается, не так ли?
Я доложил ему о решении господина Агрийи. Он заметил:
— Не следует ему противиться. Кстати, я тоже должен признать, что ваши доводы сейчас показались мне менее… менее надуманными, чем раньше. Можете рассчитывать на меня, Лавердин. Я не стану вам мешать. Но предупреждаю, что остаюсь в оппозиции. Если же вам удастся переубедить меня, я первым признаю свою ошибку.
— Я в этом уверен, господин Главный комиссар, и заранее благодарю вас.
* * *
Вернувшись в Сент-Этьен, я зашел к комиссару 1-го округа. Он принял меня довольно радушно. Я изложил ему свои сомнения по поводу гибели Ардекуров, рассказав о беседах с Понсе, вдовой Бельвез, Леони Шатиняк, и об их суждениях по этому делу. Внимательно выслушав меня, комиссар воскликнул:
— Это действительно очень интересно! Значит вы считаете, что совершено убийство?…
— Да, но, конечно же, моя уверенность не может являться истиной в последней инстанции.
— Что вы намерены предпринять?
— Пока мне необходимо просто походить по Сент-Этьену, зайти к свидетелям. К счастью, журналисты меня еще не знают, и я смогу это сделать, не привлекая к себе внимания. В течение одного-двух дней я опрошу нужных мне людей и постараюсь найти либо причины, толкнувшие господина Ардекура на убийство, либо доказательства его полной невиновности. Во втором случае нам придется уже вместе решать, почему и как умерли он и его жена.
— Дорогой мой, давайте договоримся так: я вас не знаю и никогда не видел, мой рапорт о самоубийстве составлен, и дело считается закрытым. Если обнаружится что-то новое, я рассчитываю, что вы мне сообщите.
В этот момент зазвонил телефон. Мой собеседник поднял трубку, послушал и сказал:
— Введите их через две минуты.
Положив трубку, Претен улыбнулся:
— Видите, дорогой мой, похоже, не вы один считаете, что Ардекуры стали жертвами убийства.
— А что произошло, господин Главный?
— Приехала мадмуазель Ардекур. Она тоже протестует против версии самоубийства. С ней еще один господин, который не сказал ни слова, но, поверьте, думает, как она. Очевидно, вам будет интересно ее увидеть?
— Еще как!
Мишель Ардекур была действительно очень красива. Высокая, стройная, прекрасно сложенная, с нежным лицом, которое, однако, не скрывало ее энергичного характера. Черное платье, в сочетании с почти рыжими волосами, ей необыкновенно шло. Мишель вошла вместе с красивым парнем, этаким заботливым охранником. Очевидно, это был Пьер Вальер, об элегантной бездарности которого рассказывала мне Леони Шатиняк.
Мадмуазель Ардекур сразу же направилась к Претену, сидевшему за столом:
— Господин комиссар?
— Да, вы же, насколько я понимаю, мадмуазель Ардекур?
Она утвердительно кивнула головой.
— А господин?
— О, простите, позвольте вам представить моего жениха, господина Пьера Вальера.
— Присаживайтесь, мадмуазель. Офицер полиции, с которым вы говорили, доложил мне, что вы не согласны с версией, констатирующей самоубийство ваших родителей.
Она воскликнула:
— Самоубийство и убийство, не забывайте об этом, господин комиссар!
Ее покрасневшие глаза и слегка опухшие веки свидетельствовали о том, что она много плакала. Но теперь в своем страстном желании убедить Претена в том, что ее отец не убивал мачеху и не покончил с собой, она, казалось, даже забыла о своем горе…
— Мадмуазель Ардекур, расследование подобного рода — всегда вещь деликатная. К сожалению, все подтверждает вывод медицинского эксперта о том, что ваш отец выстрелил в свою жену прежде, чем покончить с собой.
— Это неправда!
Мне нравилась ее уверенность.
— Я отлично понимаю вас, мадмуазель, но и вы должны понять, что наше мнение основывается не на чувствах, а на фактах.
— Прошу вас, господин комиссар, подумайте: вы установили смерть родителей, но вы же их совершенно не знаете! Вы видели их в первый раз. Я же живу с ними уже двадцать пять лет, по крайней мере, с отцом, и пятнадцать лет с мачехой. Неужели вы думаете, что желание отца убить свою жену для меня осталось бы незамеченным? Поймите, у моего отца был уравновешенный характер, мачеху же я считала лучшей женщиной в мире. Мы с ней были очень дружны и ничего друг от друга не скрывали.
Я внимательно слушал Мишель, понимая, что в моей версии появляются новые аргументы.
— Остается предположить, что мой отец внезапно сошел с ума! И в это я не верю! Я их видела в последний раз в воскресенье вечером и клянусь, что ничто не предрасполагало к подобной драме.
— Тогда, мадмуазель, как вы все это объясните?
— У меня нет объяснений! Но и ваши мне не подходят!
— Хорошо, давайте рассматривать обе версии. Первую: ваш отец убил вашу мачеху, а затем застрелился сам; и вторую: кто-то убил их обоих. Быть может, вы поможете нам найти причину этого двойного убийства?
— Нет.
— Мадмуазель Ардекур, я слышал о вас, как об уравновешенном и способном управлять своими нервами человеке. Я прошу вас сделать усилие и вместе со мной попытаться рассмотреть версию, по которой мадам Ардекур была убита своим мужем. Итак, когда мужчина убивает жену, этому может быть множество объяснений. Первое, которое сразу приходит в голову, — супружеская неверность.
— Вы никогда бы так не подумали, господин комиссар, знай вы мою мачеху, не правда ли, Пьер?
Пьер Вальер, призванный на помощь, подтвердил сказанное невестой:
— Мадам Ардекур, господин комиссар, была само совершенство и добродетель. Половину своего времени она проводила в церкви, а вторую — посвящала помощи старикам.
— Пусть будет так. Рассмотрим следующий вариант: дела вашего отца идут настолько плохо, что он решает покончить с собой, но, безумно любя свою жену, убивает во избежание позора и ее. Что вы об этом думаете?
Она пожала плечами.
— Сказки, господин комиссар! Если бы дела отца пришли в упадок, то я первая знала бы об этом.
Пьер Вальер вмешался еще раз:
— Господин комиссар, мой отец, Жюль Вальер, работает в той же области, что и покойный господин Ардекур. Вы знаете, что в деловом мире каждый из нас моментально узнает о затруднениях другого. Я утверждаю, что положение господина Ардекура было прочно и солидно.
Глядя на Мишель Ардекур, я подумал, что не прочь был бы отказаться от холостяцкой жизни, будь у меня такая невеста.
— В таком случае остается последняя версия: господин Ардекур, а вы все этого могли не знать, был неизлечимо болен, и эгоистично решил умереть вместе со своей женой?
— Господин комиссар, эта гипотеза не лучше предыдущих. Во-первых, отец знал о нашей с Элен взаимной привязанности и понимал, что в случае его смерти мы стали бы жить вместе. Во-вторых, я утверждаю, что у отца было отменное здоровье, даже если судить по последнему нашему совместному ужину: у него был превосходный аппетит. Кстати, чтобы убедиться в этом, господин комиссар, вам достаточно обратиться к доктору Суарану, который был лечащим врачом отца.
Я запомнил это имя.
— Хорошо, мадмуазель, будем считать, что вы правы, и перейдем к версии убийства. Очевидным является то, что ваша мачеха убита. В случае с отцом этот факт становится сомнительным. Медицинский эксперт обнаружил у него на виске следы пороха, подтверждающие, что ствол оружия прикасался к коже.
Она разволновалась, и это придавало ей особое очарование.
— Вы безусловно правы, господин комиссар! И я действительно не могу представить никаких объяснений! Но я знаю, что мой отец не мог убить мою мачеху и затем застрелиться! Поверьте, это невозможно!
— Боюсь, мадмуазель, что кроме эмоций вам придется поискать другие аргументы воздействия на правосудие.
— Но что же мне делать?!
Пьер Вальер обнял невесту за плечи. Я почувствовал, что этот его жест был мне неприятен.
— Успокойся, Мишель. Ты ведь знаешь, что мы сделаем все возможное, чтобы пролить свет на эту трагедию. Даже если полиции нет до нас дела…
Претен повысил голос:
— Господин Вальер, что значит это заявление! Должны же вы, наконец, понять, что правосудие не может основываться на чувствах, пусть даже самых искренних и справедливых!
Он встал, давая понять, что разговор окончен. Посетители, в свою очередь, тоже встали. Воцарилось молчание, которым я тут же воспользовался:
— Кстати, мадмуазель, вы предупредили Изабель?
— Простите?
— Я спрашиваю, известили ли вы Изабель о кончине ваших родителей?
— Изабель? Какую Изабель?
Она смотрела на меня, явно ничего не понимая. Претен представил меня:
— Комиссар Лавердин.
Я уточнил свой вопрос:
— Нет ли у вас или у кого-то из членов вашей семьи подруги или родственницы по имени Изабель?
— Нет, господин комиссар, я первый раз слышу это имя.
— Что ж, простите, очевидно, меня неверно информировали.
После ухода Мишель и ее жениха Претен, как прежде и я, захотел выяснить вопрос о том, кто же такая Изабель. Мое более или менее правдоподобное объяснение на время умерило его любопытство.
* * *
Искренность Мишель Ардекур меня взволновала, хотя я понимал, что все рассказанное ею необходимо было проверить. Мишель Ардекур была, без сомнения, умницей, но была ли она откровенна до конца? Ни она, ни Пьер никак не отреагировали на имя Изабель. Между тем, я был уверен, что Жану Понсе это имя было знакомо. Так почему же Мишель ее не знала, если даже старый служащий был в это посвящен?
Доктор Суаран жил на улице Гран-Гоние. Он уже закончил прием, и для того, чтобы к нему попасть, я воспользовался своим служебным удостоверением.
Меня попросили подождать в богатой и скучной приемной. Доктор, похожий на патриарха, появился передо мной совершенно неожиданно, потому что я не слышал даже его шагов. Казалось, он прибыл из другого времени со своим высоким лбом, глубоко посаженными глазами под широкими бровями и волнистой бородой.
— Простите, месье, я несколько не привык принимать людей вашей профессии. Чем могу служить?
— Я пришел, чтобы поговорить об Ардекурах. Ведь вы в курсе того, что с ними произошло?
— Да… Большое несчастье…
— Я знаю, доктор, что вы были другом их семьи…
— Я знаком с Анри вот уже тридцать или сорок лет. Я принимал роды у Жизель, его первой жены. Я же закрыл ей глаза… Я никогда не думал, что переживу Анри и его молодую жену…
— Доктор, комиссар, занимавшийся предварительным следствием, сделал заключение о том, что мадам Ардекур погибла от руки мужа и о самоубийстве последнего. Все опрошенные, без исключения, отрицают возможность самоубийства, тем более — убийства. Согласны ли с этим вы?
— Пожалуй.
— Доктор, если я не ошибаюсь, в вашем ответе звучит сомнение?
— Это сомнение, месье, основывается на моем жизненном опыте, научившем меня не делать скоропалительных выводов. Согласитесь, что часто наша уверенность в том, что мы хорошо знаем друг друга, — оказывается иллюзией. Кто бы мог подумать, что Анри Ардекур вдруг убьет свою жену? Конечно, никто. Это еще одно доказательство моей правоты, и поэтому я не могу поклясться, что он этого не сделал.
— Доктор, среди различных теорий, объясняющих возможность совершения преступления со стороны господина Ардекура, существует одна, которую вы могли бы подтвердить или опровергнуть.
— Слушаю вас, месье?
— Доктор, не страдал ли господин Ардекур либо его жена какой-то неизлечимой болезнью?
— Месье, в этой области я чувствую себя значительно увереннее: могу вас заверить, что ни тот, ни другая не были подвержены неизлечимой болезни.
— Я вам очень благодарен, доктор, это все, что я хотел от вас услышать.
Уже прикоснувшись к дверной ручке, я решил снова испытать счастье:
— Не приходилось ли вам, доктор, лечить Изабель?
Он удивленно посмотрел на меня:
— Какую Изабель?
— Признаюсь, доктор, я не знаю ее фамилии, но думаю, что речь идет либо о родственнице Ардекуров, либо об очень близкой подруге мадам.
— Я не помню ни одной пациентки с таким именем… как, впрочем, и того, чтобы Ардекуры упоминали это имя.
* * *
Итак, кроме Жана Понсе, никто не знал о женщине по имени Изабель. И тем не менее, я упрямо продолжал верить в ее существование.
Из Коммерческого кафе я позвонил в приют Сен-Кристин в Анноне и попросил к телефону настоятельницу. Через несколько минут мне сообщили, что она у телефона.
— Матушка, простите, что отвлекаю вас. Это комиссар Лавердин из Национальной Безопасности.
— Слушаю вас.
— Мать настоятельница, я вам звоню по поводу мадам Ардекур, вы ведь хорошо ее знаете?
— Действительно, господин комиссар, я очень хорошо знаю Элен Ардекур… Большое несчастье, о котором мне сообщили, потрясло меня и воспитательниц… мы все время проводили в молитвах о ее душе…
— Кажется, мать настоятельница, она часто бывала у вас?
— Каждый вторник, месье. Она очень любила наших стариков, постоянно оставляла средства на их содержание… Но, поверьте, — больше, чем деньги, нас трогали ее нежность по отношению к нашим страждущим. Потеряв ее, мы многое потеряли сами. Надеюсь, Господь Бог принял ее, и она собирает добрые всходы со сделанного ею посева.
— Матушка, я бы хотел, чтобы вы вспомнили о ваших последних встречах с Элен Ардекур.
— Да, месье.
— Не было ли в поведении мадам чего-то необычного? Может быть, она выглядела более озабоченной, чем всегда?
После недолгого молчания настоятельница ответила:
— Может быть, действительно… мне кажется…
— Объясняла ли она вам причину?
— Помнится, речь шла об одной ее подруге, попавшей в весьма затруднительное положение.
— Подругу звали Изабель?
— Как?… Вы знаете, господин комиссар?
— Вам известно, мать настоятельница, кто такая эта Изабель?
— Нет. Она всегда говорила просто, — Изабель… и больше ничего. И еще она просила меня поминать в молитвах эту Изабель, над которой, мне показалось, нависла смертельная опасность…
— Как вам кажется, мать настоятельница, она живет в Анноне?
— Вряд ли, месье. Мадам Ардекур никогда не говорила: «Изабель мне призналась» или «Я видела бедняжку Изабель»; но всегда: «Изабель написала мне», «я беспокоюсь об Изабель».
— Бесконечно вам благодарен, мать настоятельница.
Образ Изабель, о которой что-то слышали, но которую никогда не видели, начинал преследовать меня все больше и больше.
* * *
В этот же вечер я вернулся в Лион. Меня принял Дивизионный комиссар. Выслушав мой рассказ о мадмуазель Ардекур и мнение врача о погибших, он произнес:
— Со своей стороны, Лавердин, я позволил себе запросить отчет о вскрытии. Так вот, все пули, извлеченные из тела мадам Ардекур и головы ее мужа, были выстрелены из пистолета Токарева.
Когда я окончил читать отчет, господин Агрийи спросил:
— Ваше мнение?
— Признаю, господин Дивизионный, что все указывает на убийство и последующее самоубийство. Все, кроме того, что я узнал о господах Ардекур во время расследования.
— Я хорошо понимаю ход ваших мыслей, Лавердин, и думаю, будь я на вашем месте, у меня появились бы такие же сомнения. Но все же не нужно забывать о том, что мы служим правосудию, и должны подчиниться логике фактов. Продолжайте расследование. Я, в свою очередь, предупрежу прокурора о своей ответственности за это, во избежание неожиданных осложнений. Сегодня вторник. Давайте договоримся, что если через неделю, в понедельник утром, вы не сможете представить мне веских доказательств или хотя бы обоснованных предположений для официального открытия дела, нам придется признать официально принятую версию! Вы согласны?
— Согласен, господин Дивизионный комиссар.
Когда я уже собирался уходить, господин Агрийи сказал с улыбкой:
— Позвольте вам напомнить, Лавердин, что слезы красивой девушки никогда еще не считались неоспоримым доказательством.
* * *
Вернувшись на следующий день в Сент-Этьен, я пригласил пообедать вместе со мной комиссара Претена. Обед в ресторане Кло-де-Лила был отличным, и с моей стороны это было дружеским вознаграждением человеку, который помогал мне в этом деле. После обеда он предложил мне зайти к нему на работу, чтобы угостить меня какой-то необыкновенной сигарой.
Не успели мы перешагнуть порог комиссариата, как какой-то полицейский бросился к нам:
— Господин комиссар, здесь одна женщина вот уже более часа очень настойчиво просит, чтобы вы ее приняли. Настолько настойчиво, что мы ничего не можем с ней поделать.
Говоря это, он кивнул в сторону полной женщины лет пятидесяти, которая горячо и настойчиво убеждала в чем-то своего собеседника. С первого взгляда мне показалось, что она деревенская жительница, но я ошибся: она сообщила, что живет в Сент-Этьене более тридцати лет.
Претену ничего не оставалось, кроме как уступить ее напору.
Войдя в кабинет, женщина начала с того, что подвела итог ранее сказанному ею:
— И все таки, это не так уж плохо!
Комиссар сухо попросил ее сесть и назвать свое имя:
— Триганс… Вдова Марта Триганс.
— Что вы хотите?
— Чтобы со мной поступили по закону!
— Простите?
— Я хочу, чтобы мне вернули мои деньги!
— Какие деньги, мадам?
— Которые я доверила господину Анри!
— Кто такой господин Анри?
— Господин Анри Ардекур, черт возьми!
Претен сделал мне знак, но в этом не было никакой необходимости, потому что я и так насторожился, услышав эти слова. Комиссар продолжал:
— Успокойтесь, мадам, и расскажите все по-порядку.
Она, казалось, смягчилась.
— Должна поставить вас в известность, господин комиссар, что вот уже почти тридцать лет я содержу кафе-ресторан по улице Роже-Салангро. И у меня была хорошая клиентура: люди небогатые, но все же не считающие каждый сантим. Я никогда не готовила сложных блюд, но то, что я делала, было вкусно. Служащие, коммерсанты приходили иногда очень издалека, чтобы поесть у «матери Марты», — так они меня называли. Когда я пятнадцать лет назад потеряла мужа, мне стало трудно одной вести дела, ну а сейчас-то мне уже за пятьдесят. Поэтому, я решила отойти от дел и вернуться в родные места, в Бесса.
— Я не очень понимаю роль господина Ардекура в этом деле…
— Постойте, постойте! Я уже говорила, что собралась отойти от дел и продать свою собственность. Итак, три месяца тому назад я обратилась к господину Анри.
— Почему именно к нему?
— Да потому, черт возьми, что я его знала, и у него была хорошая репутация.
— Он нашел вам покупателя?
— Да, им оказалась крестьянская семья по фамилии Фажа, которая хотела попробовать начать дело в большом городе. Восемь дней назад они уплатили деньги. Двадцать миллионов старых франков[241]. У этих людей было чем заплатить. Только они не доверяли банковским чекам и все оплатили наличными.
— И что же?
— А то, что деньги остались у господина Анри. Он должен был мне помочь найти домик в Бесса, а оставшиеся деньги вложить в ренту на мое имя. С сегодняшнего утра Фажа вступили во владение рестораном. Господин комиссар, я пришла узнать у вас, каким образом мне получить свои деньги?
— А где они?
— Ну, конечно же, в сейфе господина Анри! Он положил их туда при мне. Это было как раз во вторник. Не вчера, а неделю назад.
— У вас есть расписка от господина Ардекура?
— Конечно, есть! Неужели вы думаете, что я могла бы отдать такую сумму без расписки?
— Мадам Триганс, вы передали эти деньги господину Ардекуру при свидетелях?
— Конечно! Это было в присутствии Фажа и господина Понсе, служащего господина Анри.
— Не обращались ли вы к господину Понсе, чтобы забрать ваши деньги?
— Я сразу же побежала к нему. Но похоже, что сейф опечатан.
— Да, это так… Подождите, пожалуйста, в приемной одну минуту, мадам.
После того, как мадам Триганс, терзаемая предчувствиями, вышла, Претен сказал:
— Что вы об этом думаете?
— Трудно сказать. Мне кажется, нужно осмотреть все на месте.
* * *
Господин Понсе слово в слово подтвердил все, сказанное мадам Триганс. Но открыв сейф, мы обнаружили, что миллионы исчезли.
Прежде, чем с мадам Триганс началась истерика, комиссар Претен обернулся ко мне:
— Похоже, дорогой коллега, с этого момента вам придется играть главную роль в этом деле.
Глава 3
В Лионе, куда я сразу же поспешил после того, как попрощался с Претеном, я рассказал Дивизионному комиссару, в присутствии Главного, о последних событиях:
— Вы знаете, что я сторонник версии убийства с самого начала этого дела, господин Дивизионный комиссар. Тем не менее, признаю, что пока моя позиция была основана больше на чувствах, чем на юридических фактах. Теперь же выясняется, что одной из причин убийства могли быть деньги мадам Триганс, находящиеся у него в сейфе.
Господин Ретонваль прервал меня:
— Вы считаете, что мадам Ардекур могла присутствовать при убийстве и не кричать до того, как она сама была убита?
— Можно предположить, что она застала убийцу на месте, и он застрелил ее. Признаюсь, господин Главный комиссар, — я еще не нашел подходящего объяснения этому двойному убийству.
Вмешался Дивизионный:
— Быть может, стоило бы рассмотреть версию, по которой господин Ардекур покончил с собой после того, по образному выражению, как перепутал чужой карман со своим?
Я возразил:
— И после того, как он убил свою жену?
Господин Агрийи вздохнул и вдруг повторил слова Главного комиссара:
— Кто знает, что происходит в душе человека, решившего покинуть этот бренный мир?
— Есть еще одно «но» в этом деле, господин Дивизионный комиссар.
— Что вы имеете в виду?
— Сейф. Он был закрыт. Следуя вашей версии, господин Дивизионный комиссар, мадам Ардекур умерла прежде своего мужа, и, естественно, не могла его закрыть. Вот мне и кажется странным, что господин Ардекур, решившись на самоубийство, позаботился о сейфе.
Агрийи улыбнулся:
— А кто утверждает, Лавердин, что сейф был сначала открыт, а затем закрыт?
Я запнулся. Дивизионный продолжал:
— Сейф открывался и закрывался только в том случае, если мы допускаем версию убийства месье и мадам Ардекур третьим лицом. Но ведь вы сами, Лавердин, признаете, что у нас на сегодняшний день нет ни одного стоящего доказательства, дающего право развивать эту версию. Итак, мне кажется, что прежде всего необходимо установить, произошло ли похищение денег. Для этого было бы полезно выяснить, кто знал шифр сейфа.
На последнее замечание у меня был готов ответ:
— По показаниям Понсе, которого я допросил после того, как было установлено, что деньги мадам Триганс исчезли, шифр знали только господин Ардекур, его жена и сам Понсе.
— В таком случае, если в ближайшем будущем выяснится, что произошло хищение, по логике вещей нам придется первым подозревать господина Понсе.
— Но, господин комиссар, он же сам признался, что знает шифр! Кто смог бы это доказать? И что ему, например, мешало показать, что господин Ардекур в его присутствии взял из сейфа двадцать миллионов?
Главный проворчал:
— На вашем месте, Лавердин, я бы не очень доверял доказательствам о его невиновности. Во всяком случае, следствие нужно открывать. Я сейчас же позвоню прокурору.
* * *
В эту ночь я не мог уснуть. Возможно, что и Дивизионный комиссар тоже. Ведь если бы выяснилось, что я ошибся, и произошло обычное убийство с последующим самоубийством, шеф вряд ли простил бы мне это. Сказав «а», следует произнести и «б».
* * *
К полудню я узнал, что Дивизионному было приказано начать расследование, и он теперь уже официально поручил его мне, придав в помощь полицейских Эстуша и Даруа.
В Сент-Этьене я сразу же побывал в городской полиции, где повидался с Дивизионным, руководившим городской службой безопасности, потом устроил обоих моих агентов в «Черную лошадь», сам же вернулся на свою квартиру у вдовы Онесс. Менее, чем через час мы втроем уже встретились на площади Поль-Пэнлеве и направились к дому Ардекуров.
Увидев нас, Понсе стал похож на быка, смирившегося с тем, что его ведут на бойню. Меня это несколько смутило.
— Вы продолжаете утверждать, месье Понсе, что только Анри Ардекур, его жена и вы сами знали шифр сейфа?
— Да.
— Итак, если предположить, что мадам и месье Ардекур стали жертвами либо убийства, либо убийства с самоубийством, то кто же открыл и закрыл сейф?
— Я не знаю.
Мне не оставалось ничего другого, кроме как сказать:
— В таком случае, я могу предположить, что это были вы, месье Понсе.
Он отреагировал на мои слова вовсе не так, как я ожидал. Спокойно и тихо он ответил:
— Это не я, господин комиссар. Я бы мог вам поклясться, но что это даст?
— Вспомните, быть может, господин Ардекур кому-то сообщал шифр сейфа?
— Нет.
— Даже своей дочери?
— Он бы мне об этом сказал.
Одно было очевидно: Понсе ничего не предпринимал, чтобы снять с себя подозрение. Я решил бросить ему спасательный круг, чтобы увидеть, ухватится ли он за него.
— В конечном итоге, месье Понсе, ничто не говорит о том, что кто-то из Ардекуров открывал и закрывал сейф. Возможно, они к нему и не прикасались.
Он взглянул на меня потухшими глазами:
— В таком случае, господин комиссар, там должны оставаться двадцать миллионов.
— Почему?
— Потому что утром, в день смерти Ардекуров, они были там.
Этот диалог происходил в присутствии старшего офицера Эстуша, беспристрастный взгляд которого несомненно показывал, что мечты его находятся в его родном Авейроне, и его коллеги Даруа, лионца, которого, казалось, ничем нельзя было взволновать.
Внезапно в комнату вошла Мишель Ардекур. Узнав меня, она сразу же сказала:
— Господин комиссар, я вижу, что мой дом стал проходным двором.
— Мадмуазель Ардекур, я добился открытия следствия по делу ваших родителей. Ведь вы же хотели этого?
Казалось, она на миг смутилась, но тут же снова возразила:
— Это хорошо, но только при условии, что вы не станете трогать близких мне людей. Они должны быть вне всякого подозрения!..
Я отрицательно кивнул головой:
— Никто не может быть вне подозрений, мадмуазель, в расследовании дела, которое может стать уголовным.
— Но, месье Понсе… Почему вы выбрали объектом нападок именно его?
— Потому что месье Понсе был ближайшим сотрудником вашего отца.
— И по-вашему, этого достаточно, чтобы подозревать его в убийстве?
— О, мадмуазель, факт убийства еще не доказан, и поэтому моя задача намного бы облегчилась, если бы мне не совали палки в колеса.
— Что вы хотите этим сказать?
— Только то, мадмуазель, что мне не всегда говорят правду, отвечая на мои вопросы. Это относится и к вам…
— Ко мне?!
— Почему вы говорите, что не знаете Изабель?
— Ну, это уже похоже на наваждение. Я повторяю, нет, я клянусь, что никогда не была знакома с Изабель! Устраивает вас это или нет, но это так!
Она повернулась к Понсе:
— А вы, Жан, слышали ли вы когда-нибудь об этой Изабель?
— Думаю, что да, мадмуазель, но месье Понсе, как, впрочем, и вы, не признается в этом.
Понсе поднял руки в знак отчаяния:
— Господи, в чем меня только не подозревают: в том, что я встречаюсь с людьми, о которых никогда даже не слышал, в том, что я украл двадцать миллионов из сейфа хозяина!
Он громко вздохнул.
— Двадцать миллионов! Боже мой! Чтобы я стал с ними делать. Послушайте, господин комиссар, пойдемте ко мне, произведите обыск, ищите, где захотите, но только оставьте после этого меня в покое!
* * *
Обыск не занял много времени и не внес в дело ничего нового. В доме Понсе было много книг о растениях, птицах, мелких животных, мало приключенческих романов и ни одного романа о любви. Хозяин дома безропотно следил за нашими действиями.
— Похоже, вы очень любите природу, месье Понсе?
— Я люблю только природу, господин комиссар. Раньше, когда у меня выпадал свободный день, я одевал сапоги, брал крепкую палку и отправлялся в горы… Видите ли, господин комиссар, наверное, лучшими друзьями в моей жизни были горы. Только сейчас у меня уже нет силы… Работая, я собрал немного денег и отремонтировал домик, который мать оставила мне в Планфуа. Когда я перестану работать, я уеду туда, и если Богу так будет угодно, там и умру. Я даже купил уже себе место на кладбище.
— Вы умны, месье Понсе, и расчетливы.
— Нет, господин комиссар, я середнячок и довольствуюсь этим. Я никогда не питал никаких амбиций просто потому, что неспособен на это. Неужели вы думаете, что я вдруг изменился настолько, чтобы украсть кучу денег, с которыми даже не знал бы что делать?
— Нет, месье Понсе, я так не думаю и, кстати, никогда так не думал.
Он удивленно посмотрел на меня.
— Тогда почему же?…
— Потому, что мне кажется, что в ваших словах есть неправда. Хотите, один пример? Я уверен, что вы знаете Изабель!
Он потупил взгляд.
— Уверяю вас, господин комиссар…
— Хорошо, месье Понсе, хорошо. Не будем этого касаться до тех пор, пока этого не потребует следствие.
Было около полудня. Я отпустил своих сослуживцев, торопившихся на обед, и попросил их быть около четырнадцати часов в кабинете, который Претен любезно предоставил в мое распоряжение. Мне хотелось расспросить Понсе кое о чем без свидетелей.
— Месье Понсе, теперь, когда мы одни, я бы хотел услышать от вас несколько слов о Мишель Ардекур. Что она за человек?
— Хороший человек. Ее родители гордились ею, когда она была маленькой, но и после поступления в институт никто не мог сказать о ней ничего плохого. Можете мне поверить, господин комиссар, она далеко пойдет.
— Вы думаете, можно далеко пойти, выйдя замуж за Пьера Вальера?
Он возразил:
— Это будет еще не скоро!
Понсе ответил, не раздумывая, чем доставил мне некоторое удовольствие.
— Что вы хотите этим сказать?
— Только то, что именно семья Вальеров усиленно добивалась этого брака. Мадмуазель же никогда с этим не торопилась.
— Мне так не показалось.
— Месье Ардекур и месье Вальер-отец всегда были друзьями. Месье Пьер, конечно, никогда не был образцом в работе, но зато он красивый парень… Для женщин это имеет большое значение. Для Мишель, очевидно, тоже… Хотя до сих пор она всегда владела собой.
* * *
После ухода Понсе я решил, что пришло время подумать об обеде. Купив в мясной лавке продуктов, я направился к Леони Шатиняк.
— Леони, это опять я… Я хочу просить тебя помочь мне понять историю Ардекуров.
Мне показалось, что Леони была довольна той значимостью, которую я придавал ее словам. Но свое чувство она попыталась скрыть:
— Черт возьми, ты еще не устал от моей болтовни?
Пока мы ели и пили божоле, я рассказывал:
— Мне никак не удается составить четкого мнения об Ардекурах, особенно об отношениях между Пьером Вальером и Мишель Ардекур.
— Отношениях? Они очень просты! Малышка втрескалась в этого Пьера Вальера.
— Да? А мне показалось, что она не очень торопится с этим браком.
Леони воздела руки к небу.
— Не очень! Правда, она хочет обезопасить себя, это точно! Я думаю, что свадьба до сих пор не состоялась только благодаря мадам Элен! Знаешь, Шарль, у мадам Элен была внешность хорошенькой куклы, но это была женщина немалого ума.
— И что же?
— А то, что она отлично понимала, что красавчик Пьер Вальер не обязательно должен стать хорошим мужем.
— Ты уверена в том, что говоришь, Леони?
— Да все, кто работал у Ардекуров, скажет тебе, что единственным предметом разногласий в доме был этот брак, которого мадам Элен не хотела. А теперь же, когда ее больше нет, мадмуазель Мишель не станет долго ждать, увидишь… Если ты хочешь знать мое мнение, Шарль, для нее это будет большим несчастьем.
— Но мадмуазель Мишель производит впечатление разумной девушки.
— Если бы ты прожил столько сколько я, Шарль, то понял бы, что в подобных делах разум не играет большой роли.
— А что думают об этом союзе Вальеры?
— Для них замечательно иметь невесткой дочь Ардекуров! Поверь мне, они не станут задерживать дело, особенно теперь!
* * *
Из бистро по улице Вечности я позвонил Эстушу и попросил его прийти, как можно скорее. Ожидая подчиненного, я повторял про себя, что чаще всего бывает трудно разобраться в самых простых вещах. Я чувствовал самое большое доверие к словам Леони относительно малейших проявлений обыденной жизни. И если даже Леони была в курсе намерений Мишель Ардекур и неприятия этого брака мачехой, то об этом должен был знать и месье Понсе! Почему же он опять сказал лишь часть правды? Что это — мания или тактика?
Когда пришел Эстуш, мы опять отправились к Ардекурам. Лицо месье Понсе, при нашем появлении, снова приняло выражение загнанного человека. Мишель лишь удостоила нас вздохом:
— Опять?
— Видите ли, мадмуазель, самое прискорбное в нашей профессии — это то, что мы доставляем неприятности другим. Поймите, мы хотим все прояснить в деле о гибели ваших родителей, и если бы вы захотели и согласились бы нам помочь, я уверен, — все пошло бы намного быстрее.
— Допустим! Что вам нужно на этот раз?
— Я хотел бы просмотреть бумаги вашего отца и предпочел бы получить на это ваше согласие.
Она неопределенно пожала плечами.
— Не стесняйтесь. Месье Понсе будет в вашем распоряжении.
— О, с помощью месье Понсе мой коллега быстро справится с делом. Пока же они будут работать, мы могли бы кое-что прояснить, если вы согласны, мадмуазель.
— Хорошо.
Я прошел за ней в приемную, украшенную предметами прикладного искусства.
— Итак, господин комиссар, чем могу быть вам полезна?
— Мадмуазель, я собрал очень противоречивые сведения о том, что касается лично вас.
— Что касается меня?
— Скажите, действительно ли мадам Ардекур не одобряла ваш будущий брак, ведь говорят…
Она сухо оборвала меня.
— Было бы интересно знать, господин комиссар, чем мои чувства к месье Вальеру могут помочь вашему расследованию?
— Пока еще не знаю, мадмуазель, но в таком запутанном деле все может оказаться полезным.
— В таком случае, знайте, что мои родители, и особенно мачеха, не очень тепло восприняли мое желание выйти замуж за Пьера. Мать Пьера, мадам Вальер, очень властная женщина, и воспитала своего сына так, что он не может принять ни одного решения без совета с ней. Это может казаться смешным…, да что там скрывать, это действительно смешно, но нужно воспринимать Пьера таким, какой он есть.
Вполголоса я сказал:
— Но вас ведь никто не заставляет его воспринимать?
Ее голос стал более резким.
— А вот это, господин комиссар, мое дело. Я воспринимаю Пьера таким, какой он есть, и именно за него я выйду замуж. Я надеюсь, что сумею вырвать его из-под материнского влияния, и уверена, что он станет настоящим мужчиной. Во всяком случае, я его люблю, а это основное.
— Без всякого сомнения.
Она проворчала:
— Очень вам благодарна за одобрение, господин комиссар.
Я решился еще кое-что уточнить:
— Был ли месье Понсе посвящен в ваши намерения выйти замуж за месье Вальера против воли родителей?
— Мы ничего не скрывали от месье Жана.
— Благодарю вас. Извините, но я должен сказать вам, мадмуазель, что мое начальство не совсем уверено в том, что гибель ваших родителей произошла не по их собственной вине?
— Я догадывалась об этом, но не понимаю, разве кража двадцати миллионов — это недостаточное доказательство?
— Еще нужно доказать, мадмуазель, что кража действительно имела место.
— Ну это уж слишком! Ведь миллионы же все-таки исчезли?
— Они действительно исчезли. Но, не исключена возможность, что господин Ардекур сам взял эти деньги, чтобы либо передать нотариусу, либо перевести на свой банковский счет. К сожалению, можно допустить и то, что господин Ардекур, извините, растратил их…
Она не сразу поняла смысл моих рассуждений.
— Растратил…?
— Иногда бывает, мадмуазель, что люди, становящиеся обладателями больших сумм, поддаются искушению…
— И вы подумали, что папа смог?…
— Мы обязаны считаться со всеми возможными вариантами.
Мишель вскочила:
— Итак, вам мало того, что вы ославили моего отца как убийцу. Теперь вы делаете из него еще и вора!
Эстуш своим появлением избавил меня от ответа.
— Можно вас на пару слов, господин комиссар?
Я подошел к двери.
— Я нашел это в одной папке, прямо на виду.
Он протянул мне листки бумаги, отпечатанные на машинке. С первого взгляда я понял, что речь в них шла о результатах игры на ипподромном тотализаторе. И результаты эти были явно отрицательными, о чем свидетельствовали цифры внизу. Пока я читал, Эстуш тихо сказал:
— Может это объясняет исчезновение двадцати миллионов мадам Триганс?
Меня же заботило только одно:
— А Понсе видел эти бумаги?
— Нет.
— Отлично. Простите, мадмуазель Ардекур, меня срочно вызывают.
Проходя мимо стола, за которым работал Понсе, я остановился:
— Скажите, старина, не играете ли вы иногда на скачках?
— На скачках? Ну нет, пусть этим занимаются дураки.
Выходя на улицу Руайе, я подумал о том, что бедняга Понсе, очевидно, впервые в своей трудовой жизни столь пренебрежительно отозвался о хозяине.
* * *
Оставив своих сотрудников в Сент-Этьене, я вернулся в Лион и по приезде сразу же вызвал инспектора, который специализировался по азартным играм. Я передал ему листы, найденные у Ардекура, и попросил как можно скорее изучить их и дать свое заключение. Инспектору досталась копия; оригинал же я отдал эксперту. Его заключение пришло первым: длинные колонки цифр и клички лошадей были отпечатаны на машинке «Руаяль-Бюро», которая находилась в превосходном состоянии и, увы, без единого отличительного следа. Кроме того коллега утверждал, что работа была выполнена человеком, отлично разбиравшемся в дактилографии. Инспектор по азартным играм заставил меня ждать ответа более часа. В его заключении было сказано, что в документах речь шла о незаконных и, в основном, неудачных пари, заключенных в первые шесть месяцев этого года. Общая сумма проигрыша достигала двадцати миллионов старых франков.
Инспектор также сообщил, что величина разыгрываемых сумм исключала мысль о букмейкере-стефанце. По его мнению игра, скорей всего, происходила в Лионе или Париже, куда по телефону передавались указания.
Со всеми этими сведениями я и пошел к Главному комиссару. Месье Ретонваль с большим вниманием выслушал меня, и, когда я закончил, заявил:
— Мне очень жаль, Лавердин, но, по-моему, это ставит крест на версиях, которые вы так тщательно разрабатывали.
— Может быть, господин Главный комиссар.
— Больше, чем может быть, Лавердин! Теперь очевидно, что своим видом добропорядочного спокойного обывателя, уважаемого всеми соседями, Ардекур скрывал пристрастие к азартным играм. Судя по расчетам, ему не везло, и чтобы вернуть проигранное, как это всегда бывает в подобных случаях, он постоянно увеличивал ставки, которые в конце концов превысили все его состояние. И тогда случилось то, что должно было случиться: из-за нехватки денег он воспользовался доверенной ему суммой и проиграл ее, как и свое состояние. Чтобы объяснить внезапное исчезновение двадцати миллионов мадам Триганс, было бы естественным предположить, что Ардекур долгое время играл под честное слово, и только потом пришло время расплачиваться, что он и сделал при помощи миллионов, лежавших в сейфе. Естественно, он предвидел, что за этим последует, и чтобы избежать бесчестия, — а ведь по принципам обывательской морали, смерть избавляет от бесчестия, — он решил застрелиться. Но прежде, поскольку он был очень привязан к своей жене и не хотел, чтобы она жила с запятнанной фамилией, он застрелил и ее. Можно предположить, что находись в этот момент рядом дочь, ее постигла бы та же участь. В итоге, — получается обыкновенное дело, Лавердин, которое не стоит усложнять.
— Может быть, господин Главный комиссар.
Месье Ретонваль взорвался:
— Вы становитесь невыносимы, Лавердин, с вашими может быть! Понимаю, вам трудно признать, что именно вы способствовали кутерьме вокруг этого дела, но это вовсе не повод, чтобы отрицать правду! Что вам мешает признать достоверность моей версии?
— Честно говоря, господин Главный комиссар, я не знаю. Просто интуиция…
— Да что вы носитесь с вашей интуицией! Вы — романтик, Лавердин, а для меня существует только убийство, связанное с ним самоубийство, и, наконец, мошенничество. Прежде, чем закрыть следствие, я бы посоветовал вам узнать, в состоянии ли мадмуазель Ардекур вернуть деньги мадам Триганс, чтобы избежать жалоб в суд за мошенничество. Между нами, я в это не верю, ведь если у них были средства, Ардекур не совершил бы этого преступления.
* * *
Вечером, придя в дом Ардекуров, я был встречен удивленным взглядом Пьера Вальера и ироничным вопросом Мишель:
— Итак, что вы хотите объявить мне в этот раз, господин комиссар?
— Мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз, мадмуазель.
— Вы забываете, господин комиссар, что Пьер — мой жених, и я не собираюсь ничего от него скрывать!
— Как хотите, — и не ожидая приглашения, я устроился в кресле.
— Мадмуазель, вы обратили внимание на то, что во время нашей последней встречи мой помощник передал мне бумаги?
— Да, и что же?
— Эти бумаги находились в папке среди документов вашего отца и они доказывают, что месье Ардекур был игроком.
— Игроком? И во что же он играл?
— Ваш отец, мадмуазель, кажется, пристрастился к скачкам, судя по большим суммам, на которые он играл.
— Это неслыханно!
— Увы, нет, мадмуазель! Могу вам также сообщить, что с начала года месье Ардекур проиграл двадцать миллионов старых франков.
— Двадцать миллионов! Но это…
— Да, мадмуазель, это именно та сумма, которую ему передала мадам Триганс! Похоже, эти деньги помогли вашему отцу еще увеличить огромные долги.
— Вы отдаете себе отчет, господин комиссар? Все, что вы говорите, — ужасно!
— Правда не всегда красива, мадмуазель.
— Почему вы так стараетесь надругаться над его памятью?
— Не я, мадмуазель, закон. Мне поручено узнать, в состоянии ли вы возместить мадам Триганс двадцать миллионов, чтобы избежать жалобы в суд за мошенничество?
Она простонала:
— Я не знаю! Неужели вы думаете, что когда одновременно теряют отца и мать, то первая мысль бывает о деньгах? За кого вы меня принимаете, господин комиссар?
Наконец я услышал и голос месье Вальера:
— Я не совсем понимаю то, о чем вы рассказываете, господин комиссар, но уверен, что вы превышаете свои права! Если же это так, — предупреждаю вас, что…
— Прошу вас, месье Вальер! Вопрос, который мы обсуждаем с мадмуазель настолько серьезен, что я не могу допустить, чтобы вы совали в него свой нос!
Мишель вскочила:
— Я запрещаю вам говорить с моим женихом в таком тоне!
Пьер, обрадованный поддержкой, добавил:
— Она права! Что вы, в конце концов, из себя представляете?
— Полицейского, которому все это надоело!
Мадмуазель Ардекур поняла, что ссора зашла слишком далеко.
— Прошу тебя, Пьер… Господин комиссар, я не могу сразу ответить на ваш вопрос о деньгах. Во всяком случае, могу вас заверить, что продам все, что у меня останется, чтобы возместить долг моего отца мадам Триганс. Даю вам честное слово!
Прежде, чем я успел ответить, Вальер добавил:
— Можешь рассчитывать на меня и моих родителей, Мишель. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь тебе выйти из этого затруднения.
С этими словами Пьер Вальер попрощался с невестой, заявив, что хочет предупредить родителей о случившемся.
Когда я остался с мадмуазель Ардекур наедине, она не смогла удержаться от замечания:
— Хорошо, что у меня есть Пьер… Без него мне пришлось бы защищаться в одиночестве. Мне кажется, господин комиссар, что все против меня.
— Не все, мадмуазель.
— Кто же еще хочет мне помочь?
— Я.
— Вы?
— Я сразу же поверил вам, мадмуазель.
— Но почему?
— Есть две причины: первая основывается на тех сведениях, которые я собрал о ваших родителях. Если месье Ардекур является, вернее, был таким, каким знали его соседи и друзья, — совершенно невозможно, чтобы он одновременно стал и жуликом, и убийцей. Что касается второй причины…
— Второй причины?
— Она личная.
— Могу я ее узнать?…
— Хорошо, предположим… что вы произвела на меня сильное впечатление, и я готов попытаться сделать невозможное, чтобы доказать, что вы правы, и я вместе с вами.
Она насмешливо взглянула на меня:
— Знаете, господин комиссар, если бы я была немного другой, то могла бы это воспринять как… ну хорошо! Как признание в любви?
— По крайней мере, похоже.
Она улыбнулась.
— Думаю, теперь мне будет легче.
* * *
Так получилось, что из дома Ардекуров я вышел сразу же за месье Понсе. Когда я догнал его, он проворчал:
— Ну что там еще?
— Месье Понсе, вы старались убедить меня, что мадмуазель Ардекур вовсе не желает становиться женой Пьера Вальера. Я выяснил обратное. Вы доказывали, что никакой Изабель не существует, а что если я узнаю, что вы с ней знакомы? И дает ли это мне право заявить, что вы мне лжете?
— Оставьте меня в покое, господин комиссар!
— Не в моей привычке, месье Понсе, оставлять в покое людей, которых я подозреваю в недостаточной откровенности по отношению ко мне. Но, чтобы доказать вам, что я вовсе не в обиде, разрешите предложить вам выпить по стаканчику вина, месье Понсе.
Он послушно кивнул.
— Как хотите.
Мы зашли в первое же попавшееся бистро, и там, у стойки, выпили по стакану божоле. Я подождал, пока месье Понсе поставил свой стакан, чтобы спросить:
— Вы все таки не верите, что ваш хозяин играл на скачках?
Он искренне возмутился:
— Что за глупость! Он!
— Месье Понсе, я в этом почти уверен.
— Я не могу в это поверить.
Я достал из кармана бумаги, найденные Эстушем.
— Тогда, месье Понсе, взгляните сюда.
Он посмотрел.
— Что это?
— Имена лошадей, на которых ставил ваш хозяин, и ставок, которые он делал. Как видите, — составлено им собственноручно.
Пораженный, он читал и перечитывал эти клички и цифры, которые, казалось, совсем сбили его с толку. Слышно было только его тихое бормотание:
— Это невозможно… только не господин Ардекур… это невозможно…
Я забрал бумаги и спрятал их в карман.
— Месье Понсе, не могли бы вы сказать, в каком банке месье Ардекур держал свои сбережения?
— В банке Сен-Серван, улица Жеранте.
— Вот видите, месье Понсе, не так уже трудно время от времени говорить правду?
* * *
Утром следующего дня, отлично выспавшись в комнате на Крэ-де-Рош, я направился на встречу со своими полицейскими, ожидавшими меня в кабинете комиссара 1-го округа, и поскольку у меня не было для них никаких заданий, они принялись за свое обычное занятие — чтение газет. Сам же я пошел в банк, в котором Ардекур хранил свои сбережения.
Директор банка Сен-Серван показался мне человеком из давно забытого прошлого, из мира, исчезнувшего еще во времена первой мировой войны. От него так и веяло духом высокого сознания, ответственности и гордости за свою работу. Черный двубортный пиджак, брюки в полоску, жилет и стоячий воротник рубахи дополняли облик безупречного буржуа. Меня он принял приветливо, хотя и слегка высокомерно, что, признаю, внушало мне доверие.
— Месье, позвольте вам заметить, что вы принадлежите к той категории людей, которых мы, банкиры, не очень любим видеть в наших заведениях.
— Не беспокойтесь, месье директор, мне нужны всего лишь небольшие сведения.
Брови его сразу же нахмурились.
— О ком-то из моих клиентов? — и в его голосе послышалась дрожь негодования от того, что его могли заподозрить в возможности выдать чей-то секрет.
— Речь идет о месье Ардекуре.
— Ах… этот бедный Ардекур… какой плачевный финал… С его стороны, это недостойный поступок… Я бы никогда не подумал, что он способен на такое! Что бы вы, собственно, хотели о нем узнать, месье?
— Просто, были ли на его счету деньги или он был закрыт.
— Закрыт? Нет, это вовсе не в правилах наших клиентов. Но, тем не менее, я сейчас же запрошу сведения о счете месье Ардекура.
Он нажал на кнопку, и в кабинете появилась персона неопределенного возраста, меньше всего похожая на тот тип женщин, к которому мы обычно относим секретарш.
— Будьте любезны, мадмуазель Матильда, проверьте счет месье Ардекура.
— Хорошо, господин директор.
Она выскользнула из кабинета, словно тень. В ее отсутствие я попытался расспросить директора о состоянии дел Ардекура, стараясь включать в свою речь как можно больше вежливых фраз:
— Не знаете ли вы случайно, месье, имя нотариуса, который занимался капиталами Ардекуров?[242]
— О, конечно! Этим занимался метр[243] Гажубер Он живет на улице Сен-Жан. Если вам нужно о чем-то справиться у него и если это не очень личное, можете позвонить из моего кабинета, господин комиссар, пока мадмуазель Матильда принесет нужную справку.
— Вы весьма любезны, месье директор, и я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением.
Владелец кабинета по селектору попросил кого-то из служащих связать его с нотариусом. Как только это было сделано, он после многочисленных приветствий объяснил суть дела. Затем передал мне трубку.
— Алло, метр Гажубер?
— Да, я.
— Метр, вас беспокоит комиссар Лавердин из Национальной Безопасности.
— Да, слушаю.
— Метр, я прошу вас ответить, не знаете ли вы о крупных долгах вашего покойного клиента, месье Ардекура?
— У Ардекура? Долги? Ну, месье комиссар, сразу видно, что вы его не знали. Нет, уверяю вас, у моего клиента, месье Анри Ардекура, никогда не было ни единого долга и ни единого не оплаченного векселя Этого вам достаточно?
— Вполне, метр, благодарю вас.
Едва я положил трубку, как вошла мадмуазель Матильда и протянула директору лист бумаги Он взглянул на него.
— Так я и предполагал. Счет месье Ардекура на сегодняшний день составляет 30 223700 старых франков.
Когда я возвратился в комиссариат, Дюруа сказал, что звонил какой-то Понсе и просил меня ему перезвонить Интересно, что хотел поведать мне этот человек?
— Алло, месье Понсе?
— А! Месье комиссар, я по поводу тех бумаг, что вы мне показывали.
— Да, и что же?
— Кто-то их отпечатал на машинке.
— Конечно же, месье Ардекур.
— Это невозможно.
— Но почему?
— Потому, что месье Ардекур никогда не умел печатать на машинке. Думаю, что он даже никогда и не пробовал.
— В таком случае, кто же пользовался машинкой «Руаяль»?
— Я. О, я вовсе не силен в этом и чаще всего печатаю одним пальцем, но иногда и это выручало. Если случались вещи более серьезные, мы обращались к профессионалам.
— Вы действительно уверены, месье Понсе, что месье Ардекур никогда не умел печатать на машинке?
— Абсолютно уверен, месье комиссар.
Я уже собирался повесить трубку, как в голову мне пришла одна идея:
— А мадам Ардекур?
— Она? Да. Кажется, это когда-то даже было ее профессией. Но месье Ардекур никогда не прибегал к ее услугам. Он не хотел посвящать жену в свои дела.
— Спасибо, месье Понсе, и до свидания.
Итак, Ардекур сам не печатал этих бумаг… Можно было предположить, что на скачках играла его жена? Но в таком случае она прятала бы свои бумаги у себя, а не у мужа. И зачем бы ей было нужно играть в тотализатор, если муж и так дарил ей все, что она хотела? Учитывая все это, во мне родилось подозрение, что кто-то хотел, чтобы я нашел эти бумаги.
Я позвонил Ретонвалю и поставил его в известность о найденном документе. Он сразу же сказал, что его уверенность начинает колебаться. В свою очередь, я ответил, что тоже начинаю путаться в этом деле.
— Меня смущает то, господин Главный комиссар, что кража двадцати миллионов, в которой больше нельзя сомневаться, была совершена, очевидно, кем-то из близких Ардекура, хорошо осведомленных о его делах. Поэтому месье Понсе, как мне кажется, остается вне подозрений.
— А девушка?
— Девушка…
— Мадмуазель Ардекур?
Я подпрыгнул от неожиданности:
— Мишель Ардекур!
Месье Ретонваль сухо заметил:
— Вы что же, никогда не слышали о детях, которые убивают своих родителей?
— Да, но все же…
— В уголовных делах, дорогой коллега, не бывает «все же»!
— Но зачем ей убивать отца и мачеху, которые ей ничем не мешали?
Месье Ретонваль проворчал:
— Возможно, они ей мешали самим своим существованием.
— Но, месье Главный комиссар, Мишель Ардекур — разумный образованный человек. Она прекрасно понимает, что в случае, если она возьмет эти двадцать миллионов, то именно ей же и придется их возвращать из своего наследства.
— Да, на первый взгляд это действительно кажется абсурдным… Узнайте еще вот что: застраховал ли свою жизнь Ардекур.
* * *
Поже почти сразу же ответил мне по телефону, что месье Ардекур был застрахован в компании «Бьенфезане», что по улице Дезире.
Я нарочно старался не обращать внимания на оскорбительные по отношению к Мишель Ардекур предположения Ретонваля, но чувство смущения все больше овладевало мной. Я позвонил в компанию «Бьенфезане». Ее директор на другом конце провода попросил меня сначала повесить трубку, чтобы самому перезвонить, и таким образом проверить, действительно ли я служу в полиции. После того, как это было сделано, я узнал, что Ардекур застраховал свою жизнь на двадцать пять миллионов и сделал это уже достаточно давно. Эту сумму должна была унаследовать Элен Ардекур, в случае же и ее смерти указанные деньги переводились на имя Мишель Ардекур. Меня охватило чувство глубокой пустоты внутри меня, и мне даже показалось, что я снова слышу скрипучий голос Главного.
— Есть люди, убивающие отца и мать по менее веским причинам, чем эта.
Взяв себя в руки, я отправил Даруа в Лион, для того, чтобы выяснить, где была Мишель в тот самый день.
* * *
Фажа, занявшие место мадам Триганс в баре-ресторане, все еще сохраняли деревенский вид. Муж был большим и рыжим, с огромными плечами лесоруба. Жена имела приблизительно ту же комплекцию и производила впечатление женщины, только что подоившей корову. Они были весьма симпатичной парой. Оба еще не успели приобрести городских привычек: их беспокоило буквально все, и они были совершенно бесхитростными. Когда я им рассказал о краже двадцати миллионов, их реакция была моментальной:
— Неужели мы должны платить еще раз?
Я их успокоил, и это принесло им заметное облегчение. Семейство Фажа оказалось вне всяких подозрений, — следовательно, мне необходимо было либо расширять, либо сузить круг поисков. Я предпочитал расширить его, так как сужение означало бы принятие версии виновности Мишель Ардекур. От одной мысли об этом мне становилось не по себе. Но если она была виновна, то зачем же было приходить ко мне и настаивать на версии убийства? Ей было бы достаточно сказать, что в последнее время отец подавал признаки нервозности, и в девяти случаях из десяти дело было бы закрыто. Она же изо всех сил старалась доказать, что произошло именно преступление. Воспоминание об этом успокоило меня. Конечно, существовало это непонятное чувство, которое она питала к Пьеру Вальеру… Но это еще раз доказывало, что она была обыкновенной женщиной. Мысль о том, что Мишель Ардекур могла быть убийцей своих родителей, была для меня невозможной.
Чтобы очистить свою совесть, я решил еще раз отправиться на улицу Руайе.
Когда Мишель открыла дверь, я сразу же понял, что она кого-то ждала. Увидев меня, она разочарованно сказала:
— А, это вы…
Ее разочарование было болезненным для меня:
— Извините, что побеспокоил вас в такое время, мадмуазель, тем более, что я даже точно не знаю, зачем пришел.
Она удивленно посмотрела на меня:
— Вы не знаете…
— Это может показаться вам мальчишеством, но мне вдруг пришла в голову мысль, что я вам нужен. То есть, извините, — нужна моя помощь.
Она прошептала:
— Входите.
Закрыв дверь, Мишель прислонилась к ней.
— У вас удивительная интуиция, месье комиссар, хотя я и была уверена, что этот вечер проведу одна.
— Одна? А месье Вальер…
— Он не пришел.
Она сдерживалась изо всех сил, но все-таки расплакалась.
Это выбило меня из колеи. Неуклюже, стесняясь, я взял ее за плечи:
— Мадмуазель, что случилось?
— Простите меня за эту минутную слабость, господин комиссар. Но после всего, что произошло, на меня обрушился еще один удар, очевидно, наиболее жестокий, — разрыв с Пьером.
— Разрыв?
— Он позвонил мне и дал понять, что его родители больше не хотят ничего слышать о нашем браке.
— Но почему?
— Вальеры очень строги в своих принципах. Наверное, они не хотят, чтобы в их семью вошла дочь убийцы и само-убийцы.
— А если выяснится, что ваши родители были убиты?
Она пожала плечами.
— Не думаю, чтобы они видели в этом большую разницу.
Стыдно сказать, но я почувствовал огромное облегчение, которое даже не пытался скрывать. Слова Мишель заставили чаще биться мое сердце, и даже голос стал более теплым.
Мы зашли в маленькую приемную, и Мишель предложила мне аперитив.
— Почему вы решили, месье комиссар, что я нуждаюсь в помощи?
— Ах да… Вы знали, что ваш отец застраховал свою жизнь в пользу жены и вас?
— Не очень хорошо.
Итак, существуют люди, считающие, что одновременная смерть ваших родителей — огромная удача для вас. Ведь она принесет вам миллионы, оставленные вашим отцом в компании «Бьенфезане». А отсюда — лишь один шаг к мысли о том, что вы хотели бы получить деньги как можно скорей.
— Хватит ли этой суммы для возмещения убытков мадам Триганс?
— У вас вполне достаточно денег, чтобы вернуть долг мадам Триганс. Должен заметить, что кроме страховки отец оставил вам еще около тридцати миллионов в банке.
— Не понимаю, в чем же тогда дело?
Я не знал, как ей это объяснить.
— Поймите, мадмуазель, люди, которые расследуют дело ваших родителей, предполагающие убийство, вынуждены рассматривать все версии, даже самые невероятные. Поверьте, это не моя идея…
Боль исказила ее лицо. Тихо, почти неслышно, она задала мне вопрос, которого я ждал и боялся:
— Вы хотите сказать, месье комиссар, что кто-то считает меня убийцей родителей?
— Да, мадмуазель.
Она глухо простонала и конвульсивно выпрямилась в кресле.
— Ни одна беда не обходит меня…
* * *
Когда я уходил, Мишель вдруг сказала:
— Да, по поводу этого имени, Изабель, которому вы придаете такое значение… кажется я нашла то, что вам нужно.
— Правда?
— Подождите, пожалуйста, минутку.
Она вышла из комнаты и почти сразу же вернулась, держа в руках что-то, похожее на папку.
— Вот что я нашла в бумагах мачехи.
Папка оказалась рукописью романа под названием «Пой, Изабель!».
— Ваша мачеха сочиняла?
— Я об этом ничего не знала.
Неужели эта Изабель, настойчивую заботу о которой разыгрывала Элен Ардекур, была вымышленным персонажем!
— Позвольте мне взять рукопись.
— Пожалуйста.
Я встал.
— Похороны, если не ошибаюсь, завтра?
— Да, в одиннадцать.
— Я приду на кладбище, мадмуазель.
— Рада узнать, что там будет хоть кто-то, на чье сочувствие я могу рассчитывать.
Вернувшись к себе, я подумал, не совершил ли я самую большую глупость в жизни.
Глава 4
Я направил Эстуша смешаться с толпой участвующих в похоронах Анри и Элен Ардекур; сам же решил присоединиться к похоронной процессии уже на кладбище Крэ-де-Рош. А пока мне было необходимо сделать то, что я откладывал до сих пор — нанести визит семейству Вальеров, живущему на площади Жан-Плотон.
По легкой схожести с Пьером я догадался, что дверь мне открыл месье Вальер-старший. Основной чертой внешности отца и сына было безволие. Теперь я понимал, от кого у Пьера эта нераздельная с его личностью трусость. Одутловатое лицо, скользящий взгляд, нерешительные жесты не располагали к Жюлю Вальеру.
— Месье Вальер?
— Да.
— Комиссар Лавердин из Национальной Безопасности.
— …?
— Можно с вами переговорить, месье?
— Переговорить со мной?
Он растерянно оглянулся вокруг, словно в поисках помощи. Затем, придя в себя, он решился:
— Конечно, проходите, прошу вас.
Меня провели в кабинет, обстановка которого, вопреки всему слышанному мною раньше, вовсе не свидетельствовала о процветании. Когда мы устроились друг против друга, месье Вальер обеспокоенно спросил:
— Чем могу быть полезен, месье комиссар?
— Я видел вашего сына Пьера…
— С мадмуазель Ардекур?
— Именно. Кажется, они давно помолвлены?
Он неопределенно махнул рукой.
— О… помолвлены… Это не совсем точно… Ну, скажем, они очень давно знакомы, еще с детства. И отсюда — какие-то планы… Вы понимаете?
— Пока не очень, месье Вальер.
— Ну хорошо, я объясню подробнее: действительно у месье Ардекура, который был моим хорошим другом, и у меня самого были планы союза между нашими детьми, но это было очень давно!.. и потом, последние события…
Он казался очень несчастным.
— Вы должны понять, что родителям, чье имя всегда оставалось незапятнанным, есть о чем подумать.
— Мне кажется, месье Вальер, что мадмуазель Ардекур не может нести ответственности за драму, которая произошла в ее отсутствие?
— Я ничего не знаю, месье комиссар! Но вы знаете, как злы люди вокруг… что они говорят. Думаю, нам следует подождать, прежде чем на что-то решаться…
— Вы считаете, что ваше колебание будет приятным для мадмуазель Ардекур?
Он заложил палец за воротник рубашки, словно ему стало трудно дышать.
— Месье комиссар, я знаю, что мое решение может показаться бесчеловечным… но когда работаешь в торговле, — приходится считаться с мнением клиентуры. А она, по крайней мере, сейчас не поймет, почему мы принимаем в свою семью человека, родители которого так… так странно… поступили. И потом эта история с исчезнувшими двадцатью миллионами! Ведь даже в старых франках, — это очень значительная сумма.
— Но ведь никто вас не просит ее вернуть, месье?
— Конечно… Но начинать супружескую жизнь с такими долгами…
Прежде, чем я успел объяснить, что у мадмуазель Ардекур не будет трудностей с возвратом мадам Триганс двадцати миллионов, оставленных у ее отца, дверь внезапно открылась, и в комнату вошла сухая и поджарая женщина с твердым взглядом. При виде ее Жюль Вальер издал вздох облегчения. Наконец-то пришло долгожданное подкрепление!
— Моя жена Жермен… Месье комиссар Лавердин, из Национальной Безопасности.
Она смеряла меня взглядом с головы до ног.
— Официальное расследование, месье комиссар?
— Не совсем так, мадам, мне нужны только кое-какие сведения.
— По какому поводу? Думаю, что наши дела в порядке. Никто не может пожаловаться на мужа ни в чем.
— Речь идет об Ардекурах, мадам.
— У нас нет ничего общего с этими людьми.
— Позволю себе заметить, мадам, что Ардекуры и вы были очень дружны?
— Возможно прежде, но сейчас…
— Сейчас, когда они мертвы?
— Да, сейчас, когда они умерли, и, учтите, при весьма скандальных обстоятельствах.
Я с трудом сдерживал себя.
— Мадам, поскольку вы и ваш муж хорошо их знали прежде, я хотел бы получить от вас некоторые сведения о месье и мадам Ардекур. Для того, чтобы установить причины трагедии, нам нужно иметь более точные представления об этих людях.
Ответил Жюль Вальер.
— Должен сказать вам правду, месье комиссар, я любил Анри Ардекура. Мы были знакомы более двадцати лет, и я считал его очень честным человеком.
Его жена пробормотала:
— Какой глупец!
— Конечно, он не всегда проявлял твердость, необходимую, если не в работе, то в семье обязательно.
— Что вы хотите этим сказать, месье?
Мадам Вальер приняла эстафету.
— Мой муж хочет сказать, месье, что Анри Ардекур женился во второй раз на особе, которая недорого стоила!
Я притворился заинтересованным:
— Недорого стоила?
— Она его обольстила! И водила своего мужа за нос!
Невооруженным глазом было видно, как мадам Вальер раздражала власть Элен Ардекур над своим мужем.
— Он просто ни в чем не мог ей отказать и тратил на нее сотни и тысячи! Кстати, то что произошло, еще раз доказывает, что именно она его разорила!
— Что вы имеете ввиду, мадам?
— А то, что нет нужды доказывать, кто потратил или для кого истратили эти пропавшие двадцать миллионов! Она одевалась, как… я не могу произнести это слово! И как же не стыдно женщине в ее возрасте: платья, меха, драгоценности! Позор! Позор, вы слышите, месье комиссар!
— После того, что я узнал от вас, мадам, мне кажется странным, что у вас были планы о союзе вашего сына с Мишель Ардекур?
— Ах, это! Я всегда была против. Но ведь двое простофиль, я говорю о своих муже и сыне, позволили себя околпачить. Только меня, месье комиссар, так просто не провести! Мишель Ардекур, правда, уже наложила лапу на Пьера. А этот большой ребенок не может отказать ей ни в чем. Ему льстило, что у него будет образованная жена.
— Признайтесь, мадам, что это не так плохо?
— Возможно, что это неплохо, но лично я предпочитаю честных девушек.
— А вы считаете, что мадмуазель Ардекур не такая?
— Вы меня рассмешили! Девушка, живущая одна в Лионе?!
— Она ведь учится там?
— У этой учебы есть другая сторона, вот что я думаю!
Месье Вальер попытался смягчить гнев жены.
— Жермен, кажется, ты немного преувеличиваешь?
— Замолчи! Если бы я не прекратила ваши глупости, что бы с нами было сейчас, а? Я, конечно, не говорю, месье комиссар, что я рада случившемуся, но это развязывает мне руки! Теперь и речи быть не может о браке Мишель Ардекур с моим сыном. Мы честные люди! И если мой муж или Пьер забудут это, то я им напомню!
Вряд ли с Жермен Вальер было покойно жить под одной крышей. Ее муж, сжавшийся в кресле, был похож на большую медузу, выброшенную на сушу, у которой не было сил вернуться в море.
— А ваш сын согласен, мадам?
— С чем согласен?
— С разрывом его помолвки?
— Попробовал бы он не согласиться! Тогда бы ему пришлось выбирать между ней и нами. Пока я жива, в мой дом не войдет дочь самоубийцы, убийцы и вора!
Я немного помолчал.
— Мадам Вальер, а вы никогда не допускали, что месье и мадам Ардекур могли стать жертвами двойного преступления?
— Двойного преступления?
— В конце концов, почему кто-то, кто украл двадцать миллионов, не мог убить мужа и жену, чтобы избавиться от свидетелей?
Поначалу это ее озадачило:
— Что за странная мысль! Кажется, вы не там ищете, месье комиссар? И потом, даже если то, о чем вы говорите, так и есть, — мне все равно. В нашем доме никого не убивали!
Не желая больше с ней разговаривать, я обратился к месье Вальеру:
— Кажется, вы работаете в той же области, что и покойный месье Ардекур?
— Да, я тоже торгую недвижимостью. Но всегда занимался более крупными делами, чем были у бедного Анри.
— Позвольте спросить, как идут ваши дела, месье Вальер?
Жермен Вальер закричала:
— А почему это вас беспокоит, месье комиссар? Вы ведете расследование по делу Ардекуров или по нашему?
— Пока по Ардекурам, мадам Вальер.
— В таком случае, разговор окончен, и я прошу вас уйти.
— С удовольствием, мадам.
Провожая меня к двери, Жюль Вальер смущенно, словно большой ребенок, застигнутый за едой недозволенных сладостей, прошептал:
— Месье комиссар, Жермен сейчас очень взвинчена. Поверьте, обычно она более приветлива… Но в эти последние дни с ней очень трудно…
* * *
Я сворачивал на улицу Арколь, когда услышал позади шаги бегущего человека. Обернувшись, я увидел Пьера Вальера.
— Месье комиссар, когда вы разговаривали с моими родителями, я не выходил из комнаты, но все слышал.
— Почему же вы не вмешались?
Он склонил голову.
— Смешно признаться, месье комиссар, но я боюсь матери. Я ее всегда боялся и ничего не могу поделать с этим страхом. Мне нужно жениться и уехать отсюда, но, к сожалению, кроме как работать у отца, я ничего больше не умею.
— Неужели вы бросите Мишель Ардекур, как того хочет ваша мать?
— Но она больше ничего не хочет даже слышать об этом браке.
— А вы?
— Я люблю Мишель и очень хочу на ней жениться.
— Когда же вы это сделаете?
— Когда смогу.
— То есть, когда ваша мамочка разрешит вам.
В моем голосе, очевидно, было столько презрения, что он покраснел до ушей.
— Пожалуйста, не будьте так жестоки, месье комиссар. Если вы увидите Мишель, передайте, чтобы она немного подождала… Все это пройдет… Скажите, чтобы она не сомневалась во мне.
— По-моему, вы слишком много хотите от Мишель.
— Она меня знает… Она знает, что пока я не могу перечить матери. Но я чувствую, я знаю, что такой день обязательно наступит.
— Вы не идете на похороны Ардекуров?
— Родители считают, что нас это может скомпрометировать.
Я не ответил. Он поднял глаза, и, увидев выражение моего лица, снова покраснел:
— Вы правы! Я пойду…
И он остановил такси.
* * *
Поднимаясь по длинной лестнице, ведущей к улице Вечности, я размышлял об этом странном семействе, где одна женщина держала в страхе двух мужчин. От Жермен Вальер моя мысль как-то неосознанно перешла к Элен Ардекур, тонкой, хрупкой и нежной, выдумщице, пишущей роман, очевидно, для того, чтобы пожить какой-то иной жизнью… Я еще не прочел ее роман до конца, но должен признаться, что прочитанные страницы не особенно вдохновляли меня продолжать чтение: стиль был детским, а содержание первой главы ужасно банальным. Удивительной женщиной была эта мадам Ардекур. У меня складывалось впечатление, что ее жизнь была менее значимой, чем ее смерть. Я вновь видел ее сидящей в моей машине, вспоминал, как она питалась походить на киноактрис, которые ей нравились, и питалась разыграть передо мной сцену отчаяния. Бедная Элен Ардекур… Она даже не подозревала, что у нее действительно есть причина бояться…
Я пришел на Крэ-де-Рош к концу похорон. Склеп Ардекуров располагался на старом кладбище недалеко от монументальной могилы, — памятник, который изображал сидящего Моисея, устремившего свой взор в вечность. Я осторожно пробирался к яме, уже готовой принять оба гроба. Мишель заботливо поддерживали две женщины, очевидно, соседки. Позади стояли люди, внешний вид которых, в основном, указывал на их принадлежность к кварталу Крэ-де-Рош. Среди пришедших стоял, опустив голову, месье Понсе. В толпе я обнаружил Эстуша, придавшего лицу соответствующее выражение, и, наконец, Пьера Вальера. Ему хватило храбрости прийти, но подойти к невесте он, очевидно, побоялся. Простит ли ему когда-нибудь Мишель? Священник читал заупокойные молитвы, мое же внимание вдруг привлек месье Понсе. Вместо того, чтобы, опустив глаза, слушать молитвы, он с интересом разглядывал что-то, находящееся справа от меня. Проследив за его взглядом, я пришел к выводу, что это был недавно очищенный надгробный камень. Я обошел вокруг всех сопровождавших траурную процессию и стал как раз напротив того места, где был прежде. Отсюда мне было отчетливо видно лицо месье Понсе, и меня поразило его выражение. Было понятно, что его мысли витают где-то очень далеко от кладбища.
Траурная церемония закончилась. Обождав, чтобы все присутствовавшие вышли с кладбища, я вернулся обратно и подошел к могиле, с которой не сводил глаз месье Понсе.
Эта могила не представляла бы собой ничего необычного, если бы вдруг я не прочел имени, начертанного на ней — Изабель! Это имя с певучими слогами преследовало меня! Изабель… Изабель… Изабель… Словно колокольчик, звенящий в памяти и указывающий, куда идти. Где же настоящая Изабель, которую я ищу? Неужели она лежит в этой могиле? И вообще, та ли это женщина, о которой мне говорила Элен Ардекур, и в существовании которой я был не совсем уверен? Или Изабель это вымышленное создание, героиня посредственного романа? Как бы то ни было — месье Понсе не напрасно разглядывал эту могилу.
* * *
Месье Понсе, очевидно, был так взволнован, что даже забыл вытащить ключ из замка входной двери. Бесшумно повернув его, я вошел в квартиру. Месье Понсе я увидел со спины, сидящего за кухонным столом:
— Приятного аппетита!
От неожиданности он подскочил:
— Вы?
— Ключ был в замке, месье Понсе, и я не стал вас беспокоить звонком.
— Что вам еще от меня нужно?
— Расскажите мне об Изабель, месье Понсе.
— Это уже мания, месье комиссар! Я же вам сказал, что не знаю никакой Изабель!
— Я имею все основания утверждать, что вы лжете!
— Я не позволю вам…
— Хватит! Сядьте!
Долгие годы службы приучили его к подчинению, и он сел. Я устроился рядом и продолжал:
— Не нужно играть в прятки, месье Понсе: я был на похоронах Ардекуров и все время наблюдал за вами.
Он непонимающе посмотрел на меня.
— Ну и что?
— А то, месье Понсе, что похороны вас не очень интересовали. Вы не сводили глаз с могилы, на которой, какая случайность! было написано «Изабель».
Он пробормотал:
— Но я действительно не знаю и не знал никогда женщину с таким именем.
— Тогда почему же вас так интересовала эта могила, месье Понсе?
Он пожал плечами.
— Я просто смотрел в ту сторону, как мог бы смотреть в любую другую.
— Я — комиссар полиции, месье Понсе. Мне часто приходилось иметь дело с очень упрямыми людьми. И поверьте, что мне всегда удавалось убедить их начать говорить. Предупреждаю, что не оставлю вас в покое до тех пор, пока не узнаю, кто такая Изабель. А кстати, мадам Ардекур давала вам читать роман, который она писала?
— Роман? Мадам Элен? Это шутка?
— Нет, не шутка. Мадам Ардекур написала один роман. И знаете, как он назывался?
— Нет.
— «Пой, Изабель»[244]. Правда странно?
— Роман меня не интересует.
— Зато вас интересует Изабель.
Он опять пожал плечами:
— У вас навязчивая идея.
Я встал и сделал вид, что хочу уходить.
— Вы ужасно упрямы, месье Понсе, и все
же вы мне симпатичны. Поэтому я хочу объяснить вам ход моих мыслей. Прямо или косвенно кто-то по имени Изабель связан с трагической смертью Ардекуров и кражей двадцати миллионов. Вы же, месье Понсе, знаете эту Изабель. Я не утверждаю, что вы знаете о ее роли в преступлении, нет, вы просто ее знаете.
Он ухмыльнулся:
— Это еще нужно доказать, месье комиссар.
Я хотел ответить что-нибудь язвительное, но вдруг мысль, связанная с названием романа, как молния сверкнула у меня в мозгу.
— А не задумали ли вы чего-то, месье Понсе?
Он побоялся встретиться со мной глазами.
— Я… я не понимаю!
— Месье Понсе, вы оказались без работы, ведь Мишель Ардекур не захочет продолжать дело отца. Значит, вы оказались на улице, и, как мне кажется, с небольшими сбережениями. Вот я и спрашиваю себя, а не собрались ли вы шантажировать Изабель, чтобы ваша сумма в банке стала более значительной?
— Займитесь лучше настоящими делами и оставьте меня в покое!
— Но ведь шантаж — это как раз такое дело, которым я обязан заниматься, месье Понсе. В вашем случае оно может оказаться очень опасным. Не забывайте о смерти месье Ардекура и его жены, и до скорой встречи!
* * *
Леони Шатиняк я застал за смакованием салата из одуванчиков с колбасой.
— Ты странно выглядишь, малыш, что случилось?
— Леони, ты должна постараться вспомнить… Знаешь ли ты кого-нибудь по имени Изабель?
Она задумалась.
— Изабель? Не здешнее имя. Но, кажется, я его уже слышала… Подожди, малыш, я должна привести в порядок свою память… Не торопи меня, а то я запутаюсь. Все прожитые годы смешались в голове. Но дай мне время, и может, я припомню то, что тебя интересует
* * *
В кабинете я увидел Даруа, который вернулся из Лиона. Увы, он не привез ничего утешительного. В институте никто не мог сказать определенно, видел ли он Мишель в тот день. Домохозяйка тоже ничего не помнила. Единственное, что она сказала, это то, что девушка в тот день вышла в обычное время.
Узнай Главный комиссар об этих сведениях, он бы тут же заключил, что у мадмуазель Ардекур было предостаточно времени спокойно вернуться домой, в Лион.
В свою комнату я вернулся разочарованным и взвинченным. Мадам Онесс, которая ждала моего прихода, чтобы поболтать, разозлилась, встретив холодный прием, и закрылась у себя в комнате, хлопнув дверью. Но у меня было о чем подумать, и я не обратил на нее никакого внимания.
Самое трудное в расследовании — не дать себе увлечься какой-то одной деталью, иначе начинаешь все сводить к ней и придавать ей чрезмерное значение. Не делаю ли я этого с Изабель? Скорее из чувства долга, а не из любопытства я заставил себя прочесть роман Элен Ардекур до конца. Он представлял собой типичную мелодраму. Писательница сделала своей героиней женщину, обойденную вниманием и непонятую своим мужем. Изабель, естественно, обладала всеми достоинствами: красотой, элегантностью, умом и добрым сердцем. Эта идеальная женщина безумно скучала с мужем, которого занимали только цифры. Предоставленная самой себе, она целыми днями гуляла по улицам правого берега Сены, с завистью поглядывая на влюбленные парочки. Как водится в таких романах, на одной из площадей Изабель повстречала Луи. Он назвался художником и пожаловался на то, что его никто не понимает. Все началось с банального разговора, затем последовали новые встречи, которые высветили общие привязанности и вкусы. Короче, Изабель в один прекрасный день позабыла о своем благоразумии и стала любовницей Луи. Но когда он узнал о социальном происхождении своей возлюбленной, он цинично потребовал деньги за свое молчание. Некоторое время Изабель платила ему, но в один из вечеров она бросилась в ноги к мужу и исповедовалась ему в своих грехах. Банкир, признав, что он частично тоже был виновен в грехе своей жены, простил ее, и сам пошел на встречу с Луи. Благородный банкир высказал подлому негодяю все, что он о нем думал. Разговор перешел в драку, и, в итоге, муж Изабель убил ее любовника. Примиренные общей тайной, Изабель и ее муж вновь обрели вкус к жизни. После нескольких недель сильных переживаний Изабель успокаивается и вновь начинает петь.
Нужно признать, что наши бабушки, жившие в начале века, были бы в восхищении от такого сюжета. Бедная Элен Ардекур… Она облегчала душу при помощи вымышленного персонажа и сама настолько поверила в свои призраки, что говорила об Изабель с каждым, кто проявлял к ней участие.
Я отложил рукопись на ночной столик и вдруг подумал о месье Понсе. Вряд ли мадам Ардекур давала ему читать свое произведение. Почему же тогда имя Изабель так его заинтересовало? Быть может, существует и настоящая Изабель, кроме той, придуманной?
* * *
Из комиссариата я позвонил Главному и рассказал ему о визите к Вальерам и погребальной церемонии на кладбище. Упомянув о разговоре с Понсе, я подробно остановился на содержании рукописи Элен Ардекур. Когда я окончил, месье Ретонваль высказал свое мнение:
— Я не сомневаюсь, Лавердин, в вашей правдивости и точности наблюдений. Я уверен, что мадам Вальер — это настоящая фурия, а месье Вальер и его сын — жалкие подобия мужчин, что месье Понсе что-то от нас скрывает, и, наконец, что покойная Элен Ардекур была из тех женщин, которые считают себя непонятыми. И все-таки у меня такое чувство, что вы не совсем свободны в ваших выводах.
— Что вы хотите этим сказать, месье Главный комиссар?
— Я хочу сказать, что вы слишком много думаете об одном из участников событий, причем с такой симпатией, что ваши суждения могут оказаться предвзятыми.
— Я не очень хорошо понимаю смысл ваших слов, месье Главный комиссар.
Он проворчал:
— Вы отлично понимаете, что я хочу сказать, Лавердин. Признайтесь, — вы уверены, что Мишель Ардекур не… что она… что вы направляете расследование в нужную сторону?
— Мне трудно сказать.
— Нужно всегда остерегаться неожиданных симпатий. Красивое личико — далеко не всегда зеркало чистой души. Единственный способ не ошибиться — это подозревать всех. Я уже в том возрасте, когда все Мишели в мире не смогут тронуть моего сердца, поэтому считаю себя более объективным. Вам, очевидно, кажется, что я пытаюсь расстроить ваш роман?
— Нет, нет, месье Главный комиссар.
— Да, Лавердин, будь я в вашем возрасте и на вашем месте, я отреагировал бы так же. Теперь о деле: прикажите Эстушу и Даруа следить за месье Понсе. Посмотрим, не скрывает ли он чего-то от нас. Ведь если я правильно вас понял, вы подозреваете его в том, что он хочет шантажировать, кажется, эту Изабель?
— Я не смогу этого утверждать до тех пор, пока не получу доказательств существования Изабель.
* * *
Круг замкнулся, а я не продвинулся в расследовании дальше, чем в вечер убийства Ардекуров. Чем больше я думал о драме, тем больше убеждался, что убийцей был кто-то из близких Ардекуров. Пойти дальше в своих размышлениях я не решался, потому что сразу же наталкивался на Мишель.
Приказав Эстушу с завтрашнего дня не оставлять ни на минуту месье Понсе, я отправился на улицу Руайе.
Когда Мишель открыла мне дверь, ее лицо было бледным и заплаканным.
— Вы одна?
— Я теперь все время одна.
Мне пришла в голову мысль, которую я, не думая о последствиях, сразу выложил:
— Послушайте, сейчас прекрасная погода. Зачем сидеть здесь и плакать? Одевайтесь и давайте встретимся перед мужским лицеем. Я сейчас быстро возьму машину, и мы съездим на Пилат.
— После похорон моих родителей, месье комиссар, у меня нет особого желания развлекаться.
С трудом, но мне все же удалось ее уговорить. Выходя из дома Мишель, я чувствовал себя таким счастливым, что совершенно забыл о своей профессии и порученном мне расследовании.
* * *
Мы ехали медленно. На душе было настолько приятно, а небо и воздух были такими прозрачными, что наш разговор состоял из совершенно банальных фраз. Но внезапно, когда мы поднимались по склону Эссертин, моя спутница спросила:
— Месье комиссар, вы привезли меня сюда, чтобы допросить?
Я уверил ее в обратном, и это принесло ей заметное облегчение. Проехав Круа де Шобуре, мы свернули налево, по дороге, ведущей в Ля Жасери. Я остановил машину на поляне, у обочины дороги. Мы вышли, чтобы немного размяться. Рядом была роща, и взяв Мишель за руку, я пошел с ней к деревьям. Прогулка была приятной, и к моей радости настроение девушки стало меняться на глазах. Она даже однажды рассмеялась по какому-то поводу. Мое лечение оказалось успешным.
Мы присели на ковер из мха, и вдруг покой леса полностью передался нам. Мишель тихо сказала:
— Такое ощущение, что я где-то очень далеко… И нет никакого желания возвращаться к людям.
— Но ведь есть же такие, которые очень ждут вас!
Она с удивлением повернулась ко мне:
— Вы говорите о Пьере?
— Да, о вашем женихе.
Она грустно покачала головой.
— Я понимаю, что вопреки здравому смыслу питала на его счет чересчур много иллюзий. Я думала, что моя нежность придаст ему уверенности и твердости, которой у него нет. Но, боюсь, все мои усилия были напрасны. Я никогда не смогу ему простить его предательства. Разве это любовь, если она отступает при первом же препятствии?
Я не возражал против ее слов, и моя спутница продолжала:
— Еще маленькой девочкой я мечтала выйти замуж за Пьера Вальера и стать мадам Вальер. Почему? Да просто я не могла себе представить, что выйду замуж за кого-то другого. И только тогда, когда трагически погибли мои родители, я, наконец, прозрела.
— Мы все, в той или иной мере, подвержены иллюзиям. По-моему, и ваша мачеха…
— Элен? Что вы, — она была очень счастлива с отцом.
— Мне кажется, что ей было скучно.
— Почему вы так считаете?
— В противном случае она бы не написала этот роман…
— Вы имеете в виду рукопись, которую я вам передала?
— Да. Это совершенно банальная вещь, которая, однако, наталкивает на мысль, что ваша мачеха не была полностью счастлива с вашим отцом или, возможно, не была удовлетворена своим положением.
— Бедная мама… Она случайно оказалась, если можно так сказать, между двумя временными пространствами. По возрасту она принадлежала к поколению, время которого уже прошло, а по вкусам — больше походила на сегодняшнюю молодежь. Казалось, что от этого внутреннего разногласия она могла страдать. Но, напротив, — мачеха была свободна от всяких комплексов неполноценности. Возможно, иногда, она мечтала…
Мнение Мишель о ее бывшем женихе для меня было бесконечно приятным. С легким сердцем я пригласил ее в Ля Жасери, где в ресторанчике, построенном в деревенском стиле, перед огромным очагом в огромном зале мы поужинали простой, но вкусно приготовленной пищей. Наш разговор ни разу не коснулся смерти Ардекуров. Мишель рассказала о своей жизни, проходящей в учебе и безо всяких житейских забот, которая показалась мне довольно скучной. В свою очередь, я поделился воспоминаниями о своем детстве в квартале Крэ-де-Рош. Мы провели прекрасный вечер, и когда, в довершение всего, она разрешила называть ее просто Мишель и обещала звать меня тоже по имени, — рекомендации Главного комиссара полностью вылетели из моей головы. Мы уехали из Ля Жасери около десяти вечера и медленно спустились к Сент-Этьену, вспоминая о прекрасных мгновениях, которые мы только что испытали. Во избежание сплетен, я высадил Мишель Ардекур в том же месте, где мы прежде встретились, перед мужским лицеем.
Угрызения совести из-за того, что на сегодня все дела были заброшены, заставили меня заехать в комиссариат. Несмотря на позднее время Эстуш с Даруа меня ждали, и первый даже, казалось, растерял всю свою флегматичность.
— Патрон, нужно немедленно позвонить Главному комиссару. Есть неприятные новости!
— Что случилось, Даруа?
Он не успел ответить: Эстуш, протягивая мне трубку, сообщил, что Главный у телефона.
— Добрый вечер, месье Главный, комиссар.
— Где вы были, Лавердин! Вас везде разыскивают!
— Мне нужно было немного отдохнуть, и я позволил себе небольшую прогулку по склонам Пилата.
— Вы хотите сказать, что отдыхали один?
Лгать было незачем, — возможно, он уже обо всем знал.
— Нет, месье Главный, я был с мадмуазель Ардекур.
— Значит, все что я говорил вам, было напрасно? В первую очередь, Лавердин, вы — полицейский. Будьте добры, сначала дождитесь конца расследования, а уже потом занимайтесь романами. Хотя должен заметить, что в данном случае вам и мадмуазель Ардекур повезло.
— Не понял, месье Главный комиссар?
— Мадмуазель Ардекур повезло, что вечером она была с вами, Лавердин, и стало быть находится вне подозрений в новом преступлении, а вам повезло в том, что, сами того не подозревая, вы исключили одного из подозреваемых.
— Так что же, наконец, случилось, месье Главный комиссар?
— Пока вы прогуливались по склонам Пилата, был убит месье Понсе.
Глава 5
Я вышел из кабинета в три часа ночи, приказав Эстушу добраться в Лион до начала работы и передать месье Ретонвалю только что составленный мной рапорт. Я же планировал быть в городе к середине дня.
Теперь уже никто не мог сомневаться, что смерть супругов Ардекур была результатом двойного убийства. Это было единственной положительной стороной нового преступления.
Месье Понсе жил один, и рассчитывать на показания любезных соседей не приходилось. Убийца сделал свое дело достаточно тонко, что давало повод думать о нем, как о неплохом знатоке людей. Борьбы не было. Войдя, я увидел месье Понсе сидящим в кресле, по воле случая, в той же позе, что и его покойный хозяин, — уронив голову на стоящий рядом стол. Его череп был проломлен тупым и довольно тяжелым предметом. Было очевидно, что месье Понсе нисколько не остерегался своего посетителя, что позволило последнему зайти сзади и нанести удар. Значит, он хорошо знал убийцу. То же впечатление осталось у меня и от трагедии в доме Ардекуров. В обоих случаях жертвы ничего не предприняли для самозащиты, что говорило о их полном доверии к убийце.
* * *
В Лионе меня встретили совсем даже не плохо. Главный, в присутствии Дивизионного забыв о своих предупреждениях по поводу моих увлечений, отметил мою инициативность и сделал то же заключение, что и я: убийца Ардекуров своим новым преступлением подтвердил принадлежность к кругу знакомых несчастных жертв. Кроме того, он считал, что Понсе убили потому, что он догадывался, кто украл двадцать миллионов и, следовательно, был убийцей Ардекуров.
— Я надеюсь, вы тоже так думаете, Лавердин?
Вопрос месье Агрийи оборвал мои размышления.
— Не знаю, месье Дивизионный комиссар.
Оба начальника посмотрели на меня с удивлением.
— Если вы не согласны с чем-то в наших выводах, скажите прямо!
Месье Ретонваль улыбнулся.
— Увидите, сейчас он опять вспомнит о своей Изабель!
Я посмотрел ему прямо в глаза:
— Именно так, месье Главный комиссар. Я почти уверен, что месье Понсе убили из-за того, что он знал Изабель и собирался ее шантажировать.
Месье Агрийи подскочил:
— Вы что же, считаете ваше утверждение достаточно серьезным?
Я снова терпеливо рассказал о впечатлении, которое произвел на меня Понсе во время последнего визита, и его странное поведение на кладбище.
Главный начал нервничать:
— Впечатления, впечатления, все время впечатления! Но, черт возьми, Лавердин, следствие не может основываться на впечатлениях!
Дивизионный остановил его:
— Тише, Ретонваль, не кричите. Я хорошо понимаю Лавердина. Настоящее или предполагаемое существование Изабель привносит… как сказать… поэзию, что ли, в это дело, которое, между нами говоря, кажется мне достаточно грязным. Но не забывайте, Лавердин, что в нашей профессии чаще приходят к искомому результату, следуя по пути, проторенному предыдущими поколениями. Вдохновение может вас завести на неведомую дорогу…
* * *
Я выехал в Сент-Этьен в скверном настроении. В комиссариате меня ждал Пьер Вальер. Его красивое лицо здорово осунулось. Не оставив ему времени на обычные приветствия, я перешел в наступление:
— Что-то не ладится, месье Вальер?
Его взгляд напомнил мне глаза собаки, которую ударили.
— Все не ладится, месье комиссар.
— Объясните, пожалуйста.
— Вчера вечером я зашел к Мишель… Ее не было дома… Я приходил еще и еще… И каждый раз напрасно… Тогда я решил ждать ее до тех пор, пока она не придет. Когда она вернулась, то рассказала, что провела вечер с вами.
— Что же из этого следует?
— А то, месье комиссар, что я очень несчастен…
— Весьма сожалею…
— Вы становитесь между Мишель и мной.
— Месье Вальер, вы говорите глупости. Я встречался с мадмуазель Ардекур потому, что у меня были к ней вопросы.
— Которые вы ей задавали в Ля Жасери?
— Я мог это делать в любом месте. Кстати, позвольте вам напомнить, что мадмуазель Ардекур оставалась совсем одна наедине с несчастьем, месье Вальер. Я поступил так, как мне подсказывала моя совесть…
— И красота Мишель, не так ли?
Он сделал все, чтобы я его выставил вон и как можно скорее.
— Месье Вальер, я не понимаю, что вы хотите этим сказать…
— Я помолвлен с Мишель!
— Кажется, в последнее время вы забыли об этом?
— Это мои родители… У них принципы! А причем же здесь моя судьба? Я решил жить по-своему, месье комиссар. Я люблю Мишель, и она любит меня. Остальное — неважно. Вот что я хотел вам сказать.
— Мадмуазель Ардекур знает о вашем визите?
— Естественно.
Удар был неожиданным, но я нашел выход:
— Вы знаете, что случилось вчера вечером, месье Вальер?
— Нет, а что?
— Вчера вечером убили месье Понсе.
Мне показалось, что он близок к обмороку:
— Это… это не… это неправда?
— Извините, месье Вальер, но я очень тороплюсь.
Мне было очень обидно за то, что Мишель Ардекур оказалась обычной женщиной, не имеющей сил устоять перед смазливым парнем. Еще я был обижен на своих начальников, которые не воспринимали моих гипотез об Изабель. И наконец, я был обижен на самого себя за то, что дал волю своим чувствам. Короче, я был обижен на весь мир.
* * *
В тишине кабинета, которую ничто не нарушало в это время, я вновь и вновь возвращался к событиям последних дней. Мне необходимо было решить мучившее меня предположение. Уверенность в том, что убийца месье Понсе находился на кладбище во время похорон Ардекуров и убил несчастного потому, что перехватил его пристальный взгляд на могилу с именем Изабель, была сильнее меня. Я напрасно повторял, что все это — игра моего воображения, но тем не менее постоянно сводил вместе странный взгляд Элен Ардекур и имя Изабель. Факты же утверждали, что Изабель — всего лишь героиня посредственного романа, и не более того…
Не зная, в каком направлении вести дальнейшие поиски, я решил для начала съездить в Анноне. Ведь именно там я впервые увидел мадам Ардекур. Следующее мое действие, возможно, не делало мне чести, но я приказал Даруа начать собирать материалы о семье Вальеров.
* * *
Дорога в Анноне оживила мои воспоминания об Элен Ардекур. Я узнавал места, проезжая мимо которых она говорила мне об Изабель… На поворотах я ощущал, как соприкасаются наши плечи. Путь от Сент-Этьена до Анноне помог моей памяти вернуть несколько часов из жизни мадам Ардекур. Приехав, я сразу же расспросил о квартале, в котором находился приют Святой Кристины, и направился туда. Сестра-привратница провела меня в приемную, где попросила подождать прихода настоятельницы, матери Аньес. Настоятельница оказалась высокой худощавой женщиной с мужской походкой и необычайно ласковым светлым взглядом. Она принадлежала к тем людям, которые ни при каких обстоятельствах не выражают своего удивления. Мое удостоверение не произвело на нее никакого впечатления. Она спокойно предложила мне сесть и поинтересовалась, чем могла бы быть полезна.
— Я вам недавно звонил, матушка, по поводу мадам Ардекур.
— Бедная мадам Элен…
— Матушка, мы почти установили, что мадам Ардекур и ее муж стали жертвами преступника.
Настоятельница перекрестилась.
— Зло повсюду… и мы должны всегда бороться со злом.
— Мы занимаемся тем же, только, конечно, по-другому. Скажите, вы давно знаете мадам Ардекур?
— Думаю, четыре или пять лет.
— Если бы вам пришлось ее описать, как бы вы это сделали?
— Молодая женщина, которая пользовалась мирскими удовольствиями в меру и брала от них ровно столько, чтобы не вести уж слишком аскетическую жизнь. Тверда в вере, во всяком случае, набожна. Но больше всего в ней меня восхищало ее отношение к нашим подопечным. Ей нравилось утешать этих бедных людей, зачастую покинутых и забытых родственниками. Она приезжала к ним каждую неделю, ну а если уж не могла приехать, то всегда старалась меня предупредить. Доброй души человек, месье.
— Она приезжала каждый вторник?
— Каждый вторник, и оставалась с нами приблизительно до четырнадцати часов.
— Я просил бы вас, мать настоятельница, постараться вспомнить, не менялись ли привычки и поведение мадам Ардекур в течение того времени, что вы ее знаете?
— Было время, когда она очень беспокоилась о своей дочери.
— Мишель?
— Да, ее звали так. Из того, что мадам Ардекур мне иногда рассказывала, я поняла, что девушка собиралась выйти замуж за человека, не заслуживающего стать зятем Ардекуров. Мадам очень надеялась, что отъезд дочери на учебу в Лион прекратит эти отношения.
Итак те, кто утверждал, что Ардекуры противились союзу Пьера и Мишель, были правы. Мать Аньес продолжала:
— Примерно год тому назад мадам Ардекур впервые упомянула о своей кузине по имени Изабель. Мне показалось, что заботы о ней даже оттеснили на второй план судьбу Мишель.
— А что именно рассказывала мадам Ардекур о Изабель? Может, она упоминала о ее семейном положении?
— Больше ничего.
— Быть может, она говорила о ее внешности, возрасте?
— Я не помню.
— Должен вам сказать, матушка, что по моим данным этой Изабель никогда не существовало.
Она удивленно посмотрела на меня.
— Получается, месье комиссар, что мадам Ардекур… воспользовалась моей доверчивостью?
— Не совсем так, мать настоятельница. Видите ли, мадам Ардекур написала роман под названием «Пой, Изабель». Очевидно, она пыталась придать этой Изабель некую реальность существования. Так иногда поступают авторы, искренне верящие и любящие своих героев.
— В это очень трудно поверить, месье комиссар, потому что мадам Ардекур серьезно беспокоилась об Изабель и часто молилась о спасении ее души.
— Она вам не говорила о причинах этих переживаний?
— Никогда. И кроме того, месье, я не имела право позволять себе ее расспрашивать. Единственное, что я еще могу вам сказать, это то, что в последнее время беспокойство за кузину переросло почти в панику, и примерно неделю назад она просила меня отслужить акафист о спасении души Изабель.
Возможно ли, — подумалось мне, — чтобы писатель настолько уверовал в реальность существования своего персонажа?
Возвращаясь обратно, я убеждал себя, что не мог стать, уподобляясь матери Аньес, жертвой фантазий Элен Ардекур. Она говорила об Изабель с настоятельницей точно так же, как и со мной. Похоже, ей необходим был эффект, произведенный рассказом о несчастной жизни ее героини. Продолжая настойчиво думать об этой загадочной личности, я вдруг поразился одной своей мысли: как бы ни была богата фантазия человека, он не станет платить за службу о спасении души кого-то, кто не существует, особенно будучи настоящим верующим католиком! Это было бы не только неоправданно, но еще и греховно!
Мой вывод был окончательным — Изабель существует.
* * *
Пришедший около шести вечера Даруа сообщил мне, что у семьи Вальеров имелись серьезные финансовые затруднения. Речь шла о значительной сумме, которую они задолжали метру Секондену, нотариусу с улицы Анри-Гоннар, и некоему месье Шосси, бизнесмену, живущему по улице Же-де-л'Арк. Эта новость вызвала у меня злорадную улыбку. Не откладывая дела в долгий ящик, я тут же договорился по телефону о встрече с метром Секонденом и месье Шосси.
Без особых затруднений, лишь предъявив свое удостоверение, я получил справку от нотариуса о том, что долг месье Вальера в его бюро составлял около пяти миллионов старых франков. Нотариус также добавил, что не считает себя виновным в разглашении тайны своего клиента, так как последний недавно возместил весь долг.
Месье Шосси оказался куда менее любезен. Он заметно опасался того, чтобы полиция не занялась его досье. Скорее всего он давал деньги в рост. Жюль Вальер одолжил у него семь миллионов старых франков. Но и здесь меня ждало немалое удивление: Жюль Вальер вернул долг в тот же день. Итак, сведения, полученные от нотариуса и бизнесмена, давали основания для проведения расследования о финансовых делах семьи Вальеров. Садясь в машину, я думал о странном совпадении: сразу же после смерти Ардекуров Жюль Вальер смог найти двенадцать миллионов франков, тогда как многие месяцы его счета не были оплачены. Я решил немедленно поехать на площадь Жан-Плотон.
Дверь открыл месье Вальер. Его обычно ничего не выражающее лицо при моем появлении стало очень испуганным. Он пробормотал:
— Месье… месье комиссар… моя жена… ее нет и…
— Я хотел бы поговорить не с вашей женой, месье Вальер, а с вами.
Это его удивило. Очевидно, этого человека никто не принимал всерьез. Он проводил меня в уже знакомую комнату, и, как только мы сели, я моментально начал задавать вопросы, рассчитывая застать его врасплох.
— Месье Вальер, я хотел бы услышать от вас об Изабель.
Внимательно следя за ним, я увидел, как задергались его веки. Не очень уверенно он ответил:
— Но, месье комиссар, я не знаю человека с таким именем.
Я был уверен, что Жюль Вальер лгал, как ранее месье Понсе.
— Вы слишком быстро ответили, месье Вальер. Быть может, вы подумаете лучше?
— Нет, нет, нет… что вы. Клянусь, я не знаю никакой Изабель.
Голос его срывался, и я поспешил его успокоить.
— Вам не из-за чего нервничать, месье Вальер.
Он сконфуженно произнес:
— Извините, месье комиссар, в последнее время я стал очень нервным.
— Да? А можно вас спросить, почему?
Он пожал плечами.
— Так…
— Может быть, из-за ваших долгов, месье Вальер?
Он подпрыгнул, словно его ударило током.
— Вы знаете?
— Месье Вальер, дело полиции — знать все, особенно то, что от нее скрывают.
— Но я никогда не отрицал того, что у меня есть долги!
— Но и не говорили об этом.
— Не припомню, месье комиссар, чтобы вы меня о них спрашивали.
— Возможно. Теперь я вынужден спросить, откуда у вас такие большие долги?
Он сидел передо мной сгорбившись, руки его свисали ниже колен.
— Это результат моего постоянного невезения, месье комиссар. Да, да, перед вами человек, которому вечно не везло. Если бы вы знали, сколько мне приходится ездить и скольких людей уговаривать что-то продать или купить… Другой на моем месте сейчас был бы мультимиллионером!
— Тогда как вы?
— … остался нищим.
— А ваш сын?
— Пьер? Он всегда держался за мамину юбку и так и не научился зарабатывать себе на хлеб. К счастью, есть Жермен, на которой стоит вся наша семья. Иногда я себя спрашиваю, как она смогла так долго меня терпеть и не уйти… Да, она всегда умела бороться за жизнь… Я знаю, что она меня презирает за отсутствие энергичности, но, увы, прощает это сыну.
— Я узнал, что вы решили дать согласие на его брак с мадмуазель Ардекур?
— Мы напрасно противились их союзу, и теперь я желаю Пьеру, чтобы он, живя с Мишель, ощутил счастье, которого у меня никогда не было с Жермен.
Он явно хотел разжалобить меня, но я только раздражался.
— Скажите, месье Вальер, не стало ли причиной перемены вашего мнения о невесте сына известие о том, что у мадмуазель Ардекур теперь хорошее приданое?
В этот момент послышался звук открывающейся двери, и я отчетливо увидел, как мой собеседник издал вздох облегчения. В комнату вошла Жермен Вальер.
— Извини, Жюль, я не знала, что к тебе пришли.
Меня она узнала сразу же:
— Опять вы, месье комиссар? Что вам здесь нужно?
Месье Вальер вмешался:
— Дорогая, месье пришел спросить, не потому ли мы согласились на брак Пьера с Мишель, что у нее оказалось большое приданое?
Вместо того, чтобы возмутиться, Жермен Вальер посмотрела на меня с откровенным цинизмом:
— Вы хотите знать, повлияло ли богатство Мишель на наше решение? Конечно, да! Мой сын Пьер, месье комиссар, ни на что не годится, впрочем, как и его папаша. Но он — красив, и, по-моему, это совершенно естественно — воспользоваться единственной возможностью, которую дала ему природа. Возможно, вас шокирует сказанное мной? Только мне на это наплевать. Я слишком люблю своего сына, чтобы желать ему жить в таких же условиях, в каких живу я… Случай свел нас с умной и богатой женщиной. И было бы просто глупо этим не воспользоваться!
— Позвольте мне, мадам, выразить по этому поводу свое сожаление и, если вы не возражаете, перейти к следующему вопросу. Мне стало известно, что у вас были большие долги.
— Да, но эти долги уже оплачены, месье комиссар. Вам должно бы быть известно, если, конечно, ваши сотрудники умеют работать.
— Мне хотелось бы узнать, из каких средств вы их оплатили?
— О, самым обычным образом, месье комиссар. Мы продали наши фондовые ценности.
— Если я правильно вас понял, мадам, вы решили отойти от дел?
— Месье комиссар, вы не обидитесь, если я скажу, что вас это не касается?
— Кто знает, мадам, кто знает…
* * *
Выйдя от них, я сразу же позвонил Даруа, чтобы он как можно скорей навел справки о сделке, которая позволила Вальерам вернуть долги.
* * *
Увидев меня, Мишель расплакалась.
— Шарль!.. Когда же закончится этот кошмар? Кому понадобилось убивать бедного месье Понсе? Ведь он никому не сделал ничего плохого…
Стараясь подавить свои чувства, я спокойно ответил:
— Мадмуазель, я уверен, что вашего служащего убили потому, что он хотел сделать что-то не очень честное…
Не знаю, что ее больше удивило: мой официальный тон или сообщение о месье Понсе.
— А почему вы больше не называете меня по имени?
— Просто мне не хочется доставлять неприятности месье Вальеру, с которым у вас, кажется, снова все в порядке…
Она насмешливо посмотрела на меня.
— Так вот в чем дело?… Надеюсь, ваше жесткое суждение о месье Понсе не вызвано перемирием с Пьером?
— Нет. Просто я уверен, что Понсе знал убийцу и не захотел назвать мне его имя. Очевидно, преступление было совершено из предосторожности…
— Пройдемте в приемную, Шарль.
Когда мы вошли, Мишель сказала:
— Поймите, Шарль… Я не могу себя заставить бросить Пьера. Он любит меня уже очень давно… Вы ведь заметили, какой он бесхарактерный. Что с ним будет, если я его сейчас оставлю.
— Мне кажется, что вы забываете еще об одном немаловажном аргументе — вы его любите.
— Возможно, да. Кроме того, после смерти несчастного Понсе я чувствую себя такой одинокой, что мне просто необходимо на кого-то опереться.
— Вы думаете, Пьер Вальер станет вам надежной опорой?
— Будьте снисходительны и дайте мне возможность заставить себя в это поверить.
Стараясь изменить тему, она сказала:
— После смерти Понсе мне кажется, я готова согласиться с официальной версией о том, что мой отец убил мачеху и покончил с собой. Понимаете, если раньше мне было только стыдно, то сейчас — просто страшно. Раз убили Понсе, почему им не попытаться убить и меня?
— Они не станут этого делать по многим причинам. Во-первых, вы отсутствовали в вечер преступления, во-вторых, вам не известно, кто знал о двадцати миллионах, лежащих в сейфе вашего отца, и, наконец, в-третьих, потому, что вы, похоже, не знаете кто такая Изабель.
— Но если Изабель существовала, мало того, была близко знакома с родителями, то обязательно нашелся бы кто-то, кто бы ее знал!
— Может быть, все-таки вы ее знаете?
— Я клянусь…
— Есть еще одна версия: ваша мачеха называла Изабель человека, у которого в жизни было совсем другое имя…
Мишель посмотрела на часы, стоящие на камине.
— Извините, но скоро прийдет Пьер, — мы собирались поужинать в Монрон.
— Не стану вам больше надоедать… Единственное, о чем бы я хотел еще упомянуть, так это о моем разговоре с мадам Вальер.
— Что же это был за разговор?
— Это неприятно вспоминать… Скажем, она… рассказала о причинах перемены решения о вашем браке с ее сыном.
— Не утруждайте себя перечислением этих причин, я их сама хорошо знаю: просто мадам Вальер поняла, что я не осталась без приданого. Но ведь я выхожу замуж не за Жермен Вальер, а за ее сына.
— Вчера вечером на Пилате вы рассуждали по-другому.
— Кажется, я наговорила много глупостей… Наверное, я просто опьянела от свежего воздуха.
— Похоже на то, если судить по сегодняшнему дню. Могу я позволить себе дать вам один совет? Остерегайтесь свежего воздуха, мадмуазель, поскольку глупости, о которых вы так легко сейчас сказали, кто-то может воспринять всерьез и… и потом страдать от них.
Ей стало неловко.
— Если это так, прошу вас простить мне, месье комиссар.
— Вам не за что просить прощения. Просто, я — глупец. До свидания, мадмуазель…
* * *
Я вышел от Мишель с тяжелым сердцем и, чтобы как-то успокоиться, решил зайти к моей старой знакомой Леони Шатиняк, в обществе которой жизнь казалась мне удивительно простой.
Леони была на кухне и мыла посуду.
— А, это ты, малыш? Если ты рассчитывал на ужин, то немного опоздал! Мне почти нечего тебе предложить!
— Спасибо, я не хочу есть, Леони.
Она посмотрела на меня с подозрением.
— Взгляни-ка мне в глаза! Ты странно выглядишь. У тебя тяжело на душе?
— Немного.
— А почему, могу я знать?
— Потому что недавно я беседовал с одной разумной и богатой девушкой, которая влюбилась в ничтожество, рвущееся только к ее деньгам, и, главное, что она об этом знает!
— Может быть, она не так уж умна, как ты думаешь? Итак, ты приревновал Мишель к Пьеру?
— Может и так.
Леони поцеловала меня в обе щеки.
— Не стоит переворачивать себе душу из-за девушек, малыш! Ты же хорошо знаешь, что самая лучшая из них иногда может ничего не стоить? Эти Вальеры — неприятные люди. Мать — настоящая мегера, сын — полное ничтожество. Жюль — просто старый дурак, которого жена всегда водила за нос. Поверь, что я желаю самого лучшего твоей мадмуазель, но не понимаю, зачем люди сами бегают за своей бедой, а поймав за хвост, никак не могут ее отпустить. Поверь твоей старой Леони: забудь о Мишель.
Когда я уже выходил, она крикнула мне вслед:
— Черт возьми! Ты говорил о Жермен Вальер, и я вспомнила: когда Жермен была маленькой, ее мать, неизвестно почему, называла ее Изабель.
Глава 6
В это воскресное утро я проснулся с тяжелой головой. Всю ночь я ворочался в постели, будучи не в состоянии понять поступки Мишель. Ведь я же не выдумал нашу прогулку по Пилату и вечер в Ля Жасери. Почему тогда она мне солгала? Наверное Леони была права, когда говорила, что не стоит переживать из-за женщин.
История же с этой Жермен-Изабель Вальер, по-моему, не имела никакого значения. Мать мадам Вальер, должно быть, очень любила сентиментальные рассказики, из которых и почерпнула это имя, чтобы одарить им свою дочь. Я старался понять, чем личная жизнь мадам Вальер, конечно, если предположить, что у нее таковая была, могла заинтересовать утонченную и деликатную Элен Ардекур.
Как и всякий старый холостяк, для которого воскресенье скорее больше наказание, чем отдых, потому что в этот день больше всего ощущается одиночество, я зашел на работу. Даруа и Эстуш уехали отдыхать домой, в Лион. На моем столе лежала записка, оставленная Даруа, в которой говорилось, что Вальеры действительно продали свое дело, но всего лишь за восемь миллионов старых франков. Кроме того, эта сумма еще не была передана им полностью. Для того, чтобы что-то начало проясняться, мне нужно было любым способом узнать, как Жермен Вальер достала деньги, чтобы расплатиться с долгами.
Пока же, не зная что делать в ближайшее время, я позвонил Мишель Ардекур. Когда я представился, девушка не без злорадства спросила:
— Чему я обязана такой честью, месье комиссар?
— Сам не знаю… просто я хотел спросить, понравился ли вам вчерашний вечер?
Я почувствовал, что она колеблется с ответом.
— Если я вам отвечу положительно, — вы рассердитесь. Если я скажу нет, вы будете довольны, но тогда это не будет отвечать действительности.
— Скажите правду…
— Я провела прекрасный вечер. Это действительно так. Пьер — хороший друг, и у него доброе сердце. Я его расспросила о вашем разговоре с мадам Вальер, и он сказал, что страховой полис моего отца уже давно ни для кого не секрет.
— И вас это не удивило?
— А почему, собственно, это должно меня удивить, месье комиссар? Разве богатая девушка не может выйти замуж за небогатого парня?
— Конечно, может, если, конечно, он заслуживает эту любовь.
— Ничто не дает вам права, месье комиссар, думать о Пьере по-другому. Когда мы с ним поженимся…
— Когда вы поженитесь, мне будет безразлично, как вы будете жить.
На другом конце провода я услышал смешок.
— По крайней мере, вы откровенны.
— Вам это неприятно?
— Вовсе нет, месье комиссар, я даже могу вам это доказать.
— Весь во внимании…
— С самого утра Пьер с родителями уехал, чтобы присмотреть дом, который они хотят купить для месье и мадам Вальер. Вы ведь знаете, что родители Пьера продали свое дело.
— Да, я в курсе.
— Итак, месье комиссар, сегодня я одна, и если… вы захотите пригласить меня на обед, думаю, что не откажусь.
— Замечательно… Встретимся перед лицеем?
— Хорошо, тогда через час у лицея?
* * *
Мы прекрасно пообедали в Сен-Жене-Малифо в ресторане Монмартен. Мишель была весела, меня это радовало, и никак не хотелось верить в то, что эта обаятельная девушка помолвлена с другим. После обеда мы на машине поехали в Труа-Круа, где решили прогуляться по лесу. Присутствие Мишель рядом делало меня таким счастливым, что мне не хотелось даже разговаривать. Разговор начала она сама:
— Вам кажется странным мое поведение, не правда ли?
— Я стараюсь не задаваться этим вопросом, — просто мне с вами хорошо.
— Нам нужно прекратить встречи, Шарль.
Она меня опять звала по имени, как на прогулке в Ля Жасери.
— Почему?
— Потому, что я помолвлена.
— Ну и что?
— Если бы я была помолвлена с вами, Шарль, вам бы понравилось, если бы я проводила вечер с кем-то другим?
— Конечно, нет.
— Тогда…
Мы остановились на обочине дороги, ведущей к Сен-Соверан-Рю.
— Послушайте, Мишель, я не могу поверить, что вы любите Пьера настолько, чтобы выйти за него замуж.
— Не будем говорить об этом, Шарль. Это бесполезный и болезненный разговор. Но поверьте, что я не могу отвернуться от него.
— И это говорите вы!
— У меня тоже есть определенные моральные обязательства.
— Но, в конце концов, не станете же вы портить себе жизнь из-за угрызений совести, пусть даже в чем-то справедливых?
— Я вовсе не собираюсь этого делать.
Мы немного помолчали, и я, взяв себя в руки, произнес другим, спокойным, тоном:
— Мишель, вы могли бы дать мне одно обещание?
— В чем оно будет заключаться?
— Я прошу вас не выходить замуж прежде, чем я разберусь с делом об убийстве ваших родителей.
Она посмотрела на меня с подозрением.
— Какая связь между моей свадьбой и вашим расследованием?
— Я не хотел бы вам этого говорить, Мишель, но если вы сами спрашиваете, — пожалуйста: я считаю, что родители Пьера прямо или косвенно замешаны в убийстве месье и мадам Ардекур.
Она прошептала:
— Вы поступаете бесчестно, месье комиссар.
Я сделал вид, что не расслышал.
— Нам стало известно, что Вальеры выплатили огромные долги, тогда как до смерти ваших родителей у них денег не было.
Она скорей вскрикнула, чем сказала:
— Они же продали свое дело!
— Но продали за сумму, которая не покрывает и половины долгов. Кроме того, сейчас они собираются купить дом, — вы сами мне об этом сказали утром. Отсюда следует вопрос: на какие деньги?
— Не знаю. Но все, что вы рассказываете — отвратительно! Вы хотите вбить клин между мной и Пьером! Так вот, я не желаю вас слушать! Прошу вас только об одном: отвезите меня поскорей в Сент-Этьен, и я больше не хочу вас видеть! Вы мне отвратительны!
Мы доехали до Сент-Этьена, не проронив ни слова. Мишель сидела с каменным лицом и неподвижным взглядом. Мне было очень тяжело… Когда я остановил машину перед мужским лицеем, моя спутница вышла:
— Месье комиссар, я сожалею, что познакомилась с вами, и надеюсь никогда больше вас не встречать.
— Мне очень хотелось бы, чтобы ваши надежды сбылись, мадмуазель, но вряд ли это возможно.
* * *
Я лежал на кровати, погрузившись в мрачные размышления о том, сколь часто влюбленные женщины бывают глупы, а умные мужчины — невезучи. Мишель вела себя по меньшей мере неумно, и именно это я никак не мог ей простить. И все же, насколько мне было безразлично то, что Пьер Вальер мог попасть в неприятную историю из-за своих родителей, настолько же мне не хотелось, чтобы это коснулось Мишель. Пресытившись этими глубокими мыслями, в которых переплетались мой собственный интерес и служебный долг, я с некоторым облегчением отправился ужинать. Остаток времени ушел на кино. Выйдя оттуда, я заглянул в один из многочисленных в Сент-Этьене ночных баров и, в результате, оказался у дома, где жил, только к трем часам ночи. Когда я закрыл за собой дверь парадного, то обнаружил, что реле света было сломано. Я не курю, и поэтому у меня не оказалось при себе спичек. Взявшись за перила, я стал подниматься в сплошной темноте. Вдруг мне почудилось чье-то дыхание. Я остановился, прислушался, но больше ничего не услышал. И все же меня не покидало чувство, что кто-то находится рядом. Вполголоса я спросил:
— Кто здесь?
Никто не ответил, и я опять стал подниматься вверх. На своей лестничной площадке я обождал еще несколько секунд, прежде чем вставить ключ в замок. Я уже почти открыл дверь, как вдруг почувствовал
движение воздуха и услышал тонкий запах женских духов. Скорей от удивления, чем от страха, я еще раз спросил:
— Кто здесь?
Удар последовал с той стороны, откуда я его меньше всего ожидал. Меня ударили по голове чем-то тяжелым. Я не смог сдержать глухого стона, на который, как мне показалось, словно эхо, ответил другой стон. Я упал на колени. Напавший находился в нескольких сантиметрах от меня. Инстинктивно я поднял руку, чтобы защитить голову. Второй удар пришелся почти в то же место, и я стал падать вперед. Мои руки ухватились за что-то, что затрещало под моим весом, и я потерял сознание.
Когда я пришел в себя, то из-за темноты не сразу смог догадаться, где я нахожусь. Проведя рукой по лицу, я ощутил на нем липкую жидкость, в которой без труда узнал кровь. Постепенно ко мне начала возвращаться память. Осторожно ощупав пальцами голову, я обнаружил там кровоточащую рану. Первым желанием было разбудить свою хозяйку, чтобы она меня перевязала. Но представив себе крик, который поднимет почтенная мадам Онесс, я счел более разумным найти кого-то, кто смог бы мне помочь позвонить. На этот раз мне повезло: как только я вышел на улицу, к дому подъехала машина, и из нее вышел мужчина. Я предъявил ему свое удостоверение и, показав рану, попросил отвезти меня в больницу, что он послушно и сделал.
Продезинфицировав рану и наложив несколько скобок, врач успокоил меня:
— Ничего опасного, месье, — и посоветовал принять несколько таблеток аспирина, чтобы уснуть. Но спать мне как раз и не хотелось. Работая в полиции, мне приходилось попадать в куда более серьезные переделки, чем эта. Но то, что произошло со мной сейчас, было очень странным: такое впечатление, что у убийцы просто не хватило сил, чтобы осуществить задуманное. Снова, словно во сне, я услышал голос, который, как эхо, ответил на мой стон.
Открывая дверь квартиры, я вдруг вспомнил об одной детали: падая, я уцепился за что-то, что подалось под моим весом. Взяв свечу, оставленную на случай поломки электричества, и предусмотрительно лежащие рядом спички, вернулся на лестницу. Я недолго искал то, что меня интересовало: это была пуговица, на которой остался кусочек ткани. Теперь я наверняка знал, кто хотел отправить меня в мир иной.
Глава 7
Мои подчиненные были поражены, когда увидели меня в комиссариате с повязкой на голове. Даруа обеспокоенно спросил:
— Что произошло, патрон?
— Ничего, просто обычное нападение, старина.
— Где?
— В моем доме. Меня ждали на лестнице.
— Ваше присутствие, к счастью, говорит о том, что рана не очень серьезная.
— Ночью в больнице мне наложили скобки. Но, в конечном счете, это все — эстетические потери.
— Вы узнали нападавшего?
Я улыбнулся.
— Вы будете удивлены, Даруа. Это была женщина!
— И кто же она?
— Думаю, что я ее знаю…
Эстуш, в свою очередь, заметил:
— Женщина? Трудно поверить…
— Я понял это, только проанализировав случившееся. Во-первых, запах духов, во-вторых, — слабость удара и, в-третьих, вещественное доказательство.
— Какое?
— Пуговица от пальто с кусочком ткани.
— Так чего же мы медлим?
— Прежде я хотел бы кое-что проверить, чтобы не попасть впросак.
Эстуш с нарочитым безразличием спросил:
— Надеюсь, это не Мишель Ардекур?
— Нет.
— Слава Богу!
Отличный парень этот Эстуш!
* * *
Если бы мне не понадобились последние уточнения для укрепления своей уверенности, я бы никогда не пришел в дом Мишель Ардекур.
На улице Карон я натолкнулся на Леони, которая, увидев меня, принялась причитать.
— Боже мой, что с тобой случилось? Откуда эта повязка? Ты попал в аварию? Эти машины — настоящая беда в наши дни!
Я постарался успокоить свою старую знакомую.
— Ты видишь, я хожу, значит я жив. Просто на меня напали.
— Вот это да! Уже убивают полицейских! Что же будет дальше, черт возьми?
Я коротко рассказал ей обо всем.
— Мой бедный Шарль, это же ужасно! Ты знаешь, кто это сделал?
— Допустим, я догадываюсь.
— И что ты будешь делать?
— Конечно, арестую.
Расставшись с Леони и заверив ее, что скоро дам о себе знать, я позвонил в дверь Мишель Ардекур. Открыв дверь, она сразу же произнесла:
— Я, кажется, вас предупреждала, месье ком…
Слова застыли у нее на губах, когда она разглядела мою повязку.
— Что… что с вами случилось?
— О, это часто происходит с людьми моей профессии. Ночью на меня напали.
— На вас напали?!
— Извините, но я здесь как официальное лицо, мадмуазель, и потому вы обязаны принять меня. Мне нужно задать вам несколько вопросов, на которые я хотел бы получить самые точные ответы.
Она молча отступила.
— Слушаю вас.
— Вчера, мадмуазель, я поделился с вами, признаюсь, очень неосторожно, своими подозрениями в отношении некоторых лиц.
— Я предпочитаю не вспоминать об этом, месье комиссар.
— Наоборот, мадмуазель, мне необходимо, чтобы вы вспомнили.
— Объясните, почему!
— Мне нужно знать, говорили ли вы об этом еще с кем-нибудь.
— Боже мой, я не знаю… Ах, да! С Пьером: я не могла удержаться, чтобы не рассказать ему о ваших ужасных подозрениях…
— В котором часу вы расстались с месье Вальером?
— Около десяти вечера.
— Вы в этом уверены? Это очень важно.
— Я не знаю, действительно ли это важно, но я в этом уверена.
— Благодарю вас, мадмуазель.
Она была явно заинтригована.
— И это все? Вы что, пришли только для того, чтобы узнать, в котором часу мы расстались с Пьером?
— Да. Кроме того, я хочу вас предупредить: постарайтесь сейчас не бывать у Вальеров; мне кажется, у них будут большие неприятности.
Она какое-то время помолчала, прежде чем спросить:
— Вы довольны, месье комиссар?
— Как это ни странно, мадмуазель, — нет.
Направляясь пешком к площади Жан-Платон, я старался подготовиться к встрече с Жермен Вальер. Я не испытывал никакой симпатии к Вальерам, но все же не мог избавиться от чувства жалости к ним. Борьба становилась слишком неравной. Я еще не настолько долго работал в полиции, чтобы радоваться легким победам.
* * *
Сначала Жермен Вальер заявила, что не станет впускать меня в дом, мотивируя это тем, что мужа и сына нет, и она сама куда-то спешит. Тем не менее я легонько оттолкнул ее рукой и вошел. Мой жест настолько ее удивил, что она не стала возмущаться. Она смотрела, как я закрываю дверь, и выражение ее лица менялось каждую секунду. Единственное, чего я не заметил у мадам Вальер — это удивления. Она прошла за мной в приемную и сразу же попыталась овладеть ситуацией:
— Объясните, наконец, месье комиссар, что…
— Я пришел, чтобы вернуть вам одну вещь, которую вы потеряли.
Я вынул из кармана пуговицу с кусочком материи и положил ей на ладонь. Она побледнела и пробормотала:
— Я… я не понимаю… это, это не я.
— В таком случае, мадам, позвольте мне заглянуть в ваш гардероб?
— Нет!
— Тогда я обойдусь без вашего разрешения!
Я направился туда, где должна была быть ее комната, но она опередила меня и стала на пороге, скрестив руки.
— Вы не имеете права!
— Имею, мадам, я исполняю свои обязанности и должен произвести у вас обыск, санкцию на который могу вам предоставить, если вы того пожелаете!
Ее руки опустились. Мы долго смотрели друг на друга. Передо мной была уже не высокомерная и злобная Жермен Вальер, а просто замученная женщина, вызывавшая жалость. Она тихо спросила:
— Вам очень больно?
Я понял, что приближаюсь к концу расследования.
— Нет, не очень. У меня всего лишь повреждена кожа на голове. Бывало и похуже… А вы что же, действительно хотели меня убить?
— Да, но не смогла.
Я взял ее за плечи и отвел в приемную. Там я ее усадил в кресло и сел напротив.
— Рассказывайте.
— Что я могу вам рассказать? Все настолько глупо и ничтожно… Что можно рассказать о неудавшейся жизни? Ни на что не способный муж, такой же сын и женщина, вынужденная все эти долгие, долгие, долгие годы изо всех сил бороться, чтобы содержать их обоих… А я ведь тоже мечтала путешествовать, иметь красивую одежду… гордиться своим сыном… стараться быть достойной своего мужа, если бы он сумел дать мне все это… Но мне ничего этого не было дано… разве это справедливо? Чем я заслужила такую судьбу? Я всегда разбивалась в лепешку, чтобы достичь цели! Я люблю работать и никогда не щадила своих сил. Ведь я думала, что это — единственный способ вырваться из нашей серости и добиться хорошего положения… и вот результат! Я повторяю, месье комиссар, разве это справедливо?
— Конечно нет, мадам, но неужели вы считаете, что все, чья жизнь не удалась, должны из-за этого нападать на комиссара полиции?
— Вы не можете меня понять…
— Мадам, я здесь как раз для того, чтобы понять, и сделаю все возможное, чтобы мне это удалось.
Она беззвучно заплакала.
— Если бы вы знали, месье комиссар, что значит все время гоняться за деньгами… Утро, когда просыпаешься, — если, конечно, удалось поспать несколько часов, — начинается с мысли о том, как заработать на пропитание. Каждый день одно и то же. И вот однажды я прочла в газете, что кто-то выиграл на скачках миллион, начав играть с мизерной суммой в кармане. Я узнала правила и гоже стала играть. Но мне опять не повезло. Чтобы вернуть проигранное, я делала все более крупные ставки, пока не проиграла все. Тогда я рассказала мужу о случившемся, и он хотел меня убить. Жюль слабый человек, но от ярости словно сошел с ума. Мы вынуждены были продать наше дело, но получили за него жалкую сумму.
— Тем не менее, мадам, вы вернули все свои долги.
— Кроме проигрыша. Единственный человек, который мог вытащить нас из ямы, выкопанной мной, был Анри Ардекур.
— Почему именно он?
— Я давно была с ним знакома. Когда-то я работала у него. Знаете, в молодости я не была страшилищем, и, когда умерла первая жена Анри, я думала, что он женится на мне. Но он предпочел Элен. Я ее возненавидела за эту удачу. Я очень злопамятна, месье комиссар, и если бы не отомстила за свою неудачу, то просто сошла бы с ума. Как я ненавидела Элен, которая, наоборот, навязывала мне свою дружбу. Легко любить других, когда ты богата. Как-то она узнала, что в детстве мать звала меня Изабель. Не знаю почему, но это ее обрадовало.
— Насколько я знаю, месье Ардекур был близким другом вашего мужа?
Она пожала плечами.
— Жюль был просто паразитом, который пригрелся у Анри Ардекура. Иногда Анри давал ему несколько купюр за мелкие услуги. Муж был у него в кабинете, когда к Анри пришла мадам Триганс и принесла ему двадцать миллионов. Он мне все рассказал, и я в тот же вечер пошла к Анри.
— Продолжайте, мадам.
— Когда я пришла, он собрался куда-то уходить.
— Вы помните, в котором часу это было?
— Я думаю, в половине девятого, без четверти девять. Элен опаздывала, и Анри очень беспокоился. Думая, что она у нас, он собрался к нам идти: у нас отключили телефон и позвонить было невозможно. Я рассказала Анри о своем бедственном положении и объяснила, чего от него хочу. Он спросил, не сошла ли я с ума? Гнев его был ужасен, слышите, месье комиссар, ужасен! Он высказал все, что думал обо мне, о моих поступках, о ничтожности мужа и сына. Он еще сказал, что никогда не позволит своей дочери выйти замуж за Пьера, а если она ослушается, то сделает все, чтобы оставить ее без всякого приданого. Я больше не могла этого выдержать. Я очень хотела ответить ему, но слова застревали у меня в горле. Меня душили стыд и отчаяние, ведь все, что говорил Анри, было страшной правдой. Именно поэтому мне и было так особенно больно. Наконец, он понял мое состояние, тон его смягчился и он сказал, что выпишет чек, чтобы немного помочь мне. Ардекур делал вид, что не понимал, что речь шла не о нескольких купюрах по тысяче франков, а о миллионах.
— Что же произошло после этого, мадам?
— Анри Ардекур сел за стол и выдвинул ящик, чтобы взять чековую книжку. Вдруг я увидела пистолет. Поверьте, месье комиссар, я не была настолько злой на Анри Ардекура, чтобы его убить. Но внутренний голос шептал мне, что если убью его, то одним махом избавлюсь от своего прошлого, настоящего и того, что мешает мне спокойно жить в будущем. Мой отец был оружейником, и я умею пользоваться оружием!
Я взяла пистолет, обошла Анри сзади и склонилась над ним вроде для того, чтобы посмотреть, какую сумму он выписывал. Когда я прижала ствол к его виску, он вздрогнул, но я сразу же выстрелила. Он упал головой на стол. А я продолжала стоять, охваченная ужасом. Только тогда я поняла всю глупость и ненужность моего поступка.
— Я не очень уверен, что в тот момент вы подумали о ненужности этого убийства, мадам, ведь в сейфе Анри Ардекура, шифр которого вы знали, лежали двадцать миллионов.
— Да, я знала шифр от мужа, который, конечно же, не думал ни о чем плохом. Хладнокровие вернулось ко мне только тогда, когда я услышала звук открывающейся двери. Вошла Элен. Она не сразу все поняла. Внезапно ее взгляд упал на мужа и кровь, которая растекалась по столу. Она хотела закричать, и я, инстинктивно, выстрелила два раза. Элен тихо осела на пол. Я даже не подумала проверить, действительно ли она мертва. Я прекрасно понимаю, что для меня уже все потеряно, но ведь должно же было мое преступление хоть кому-то принести пользу. Деньги Ардекуров могли оплатить наши долги, способствовать женитьбе Пьера. Наконец можно было купить дом, в котором мой несчастный муж доживет в одиночестве оставшиеся годы, если меня арестуют или я решу покончить с собой. Я наивно думала, месье комиссар, что с моей смертью прекратятся все поиски, и была готова пожертвовать собой для Пьера и Жюля, как делала это всю жизнь. Дальше вы все знаете. Я вложила пистолет в руку Анри Ардекура, чтобы это выглядело, как самоубийство. Чековую книжку положила в стол, предусмотрительно вырвав оттуда лист, на котором он начал писать мою фамилию, и, взяв двадцать миллионов, ушла. Мне повезло — я никого не встретила. Когда пресса заговорила о самоубийстве, я подумала, что, возможно, смогу избежать участи, которую сама себе предрешила. Потом появились вы, и я сразу почувствовала, что вы мой враг. А когда Пьер вчера вечером рассказал мне содержание вашего разговора с Мишель, я поняла, что мне необходимо избавиться от вас. Около одиннадцати вечера я позвонила вашей домохозяйке, чтобы узнать, вернулись ли вы домой. Она ответила отрицательно, и тогда я решила вас подкараулить. Я долго стояла на улице. Затем, войдя в дом, я из предосторожности испортила реле света. Знаете, у себя дома я привыкла делать мужскую работу: я умею чинить небольшие поломки с электричеством, но умею и их создавать. Из дому я взяла бронзовую статуэтку, она сейчас стоит позади вас, на пианино. Я решила проломить вам череп, месье комиссар. Я поднялась перед вами по лестнице и там, прижавшись к вашей двери, затаила дыхание. Когда вы неожиданно спросили «Кто здесь?», я чуть не вскрикнула и ударила почти наугад. Когда вы упали на колени, я поняла, что вы еще живы, и ударила еще раз, но силы мои были уже на исходе. Я едва не умерла от страха, когда вы ухватились за меня. С трудом я вырвалась из ваших рук. Именно в этот момент у меня оторвалась пуговица, которую вы и нашли. Ну вот, месье комиссар, теперь вы знаете все.
— Не все, мадам. Какую роль сыграл месье Понсе в этой истории?
— Этот старик вздумал меня шантажировать.
— Чем же?
— Он говорил, что у него есть чековая книжка месье Ардекура, на корешке последнего чека которой оставались моя фамилия и дата визита к Ардекурам.
— Значит, его вы тоже убили?
— Тем же способом и тем же инструментом, которым хотела убить вас.
— Я вас не понимаю…
— Просто я знала наверняка, что если уступлю ему один раз, — это будет продолжаться вечно. Не мне же рассказывать вам о методах шантажистов, месье комиссар.
— Конечно… но среди вещей Понсе я не нашел чековой книжки?
— Потому что я уничтожила ее после убийства. Есть ли у меня немного времени, чтобы собрать чемодан, месье комиссар?
— Конечно, но я обязан при этом присутствовать, мадам.
— Как хотите.
Я прошел за ней в комнату. Перед уходом Жермен Вальер оставила мужу записку:
«Жюль, все кончено. Я во всем созналась комиссару, и он забирает меня. Простите мне то зло, которое я причинила вам обоим. Надеюсь, что Мишель тоже меня простит и выйдет все же замуж за Пьера. Не приходите ко мне в тюрьму, у меня не хватит сил этого вынести. Прощайте».
Она положила записку на видном месте, на столе, и, чтобы ее не сдуло сквозняком, поставила сверху маленькую бронзовую статуэтку, которая едва не лишила меня жизни.
* * *
Служебная машина, вызванная мною по телефону, доставила нас в комиссариат. Я сразу же повел Жермен Вальер в кабинет моего коллеги из первого округа.
— Месье комиссар, я доставил убийцу четы Ардекуров и месье Понсе, а также похитителя двадцати миллионов старых франков, украденных из сейфа месье Ардекура.
Должен сказать, что большего эффекта невозможно было себе представить. Лишь немного успокоившись, месье Претен смог спросить:
— Кто эта дама?
— Мадам Жермен Вальер, и я прошу оказать ей гостеприимство до тех пор, пока мы не отправим ее в Лион.
Поместив мадам Вальер под охрану Эстуша, я сел напротив Даруа. Он глубокомысленно заметил:
— Профессиональная и быстрая работа, патрон. Думаю, на улице Вобан будут довольны.
И добавил с улыбкой:
— Сейчас, когда все успешно завершилось, скажите, патрон, что вы теперь думаете о призраке, которого звали Изабель?
— Не так все просто, старина!
— Что вы хотите этим сказать?
— Знаете, как раньше звали мадам Вальер? Изабель!
Эстуш спросил:
— Где вы будете ее допрашивать, здесь или в Лионе?
— Нигде.
Они оба посмотрели на меня, как на сумасшедшего.
— Вы что же, не собираетесь официально ее допрашивать?
— Нет.
— Почему?
— Зачем мне еще раз слушать ее ложь! Она ведь врет, месье, она все наврала!
— Наврала?
— Ее признание сплошь состоит из вранья.
— Но зачем ей это?
— Естественно, чтобы кого-то защитить.
— Кого?
— Вот это нам и нужно узнать.
— Зачем же тогда весь этот цирк, патрон?
— Я хочу дать всем понять, что ей удалось нас одурачить.
— И настоящему преступнику тоже?
— Именно так. Единственной правдой в ее признании является то, что она ударила меня прошлой ночью. Но я уже не сержусь на нее за это.
Даруа съехидничал:
— Какая добрая у вас душа, патрон!
— Нет, сейчас во мне говорит только жалость.
— Неужели же все остальное она придумала?
— Я уверен в этом. Жермен ничего не понимает в скачках, на которых, как она утверждает, играла каждый день. Она не знает даже того, что тотализатор открыт только по воскресеньям, и лишь в исключительных случаях в другие дни. Наконец, на скачках нельзя делать чересчур большие ставки, — это запрещено правилами. Жермен Вальер явно играет и делает это плохо. Теперь главное — узнать, для кого она это делает. Мы можем продержать ее здесь три дня. Никому не будет разрешено ее навещать. Тогда человек, для которого она жертвует собой, станет абсолютно уверен в том, что мы попались на эту удочку, и сам может допустить ошибку, которая позволит нам раскрыть его. А теперь, Даруа, приведите-ка сюда мадам Вальер.
Войдя, Жермен сразу спросила:
— Очевидно, я должна подписать мое признание, месье комиссар?
— Мадам Вальер, ставлю вас в известность, что дача ложных показаний — это противозаконное действие, которое может иметь серьезные последствия, особенно, когда выясняется, что это было сделано в целях сокрытия убийцы от полиции?
Она побледнела.
— Я… я не понимаю…
— Мадам Вальер, я утверждаю, что вы лгали мне с того самого момента, когда я сегодня вошел в ваш дом.
Съежившись, Жермен Вальер слушала мои слова:
— Кого вы хотели спасти? Сына? Мужа?
Она покачала головой.
— Эти моллюски не способны ни на что…
Это была, увы! — правда… Но если она защищала не сына и не мужа, то ради кого же она так старалась? У меня в голове пронеслась целая вереница идей. Ребенок, который родился до брака с Вальером?… Но было бы странным, если бы в квартале Крэ-де-Рош никто об этом ничего не знал… Хотя, могли же жители этого квартала свято верить в то, что Ардекуры жаждали союза их дочери с Пьером Вальером…
— Поймите, мадам Вальер, мы все равно доберемся до правды, хотите вы того или нет.
Она закрыла лицо руками и замерла. Я понял, что ничего от нее не добьюсь. Вздохнув, я встал:
— Вы только немного усложняете нашу задачу, мадам Вальер, не более того.
У нее не нашлось для меня отвега.
Я позвонил Мишель. Наш разговор был недолгим.
— Алло, мадмуазель Ардекур?
— Да.
— Это комиссар Лавердин.
— Слушаю вас?
— Мадмуазель Ардекур, я только что арестовал мадам Вальер.
— Что!?
— Она призналась в убийстве вашего отца и мачехи.
— Это невозможно!
— Повторяю, я получил ее признание.
— Зачем ей это было нужно?
— Чтобы украсть двадцать миллионов. Она прошептала:
— Жермен Вальер… строжайшая мадам Вальер.
— Вы были бы удивлены, увидев ее, мадмуазель. Сейчас она выглядит вовсе не так. Ах да, кроме того она созналась, что напала на меня ночью.
— Она хотела вас убить!
— Благодаря вам, Пьер узнал о моих подозрениях и рассказал о них своей матери. Тогда она решила меня убрать со своей дороги.
Еле слышно Мишель прошептала:
— Получается, что Пьер — соучастник преступления?
— Да, в этом сомневаться не приходится.
Воцарилось долгое молчание, а затем она спросила:
— Что с ним будет?
— Ничего.
— Ничего?
— Мадмуазель, мадам Вальер лжет в надежде кого-то выгородить.
Мишель разозлилась:
— Естественно, для вас этот кто-то обязательно Пьер?
— Не думаю, чтобы Пьер был как-то замешан в убийстве ваших родителей. У него на это не хватит духа. Но и мадам Вальер не виновна в трагедии вашей семьи и смерти месье Понсе. Не брала она также и двадцати миллионов, которые ваш отец получил от мадам Триганс. Мадмуазель, я вас очень прошу, пожалуйста, вспомните, не слышали ли вы о частных связях мадам Вальер с кем-то, кто не является членом ее семьи?
— Сожалею, но ничем не могу вам помочь, месье комиссар.
— Я благодарен вам уже за одно желание это сделать.
* * *
Примерно часов в пять дежурный доложил мне о том, что месье Жюль Вальер просит его принять. Человек, вошедший в мой кабинет, был похож на призрак с черными впадинами под глазами и белыми бескровными губами.
Дрожащей рукой он положил передо мной записку, которую, уходя, оставила Жермен Вальер.
— Я вас везде искал, месье комиссар… Пожалуйста, скажите, что это сделала не она! Она не могла этого сделать?
— Но она призналась в содеянном, месье Вальер.
— Она сказала неправду, месье комиссар! Клянусь, она сказала неправду!
Его бил озноб, и он был похож на больного малярией, у которого начинается приступ.
— Зачем же ей говорить неправду!
— Чтобы спасти меня, черт возьми!
— Вас?
— Ну да, месье комиссар, ведь это я, один я все сделал.
— Да что вы такого сделали?
— Все! Убил Ардекуров, Понсе…
— И украли двадцать миллионов?
— И украл двадцать миллионов!
— Сядьте, месье Вальер.
Он как-то боком свалился на стул.
— Слушаю вас, месье.
— Расскажите, пожалуйста, подробно, как вы совершили эти убийства.
— Ах да, убийства…
И он начал рассказывать запутанную историю, в которой изобразил себя кем-то средним между Аль Капоне и Тарзаном. Несколько минут я слушал. На больше моего терпения не хватило:
— Месье Вальер, может быть вы перестанете смеяться надо мной?
— Простите?
— Я спрашиваю, скоро ли вы перестанете издеваться?
— Но, месье комиссар…
— Так вот, вы не убивали месье Ардекура, его жену и месье Понсе. Ни вы, ни ваша жена.
Он поник.
— У Жермен трудный характер, месье комиссар, поэтому моя жизнь не всегда была легкой. Но ведь и я, со своей стороны, не дал ей ничего из того, на что она вправе была рассчитывать. Поверьте, что если она это и сделала, то только ради нас… Я хочу сказать, — ради Пьера и меня. Приняв на себя ее преступление, я хоть немного загладил бы свою вину перед ней. Жермен никогда не сделала бы ничего подобного, будь я другим человеком.
— Так вы все-таки считаете ее виновной, месье Вальер?
Он пораженно смотрел на меня.
— Но вы же сказали, что она сама призналась?
— Она действительно призналась, но это еще не значит, что я ей поверил.
— Вы хотите сказать, что она солгала?
— Я в этом уверен.
— Но… но… зачем?!
— Я надеялся услышать это от вас, месье Вальер.
— Я не понимаю, месье комиссар… Честное слово, я не понимаю, что с ней произошло…
Я дал ему прийти в себя, предложив сигарету. Он ее взял и просто держал в руках, очевидно, забыв прикурить.
— Месье Вальер, я хочу задать вам один деликатный вопрос. Надеюсь, вы простите меня. Итак, не было ли у мадам Вальер на протяжение вашей супружеской жизни или до нее, извините, любовного приключения с последствиями? Короче, нет ли у нее еще ребенка, кроме Пьера?
— Как это могло прийти вам на ум! Когда я женился на Жермен, она была честной девушкой.
— А после свадьбы?
— Моя жена — женщина высокоморальная, месье комиссар!
— Ваша уверенность меня удивляет, ведь всего несколько минут назад вы допускали ее виновность.
— Не знаю, месье комиссар, я больше ничего не знаю. Весь мир рушится для меня.
— Послушайте, месье Вальер, хотели бы вы очистить мадам Вальер от всех подозрений?
— Конечно!
— Тогда помогите мне найти того, кого она хочет выгородить. Может ли это быть Пьер?
— Пьер? Что вы… Когда забивают кролика, он уходит подальше, чтобы не потерять сознание… Невозможно представить, чтобы он совершил несколько убийств подряд…
— И все же, месье Вальер, ваша жена, не колеблясь, идет в тюрьму, признавшись в краже и убийстве. Неужели она делает это просто так? Не сошла же она, в самом деле, с ума…
— Нет, месье комиссар полиции, иначе я бы это заметил первый.
— Но, я надеюсь, вы согласитесь со мной, что если она, будучи невиновной, взяла на себя чью-то вину, значит она хорошо знает убийцу и не хочет, чтобы полиция узнала его имя. Ведь так?
— Да, я вынужден согласиться. Могу ли я видеть Жермен?
— Нет.
— Но…
— Нет, месье Вальер, не сейчас.
Он попытался было протестовать, но я его прервал:
— Месье Вальер, где сейчас находится ваш сын?
— Пьер? Сегодня понедельник, значит он сейчас в районе Анноне.
— Он что, по понедельникам ездит в Анноне?
— По понедельникам и вторникам.
— Когда он должен вернуться?
— Это зависит от того, как он справится с работой. Иногда ему приходится оставаться там даже на ночь.
— В какой гостинице обычно живет Пьер?
— Вот этого я не знаю… Не думаю, чтобы он всегда останавливался в одной и той же. Он может быть не только в Анноне, но и в Бург-Аржанталь или в Сен-Жюльен-Мулен. Может… короче… где угодно…
— Благодарю вас, месье Вальер.
Когда мой посетитель вышел, одна мысль поразила меня: Элен Ардекур тоже ездила в Анноне по вторникам. Что это, совпадение? Слишком уж много их было в деле Ардекуров, и это мне совсем не нравилось.
* * *
Выполняя свое обещание, я зашел к Леони Шатиньяк, чтобы успокоить ее в отношении моего здоровья. Она настояла, чтобы я остался поужинать. Я не был голоден, но обижать Леони мне не хотелось.
— Ты помнишь Жермен Вальер в молодости? — спросил я, усаживаясь за стол.
— Конечно, помню! Она была высокой и немного худощавой. Ей не мешало бы чуть поправиться, но все же она была привлекательной.
— Соблазнительной?
— Она? Как же! Жермен думала только о работе, а вовсе не о нарядах. Понимаешь, Шарль, она хотела преуспеть в жизни и думала добиться этого трудом. Не знаю, развлекалась ли она когда-нибудь. По-моему, она даже не знала, где обычно танцуют. Если хочешь знать мое мнение, в этой жизни она заслуживала гораздо больше, чем имела.
— Я тоже так думаю, Леони.
* * *
Я вернулся домой и очень рано лег спать, чтобы избежать расспросов вдовы Онесс по поводу моей раны. Уже лежа в постели, я вспомнил, что не купил газеты. Спать мне не хотелось, и за неимением чего-то другого я взялся за роман Элен Ардекур, втайне надеясь найти в нем что-то такое, что позволило бы говорить хоть немного о писательском таланте покойной. Несмотря на все свое желание, я еще раз пришел к выводу, что это все была ужасная чушь. Изабель походила на саму Элен, только Элен эфемерную, узнающую о нормальной жизни из журналов, посвященных кино. А шантажист? С кого был списан этот образ? Показывая человека из низших слоев, — которых она, кстати, не знала, — Элен все же наградила его молодостью, элегантностью, нежностью и красотой, стараясь всячески угодить героине. Я с отвращением закрыл рукопись, положил ее на стол и выключил свет.
В темноте я дал волю своей фантазии. А что, если прообразом красивого шантажиста был Пьер Вальер? И не была ли сама Элен Ардекур его жертвой? Я включил свет и встал. Мысли осаждали меня и не давали возможности уснуть.
— Не нужно поддаваться воображению, — говорил я себе, — но все же, если Элен Ардекур описала в романе свою собственную историю, то это объясняет многое, например, акафисты по Изабель, которые она заказывала настоятельнице приюта. Кто назначил Элен Ардекур встречу на Бельвю, куда я ее повез? Почему бы и не шантажист? А что, если она сама взяла двадцать миллионов, чтобы передать их тому, кто ей угрожал? Но зачем тогда ее убили? Обычно, шантажисты этого не делают… Проще представить, что негодяй рассказал всю правду месье Ардекуру, и тот убил жену, а затем и себя… Оставались двадцать миллионов… Нет, мне никак не удавалось найти верного решения, но я чувствовал, что оно где-то рядом. Неужели разгадка таилась в романе Элен Ардекур, в том самом, которым я располагал с самого начала! Будь моя догадка верна, можно было бы объяснить и резкое сопротивление браку между Мишель и Пьером со стороны мадам Ардекур. Картина представлялась неприглядная… Все эти мужчины и женщины, которые казались мне кристально чистыми существами, вдруг предстали предо мной, словно нечистые духи, возящиеся в грязи… Что делать, мне к этому не привыкать, — это мой обычный улов!
Ночь казалась мне бесконечной. Уже в пять утра я был на ногах, а в шесть вошел в свой кабинет.
Должен сказать, что Даруа не высказал особого удовольствия, услышав, что на работу нужно приехать прямо сейчас.
Повесив трубку, я подумал: если Пьер Вальер был шантажистом, был виновен в убийствах и краже, то этим легко можно было объяснить поведение его матери… И все же, одно мне не давало покоя, а именно: мягкотелость Пьера, его слабоволие, неспособность самому решать и делать что бы то ни было. Мне стало казаться, что с самого начала меня здесь дурачили.
Когда появился Даруа, я сразу же его озадачил:
— Даруа, смотайтесь к месье Вальеру на площадь Жан Плотон и попросите у него фотографии его самого, жены и сына. Берите только самые последние фотографии. Не стану от вас скрывать: меня интересует фотография сына. Но вы потребуйте все три, чтобы не привлекать внимания. Поняли?
— Понял, месье комиссар.
— Затем вы пойдете к мадмуазель Ардекур. Я надеюсь, нет необходимости напоминать вам ее адрес. У нее вы возьмете фотографию ее мачехи. Она потребует объяснений. Но ведь, вы сами не знаете, что я собираюсь делать, поэтому не сможете ей ответить, и, главное, вас невозможно будет обвинить в неискренности. Поняли?
— Понял, месье комиссар.
— Тогда исполняйте!
Мне показалось, что Эстуша не было целую вечность. В действительности же, он вернулся уже через полчаса.
— Ну что?
— У меня все, что вам нужно, но не обошлось без сложностей.
— А именно?
— У месье Вальера и у мадмуазель Ардекур поинтересовались, не сошел ли я с ума, придя за фотографиями в такое время.
— Это издержки нашей профессии, старина.
Фотограф, который снимал мачеху Мишель, очень искусно использовал свет, создававший некий ореол из подсвеченных волос, что необыкновенно омолаживало Элен Ардекур. Мастер, к которому обращался Пьер, даже сумел придать ему мужественный взгляд. Очевидно, для этого потребовались невероятные усилия. Я положил обе фотографии в портфель, пожал руку Даруа и спустился к машине. Сев за руль, я тронул с места и поехал по дороге на Бург-Аржанталь и Анноне. Пой, Изабель!.. Во всяком случае, проезжая через еще сонную деревню, я был уверен, что скоро найду того, кто хотел заставить Изабель петь[245].
Глава 8
Ранним утром я позвонил в дверь приюта Сент-Кристин. Настоятельнице, немного удивленной моим повторным визитом, я объяснил:
— Я еще раз беспокою вас по поводу Элен Ардекур. Скажите, вам не показалось, что когда она говорила о своей кузине Изабель, то имела в виду себя саму?
— Действительно, в ее голосе иногда возникали нотки беспокойства, превышающие те, которые люди обычно употребляют, говоря о родственниках, попавших в беду.
— Мать-настоятельница, а вы никогда не пытались расспросить ее об этом поподробнее?
— Месье комиссар, я никогда не нарушаю тайну исповеди… И кроме того, не имею привычки задавать вопросы тем, кто исповедуется от чистого сердца. Молясь за Изабель, я молилась и за Элен тоже.
— Мадам Ардекур приезжала каждый вторник?
— Да, каждый вторник. Она приезжала к нам около девяти или десяти утра и оставалась примерно до половины второго…
— А после обеда она никогда не задерживалась?
— Никогда.
— Простите, что оторвал вас от молитв. Еще раз, спасибо.
* * *
Наконец у меня начала получаться цельная картина. Изабель-Элен приезжала, чтобы с утра выполнить свой религиозный долг и продемонстрировать милосердие, а сразу же после обеда шла на свидание с любовником. Иначе мне никак не удалось бы встретить ее в Анноне.
Я шел по городу и поражался своей наивности. Как же я сразу не понял, что Элен по-настоящему была в панике? А как можно было, читая роман, написанный мадам Ардекур, не разобраться в сходстве между нею и ее героиней? Одна вещь немного утешала меня: к Пьеру Вальеру я сразу же почувствовал антипатию. Если в ближайшем будущем мои подозрения подтвердятся, я с большим удовольствием надену наручники на этого типа! Как же можно было, будучи любовником мадам Ардекур, преспокойно собираться жениться на Мишель! В случае удачи приданым негодяя стала бы кровь мачехи Мишель, будущего тестя и бедняги месье Понсе, который оказался более прозорливым, чем месье Ардекур. Удастся ли мне когда-нибудь узнать, как этот старик сумел догадаться, что Изабель и Элен были одним и тем же лицом? Чтобы получить подтверждение моей гипотезы, мне нужно было вернуться в Сент-Этьен. Только сейчас я до конца понял поведение Жермен Вальер. Она жертвовала собой ради сына.
В жандармерии в Анноне я представился и рассказал о цели своей поездки. Мне сразу же принесли гостиничные регистрационные списки за последние месяцы. Я быстро отыскал гостиницу, в которой каждую неделю останавливался Пьер Вальер и сразу же направился туда.
Входя в холл, я чувствовал, что мое сердце бьется, как у охотника, предвкушающего близость добычи. За стойкой сидел мирного вида толстяк. Меня он встретил скорей с безразличием, чем с любопытством. Пришлось сунуть ему под нос полицейский жетон, чтобы он оживился.
— Не понимаю цели вашего визита, месье комиссар. У нас всегда спокойно, поэтому я никогда не имел дел с полицией.
— Этот месье — ваш клиент?
Я положил перед ним фотографию Пьера Вальера. Он быстро взглянул на нее.
— Да, это месье Вальер. Он часто ездит по делам какого-то агентства по купле-продаже недвижимости и останавливается у нас каждую неделю по вторникам, кроме, конечно, летних месяцев в период отпусков.
— A вы видели когда-нибудь эту даму?
Я выложил фотографию Элен Ардекур, и он развязно хмыкнул:
— Конечно, еще бы! Это — любовница месье Вальера, мадам Изабель.
Мадам Изабель… Итак, Элен, ведя двойную жизнь, имела в запасе и два имени. Вполне возможно, что месье Понсе слышал, как Пьер Вальер называл мадам Ардекур Изабель…
— Она приходила к нему каждый вторник?
— Да, почти каждый вторник, месье комиссар. Обычно она приходит к двум часам и уходит в пол-пятого, пять. Заметьте, что нравственная сторона была соблюдена, так как месье Вальер заявил, что она работает на его агентство в окрестностях Анноне и приезжает, чтобы сдать отчеты. И потом, ведь иметь любовницу, месье комиссар, не значит считаться преступником?
— К счастью, нет…
Он рассмеялся и доверительно предложил:
— Выпьете чего-нибудь, комиссар?
Я согласился, чтобы продолжить разговор, который меня очень интересовал и одновременно очень огорчал. Мы выпили по аперитиву, и он продолжил:
— Удивительно, что вы пришли именно сегодня, месье комиссар, когда впервые за все время месье Вальер уехал от нас утром. Может он поссорился со своей подругой?
Я посмотрел на него.
— Так вы не в курсе?
Он в свою очередь удивленно взглянул на меня.
— А что случилось?
— Изабель больше не приедет, месье.
— Да? Могу поспорить, что она замужем, и муж что-то узнал!
— Единственное, что я могу вам сказать совершенно точно, — это то, что Изабель больше никогда не придет.
* * *
С почты я позвонил в комиссариат.
— Алло, Эстуш?
— Да.
— Это Лавердин. Дело закончено, старина, и нам осталось только арестовать преступника.
— Браво! И кто же он?
— Пьер Вальер.
— Вот это да! Он только что приходил навестить свою мать.
— Эстуш, скорей отпустите Жермен Вальер. Я сейчас поеду к ним и хочу, чтобы она уже была дома. Затем мы обязательно заедем все вместе к Мишель Ардекур. Направьте Даруа на площадь Жан-Плотон. Пусть прихватит с собой наручники.
— Понял, патрон.
* * *
Насвистывая, я вел машину по дороге к перевалу Гран Буа. Прежде, чем выехать из Анноне, я побывал в жандармерии, чтобы поблагодарить принимавшего меня офицера. Кроме того, я сообщил ему, что мои поиски увенчались успехом и попросил, в случае, если он найдет среди своих бумаг еще что-то, касающееся Пьера Вальера, сообщить это офицеру полиции Эстушу в комиссариат 1-го округа Сент-Этьена. Я ехал достаточно быстро и меньше, чем через час моя машина остановилась на площади Жан-Плотон.
Увидев Даруа и меня, Жюль Вальер радостно сообщил:
— Она дома! Она невиновна, месье комиссар, и ее отпустили! Моя Жермен! Я так рад!
Я ничего ему не сказал и первым прошел в столовую. Жермен Вальер не обратила на меня ни малейшего внимания. Я, сев напротив, взял ее за руку.
— Зачем вы мне сказали неправду, мадам?
Ничего не выражающий взгляд скользнул по моему лицу. Очень тихо она произнесла:
— Это я… Я их убила… клянусь, это я…
— Бесполезно, мадам Вальер. Я знаю, кто преступник.
Резко повернувшись к Жюлю Вальеру, я спросил:
— Вы знали, что ваш сын был любовником мадам Ардекур?
Он широко открыл рот, и взгляд у него стал, как у сумасшедшего.
— Что?… Что такое?…
Я задал тот же вопрос Жермен:
— А вы, мадам, знали об этом?
— Да.
Жюль Вальер простонал:
— Жермен, скажи, что это неправда…
— Это правда, и именно поэтому я не хотела, чтобы он женился на Мишель.
Мой тон стал резким:
— Зато он сделал бы это без малейших угрызений совести, ведь так?!
Она отрицательно покачала головой:
— О, нет, месье комиссар. Но он понимал, в каком ужасном положении оказались наши финансовые дела… Вы ведь понимаете, что он не мог ничего рассказать Мишель… Я уверена, что если бы Элен не погибла, он никогда бы не женился на Мишель…
— Значит смерть Ардекуров открыла дорогу к миллионам с помощью женитьбы на Мишель?
Жюль Вальер опять простонал:
— Какой кошмар я переживаю… это же невозможно… Жермен, ты бы этого не допустила? Ардекур же был моим другом! и Элен… Ох!
Я похлопал его по плечу.
— Успокойтесь, месье Вальер. Что поделаешь, если ваш сын Пьер оказался первостепенным подлецом.
Несчастный отец схватился за голову:
— Ад… ужас… все на мою голову! Все сразу!
— Мадам Вальер, кто убил Ардекуров?
— Только не мой сын… Он обожал Элен Ардекур… Это была любовь, которую трудно себе представить.
— Вы знали, что он звал ее Изабель?
— Да. Ей очень нравилось это имя… бедная…
Месье Вальер вскочил, стукнул кулаком по столу и истерично закричал:
— Шлюха! Обыкновенная шлюха! Вот кем была твоя Элен Ардекур!
— Не осуждай мертвых, Жюль… Муж Элен был слишком стар для нее… Ей было скучно…
— Это еще не повод для…
— Кто может знать о причинах, толкающих людей на те или иные поступки! И все-таки, месье комиссар, вы ошибаетесь, если думаете, что мой сын способен на такой страшный поступок. Повторяю, он обожал Элен Ардекур. И ни за что на свете не смог бы причинить ей ни малейшего страдания.
— Тогда кто же ее убил? Только не говорите снова, что это вы, мадам Вальер.
— Я не знаю, кто совершил это злодеяние, но твердо уверена в одном: мой сын здесь не при чем.
— А кстати где он?
— У Мишель.
— Хорошо, тогда едем туда втроем.
* * *
Увидев нас, Пьер Вальер сильно обеспокоился. Его взгляд перескакивал с матери на отца, затем на меня, пробежал по Мишель, снова возвращался на мать, выдавая его полное внутреннее смятение.
Я счел нужным действовать решительно.
— Я должен вам сказать, месье Вальер, что я вас искал.
— Зачем?
— Месье Вальер, я приехал из Анноне.
Упомянув еще и название гостиницы, в которой он останавливался, я замолчал. Пьер побледнел и только сказал:
— Значит, вы все знаете?
— Да, я все знаю и думаю, что вы заранее сможете предугадать мое мнение о ваших поступках?
— Вы не можете меня понять, месье комиссар.
— Еще как могу. Ведь вы не первый подобного рода негодяй, который мне попадается на пути!
Мишель вмешалась:
— Месье комиссар, как вы смеете говорить в подобном тоне с…
— … с любовником вашей мачехи?
Эта реплика вырвалась помимо моей воли. За ней последовало долгое молчание. Мишель заговорила первой и сразу же обратилась к Пьеру:
— Что он сказал?
Он угрюмо опустил голову.
— Это правда, Мишель… Прости меня, если
можешь…
И Пьер начал рассказывать красивую и жалобную историю своей несчастной любви. В конце он произнес:
— Если бы Элен была жива, я бы никогда на тебе не женился, Мишель. Ты ведь сама знаешь, что я с этим никогда особо не спешил.
— Нет, я никогда не смогу тебя простить, Пьер! Ты все испачкал, разрушил… Из-за тебя я теперь буду думать о своих родителях с чувством стыда… а это хуже всего, даже хуже того, что ты наплевал мне в душу… Уходи, уходите все!.. Вы слышите? Я никого не хочу видеть!
Я вмешался в разговор:
— К сожалению, не все так просто, мадмуазель! Я надеюсь, что вы сможете забыть навсегда этого бессовестного молодого человека, его соучастницу-мать, беспомощного отца… Мне же — по долгу службы — нужно отомстить за три смерти. Итак, признаете ли вы себя виновным в том, что убили Анри и Элен Ардекур, а также месье Попсе?
— Нет. Если бы вы меня знали получше, месье комиссар, то поняли бы, что я способен на любую подлость, кроме той, которая требует… физическою труда.
Со времени моего прихода к Вальерам меня начала преследовать одна мысль, которая разрушала все то, что я до этого выстроил: а что, если первая версия, версия комиссара Претена, была верной, и Анри Ардекур покончил с собой после убийства жены? Тогда ради чего мы потеряли столько времени и выплеснули наружу всю грязь…
С мыслями об этом я решился на последний шаг:
— Я расскажу вам, как все было, Вальер. Вы говорите, что любили Элен Ардекур? Это неправда! Вас интересовали только деньги ее мужа. Вам необходимо было стать ее любовником. Это удалось, потому что Элен была романтичной натурой и считала себя жертвой скучной жизни. Не знаю, сколько времени длилась ваша связь. Но я точно знаю, что вы ее не любили, Вальер. Вам просто были нужны все деньги Ардекуров. Для того, чтобы их получить, проще всего было жениться на наследнице. К несчастью для вас этому воспротивилась Элен Ардекур. Она не желала свадьбы любовника и падчерицы. Итак, к вашему большому сожалению, дорога к богатству для вас была закрыта. Не знаю одного, кто же дал вам совет? — сказал я, глядя на мадам Вальер. Она никак не отреагировала.
— Чтобы отомстить той, которая обрекала вас на бедность, вы стали ее шантажировать, требуя огромных денежных сумм и угрожая рассказать о ваших отношениях Мишель и ее отцу. Представьте себе, что сделал бы Ардекур, узнав о ваших отношениях с его женой? Мадам Ардекур необходимо было сразу во всем признаться мужу. Но она предпочла заплатить деньги. Я прошу у вас прощения, мадмуазель Ардекур, но мы вместе, кажется, ошиблись, предполагая, как умерли ваши родители. Мы посчитали, что это двойное убийство. Сейчас я в этом уверен намного меньше. Вот как мне теперь представляется происшедшее. Вальер, я пока не могу сказать зачем, но вы вернулись из Анноне раньше Элен Ардекур. Вы ее ждали на Бельвю, куда я ее сам подвез. Она знала, что к восьми вечера ее мужа не будет дома. Кстати то, что месье Ардекур был в пальто и шляпе, доказывает, что он откуда-то вернулся. Итак, Элен Ардекур вручила вам, Пьер, деньги, которые взяла из сейфа мужа. Вы ушли. Думаю, что вы даже встретили месье Ардекура на лестнице или около дома. Очевидно, Анри Ардекур застал свою жену в тот момент, когда она закрывала сейф. Элен пришлось во всем признаться. В итоге, месье Ардекур убил жену и застрелился сам. Возможно, он это сделал потому, что оказался в роли обманутого мужа, но скорей всего — чтобы его имя осталось честным, и дочери никогда бы не пришлось за него краснеть. Месье Ардекур рассчитал все правильно, и никто не смог бы разобраться в трагедии, если бы не месье Понсе, неизвестно как узнавший о ваших связях с Элен Ардекур. Он понял, что двадцать миллионов могут находиться только в руках семьи Вальеров, и, напуганный перспективой безработицы, решил вас шантажировать. За это вы его и убили, Пьер Вальер!
— Клянусь вам, месье комиссар, я никого не убивал!
— Это вы будете объяснять суду.
Жермен Вальер подхватилась:
— Нет! Нет! Вы его не арестуете! Я не позволю вам этого сделать!
— Жермен, сядь и замолчи!
Я никогда бы не подумал, что Жюль Вальер способен говорить таким тоном с женой. К моему большому удивлению, Жермен Вальер, словно хорошо выдрессированное животное, быстро опустилась на стул.
Пьер Вальер повернулся к Мишель:
— Я знаю, ты никогда не сможешь меня простить, но клянусь тебе… я не убивал твоих родителей.
Не сказав ни слова, Мишель отвернулась.
Жюль Вальер во второй раз повел себя необычно: он похлопал сына по плечу и произнес необычно твердым тоном:
— Если комиссар прав, Пьер, тебе придется ответить. Если нет, — мы сделаем все, чтобы доказать твою невиновность. Можешь рассчитывать на нас.
Во всей этой истории было что-то такое, что обескураживало меня, но я никак не мог уловить, что именно. Раздался телефонный звонок. Мишель сняла трубку и через несколько секунд позвала меня.
— Вас, месье комиссар…
Предоставив Пьера Вальера заботам Даруа, я взял трубку:
— Алло?
— Говорит Эстуш. Мне только что позвонили из жандармерии Анноне и сообщили, что во вторник, около шести тридцати вечера, там был составлен протокол на Пьера Вальера. Он совершил серьезное нарушение правил движения, и его доставили в жандармерию, продержав для объяснений более часа. Это все.
— Спасибо.
Сведения были ошеломляющими. Ведь если Пьер Вальер был в жандармерии Анноне между шестью тридцатью и семью тридцатью вечера, он никак не мог видеться с Элен Ардекур на Бельвю. Кто же тогда ждал Элен? А ведь я уже собирался поставить финальную точку во всей этой истории, и, надо же! Обыкновенный телефонный звонок поставил все мои труды под сомнение. Возможно, от отчаяния, но я решил последний раз пойти ва-банк.
Повернувшись к Пьеру Вальеру, я сказал:
— Итак, все кончено. Есть свидетель, который видел вас в вечер преступления на Бельвю с мадам Ардекур. Он также утверждает, что видел, как она садилась в вашу машину.
Пьер Вальер воскликнул:
— Но это же невозможно! В тот час, когда у Элен была назначена встреча, я находился в жандармерии Анноне.
— Так вы знали об этой встрече?
— Да.
— С кем же она должна была встретиться?
— Этого я не знаю.
— Скажите, Вальер, неужели вы не понимаете, насколько по-мальчишески несерьезно вы себя ведете! Кого вы хотите обмануть? Ваша любовница отправляется на встречу, о которой вы от нее знаете, но не рассказывает, с кем должна встретиться?
Сделав вид, что я возмущен настолько, что меня даже не интересует его ответ, я направился к телефону и позвонил Эстушу. Дав ему команду, чтобы он приготовил камеру для Пьера Вальера, я тем же самым хотел заставить парня еще раз заговорить. Было похоже, что он никак не может на что-то решиться.
— Ладно, Даруа, арестуйте его!
Пьер Вальер запротестовал, как капризный ребенок:
— Нет! Нет! Я не хочу в тюрьму!
Наконец, он начал раскалываться.
— Вальер, я спрашиваю вас в последний раз, с кем Элен Ардекур встречалась на Бельвю?
Он продолжал молчать, и тогда мадам Вальер отчетливо произнесла:
— С ним, — ее палец указывал на мужа.
Жюль резко вскочил и буквально прорычал:
— Ты сошла с ума!
Бесконечно усталым голосом Жермен Вальер ответила:
— Нет, я не сошла с ума… Я не сумасшедшая… Но я так долго была ею… Столько лет мы с Пьером, как рабы, подчинялись тебе! Ты — чудовище, слышишь? Чудовище…
Жюль Вальер менялся прямо на глазах. Его лицо больше не было мягким и безвольным. Взамен «медузы», как его называла когда-то Леони Шатиняк, появился твердый, безжалостный мужчина с недобрым взглядом. Его фигура выпрямилась, и казалось, от нее исходила какая-то дьявольская сила. С поднятыми кулаками он бросился к жене.
— Заткнись, грязная шлюха!
Но Жермен уже ничто не могло остановить.
— Я не хочу жертвовать Пьером из-за тебя. Месье комиссар, во всем виновен мой муж. Он убил Ардекуров и месье Понсе. Двадцатью миллионами завладел тоже он. Всю свою жизнь этот человек делал и умел делать только зло. Чтобы ввести всех в заблуждение, он придумал для себя образ несчастного, скромного, дрожащего перед женой мужа. На самом деле, месье комиссар, это я с Пьером дрожу перед ним. Я сносила все, надеясь, что мой сын сумеет вырваться из этого ада. Но, к несчастью, Пьер вырос в этой атмосфере, и его личность была полностью подавлена отцом. Его несчастьем был отъезд Мишель в Лион. Если бы она не уехала, они бы давно поженились, и Пьер был бы спасен. А так появилась эта связь с Элен Ардекур. Она действительно любила моего сына, и он ее любил: ведь они были так похожи друг на друга. У Мишель слишком сильный характер для того, чтобы Пьеру было хорошо с ней. Элен же и Пьеру, как слабым существам, было необходимо, чтобы кто-то помогал им жить. Думаю, месье комиссар, что эта любовь давала им возможность считать себя сильными людьми, которыми они в действительности не были. Как только я узнала об этой связи, я хотела заставить сына прекратить ее. Я даже собиралась поговорить с Элен и напомнить ей о супружеском долге, но во все вмешался мой муж. Он сразу же сообразил, что из ошибки мадам Ардекур можно было извлечь немалую прибыль. Он поощрял сына, тайно собирая доказательства их связи. И вот настал день, когда он потребовал у Элен денег, угрожая сообщить обо всем мужу.
— Ты заткнешься? Заткнись!
Прежде чем мы успели среагировать, Жюль Вальер бросился к жене и ударил ее кулаком в лицо. Жермен Вальер упала. Пока я помогал ей подняться, Даруа занялся Вальером и связал ему руки.
— Вам очень больно, мадам?
— Этот удар — ничто по сравнению со всем, что я вынесла. Мой муж присутствовал при том, как мадам Триганс передавала Ардекуру двадцать миллионов, и видел, что они были спрятаны в сейф. Тогда-то он и решил путем обмана мадам Ардекур завладеть этой суммой. Жюль заставил ее поверить, что передаст ей большую часть этих денег, чтобы она смогла бежать с нашим сыном. Элен была романтичной натурой и не умела четко видеть грань между злом и добром. Она внушала себе, что рождена для фантастических приключений. Кстати, ее просьба, чтобы Пьер называл ее Изабель, доказывает ее наивность. Мой муж не мог больше ждать, его торопили долги. Чтобы Анри Ардекур не помешал выполнению его плана, Жюль попросил его зайти к нам якобы для того, чтобы сообщить какую-то важную вещь. Встретившись с Элен Ардекур на Бельвю, он дождался часа, когда Ардекур должен был быть у нас. Затем он вместе с Элен пришел в кабинет, где мы сейчас находимся. Мадам Ардекур знала шифр сейфа и легко взяла деньги. В это время Анри Ардекур никак не мог понять, зачем его позвали и в который раз рассказывают о своих финансовых затруднениях. Он быстро положил конец нашей беседе и поэтому вернулся домой немного раньше, чем это было предусмотрено. В кабинете он застал свою жену и Жюля. Не догадываясь о правде, он решил, что Жюль пришел упрашивать его жену, как недавно я упрашивала его самого. Он высказал Жюлю все, что думал о нем, и чтобы избавиться от него, выписал чек на сто тысяч старых франков. Нужно сказать, что Жюль очень вспыльчив, месье комиссар. Подобное обращение да еще в присутствии Элен заставило его потерять рассудок. И в то время, когда месье Ардекур заполнял чек, он убил его выстрелом в висок. Чтобы убрать свидетеля, показания которого могли привести его на эшафот, он был вынужден убить и Элен. Вернувшись домой, муж мне все рассказал и успокоил тем, что даже если раскроется связь Пьера с Элен, то Пьеру нечего бояться, так как в этот момент он находился в Анноне. К несчастью для нас, один человек все-же разобрался в случившемся. Это был месье Понсе. Он знал о связи Элен с Пьером. Знал даже то, что Элен просила звать ее Изабель. Откуда? Не знаю. Возможно, он либо подслушал их разговор, либо перехватил одну из записок. Тогда он решил шантажировать Пьера, которого тоже считал виновным в преступлении, и мой муж его убил. Чтобы объяснить полиции исчезновение двадцати миллионов, он придумал историю со скачками и положил листок, который вы и нашли среди бумаг месье Ардекура. Что касается Мишель, то он заставил нас разыгрывать с бедной девушкой отвратительную комедию. Сначала мы стали в позу оскорбленных людей, опасающихся за свою репутацию, а затем уступили во имя старой дружбы.
— Как же вы все это сносили, мадам?
Она с болью ответила:
— Я понимаю ваше чувство, месье комиссар. Наша жизнь действительно была адом, после которого даже тюрьма покажется нам тихой гаванью.
Глава 9
Первое, что я почувствовал, проснувшись утром, были угрызения совести. Накануне я получил по телефону поздравления от Дивизионного и Главного по поводу успешного завершения дела Ардекуров. Но ведь никто, кроме меня, не знал, что без помощи мадам Вальер у меня, возможно, ничего бы и не вышло.
Как и все домашние тираны, храбрые только в своей семье, Жюль Вальер на деле оказался трусом. Он рассказал обо всем на первом же допросе в полиции. Сегодня утром его должны будут перевести в прокуратуру, предъявив ему обвинение в тройном убийстве. Мадам Вальер и ее сын предстанут перед судом в качестве соучастников.
Засунув руки в карманы пальто, я прогуливался по улице Вечности и думал об Элен Ардекур… Бедная Изабель. Случай свел нас, и я сделал все от меня зависящее, чтобы рассказать о ней правду. И еще я думал о моем родном городе, связь с которым возродилась в таких трудных условиях. Я зашел на кладбище Крэ-де-Рош, чтобы постоять у могилы родителей, потом пошел взглянуть на склеп Ардекуров. Теперь здесь нашла свое последнее пристанище Изабель, та Изабель, которую я так тщетно искал…
Возвращаясь в комиссариат, я думал о том, что, очевидно, стал жертвой своих собственных мечтаний и пытался сблизиться с Мишель только из-за Изабель, за которую должен был отомстить.
Изабель, которая была со мной целую неделю, удалялась, чтобы стать воспоминанием. А Мишель? Я едва не вернулся обратно, чтобы еще раз зайти в дом по улице Руайе, но после недолгих сомнений отказался от этого. Бедняжке пришлось слишком много вынести, и я боялся, что буду лишним напоминанием о ее трагедии.
Я разрешил Даруа и Эстушу вернуться в Лион, а сам остался еще на несколько дней в Сент-Этьене, чтобы завершить все дела. После отъезда моих сотрудников я распрощался с коллегой Претеном, решив, что оставшееся я смогу сделать и без собственного кабинета.
Я уже укладывал свои записи в портфель, как вдруг зазвонил телефон:
— Алло?
— Алло… Это вы, комиссар?
Мне слегка сдавило горло, но я ответил:
— Да, Мишель…
— Мне захотелось вам позвонить, чтобы…
— Чтобы…
— Чтобы сказать, что сегодня на склонах Пилата должна быть отличная погода…
Шарль Эксбрайя
САМЫЙ КРАСИВЫЙ ИЗ БЕРСАЛЬЕРОВ
Глава 1
— Ma que![246] Вы слишком торопитесь, Алессандро! Повторяю вам: прежде чем добавлять бульон, подождите, пока вино испарится, иначе вместо «оссо буко»[247] у вас получится гнусная бурда, недостойная нёба Тарчинини! Просто невероятно, до чего у вас, пьемонтцев, упрямые головы!
— Может, это оттого, что нам, пьемонтцам, живется куда тяжелее, чем обитателям Вероны, а потому у нас гораздо меньше времени на кухонные изыски? Или, возможно, туринцы просто глупее веронцев?
— Я думаю, Алессандро, вы попали в самую точку!
Пронзительный телефонный звонок оборвал разговор, грозивший закончиться перепалкой. Инспектор Алессандро Дзамполь снял трубку и, послушав, передал ее собеседнику.
— Это вас, синьор комиссар… из Вероны…
— Pronto? — завопил Тарчинини. — Это ты, моя обожаемая Джульетта?.. Да, твой Ромео слушает! Есть новости о проклятой? О неблагодарной? О бессердечной?
Инспектор Алессандро Дзамполь, тощий и на редкость сдержанный пьемонтец, никак не мог составить о веронском полицейском определенное мнение. Ромео Тарчинини считали человеком недюжинного ума — недаром же его на несколько недель пригласили в Турин делиться собственными методами расследования преступлений. Инспектора Дзамполя назначили его помощником, но оба не испытывали друг к другу особых симпатий. Все в Тарчинини шокировало Алессандро: и его краснобайство, и привычка все время кричать, стонать, хихикать, умиляться по поводу и без оного, и обыкновение по пустякам призывать в свидетели Небо, и его манера одеваться. Здесь, в суровом Турине, прохожие то и дело оборачивались, с изумлением глядя на кругленького человечка лет пятидесяти, чьи темные с проседью волосы были завиты и уложены локонами благодаря густому слою бриолина, и на его пышные усы, воинственно подкрученные на концах, как во времена Виктора-Эммануила II. Внимание привлекала и манера Ромео постоянно жестикулировать на ходу, поблескивая огромным перстнем на безымянном пальце левой руки и не менее внушительным самоцветом — на правой. Черный костюм оживляли белый пикейный жилет и поразительный пышный галстук, волнами ложившийся на грудь и заколотый большой пряжкой в форме усыпанной жемчужинами подковы, а белые гетры издали создавали впечатление, будто синьор Тарчинини, невзирая на изысканность прочих деталей туалета, нацепил холщовые туфли на веревочной подошве. Все вместе выглядело невероятно комично, и никто не мог поверить, что сей опереточный персонаж обладает необычайно острым умом. Но тут общественное мнение, несомненно, заблуждалось. Однако больше всего Алессандро Дзамполя раздражала нелепая теория Тарчинини, которую тот излагал ему с утра до ночи, будто чуть ли не все преступления совершаются на любовной почве. Только потому, что он родился в Вероне, зовется Ромео, а его жена — Джульеттой, комиссар желал говорить исключительно о любви, видел ее повсюду и мгновенно приходил в умиление. А инспектор Дзамполь так же упорно уверял всех и каждого, что это бесспорный признак старческого маразма. Впрочем, Алессандро чудовищно не повезло в семейной жизни, и с тех пор он затаил упорную злобу на весь женский пол.
— Что бы ты ни говорила, моя Джульетта, я все равно не изменю мнения об этой бессовестной! И однако, тебе ли не знать, как я ее любил! Ma que! Увы, неблагодарность — удел слишком покладистых отцов!.. Что ты говоришь? Да, конечно, и матерей — тоже. Нет-нет, я вовсе не забыл, что мы с тобой вместе породили эту отщепенку, этот отрезанный ломоть… Что ж, нам остается нести свой крест, опираясь друг на друга… Что?.. Здесь?.. А как, по-твоему, я могу жить среди пьемонтцев?.. Да, как изгнанник, как ссыльный!.. А малыши? С ними все в порядке?
Наконец, успокоившись насчет своих сыновей Дженнаро, Фабрицио и Ренато, дочерей Розанны и Альбы, бабушки из Бардолино, дядюшки из Вальданьо, кузена из Болоньи и племянников из Мантуи, Ромео Тарчинини, краса и гордость веронской полиции, начал прощаться с женой, и, слушая его стенания, образованный инспектор Дзамполь вдруг вспомнил, как изгнанный неблагодарными согражданами Аристид[248] покидал Афины.
— До свидания, душа моя… Ты ведь знаешь, что всегда можешь положиться на меня?.. Как бы он ни страдал, Ромео Тарчинини — не из тех, кто сдается… Да, я несчастен, но буду держаться достойно. И тем не менее меня точит скорбь… Я живу лишь тобой и детьми, моя Джульетта… И мы не заслужили таких мук, нет, не заслужили! Ну да ладно, хоть на мгновение оставим слезы, и я поцелую тебя, любовь моя! О, как бы мне хотелось сейчас пощекотать твою шейку усами!..
Последнее «прощай», завершившее монолог Тарчинини, прозвучало подобно сирене в туманной мгле северных морей или вою верного пса, почуявшего, как к хозяину подкрадывается смерть. На Алессандро это произвело неизгладимое впечатление. И, когда Тарчинини положил трубку, он счел своим долгом поинтересоваться:
— Надеюсь, вам не сообщили ничего неприятного?
Комиссар посмотрел на него с кротким смирением христианского мученика, в глубине рва ожидающего диких зверей, и так тяжко вздохнул, что со стола слетело несколько листов бумаги, а совершенно ошарашенный Алессандро даже не подумал их поднять.
— Дзамполь… вы молоды… красивы…
Инспектор попытался возразить.
— Нет, помолчите! К тому же я говорю не о вас, а о себе… вернее, о том Тарчинини, каким мог по праву считаться больше двадцати лет назад… Я был молод, красив и встретил прекраснейшую из веронок… Ее звали Джульетта, а меня — Ромео… Сама судьба предназначила нас друг другу… И мы полюбили так, что Лаура и Петрарка, Данте и его Беатриче побледнели бы от зависти! И от любви родилось дитя, прелестнейшая на свете девочка — тоже Джульетта… Вся Верона с восхищением наблюдала, как она растет, а я… я думал, на земле не найдется такого достойного принца, которому я мог бы отдать свою Джульетту…
Не будь лицо комиссара залито слезами, Дзамполь наверняка рассердился бы, решив, что тот над ним издевается.
— И вот однажды к нам приехал какой-то дикарь… американец… Он попросил у меня руки дочери… Да, самый настоящий варвар, но, признаюсь, очень симпатичный… и такой богатый, что вы и представить себе не можете… Сайрус его звали… Парень поклялся, что они с Джульеттой будут жить в Вероне. Я поверил и отдал ему свое сокровище. А когда Джульетта стала его женой, Сайрус попросил у меня разрешения свозить ее в Бостон и представить родителям, дав слово вернуться не позже чем через месяц… И вот прошло уже семь недель… Он украл у меня дочь, Алессандро… Этот американец сохранил привычки своей страны… и я ничего не могу поделать… Закон, насколько мне известно, за него… Чудовищно, Дзамполь, слышите? Чудовищно! Говорю вам, закон не желает защитить родителей, лишившихся любимой дочки! И если мне придется стареть, не видя своей Джульетты… и ее детишек, из которых этот негодяй вполне способен сделать маленьких американцев… нет, уж лучше умереть прямо сейчас!
Растроганный инспектор встал и дружески взял шефа за руку.
— Не стоит так расстраиваться, синьор комиссар…
Тарчинини вырвал руку.
— Нет… для меня все кончено… Я совсем утратил вкус к жизни… лишь по привычке тяну лямку, и все!
Продолжая стенать, он подошел к большому окну, выходящему на пьяцца[249] Кастелло.
— А вон три девушки! — не меняя тона, сказал веронец. — Madonna mia! Какие милашки! Эх, будь я помоложе… Подойдите-ка взгляните, Алессандро!..
Совершенно сбитый с толку непостижимыми перепадами настроения Тарчинини, способного то плакать, то смеяться, то впадать в глубочайшее уныние, то радоваться жизни (и все это — без какого бы то ни было перехода), Дзамполь подошел к окну. Через площадь и в самом деле шли три очень красивые девушки и с самым решительным видом направлялись, похоже, к полицейскому управлению.
— Ну, Алессандро, как они вам нравятся?
Инспектор пожал плечами:
— Знаете, у меня так много дел…
— Несчастный! Да разве это причина? Посмотрите на меня! Стоит мне утром увидеть красотку — и на весь день отличное настроение!.. Да взгляните же, какие прелестницы, а? Почти так же хороши, как моя Джульетта…
Вспомнив о дочери, хоть и на законном основании, но все равно похищенной американским мужем, комиссар Тарчинини опять нахмурился и сел за стол.
— Порой невольно спрашиваешь себя, Алессандро, чего ради мы так упрямо цепляемся за жизнь…
— Возможно, для того, чтобы давать уроки и обучать премудростям полицейского расследования недоразвитых пьемонтцев?
Ромео в свою очередь пожал плечами:
— Допустим даже, я способен научить кого бы то ни было… И как, скажите на милость, я стал бы это делать, коль скоро у вас в Турине все так уважают закон?
— Надеюсь, вы не станете упрекать нас за порядочность, синьор комиссар?
— Нет, не за порядочность, а за равнодушие, Алессандро! Раз нет страстей — так и драме взяться неоткуда, верно?
— Ах да! Ваш знаменитый конек: всякое преступление — любовная история…
— Нет, но каждое преступление связано с любовью. Это не совсем то же самое… Разница невелика, но вы, пьемонтцы, вечно упускаете из виду нюансы…
И снова телефонный звонок помешал инспектору ответить. Он снял трубку.
— Алессандро Дзамполь слушает… Что?.. А, понятно… Право же… Погодите, я у него узнаю…
Прижав трубку к груди, чтобы на том конце провода не услышали разговора, Алессандро сказал комиссару:
— Насколько я понял из болтовни Амедео, который сейчас дежурит внизу, у двери, там три синьорины спрашивают, к кому обратиться насчет убийства… Я думаю, это те самые крошки, что несколько минут назад шли через площадь… Так что, пусть отправят их к нам?
— Еще бы!
Дзамполь снова прижал трубку к уху.
— Pronto, Амедео? Пусть поднимутся… Если Федриго на месте, скажи, чтоб проводил.
Тарчинини отодвинул кресло подальше от стола и, поймав удивленный взгляд инспектора, пояснил:
— На случай, если одной из красоток захочется сесть ко мне на колени!
Добродетельный Дзамполь возмутился:
— Ну как вам не совестно, синьор комиссар, в вашем-то возрасте!
— Ma que! Я не больше вашего верю в подобную возможность. Но почему бы не помечтать? Это так приятно!
Федриго распахнул дверь, пропуская трех посетительниц. Это и в самом деле были девушки, за которыми комиссар и его помощник только что с восхищением наблюдали в окно. При всей их решимости красавицы замерли, оробев под суровым взглядом Алессандро Дзамполя, да и само место внушало почтение. Ромео не мог видеть представительниц так называемого слабого пола в затруднении, а потому сразу же поспешил на помощь:
— Ну, мои очаровательные барышни, я слышал, вы хотели поговорить с нами об убийстве?
Самая маленькая из трех девушек, живая и энергичная брюнетка, повернулась к комиссару.
— Вы здесь начальник, синьор?
— В этой комнате — да, дитя мое… И не волнуйтесь, а? Мы не обижаем красивых девушек… Ну, чем можем служить?
— Это насчет убийства…
— Я знаю… и где же оно произошло?
— Пока никто никого не убил, но за этим дело не станет!
— Правда? И каким же образом вы оказались в курсе?
— Да просто я сама его совершу!
— Вы?
— Да, я… или Валерия…
Девушка пальцем указала на другую брюнетку, чуть повыше ростом и, судя по всему, гораздо более флегматичную.
— …или Иза.
На сей раз она кивнула в сторону блондинки. Иза, самая застенчивая из троицы, явно смутилась. Дзамполь, решив, что девушкам вздумалось разыграть с ними дурацкую шутку, разозлился.
— Вам не стыдно нести такую чушь? — резко одернул он маленькую брюнетку.
— Спокойно, Алессандро, — поспешил вмешаться Тарчинини. — Спокойно, а? Если милые крошки вроде этих трех говорят об убийстве, значит, у них должна быть на то серьезная причина…
Маленькая брюнетка посмотрела на него с восхищением:
— У вас есть сердце, синьор, а кроме того, сразу видно, вы человек умный.
Довольный Ромео замурлыкал, словно толстый кот, которому почесали за ухом. Дзамполю стало противно. А комиссар, ласково подмигнув девушке, тихо проговорил:
— Вы тоже не производите впечатления дурочки, синьорина… синьорина?..
— Фьори. Тоска Фьори…
— А где вы живете?
— На виа[250] Роккьямелоне, двести тридцать семь.
— И чем же вы зарабатываете на жизнь, прекрасная Тоска?
С того дня как он начал служить в полиции, Алессандро Дзамполь еще ни разу не слышал подобного допроса.
— Я работаю в парикмахерской «Ометта» на виа Барбарукс.
— И девушка с такими прекрасными глазами, с такой нежной улыбкой хочет кого-то убить?
— Еще как!
Тарчинини повернулся к помощнику.
— Вот это огонь, Алессандро, а? В Вероне они все такие!
Он снова посмотрел на девушку и, указав на ее спутниц, спросил:
— И эти юные создания питают столь же преступные намерения?
— Не то слово!
— Может быть, вы их представите?..
Тоска не заставила себя упрашивать и, схватив темноволосую подругу за руку, вытащила вперед.
— Вот это — Валерия Беллато. Она живет совсем близко от меня, на виа Фьяно, а работает в колбасной лавке «Фабрия» на виа Неукки. А вон та, блондинка, — Иза Фолько. Те, кто не любит брюнеток, уверяют, будто она — самая красивая девушка в нашем приходе — Сан-Альфонсо де Лиджори… Живет Иза на виа Никола Фабрицци, всего в нескольких шагах от Валерии и от меня, а работает машинисткой у Праделла на виа Пио Квинто.
— Вы подруги?
— Мы знаем друг друга с тех пор, как научились ходить.
— Скажите, синьорина Фьори, а у вас в приходе Сан-Альфонсо де Лиджори все такие красавицы?
Тоска покраснела, смущенно рассмеялась и кинула на Тарчинини такой выразительный взгляд, что комиссар невольно подкрутил кончики усов.
— Я полагаю, все вы собираетесь убить одного и того же человека?
— Конечно!
— И, разумеется, мужчину?
Тоска кивнула.
— А можно мне узнать, как его зовут?
— Нино… — дрогнувшим голосом пробормотала девушка, и от ее взволнованного тона у Тарчинини аж закололо в кончиках пальцев.
Все три посетительницы вздохнули.
— Нино — это только имя, — заметил комиссар.
— Нино Регацци.
— И где он живет?
— В казарме Дабормида.
— А?
— Он берсальер[251].
— Красивый берсальер! — добавила Валерия.
— Самый красивый из всех берсальеров! — чуть слышно простонала Иза.
— И вам так хочется отправить на тот свет самого красивого из берсальеров?
— Этого требует наша честь!
— Вот как?.. Алессандро, друг мой, вы чувствуете, какой пыл, какое благородное кипение крови? Настоящие веронки! Должно быть, они родились в ваших краях по ошибке… Ну, мои свирепые мстительницы, так вы пришли меня предупредить… А чего вы хотели? Чтобы я помог вам прикончить красавца берсальера или помешал это сделать?
— Нет, мы пришли узнать, чем это нам грозит!
— Что?
— Да убийство же!
Тарчинини сразу помрачнел.
— Алессандро, они все взвешивают и рассчитывают! Нет, я ошибся, это настоящие пьемонтки!.. У нас они явились бы ко мне потом!.. Ну, мои кровожадные, за преднамеренное убийство вы просидите в тюрьме по меньшей мере двадцать лет. И — прощай муж, прощайте детишки!.. А выйдя из тюрьмы, вы и друг друга-то не узнаете… Если хотите знать мое мнение, ни один берсальер на свете, будь он и впрямь самым красивым, не стоит таких жертв… А кстати, что такого он вам сделал, этот солдат?
— Он нас обесчестил!
— Ай-ай-ай… Как, совсем?
— Ma que! — возмутилась Иза. — Не надо принимать нас бог знает за кого, синьор комиссар!
— Нино растоптал нашу репутацию, чудовище этакое! — уточнила Валерия. — И теперь в Сан-Альфонсо де Лиджори, стоит нам выйти на улицу, ребята кричат вслед: «Эй, глядите, а вот и берсальерки!» Никто даже не решается с нами заговорить…
Девушка горько зарыдала, Иза бросилась ее успокаивать, а отважная Тоска продолжала изливать свои любовные огорчения Ромео, словно почувствовав, что тот всегда готов слушать такого рода истории:
— Я думаю, вряд ли найдешь другого такого красавца, как Нино… Приехал он сюда из горной деревушки Растро… Ни отца, ни матери нет… Туда его привезли младенцем, откуда — неизвестно, так что, можно считать, Растро — его родина, верно? Сначала Нино служил подмастерьем у кузнеца, а потом, решив кое-чего достигнуть в этой жизни, перебрался в Турин и стал учиться на механика. До армии парень вкалывал в гараже и очень неплохо получал. Поэтому, когда он предложил мне пожениться, я сразу согласилась. Мы встречались почти год, а потом как-то раз, когда Нино сказал мне, будто дежурит, я застукала его в кино с Изой. Ну и, разумеется, бросилась в бой…
— Да, разумеется… — в полном упоении повторил Тарчинини.
— Но в тот вечер Валерия тоже пришла в кино. С родителями. Услышав крики Изы, которую я таскала за волосы…
— Так вы, значит, взялись не за берсальера, а за соперницу?
— Ma que, синьор комиссар! Его я хотела получить обратно, но в приличном состоянии… Ну а Валерия, сообразив, в чем дело, накинулась на Нино, потому как ей тоже он обещал жениться… С тех пор-то мы и сдружились по-настоящему, а раньше были только знакомы…
— И все вместе договорились убить обманщика?
— Да, потому что потом еще узнали, что до меня Нино долго встречался с Эленой Пеццато. А еще раньше она обручилась с другим парнем. Он только что вернулся из армии. Говорят, малый шутить не любит и, коли узнает о шашнях своей милой с берсальером, запросто может нас опередить! Так что, если мы не хотим опоздать, надо поторопиться!
— Да в том-то и дело: так ли уж вам это необходимо? Я надеюсь, что нет. Бросьте вы своего берсальера, раз он не совершил ничего непоправимого!
— А как же наша репутация?
— Двадцать лет в тюрьме ее не украсят, верно? Ну а чем сейчас занимается ваш солдат?
— Ходят слухи, что ему пришлось обручиться со Стеллой Дани — ее брат не привык играть семейной честью. По-моему, на сей раз он влип по-настоящему, наш Нино!
— Ma que, poverelle![252] Так вот она, ваша месть! Лучшего и желать нечего, а?
— Да, но нам обидно, что Нино получит другая!
— Но вы же все равно не смогли бы разделить его на три части, а? Знаете, мои кошечки, что бы я сделал на вашем месте? В тот день, когда ваш берсальер поведет невесту в церковь, я бы подождал его у выхода, так, чтобы он увидел всех трех разом и понял, как много потерял навеки!.. Подобное зрелище здорово отравило бы парню брачную ночь!
Синьорины переглянулись, и все три личика вдруг просветлели, а Тоска, прыгнув на шею Ромео, расцеловала его в обе щеки.
— Вот это мысль! Синьор комиссар, вы просто ангел!
Тарчинини порозовел от волнения, глаза его увлажнились, губы подрагивали. Он охотно поцеловал бы всех трех девушек, но, поскольку ни Валерия, ни Иза явно не собирались падать в его объятия, ограничился кратким напутствием:
— Ну, ангелом я, может, и стану, но попозже, а пока буду вашим советчиком и наставником! А теперь быстренько возвращайтесь в Сан-Альфонсо де Лиджори и забудьте об этом берсальере!
Взметнулись юбки, заскрипели под каблучками половицы старого паркета, и девушки исчезли. Инспектор Дзамполь изумленно взирал на комиссара.
— Говорили мне, что ваши методы работы очень оригинальны, синьор комиссар… Ma que! Но мне и в голову не приходило, до какой степени! — невольно вырвалось у него.
Тарчинини добродушно рассмеялся:
— Неужто я вас шокировал, друг мой Алессандро?
— В первый раз вижу, чтобы кто-то из наших посетительниц целовал комиссара!
— Ну и что? Даже полицейским надо быть человечнее, Алессандро! И потом, меня поцеловали от чистого сердца, и я в жизни не простил бы себе отказа! Да, согласен, инспектор Дзамполь, я полицейский! Но это же не повод превращаться в грубое животное, а? — Ромео на мгновение умолк, потом мечтательно добавил: — И тем не менее мне бы ужасно хотелось на него взглянуть.
— На кого, синьор комиссар?
— Да на этого Нино Регацци… Наверняка прелюбопытный экземпляр… Представляете, инспектор Дзамполь: самый красивый из берсальеров!
В окружении товарищей, давным-давно признавших его превосходство в этой области, Нино Регацци снисходительно обучал приятелей по казарме любовной стратегии — все равно до того момента, когда он сможет побегать по Турину в поисках новой жертвы, еще оставалось время.
— Самая деликатная проблема — это знакомство… Тут нужно проявить массу такта и ловкости, сечете? Для начала напустите на себя скромный вид и глядите с таким восхищением, будто еще не встречали подобной красотки… Голос должен чуть-чуть подрагивать — тогда синьорина поверит, что вы и впрямь волнуетесь. Все ясно?
Приятели дружно кивнули. Они и вправду внимали каждому слову, не сомневаясь, что советы специалиста помогут соблазнить любую девушку. Маленький рыжий солдат с туповатой физиономией, спустившийся с родных гор всего полгода назад, никак не мог привыкнуть к городскому ритму жизни.
— Но как же ты так быстро ухитряешься назначить свидание? — спросил он.
Нино снисходительно пожал плечами:
— Нет ничего проще, мой мальчик…
Заметив идущего в их сторону приятеля, красавец берсальер крикнул:
— Эй, Нарди, ты не поможешь мне втолковать этому дикарю, как надо себя вести?
Нарди, невысокий худощавый паренек, был одним из немногих, кто принимал красавца Нино не слишком всерьез.
— И чего ты от меня хочешь?
— Сыграй роль крошки, от которой я хочу добиться рандеву!
— Когда на меня нацепили эту форму, — с притворной горечью заметил Нарди, — я ждал чего угодно, но все же никак не думал, что меня заставят изображать прелестниц для берсальерского донжуана! Ну да ладно, коли тебе это позарез нужно…
Парень уселся рядом с Регацци, и тот начал нежно поглаживать его по руке. Все заулыбались, а Нарди, воспользовавшись весельем приятелей, предупредил:
— Ну, за руку еще можешь подержаться, но имей в виду: попробуешь меня лапать — врежу по физиономии. Идет?
Не обращая внимания на шутки приятеля, Нино принялся демонстрировать искусство соблазнителя.
— Синьорина, — нежно проворковал он. — Я и надеяться не смел, что встречу девушку вроде вас!
К огромной радости слушателей, Нарди тут же вошел в роль.
— Лгунишка… — жеманно просюсюкал он.
— Нет, клянусь вам, я не обманываю!
— А вы не ошиблись адресом? Я, знаете ли, порядочная девушка!
— Я это сразу понял! У вас такой неприступный вид… Можно подумать, ваш отец — какой-нибудь принц…
Глупое хихиканье Нарди окончательно покорило аудиторию.
— Нет… папа — мусорщик…
Послышались смешки, и Нино тут же обвел приятелей суровым взглядом.
— У некоторых мусорщиков — королевская душа, и, я уверен, ваш отец как раз из таких!
— Вы с ним знакомы?
— Нет, но достаточно посмотреть на вас… Ведь только необыкновенный человек мог создать такое чудо!
— Ma que! Мама, между прочим, тоже кое-что для этого сделала, а? И она, кстати, не очень-то обрадуется, если я вовремя не вернусь домой!..
— Но неужели вы меня так и оставите?
— А как же, по-вашему, я должна вас оставить?
— Ну, например, пообещав, что мы снова увидимся!
— Не знаю, можно ли вам доверять…
— Я так одинок… Войдите в мою жизнь — и вы станете в ней королевой!
— Ой, какие вы слова говорите… так и хочется поверить…
— И надо верить, Эмилия!
— Рената.
— Что?
— Мне не нравится «Эмилия» — так зовут мою старую тетку, а я ее терпеть не могу! Пусть лучше будет Рената!
Солдаты захохотали, а Нино в ярости набросился на приятеля:
— Ты испортил мне всю картину!
— Прости, старина… Но зови меня Ренатой, или я не смогу нормально продолжать.
— Ладно, Рената так Рената!
Несколько секунд Нино молчал, восстанавливая атмосферу любовного свидания, потом продолжал с прежним вдохновением:
— Рената, успокойте меня…
— Вам что, страшно?
— Да.
— Такому здоровому парню? И что же вас напугало?
— Что у вас есть жених… или друг…
— Да нет, ни того, ни другого…
— Какое счастье! Хотите, погуляем вместе послезавтра? Это как раз воскресенье!
— Воскресенье? Тогда ничего не выйдет.
— Почему? Вы заняты?
— Я-то свободна, ma que! Зато вы никак не сможете прийти.
— Я? Но уверяю вас, смогу!
— А я говорю: ничего подобного!
— Хотел бы я знать, по каким таким причинам?
— Да просто лейтенант Паскуале де Векки назначил тебя дежурить с утра и до вечера!
Забыв о любовной сцене, Нино в отчаянии завопил:
— Что ты болтаешь?
— Да я и шел сообщить тебе об этом, когда ты вздумал сделать из меня игрушку собственных страстей!
О том, чтобы продолжать урок, не могло быть и речи. Уязвленный Нино Регацци призывал в свидетели небо, землю, приятелей и всю Италию, что его преследует злой рок.
— Лейтенант просто взъелся на меня! Другого объяснения не подберешь. И за что он меня так ненавидит?
— А ты, случаем, не сманил у него подружку? — насмешливо спросил Нарди.
— Ох, отвяжись!
Они оставили красавца берсальера пережевывать обиду в полном одиночестве, а сами ушли в казарму переодеваться. Каждый собирался идти в город.
По натуре Нино был оптимистом, но все же порой и ему надоедало ни за что ни про что огребать шишки, и новость, сообщенная Нарди, переполнила чашу его терпения. И будь это хотя бы единственным огорчением! Так нет! Во-первых, эта дура Элена. Она больше не желает встречаться, и только потому, видите ли, что ее жених, отслужив, возвратился в Турин. Во-вторых, чудовищное невезение, приведшее в кинотеатр «Скала» Валерию и Тоску в тот самый момент, когда он пришел туда с Изой! И наконец, катастрофа со Стеллой. Вот уж порадовала так порадовала! Она, оказывается, ждет ребенка и требует побыстрее узаконить отношения, если Нино не хочет иметь дело с ее братом Анджело. Когда на человека сваливается столько несчастий разом, волей-неволей почувствуешь себя несчастным. Однако Нино не умел долго грустить и, сам не зная зачем, тоже пошел в казарму надеть свою лучшую форму. Одеваясь, он раздумывал, каким бы образом отделаться от мстительной Стеллы. Вообще-то она неплохая девчонка, и Нино она нравилась, но не отказываться же так рано от всех прелестей холостяцкой жизни, чтобы взвалить на шею жену и ребят! Регацци начал энергично драить ботинки, решив наповал сразить их блеском сержанта Фаусто Скиенато — жуткого типа, ненавидевшего Нино за головокружительный успех у женщин, поскольку сам он решительно никому не нравился. В утешение себе Регацци нараспев повторял имена всех девушек, кому клялся в любви, уверяя, будто именно она — первая и последняя любовь в его жизни. Для полноты наслаждения он даже закрыл глаза. Бруна… Ассунта… Карла… Рената… Анджела… Анна… Мария… Лина… Андреа… Тоска… Элена… Иза… Валерия… Стелла… Несмотря на то что в казарме стоял крепкий и не слишком приятный запах, берсальер вдыхал нежный аромат самых разнообразных девичьих духов. Воспоминания убаюкивали, уносили далеко-далеко, и Нино блаженно улыбался милым видениям, как вдруг насмешливый голос разрушил очарование.
— Вернись к нам, о мой Нино! — шутливо взмолился он.
Берсальер вздрогнул и, открыв глаза, увидел капрала Арнальдо Мантоли, одного из самых близких своих приятелей. Тот опустился на одно колено и, сложив на груди руки, с самым уморительным видом молил отринуть мечты и выслушать то, что просил передать сержант Фаусто Скиенато. От одного этого известия у Регацци кровь застыла в жилах. Что еще за гнусную шутку приготовил для него сержант? Капрал встал.
— Поторопись, парень! В проходной тебя ждут два богатеньких и очень важных синьора. Оба уверяют, будто должны сообщить тебе необычайно серьезную новость, если, конечно, ты пожелаешь приклонить слух!
— Два синьора?
— Говорю ж тебе: два богатых и важных буржуа!
По правде говоря, берсальер совершенно не представлял, чтобы у кого-то из его недавних подружек могли оказаться состоятельные отец с дядей.
— Может, родичи какой-нибудь из твоих красоток явились требовать, чтобы ты загладил вину? — саркастически бросил Мантоли.
От одной мысли об этом у Нино пересохло во рту. Если потребуется, он, конечно, узаконит отношения, но кодекс позволяет сделать это только один раз, если ради берсальера Регацци не сделают исключение и не разрешат многоженство!
— Ладно, Арнальдо, — чуть дрогнувшим голосом проговорил он, — я иду за тобой.
Вид посетителей сразу же произвел на Нино сильное впечатление — бесспорно, буржуа, и не из мелких! Даже по тому, как они смотрели на окружающих, чувствовалось, что оба привыкли повелевать.
— Нино Регацци из Растро? — спросил старший из них.
— Да, синьор.
— Можем мы где-нибудь поговорить с вами наедине?
Под любопытными взглядами солдат и сержанта Нино увел посетителей в комнату для свиданий. Минут через пятнадцать он снова вышел, проводил гостей до ворот и низко поклонился седому синьору, а тот снисходительно протянул парню руку. Сержант Фаусто Скиенато насмешливо фыркнул:
— Вот дела! Можно подумать, ему предложили корону где-нибудь у дикарей!
— Ну, по-моему, лучше быть королем у варваров, чем капралом у берсальеров, — с горечью отозвался Мантоли.
— Что за бред!
— Не бред, сержант, а плод размышлений. У дикарей я бы командовал, а здесь, если хотите знать мое мнение, все наоборот: мной командуют дикари!
Скиенато соображал медленно, зато отличался большим упорством.
— Мне бы хотелось, чтобы вы объяснили свою мысль поподробнее, капрал, — вскинув брови, заметил он.
К счастью для Мантоли в ту же секунду на пост прибежал Нино. Парень так и подпрыгивал на месте, не в силах скрыть буйную радость. Все немедленно окружили его и стали расспрашивать. Вместо ответа Регацци вытащил из кармана пачку банкнот. Сержант быстро прикинул, что там никак не меньше тридцати тысяч лир. Коченея от зависти, он стал мысленно подыскивать предлог лишить Нино Регацци сегодняшней увольнительной до полуночи. А красавец берсальер, не подозревая, какие козни против него затеваются, воскликнул:
— Ну, ребята, завтра я всех угощаю! У меня куча денег!
— Тогда почему бы нам не выпить сегодня? — спросил практичный Мантоли.
— Потому что сегодня, мой дорогой Арнальдо, я должен увидеться с одной не в меру приставучей барышней и дать ей достаточно бабок, чтобы она наконец оставила меня в покое!
По вечерам комиссар Ромео Тарчинини особенно тяжко переживал одиночество. В этом большом городе у него не было друзей — только коллеги, которых нисколько не волновало, чем занимается веронец в нерабочие часы. Ромео провел в Турине уже десять дней, и от одной мысли, что командировка рассчитана на три недели, у него сжималось сердце. Богатое воображение рисовало картину вечного изгнания, и Тарчинини без труда представлял, будто никогда больше не увидит ни Верону, ни Джульетту, ни малышей. Этого вполне хватало, чтобы оплакивать горькую судьбу, и окружающие жалели так тяжко страдающего беднягу, даже не догадываясь, что Тарчинини с упоением проливает слезы над вымышленными несчастьями, в которые, если докопаться до самой сути, и сам даже не слишком верит.
Но уж таковы веронцы. Тому, кто хочет, как встарь полагать, будто Ромео и Джульетта все еще среди нас и возрождаются в каждом новом поколении, волей-неволей приходится отметать логику и ставить на первое место сладкие грезы.
Вспомнив о жене, Ромео по естественной ассоциации тут же подумал и о старшей дочери, тоже Джульетте, запертой гнусным американцем в Бостоне, — Тарчинини и мысли не допускал, что его дочь может оставаться там добровольно и не без удовольствия. И комиссар клялся выложить зятю все, что о нем думает, когда тот вернется… и если это вообще произойдет.
Всякий раз, когда Ромео чувствовал, что вот-вот погрузится в беспредельную меланхолию, он заказывал хороший ужин. Лекарство срабатывало безотказно.
Поэтому Тарчинини, хоть и едва волоча ноги, но все же мужественно и целенаправленно двинулся в «Принсипи ди Пьемонте» — один из лучших туринских ресторанов. Там он дрожащим от сдерживаемых рыданий голосом заказал баньякаузо[253] с бутылкой кортезе. Немного подумав, он со стоном предупредил метрдотеля, что, пожалуй, после этого замечательного блюда отведает капельку трота боллита[254] — во всяком случае, это поможет ему управиться с вином. Потом комиссар с тяжким вздохом решил сделать над собой усилие и проглотить несколько каппони[255], запивая их барбареско, затем добавить кусочек горгонцолы, ибо этот сыр удивительно вкусен с красным вином, и, наконец, завершить трапезу, «поклевав» миндального печенья. К последнему блюду он заказал полбутылки асти.
Предвкушение вкусного ужина совершенно успокоило Тарчинини, и, позабыв о недавних огорчениях, он принялся разглядывать сидевших за соседними столиками женщин.
Разговор между Стеллой и Нино сразу же принял самый неприятный оборот. Девушка начала с упреков. Опоздание любовника она сочла намеренным оскорблением, поскольку на глазах у коллег по кафе «Чеккарелло», где работала кассиршей, пришлось слишком долго ждать. Тщетно Регацци пытался объяснить, что он на военной службе и не может располагать своим временем, как заблагорассудится. Стелла не желала ничего слушать и сердито попросила парня проводить ее домой. Они сели в автобус, доехали до остановки «Риволи» и прошли пешком всю виа Джибрарио до больницы Виктории. Оба упорно хранили молчание, и, лишь миновав больницу, девушка вдруг спросила:
— Когда ты наконец придешь просить моей руки?
Этого-то Нино с самого начала и опасался больше всего. Он начал смущенно бормотать какие-то довольно туманные объяснения, пытаясь хоть на время свалить с себя ответственность, но девушка не сдавалась.
— Все это пустые слова, Нино, а сейчас не время для болтовни. У меня будет ребенок… твой ребенок, Нино… Ну, так покинешь ты нас обоих или возьмешь к себе?
— Послушай, Стелла, сейчас это невозможно…
— Но если невозможно, что меня тогда ждет?
— Я дам тебе денег… сколько захочешь…
— Нашему сыну понадобятся не деньги, а отец! Берегись, Нино! Когда Анджело узнает, что мы натворили, прежде чем выгнать меня из дому, он разделается с тобой!
Хоть берсальер и пожал плечами, показывая, как мало его трогают подобные угрозы, на самом деле перспектива столкновения с братом Стеллы представлялась ему в высшей степени неприятной. И Регацци довольно трусливо воспользовался удобным предлогом.
— Я не потерплю, чтобы ты так со мной разговаривала, Стелла! Коли тебе вздумалось угрожать, я уйду! До скорого!
И, повернувшись на каблуках, берсальер быстрым шагом пошел прочь. Вслед неслись проклятия Стеллы, и Нино нарочно напустил на себя самый беззаботный вид, словно девушка костерила вовсе не его. Однако парень напрасно так торопился, ибо, когда он заметил дома Марино, настоятеля прихода Сан-Альфонсо де Лиджори, прятаться было уже поздно. Священник крестом раскинул руки, загораживая Нино дорогу.
— Остановись на минутку, берсальер!
— Добрый вечер, отец мой…
— Не лицемерь, солдат! Тебе бы очень хотелось, чтобы я оказался за тысячу миль отсюда, но я слишком давно ждал случая поговорить с тобой, и тебе придется-таки послушать!
Цепкие руки дома Марино, старого, но еще очень крепкого крестьянина, не привыкли упускать добычу. Священник заставил Регацци пойти рядом.
— Хочу сразу предупредить, берсальер, что я не позволю тебе и дальше сеять смятение в моем приходе!
— Но, отец мой…
— Молчи! Ты хуже самого похотливого козла! Хочешь, я назову все имена твоих жертв?
— Интересно, что вы можете об этом знать?
— Не нахальничай, а то, хоть ты и солдат, получишь по физиономии! Или ты забыл, что сан повелевает мне выслушивать исповеди?.. Ну, так когда ты женишься на Стелле Дани?
— Не знаю.
— Постарайся решить этот вопрос поскорее, иначе наживешь очень крупные неприятности!..
— Вы тоже угрожаете мне, отец?
— То, чем я могу пригрозить, сын мой, принадлежит миру иному… Но в конце-то концов, почему ты преследуешь только моих прихожанок?
— Потому что они — самые красивые девушки в Турине, отец мой.
— Я предпочел бы видеть их самыми добродетельными!.. Ты усложняешь мне работу, берсальер… и потом, не стоит забывать о малышке Стелле… Надеюсь, ты не собираешься бросить ее на произвол судьбы?
— Конечно нет, отец мой.
Голос Регацци звучал так неуверенно, что дом Марино воскликнул:
— А ну, посмотри мне в глаза!
Нино поглядел на священника.
— Неужто ты посмеешь совершить такое преступление? Ведь она носит твоего сына или дочь, упрямая голова!
— Я дам ей денег… Много денег…
Дом Марино резко оттолкнул берсальера.
— Проклятый! Да накажет тебя Бог! Да и обо мне ты еще услышишь, Нино Регацци!
— Обо мне — тоже, отец мой…
Они обернулись. Рядом стоял брат Стеллы, Анджело Дани. Вся его высокая, крепкая фигура свидетельствовала о спокойной, несокрушимой силе. Дани медленно подошел к берсальеру.
— Ты обесчестил мою сестру, Регацци… — тихо проговорил он.
Нино попытался отшутиться:
— Не стоит преувеличивать, Анджело…
Но Дани ухватил его за грудки и притянул к себе так, что их лица почти соприкасались.
— Даю тебе время до воскресенья, берсальер. И, если в понедельник ты не обручишься со Стеллой, я тебя убью!
Дом Марино поспешил их разнять.
— Кто смеет в моем присутствии говорить, будто отнимет у ближнего жизнь? Уходи, Анджело… Я уверен, милосердный Господь наставит берсальера на путь истинный и он выполнит свой долг…
— Мне бы очень этого хотелось, падре… Так будет лучше и для него, и для нас… До встречи, берсальер!
Комиссар Ромео Тарчинини, полузакрыв глаза, чтобы не отвлекаться от изысканного наслаждения, допивал последний бокал барбареско и с улыбкой думал, что порой жизнь удивительно хороша… Его Джульетта, несмотря на некоторую тучность, все еще очень привлекательна, но и пожить немножко на холостяцкий манер иногда тоже приятно… Что до младшей Джульетты, то Ромео сейчас не сомневался, что она приедет домой со дня на день — ведь не зверь же его зять и не захочет разбить девочке сердце, навеки оторвав от родных. Под благотворным влиянием кортезе и барбареско Ромео Тарчинини так разнежился, что сердце его, казалось, могло бы вместить весь мир. Когда метрдотель откупоривал бутылку пенистого асти, комиссар вдруг вспомнил о трех юных красавицах, явившихся к нему сегодня признаваться в намерении убить берсальера, и не какого-нибудь, а самого красивого из всех! Ромео тихонько рассмеялся, так что его внушительное, как у молодого будды, брюшко заходило ходуном. Тарчинини хотелось бы взглянуть на солдата, так смущавшего сердца прелестных обитательниц Пьемонта, но у них было мало шансов познакомиться.
Нино Регацци умел за себя постоять, но встреча с домом Марино, а потом и с Анджело Дани его смутила. Парень начинал понимать, что вляпался в скверную историю, но пока не видел способа выпутаться, если таковой вообще существует. В надежде разогнать неприятные мысли он зашел в бар на пьяцца делло Статуто и один за другим выпил три карпано, но не успел допить последний, как кто-то хлопнул его по плечу. От удивления берсальер поперхнулся и закашлялся. Наконец, отдышавшись, он обернулся и увидел невысокого, коренастого и очень смуглого парня. Тот сверлил Регацци настолько странным взглядом, что тот невольно смутился.
— Чего вы от меня хотите? — не слишком уверенно спросил берсальер.
— Это не вы, случаем, Нино Регацци?
— Да… а что?
— Имя Элена Пеццато вам что-нибудь говорит?
Решительно, это какой-то день неприятных сюрпризов! Надо же, чтоб его угораздило притащиться в тот же бар, где пил жених Элены! Потрясающая невезуха! Нино попытался изобразить полное недоумение.
— Элена? Какая еще Элена?
— Пеццато.
— Нет, не слыхал о такой…
Парень сунул берсальеру под нос фотографию.
— Вы не знакомы с Эленой, а я почему-то нашел вашу карточку у нее в шкафу! Вам это не кажется странным? По-моему, так прелюбопытная история…
— Нет, это вы слишком любопытны! Что за манера копаться в чужих вещах и…
Рука собеседника с такой силой врезалась в лицо Нино, что берсальер чуть не рухнул на пол. На сей раз его тоже охватило бешенство. Регацци уже хотел броситься на противника, но хозяин и несколько завсегдатаев бара скрутили его и вытолкали за дверь, посоветовав немедленно испариться, пока не случилось непоправимое. Уходя, Нино слышал, как жених Элены кричал ему вслед:
— Впредь веди себя осторожнее, берсальер! Считай, я тебя предупредил!
Поднимаясь из-за стола, Тарчинини не был пьян, но пребывал в том легком возбуждении, что всегда свойственно не страдающим несварением желудка людям после роскошного ужина. Метрдотель лишь самую малость помог ему восстановить равновесие, ибо мужу Джульетты вдруг показалось, что он совершенно свободен от земного притяжения. В вестибюле он игриво пощекотал подбородок гардеробщицы, но девушка нисколько не рассердилась — Тарчинини выглядел так забавно…
Ромео долго вдыхал ночной воздух, и предательская прохлада вдруг снова напомнила о недавнем приступе тоски. Родная Верона — так далеко… И слегка помрачневший комиссар, изредка спотыкаясь, побрел на корсо[256] Витторио-Эммануэле II — к себе в гостиницу «Дженио».
После недавних стычек Нино Регацци чувствовал себя настолько не в своей тарелке, что едва не вернулся в казарму. Но когда у тебя битком набит карман, негоже ложиться спать натощак, как какой-нибудь нищий! И берсальер решил устроить себе роскошное пиршество в одном из тех шикарных ресторанов, где ему наверняка не помешают ни Стелла, ни Анджело, ни священник, ни жених Элены. Их просто не пустят на порог. Эта мысль словно вдохнула в Регацци новые силы, и он бодро вошел в ресторан гостиницы «Венеция» на виа XX Сеттембре, чем немало изумил тамошний персонал, не привыкший обслуживать простых солдат. Метрдотель подумал, что Нино — сын крупного промышленника, банкира или коммерсанта, угодивший на военную службу. Регацци был так красив, что его почти инстинктивно причисляли к более высокому социальному слою, нежели тот, к которому он принадлежал на самом деле. Внешность так часто обманчива!
Перед сном Тарчинини долго писал жене, с юмором рассказывая, как три девушки пришли к нему посоветоваться, чем рискуют, если убьют берсальера.
«Согласись, моя Джульетта, что эти пьемонтцы — удивительный народ! И как только в них уживаются страсть, обостренное чувство риска и неискоренимый инстинкт сначала взвешивать все «за» и «против», а уж потом действовать… Ах, уж ты-то никогда не поступила бы так, моя голубка, a? Ma que! В твоих жилах течет романтическая кровь, которую мы, веронцы, наследуем из поколения в поколение… Ложась спать так далеко от тебя, я чувствую, что ни за что не смогу согреться…»
Ромео цинично добавил, что разлука с женой совершенно отбила у него аппетит, отлично зная, что столь материальное доказательство его грусти произведет на Джульетту большее впечатление, чем любые заверения и клятвы. Наконец, снова уверив жену, что она остается его единственной, вечной и неизменной любовью, что он ее целует, обнимает, ласкает, щекочет тысячью самых разнообразных образов, и прося передать самые нежные поцелуи детям, а передать привет бабушке в Бардолино, дяде в Вальданьо, кузену в Болонье и племянникам в Мантуе, комиссар запечатал письма. Он забрался в постель и, поскольку и впрямь отличался на редкость счастливым характером, едва натянув на голову одеяло, тотчас уснул.
В половине первого, проверив списки уходивших в увольнение, сержант Фаусто Скиенато убедился, что только Нино Регацци еще не вернулся в казарму. Злорадно предвкушая будущее наказание ослушника, он поделился новостью с капралом Мантоли, но тот стал защищать приятеля:
— У парня были так набиты карманы, сержант, что немудрено, если он это дело отпраздновал! Наверняка наш Нино сейчас в стельку пьян!
— Ну, пусть не волнуется, уж я заставлю его протрезветь!
— Слушайте, сержант, будьте великодушны, а? Ведь не каждый же день берсальеру удается покутить на полную катушку!
— А я, по-вашему, кучу? А у меня есть деньги? Или за мной бегают девчонки? Нет, капрал, нет! И поэтому не вижу причин помогать негоднику Регацци нарушать устав!
— Но…
— Молчите, Мантоли, или я заставлю вас в воскресенье дежурить вместе с вашим дружком Регацци! И не пытайтесь втихаря провести его в казарму — это вам дорого обойдется!
В два часа ночи весь приход дома Марино крепко спал. Ложась в постель, священник еще раз попросил Господа смягчить сердце Нино Регацци и внушить ему чувство ответственности. Тоска, Валерия и Иза мирно почивали. Первой из них снился жизнерадостный полицейский комиссар, которому она, видать, пришлась по душе. Жаль, что он так стар… Валерия отдыхала от дневных трудов, но, не отличаясь буйным воображением, никаких снов не видела. Иза и во сне мечтала, что в конце концов Нино вернется к ней одной. Элена долго не могла заснуть, поскольку заметила исчезновение из шкафа фотокарточки берсальера. Девушка почти не сомневалась, что похититель — ее жених Лючано. Поди узнай, что он теперь натворит! Только бы не разорвал помолвку… А Стелла так долго плакала, что подушка насквозь промокла. Лучше бы эта ночь никогда не кончалась… Будущее слишком пугало девушку.
Анджело вернулся поздно и в очень скверном настроении. Сначала он хотел заглянуть к сестре, но, поскольку в глубине души очень ее любил, решил не доставлять новых огорчений.
А Лючано, стараясь забыть об измене Элены, изрядно накачался вином…
И весь этот маленький мирок с его радостями и печалями, надеждами и сожалениями, любовью и ненавистью более или менее спокойно отдыхал под защитой Сан-Альфонсо де Лиджори, покровителя прихода.
Около трех часов ночи полицейские Диего Джезиотто и Энцо Джиральди, обходя квартал корсо Париджи, заметили в нише у двери одного из домов темную массу. Они подошли поближе и, включив электрический фонарик, обнаружили, что какой-то берсальер, похоже, спит прямо на тротуаре. Диего Джезиотто вздохнул.
— Здорово перебрал приятель… Ну, что будем с ним делать?
— Отволочем в казарму.
Диего нагнулся и попробовал поднять солдата.
— Алле — хоп! Вставай! Ты не в постели у своей милашки! Ох, свинюха, он даже не думает мне помогать!
Полицейский отпустил берсальера, и тот тяжело осел на землю. В ту же секунду луч фонаря упал на руки Джезиотто, и оба приятеля одновременно увидели кровь.
— Господи Боже! Да он не пьян, а мертв!
— Видать, нам сегодня не удастся даже подремать, старина, — сказал практичный Джиральди. — Ну, надо сообщить в контору… Оставайся тут… Парень, само собой, никуда не сбежит, но порядок есть порядок…
— Идет.
Собираясь уходить, Джиральди осветил лицо покойника.
— А красивый был берсальер, правда?
Полицейский, естественно, не знал, что это не просто красивый, а самый красивый из берсальеров…
Глава 2
Вооружившись маникюрными ножницами, Ромео Тарчинини перед зеркалом в ванной приступил в деликатнейшей ежеутренней операции — подравниванию кончиков усов и выстриганию каждого непокорного волоска. Только поработав ножницами, он мог со спокойной душой нанести на усы тончайший слой косметики, превращая таким образом это волосяное украшение в своего рода произведение искусства. Резкий телефонный звонок едва не привел к катастрофе, ибо от неожиданности комиссар чуть-чуть не отхватил половину уса. Бледный от волнения, Ромео немного постоял, опираясь на раковину и переводя дух. Наконец он подошел к телефону.
— Pronto? В чем дело?
— Сейчас с вами будут говорить, синьор.
— Надеюсь! Не хватало только, чтобы вы меня чуть не искалечили просто ради удовольствия послушать мой голос!
— Pronto! Синьор комиссар?
— Тарчинини слушает.
— Это Дзамполь.
— Ma que! Что это вам взбрело в голову, инспектор, звонить мне ни свет ни заря?
— Так сейчас, по-вашему, рано? Между прочим, уже половина десятого!.. Вы помните берсальера, которого три девушки мечтали отправить в мир иной?
— Да… и что дальше?
— И вы еще говорили, что не прочь на него взглянуть?
— Верно.
— Ну так вот: он вас ждет вместе со мной!
— Не может быть! И где же?
— В морге…
Тарчинини на мгновение застыл как громом пораженный.
— Я еду! — наконец почти беззвучно выдавил он.
Комиссар медленно опустил трубку. Раз свидание назначили в морге — значит, собираются показать труп, а поскольку Дзамполь разговаривал по телефону, очевидно, роль пациента, ожидающего в холодильнике, выпала на долю берсальера… Решительно, у этих пьемонтцев более чем своеобразное чувство юмора!..
Сердце Тарчинини вдруг захлестнула волна горечи, хотя сам он пока не мог понять почему. Совсем помрачнев, он закончил одеваться. Итак, для красивого юноши, так волновавшего девичьи сердца, все кончено?.. Дзамполь ни слова не сказал, как погиб берсальер. Но, если бы речь шла о самоубийстве или несчастном случае, инспектор не стал бы тревожить комиссара. Следовательно, солдата убили. Но Тарчинини никак не мог поверить, что кто-то из девчушек, приходивших к нему накануне, мог совершить преступление. Все его существо возмущалось против самой мысли об этом. Конечно, все они немного взбалмошны, но никак не способны на убийство. Комиссар так расстроился, что забыл позавтракать и, поймав такси, помчался на зловещее свидание с Алессандро Дзамполем и самым красивым из берсальеров.
По лицу инспектора было видно, что он наслаждается своего рода реваншем. Тарчинини он встретил на редкость лицемерной улыбкой.
— Ну, синьор комиссар… Еще одна любовная история закончилась преступлением, подтвердив тем самым ваши теории?
— Не стоит делать выводы заранее, Дзамполь!.. Где он?
— Пойдемте.
Ведя комиссара по коридорам, где стоял такой холод, что Ромео невольно бросало в дрожь, инспектор объяснял положение:
— Я распорядился, чтобы об этом убийстве не сообщали по крайней мере до полудня… Газеты напечатают о нем только в вечерних выпусках. За это время мы должны многое успеть.
— Благодарю за инициативу, Алессандро! Прекрасно!
Инспектор горделиво выпрямился:
— Надеюсь, вы понимаете, синьор комиссар, что эти милые крошки оказались не так наивны, как вы полагали, и не обратили никакого внимания на ваши предупреждения? Кто знает, возможно, именно убийца вас так нежно расцеловала, а?
— Так вы уже нашли виновного? Быстро же в Турине ведут расследование, как я погляжу!
— Раз уж мы, пьемонтцы, лишены воображения, так и не любим ничего усложнять. Мы только размышляем и стараемся как можно скорее решать простые проблемы.
Тарчинини остановился как вкопанный.
— Сколько лет вы работаете в уголовной полиции, Дзамполь?
— Примерно лет десять, а что?
— И за десять лет вы так и не поняли, что ни одну проблему, связанную с человеческими отношениями, нельзя назвать простой? И что как раз самые легкие на вид задачи на поверку оказываются наиболее сложными?
— Допустим, но на сей раз — совершенно иной случай.
— С чего вы взяли?
И, не слушая ответа, комиссар пошел дальше. Скоро они добрались до холодильника, где под белой простыней покоилось тело Нино Регацци. Служитель поклонился Тарчинини, но тот его даже не заметил, и Дзамполь отпустил обиженного стража мертвых:
— Оставьте нас, Казаротти…
Служитель вышел. А Тарчинини поднял простыню и долго вглядывался в безукоризненно четкий профиль.
— Да, парень и впрямь был красавцем… — задумчиво пробормотал он.
— Короче, от избытка красоты и помер?
— Возможно… А где рана?
Инспектор обнажил грудь покойника и показал узкую щель точно на уровне сердца.
— Удар нанесен с поразительной точностью!
— Каким оружием?
— Чем-то вроде кинжала, я полагаю.
— Вы его нашли?
— Нет, во всяком случае, не тот, которым воспользовался убийца.
— Что вы имеете в виду?
— Рядом с трупом валялся новенький нож без единого отпечатка пальцев… но лезвие совершенно не соответствует ране.
— Занятно, а?
— И даже очень…
Тарчинини внимательно осмотрел рану. Крови вокруг почти не было.
— Внутреннее кровоизлияние… Ни разу не видел кинжала с таким тонким лезвием…
— Вероятно, чисто женское оружие!
Комиссар пожал плечами:
— Раз уж вы так любите размышлять, так делайте выводы на основании того, что видите, а не исходя из заранее придуманных схем, Дзамполь!
И, на глазах у сначала удивленного, потом слегка растерянного и, наконец, совершенно обалдевшего инспектора Ромео склонился над покойником, дружески потрепал его по щеке и зашептал:
— Ну что, теперь уже все кончено, прекрасный берсальер? Наверняка ты малость зарвался, а? Лучше девушек нет ничего на свете, но никто не обрушивает на наши головы больших неприятностей… Тебе бы следовало вести себя поосторожнее… Ты же не первый, с кем такое случается. Само собой, ты скажешь, от этого не легче… Но теперь, когда ты снова принадлежишь к числу разумных людей — мертвых, лишенных всяких фантазий, — ты должен помочь нам отыскать того или ту, кто тебя прикончил, верно? Ты не оставил нам никакого знака, ни единой зацепки, короче, ничего такого, что могло бы навести нас на след, а? Но ты же все-таки не хочешь, чтобы твой убийца вышел сухим из воды, правда? В карманах не нашли ничего интересного, Дзамполь?
Инспектор не без труда стряхнул оцепенение.
— Н-нет, — пробормотал он.
В оправдание Алессандро Дзамполя надо сказать, что он никогда не слыхал о привычке Тарчинини дружески беседовать с покойниками, а без предупреждения зрелище выглядело совершенно фантастическим, особенно для логичного и трезво мыслящего пьемонтца. Ромео осторожно накрыл простыней лицо мертвого берсальера.
— Поехали в управление, — сказал он.
«Жертвы» Нино Регацци уже покинули родной квартал Сан-Альфонсо и разошлись по рабочим местам. Тоска возилась с непокорной шевелюрой клиентки, Валерия отрезала первые за день кусочки мортаделлы[257], Иза печатала утреннюю почту, Элена взвешивала фунт поленты[258], а Стелла выбивала чек за два кофе. Лючано, жених Элены, шел чинить водопровод, не зная куда деваться от головной боли. Анджело, брат Стеллы, орудовал рубанком за своим верстаком. Но кто из них (если Дзамполь не ошибся) уже знал, что самый красивый из берсальеров переселился в мир иной?
В полицейском управлении Тарчинини внимательно изучал заключение медицинского эксперта, а инспектор не сводил с него критического взгляда. Отложив бумаги, он немного посидел в задумчивости, потом повернулся к Дзамполю:
— Вы уже ознакомились с наблюдениями и выводами врача, Алессандро?
— Разумеется!
— И ничто вас особенно не поразило?
— По правде говоря… нет. Эксперт утверждает, что Регацци погиб незадолго до полуночи, но это и так ясно, раз его отпустили до двенадцати, а тело нашли совсем рядом с казармой.
— А какое жалованье получают берсальеры? Хотя бы приблизительно?..
— Берсальеры?.. У них не жалованье, а денежное содержание. Ну, скажем, двадцать — двадцать пять лир в день…
— А Регацци, насколько я помню, не купался в золоте?
— Наверняка нет.
— Тогда каким образом вы объясните, что в желудке нашли мясо бекаса, телятину и шампанское? По всей видимости, парень роскошно поужинал перед смертью, меж тем в карманах не нашли ни гроша.
— Может, на него напали грабители?
Тарчинини рассмеялся:
— А вас бы это ужасно огорчило, верно? Потому что тогда и думать нечего о преследовании тех девчушек… Но не беспокойтесь: очень возможно, он сам все истратил… или же кто-то хотел внушить нам, будто парня зарезал вор… Вот только убийца забыл снять с запястья Регацци золотые часы. Так что, похоже, для него важнее всего было прикончить нашего берсальера и побыстрее удрать с места преступления. Ладно, для начала отправьте людей по шикарным ресторанам с фотографией Регацци. Надо полагать, вчера вечером далеко не во всех туринских кабаках подавали бекаса?
— Хорошо, синьор комиссар… Но что это нам даст?
— Наш берсальер мог заказать такой ужин только в двух случаях: либо имея кучу денег, либо получив от кого-то приглашение в ресторан. Если он ужинал один, придется выяснять, откуда у парня взялись деньги. А коли Регацци пировал в компании, я бы с удовольствием повидал его спутника.
Как только Дзамполь отдал соответствующие распоряжения, Тарчинини встал.
— Алессандро, я хочу прогуляться в Сан-Альфонсо де Лиджори, где наш берсальер так смущал женские сердца.
— Но вы же никого там не знаете, синьор комиссар!
— У нас в Вероне, инспектор, когда хотят узнать, что делается в квартале, обращаются к священнику… С вашего позволения, именно это я и собираюсь сделать.
— Я пойду с вами?
— Нет, Алессандро. Сходите-ка лучше на работу к нашим трем барышням, попытайтесь вытянуть из них как можно больше и угадать, не имеет ли хоть одна какое-либо отношение к смерти Нино Регацци.
— Договорились, синьор комиссар!
В голосе инспектора звучало такое неприкрытое злорадство, что Тарчинини замер.
— Дзамполь…
— Да, синьор комиссар?..
— Вы терпеть не можете этих девушек, не так ли?
— Да, синьор комиссар!
— А почему?
— Потому что они женского пола.
— Согласитесь все же, что это не их вина, а?
— Зато они виновны в том, что у них безмозглые головы, черствые сердца и безграничное себялюбие, что думают только о себе, не заботясь о тех, кто живет вокруг них и для них…
Тарчинини вдруг охватила жалость. Он подошел к помощнику и ласково похлопал по плечу.
— Похоже, вам здорово досталось?
— Да, синьор комиссар.
— Насколько я понял, вы вдовец?
— Да, синьор комиссар.
— И смерть…
Дзамполь резко перебил его, ибо в эту минуту вся боль, терзавшая беднягу инспектора денно и нощно, внезапно прорвалась наружу.
— Смерть ничего не искупает!
Алессандро, упав на стул, заговорил как во сне:
— Познакомься вы с моей Симоной, сами невольно полюбили бы ее… Когда мы познакомились, ей было только-только восемнадцать, а мне — двадцать пять… Маленькая, хрупкая девушка с огромными наивными глазами… Короче, как раз такая, какую мы все мечтаем встретить в один прекрасный день… Целый год мы только гуляли по вечерам — ее родители, владельцы бакалейной лавки, долго не хотели отдавать мне дочку, считая, что ни один мужчина не заслуживает такого сокровища… В конце концов мы все-таки поженились, но, став моей женой, Симона вдруг превратилась в совершенно другую женщину. Я мечтал о спокойной семейной жизни и о ребятишках, а она думала лишь о развлечениях и о детях даже слышать не хотела. Наше существование стало истинным адом, и так продолжалось до тех пор, пока Симона не разбилась насмерть в машине парня, с которым, по всей видимости, поддерживала более чем дружеские отношения. Да, синьор комиссар, я действительно вдовец, но не имею хотя бы печального удовольствия оплакивать свою жену!
Инспектор Дзамполь умолк. Во-первых, он закончил рассказ, а во-вторых, залитое слезами лицо Тарчинини тронуло его до глубины души. Алессандро не подозревал, что кто-то способен проявить такое сострадание к его горю… Забыв о полицейской иерархии, он сейчас чувствовал себя просто человеком, внезапно обретшим брата, и пожал Тарчинини руку.
— Спасибо, что так хорошо меня поняли…
— Я не о вас плакал, Дзамполь… Нет, не о вас… Я оплакивал ее, эту несчастную девочку…
— Ее? После всего, что я вам рассказал?
— А что вы мне рассказали, Алессандро? Просто-напросто — что прелестная Симона не обрела с вами того счастья, о котором мечтала, верно? И кто же, в таком случае, виновен?
Обиженный инспектор опять вскочил.
— Господин комиссар…
— Она не желала иметь детей? И правильно!
— Что?!
— Да-да, она была совершенно права, Алессандро! Потому что красивых, здоровых детей нужно зачинать только в радости и в счастье, а бедняжка Симона вовсе не чувствовала себя счастливой!.. Поэтому она родила бы вам какого-нибудь желтушного, плаксивого уродца, точно такого, как все младенцы, которых производят на свет с сожалением!
— Значит, по-вашему, то, что Симона мне изменяла, тоже хорошо? — взорвался Дзамполь.
— Нет, этого я бы не сказал, но, во всяком случае, ее можно понять.
— И вы простили бы свою жену, если бы она вас обманывала?
Ромео вытаращил глаза:
— Ma que! У Джульетты нет ни малейших причин мне изменять! Я ее люблю, она любит меня, у нас самые красивые в мире дети…
— Но если бы, несмотря на все это, супруга вам изменила, неужто вы сумели бы простить?
— Несомненно!.. Заметьте, возможно, сначала я бы ее придушил, но в конечном счете, разумеется, простил бы… Да ну же, Дзамполь, выкиньте всю эту мерзость из головы!
— Не могу!
— Что ж, другая любовь вас вылечит! Идите допрашивать тех трех красавиц, Дзамполь… чем черт не шутит? Возможно, одна из них заставит вас забыть Симону и нарожает детишек, о которых вы так страстно мечтаете…
— О!
Лицо инспектора побагровело, челюсть слегка отвисла, глаза вылезли из орбит, а Тарчинини при виде этой живой статуи гнева и изумления заботливо спросил:
— Вам нехорошо, Алессандро?
Инспектор шумно набрал полную грудь воздуха.
— Вы меня оскорбляете, синьор комиссар!
— Оскорбляю? Ma que! Да чем это я вас оскорбляю, Алессандро?
— Вы смеетесь над моим несчастьем! Вы оправдываете бесстыдницу! Вы обвиняете во всем меня, государственного служащего! Вы даете мне поручение с тайным подтекстом, унизительным для полицейского! Ох, не будь вы комиссаром…
— Но я комиссар, — кротко заметил Тарчинини, — и, с вашего позволения, это дает мне надежду остаться в живых… Алессандро, я еще ни разу не встречал подобных вам итальянцев. Пожалуй, вы немного напоминаете мне зятя… но он-то из Америки, а не наш соотечественник… В отличие от нас он не имел счастья родиться в лучшей на свете стране! Знаете, что я думаю, Алессандро? Вам удивительно повезло!
Это заявление совсем доконало Дзамполя, и у него не хватило сил ответить. Лишь какой-то жутковатый хрип вырвался из груди инспектора, но Тарчинини и бровью не повел.
— Возьмите себя в руки, Алессандро. Что бы вы ни делали, что бы ни болтали, в конце концов любовь все равно восторжествует и я стану крестным вашего первенца… Или вы не достойны называться итальянцем! А пока — бегите допрашивать Тоску, Валерию и Изу… Вы записали, где они работают?
— Да, я пойду к этим маленьким стервам! — вне себя от ярости завопил Дзамполь. — Да, я их допрошу! И лучше бы им отвечать как на духу, не то пусть меня повесят, если я не приволоку сюда хотя бы одну в наручниках!
Выходя из кабинета, Ромео обернулся и с улыбкой проговорил:
— Я ничего не имею против ваших методов работы, Алессандро, потому что, даже не отдавая себе в том отчета, вы начнете преследовать именно ту девушку, которая вам больше всех понравится… ту, что когда-нибудь в отместку за наручники наденет вам на палец кольцо!
Оставшись один, инспектор долго приходил в себя. Не найдя ничего оригинальнее, сначала он долго и со вкусом изрыгал проклятия, потом сломал два карандаша, изорвал листов двадцать бумаги, швырнул на пол шляпу и принялся свирепо топтать. Алессандро, пожалуй, вообще превратил бы ее в лохмотья, но вовремя вспомнил, что головной убор обошелся ему в три тысячи лир. Лоб инспектора пылал, и в охваченном лихорадочным возбуждением мозгу мелькали отвратительные картинки: Симона и Тарчинини, сговорившись, издеваются над ним…
Начальник уголовной полиции Бенито Дзоппи, человек на редкость уравновешенный, любящий свою работу и подчиненных, слыл чуть ли не ясновидящим. Это он попросил направить Ромео Тарчинини в Турин, после того как однажды за обедом с веронским коллегой долго слушал хвалебные речи об удивительном комиссаре и его не менее поразительной манере вести следствие. Из всех своих сотрудников Дзоппи особенно ценил инспектора Алессандро Дзамполя, и его очень тревожило, что после катастрофы с женой тот как будто впал в черную меланхолию. Дзоппи считал Алессандро превосходным полицейским, но всерьез опасался, что мрачный настрой в конце концов скажется на работе. Благодаря этой симпатии к подчиненному шеф сразу согласился принять Дзамполя, узнав, что тот хочет обсудить с ним какой-то служебный вопрос. Крайнее возбуждение Алессандро, нервное подрагивание рук и слегка перекошенная физиономия навели Дзоппи на мысль, что инспектор только что пережил сильное потрясение.
— В чем дело, Дзамполь?
— Синьор директор… синьор директор…
Инспектор так нервничал, что не мог договорить до конца.
— Садитесь же… Да, вон там… Ну а теперь рассказывайте, что привело вас ко мне.
— Комиссар Тарчинини…
— А!
Бенито Дзоппи явно не выказал особого удивления, ибо, зная репутацию веронца, вполне ожидал такого рода происшествий.
— Он сумасшедший!
— Вот как?
И тут Алессандро, дав волю душившему его возмущению, рассказал о вчерашнем фантастическом допросе трех девушек, закончившемся поцелуем. Когда он описывал эту сцену, Дзоппи, скрывая улыбку, поднес руку к губам. А инспектор уже перешел к скандальному поведению Тарчинини в морге и его непристойному разговору с покойником. На финал он признался, что комиссар оскорбил его, Дзамполя, приняв сторону неверной Симоны…
— Вы сами поведали Тарчинини свою историю? — перебил его Дзоппи.
— Да, синьор… Я надеялся встретить понимание и сочувствие… А комиссар не нашел ничего лучше, как пожалеть Симону, которая, видите ли, не обрела со мной того счастья, на какое, по его мнению, имела право рассчитывать!
— Ну и что?
— А то, синьор директор, что я прошу вас дать комиссару Тарчинини другого помощника или принять мое заявление об отставке!
Дзоппи ответил не сразу, а когда заговорил, голос его звучал спокойно и сурово.
— Вам, вероятно, известно, Дзамполь, что я считаю вас полицейским, подающим большие надежды?
Инспектор кивнул.
— Тогда я могу со спокойной душой сообщить вам, что не принимаю вашей отставки и что вы по-прежнему будете работать с комиссаром Тарчинини.
— Ma que! Синьор директор…
— Я не принимаю вашей отставки, Алессандро, потому что солдату негоже дезертировать посреди сражения! Ведь если я не ошибаюсь, вы сейчас разыскиваете убийцу берсальера, найденного мертвым сегодня ночью?
Дзамполь пожал плечами и презрительно фыркнул:
— Судя по тому, как ведет расследование комиссар Тарчинини, у нас нет ни тени надежды когда-либо добраться до типа, прикончившего Нино Регацци!
— Правда?
— Синьор директор, девицы сами пришли к нам и предупредили, что собираются убить берсальера, а комиссар Тарчинини, вместо того чтобы арестовать их, начал любезничать и теперь еще предрекает, будто я женюсь на одной из этих маленьких негодяек!
Начальник уголовной полиции решил как можно скорее увидеться с Ромео и попросить объяснений — методы Тарчинини и вправду выглядели весьма странно. Но сейчас он хотел прежде всего успокоить инспектора.
— В отличие от вас, Дзамполь, я не сомневаюсь, что комиссар Тарчинини непременно представит суду того или ту, кто расправился с берсальером.
— Разговаривая с покойниками?
— А почему бы и нет?
— Но, синьор директор… Подумайте! С мертвыми…
— Во всех происшествиях, которые вы расследуете, Дзамполь, обязательно есть мертвые, и чаще всего они умерли не самой красивой смертью… Так почему вы должны их бояться? Комиссар Тарчинини пытается установить какие-то отношения с жертвой, незнакомой ему при жизни… Ну и что? У каждого — свои привычки, а для нас важен только результат. Я хочу, чтобы вы разделили успех человека, с которым так жаждете расстаться, вместо того чтобы воспользоваться его уроками.
— Уверяю вас, синьор директор, я больше не могу работать с комиссаром!
— И однако придется, Дзамполь, поскольку Тарчинини — как раз тот человек, чье благотворное влияние вернет вас к нам, вашим коллегам. Вы слишком удалились от нас после своего несчастья… Обдумайте мои слова, Алессандро, и я верю, у вас хватит ума. До свидания.
В ризнице Сан-Альфонсо де Лиджори дом Марино подсчитывал расходы за неделю. Похоже, в следующее воскресенье ему придется прочитать такую проповедь, чтобы хорошенько встряхнуть прихожан и заставить их с большей щедростью вознаградить труды своего пастыря. К несчастью, туринцы не особенно верят в ад, и дом Марино с тревогой раздумывал, какую бы мрачную картину нарисовать своим подопечным, чтобы они поспешили раскрыть кошельки. Невеселые размышления священника прервала старая экономка Анджела, объявившая, что дома Марино хочет видеть какой-то странный тип.
— А что в нем странного, Анджела?
Старуха наморщила лоб, пытаясь выразиться как можно точнее, но так и не нашла нужных слов. Наконец, устав от бесплодных потуг, она пожала плечами:
— Не знаю… Не похож он на здешних… во всяком случае, сегодняшних…
— Что ты хочешь этим сказать, моя добрая Анджела?
— Ну… вроде как он смахивает на префекта, что приезжал к нам в тринадцатом году…
«К нам» означало маленькую пьемонтскую деревушку неподалеку от Криссоло, у подножия горы Визо. Анджела плохо разбиралась в перипетиях нынешней жизни, зато обладала удивительной памятью и говорила о самых незначительных событиях пятидесятилетней давности так, словно они произошли только вчера и потрясли весь мир. Дом Марино очень любил Анджелу. Не строя никаких иллюзий насчет умственных способностей старой служанки, священник ценил ее потрясающее умение хранить в памяти прошлое.
— Ну что ж, Анджела, проводи ко мне этого пришельца из былых времен.
Странные фантазии служанки развеселили священника, но при виде гостя он невольно вздрогнул. Тот и вправду казался щеголем начала века, и дом Марино с недоумением разглядывал пикейный жилет, гетры и пышные усы.
— Дом Марино?
— Он самый, синьор… синьор?..
— Тарчинини… Ромео Тарчинини… Ромео — в честь молодого человека, который умер в Вероне, потому что слишком сильно любил
свою Джульетту!
Дом Марино предупреждающе воздел руку.
— Знаете, синьор, светская любовь чужда и моему сану, и возрасту… Во всяком случае, в той мере, в какой выходит за пределы моих пастырских обязанностей, ибо мне надлежит заботиться, дабы она развивалась в нужном русле и в соответствии с волей Господней. Так чем могу вам служить, синьор?
— Например, дать адрес девушки, с которой мне очень хотелось бы побеседовать подальше от нескромных глаз и ушей. Вы меня понимаете?
— Боюсь, что даже слишком хорошо, синьор! — сухо отозвался священник. — И это ко мне, ко мне вы посмели обращаться с подобными просьбами? Чудовищно!
Не ожидавший столь бурной реакции Тарчинини на мгновение опешил.
— И однако в Вероне я всегда поступаю именно так!
— Довольно, синьор, вы кощунствуете! Вы бросаете тень на моих веронских собратьев! Я прошу вас уйти, и радуйтесь, что я не вызвал полицию!
Ромео рассердился:
— Ma que, padre! Зачем звать полицию, если я уже здесь, а?
— Как раз потому, что вы здесь, синьор! Уходите!
Тарчинини не отличался ангельским терпением, особенно когда переставал понимать собеседника.
— Меня предупреждали, что вы, пьемонтцы, малость тронутые, потому что живете слишком близко к горам, но я даже не подозревал, до какой степени!
Дом Марино выпрямился во весь рост (а он был на редкость высок и аскетически худ) и сверху вниз поглядел на кругленького коротышку.
— Вы можете не уважать меня, синьор, но обязаны с должным почтением отнестись к моему сану! Иначе я сейчас же отведу вас к комиссару!
— Ma que! Клянусь Святым Дзено, но я же и есть комиссар!
Теперь уже священник остолбенел от изумления.
— Что?
— Ну да, я комиссар Тарчинини, временно прикомандированный к управлению уголовной полиции Турина! Именно в этом качестве я и прошу вас помочь правосудию, сообщив мне нужный адрес!
— Что ж вы мне об этом раньше-то не сказали?
— О чем?
— Что вы полицейский!
— Простите, падре, просто упустил из виду.
— Охотно прощаю, синьор комиссар. Садитесь и расскажите, чем вам может помочь пастырь не слишком послушного стада.
— Я разыскиваю одну девушку… Кажется, ее зовут Стелла…
Как всегда в минуты затруднений, дом Марино начал пощипывать кончик носа.
— Знаете, в моем приходе не один десяток Стелл…
— Очень возможно, падре, но, я думаю, не у каждой из них был роман с берсальером Нино Регацци?
— А, так вам нужна Стелла Дани!
— Я вижу, вы в курсе, дом Марино?
Священник воздел руки к небу:
— В курсе, синьор комиссар? Скажите лучше, что из-за этого берсальера я потерял сон и покой!.. И чем я прогневил Господа, чем заслужил, что Он наслал на мое стадо этакого донжуана? Господь-то ведь знает женщин лучше меня и ведает все их слабости… С тех пор как проклятый берсальер появился в нашем приходе, все эти дурочки словно взбесились! Каждую или почти каждую неделю какая-нибудь сумасбродка является умолять меня склонить берсальера к узам брака! А как с ним поговоришь, с чудовищем? Бежит от меня, как нечистый от ладана! Но бросить Стеллу я ему не позволю! Сделал ей ребенка — пусть женится! А не захочет — я сам отправлюсь в казарму и за шиворот приволоку парня к самому подножию алтаря!
— Нет, падре.
— Нет? Вы плохо меня знаете, синьор комиссар!
— Туда, где теперь красавец берсальер, вы не сможете за ним пойти…
— Правда? И где же он, скажите на милость?
— В морге.
— Иисусе Христе!.. Вы имеете в виду, что он… он…
— Да, дом Марино, Регацци мертв. Ему всадили нож в сердце.
Горестный стон священника пробудил под сводами ризницы зловещее эхо.
— Бедняга… Ничего другого с ним и не могло случиться в наше паршивое время, когда торжествуют нечестивцы и бандиты! Будем же усердно молиться, чтобы там его пожалели… Подумать только, еще вчера он бегал тут франт франтом… несчастный! И даже не догадывался, что смерть уже цепляется за плечи!
— Так вы вчера вечером видели берсальера? — с самым небрежным видом осведомился Тарчинини.
— Случайно… Увидев меня, Регацци попытался удрать, но опоздал. Я как раз хотел потолковать с ним насчет Стеллы… Он вел себя трусливо, синьор комиссар, трусливо, как человек, не желающий взять на себя ответственность… да еще и подло, потому что обещал дать Стелле сколько угодно денег, лишь бы она оставила его в покое. Счастье еще, что брат девушки этого не слышал!
— Брат?
— Ну да, Анджело Дани.
И дом Марино бесхитростно описал Тарчинини встречу Анджело с Нино.
— То, что вы мне сейчас рассказали, очень серьезно, падре, — вкрадчиво заметил комиссар.
— Серьезно? Ma que! Это еще почему?
— В шесть или семь часов вечера Анджело угрожает убить Нино… а в полночь полицейский патруль находит бездыханное тело берсальера…
— Надеюсь, вы все-таки не думаете, что парня прикончил Анджело Дани? Я знал его еще ребенком, от меня он принял первое причастие. Да это же самый славный малый во всем приходе!
— Все преступники когда-то были очень милыми детьми, падре. А где живут Дани?
— На виа Леванна… дом сто семьдесят девять… Но вы же не…
— Пока я хочу просто поговорить с ними, падре… Вы думаете только о человеке, выросшем у вас на глазах, и хотите его защитить. Я же не могу забыть тело берсальера, распростертое на мраморном столе… и все это очень невесело как для вас, так и для меня.
Дом Марино протянул веронцу руку.
— Простите, но и дожив до седин, я все никак не привыкну к человеческой мерзости… Анджело так и не женился, чтобы как следует опекать сестру… Смешно, правда? И еще тянет на себе такой тяжкий крест, как старая тетка, совершенно выжившая из ума бывшая учительница, — парень категорически отказывается отдать ее в приют для умалишенных… А родители у них давно умерли. Да, Анджело очень хороший мальчик, синьор комиссар.
— Но ведь он нежно любит сестру, а еще больше — заботится о чести семьи, верно?
— Я думаю, да, — немного поколебавшись, вздохнул священник.
Все в том же отвратительном настроении Алессандро Дзамполь явился в парикмахерский салон «Ометто» на виа Барбарукс. Завитый и жеманный молодой человек тут же подлетел к нему с легкостью балерины.
— Синьор! Синьор! Вы, наверное, зашли сюда по рассеянности! Здесь не место мужчинам!
Полицейский окинул собеседника брезгливым взглядом.
— Это я уже понял, взглянув на вас, — буркнул он.
Молодой человек покраснел.
— Вы что, пришли сюда меня оскорблять?
— Нет, поговорить с некоей Тоской Фьори!
— Тоска не имеет права в рабочее время приглашать сюда приятелей!
Дзамполь угрожающе шагнул к нему.
— Я что, похож на кавалера?
Молодой человек с тревогой взглянул на странного посетителя.
— Нет, синьор… нет… не думаю… А что вы… хотите… от То… Тоски?
Алессандро сунул ему под нос полицейский значок.
— Полиция!
— Полиция?.. Ma que! Но ведь Тоска не…
— Нет, только свидетель.
— Ну ладно… Per favore[259], проходите сюда… Сейчас я вам ее пришлю, синьор инспектор…
Вскоре Тоска вбежала в комнату, где ее ждал полицейский, и со свойственными ей энергией и бесстрашием тут же перешла в наступление.
— Это еще что такое… Ой, я вас узнала…
— Не важно! Садитесь напротив меня, вот тут…
— Но я сейчас…
— Я сказал вам: сядьте!
Девушка явно не привыкла, чтобы с ней разговаривали таким тоном.
— Нет, послушайте, да за кого вы меня принимаете? Некогда мне вести разговоры с грубиянами вроде вас!
— Замолчите!
Резкость приказа несколько смутила Тоску. А Дзамполю казалось, будто он наконец получил возможность расквитаться с воскресшей Симоной.
— Не заставляйте меня, синьорина, тащить вас в участок!
— А по какому праву? Думаете, раз вы полицейский, можно…
— По-моему, я уже велел вам придержать язык, синьорина Фьори! Где вы были вчера вечером?
— Ma que! А вам какое дело?
Дзамполь встал.
— Ну, если вы не желаете отвечать, синьорина, я вас арестую!
— Арестуете? Меня?
Тоска схватила со стола зеркало с длинной ручкой и, замахнувшись, уже хотела опустить его на голову полицейского, но тот совершенно спокойно продолжал:
— Чтобы вы могли дать исчерпывающие объяснения насчет одного убийства…
Последнее слово как будто остановило порыв Тоски, и рука с зеркалом бессильно опустилась.
— Убийство? Вы обвиняете меня в убийстве?
— Не обвиняю, а подозреваю.
— Вот как?
Горячая кровь Тоски снова закипела.
— Господи вечносущий! Просто не знаю, что бы я сделала с такими, как вы!
— Может быть, упокоили бы навеки?
— О Боже! Ну что он пристал ко мне со своими покойниками?! Так кого же я, по-вашему, отправила на тот свет?
И Дзамполь, глядя ей прямо в глаза, отчеканил:
— Берсальера Нино Регацци!
Ему показалось, что девушка слегка пошатнулась, как от удара, но смысл слов еще не вполне дошел до ее сознания.
— Это… это неправда…
— Вчера около полуночи его закололи кинжалом.
И тут гордая, кокетливая Тоска Фьори вдруг превратилась в маленькую, убитую горем девчушку. Несчастная тяжело опустилась на стул.
— Нино… Нино… Нино… — горестно бормотала она.
Инспектор понял, что Тоска не имеет ни малейшего отношения к убийству берсальера, и немного устыдился своего поведения. Он встал.
— Простите меня, синьорина… Я и не подозревал… короче, совсем наоборот… И потом, так или этак вы все равно бы узнали…
Тоска не ответила — она целиком ушла в тот тайный мир, куда не было доступа никому, кроме нее и Нино. Девушка даже не заметила, как полицейский выскользнул из комнаты.
Тарчинини долго стучал в дверь обиталища Дани, пока наконец чей-то надтреснутый голос не предложил ему войти. Комиссар толкнул дверь и оказался в чистенькой, бедно обставленной комнате, вероятно служившей одновременно и столовой, и спальней. В высоком кресле сидела аккуратно причесанная седая старуха в строгом темном платье. Комиссар отвесил изысканный поклон, но не успел произнести ни слова, как услышал вопрос:
— Опять опаздываешь, а?
Мало что могло смутить Тарчинини, но на сей раз он просто окаменел. А старуха, воспользовавшись его молчанием, продолжала:
— Насколько я тебя знаю, снова шалил по дороге? Ну-ка, покажи руки!
— Простите, что?
— Покажи руки, или я тебя хорошенько отшлепаю!
В последний раз Ромео Тарчинини грозили такой карой добрых лет пятьдесят назад, и у комиссара невольно мелькнула мысль, уж не грезит ли он наяву. Сначала священник… теперь эта старуха… пожалуй, многовато на один раз!.. Он машинально протянул руки, и пожилая дама, внимательно осмотрев их, с удовлетворением кивнула.
— Ладно… Хорошо, что ты их вымыл… А уроки выучил?
Нет, этот нелепый разговор не мог продолжаться до бесконечности! Тарчинини взял себя в руки.
— Послушайте, синьора, тут какое-то недоразумение…
— Так я и знала! Ну, что ты еще выдумал в оправдание собственной лени, а? В жизни не видела другого такого бездельника! Слышишь? Сейчас же встань в угол!
— Но, синьора…
— Ну, сам пойдешь или тебя отвести?
И тут Тарчинини вдруг вспомнил, что говорил ему священник о тетке Дани — полупомешанной старой учительнице. Ромео побрел в указанный ему угол, но, прежде чем успел обернуться, снова услышал голос старухи:
— Прошу прощения, синьор, я не заметила, как вы вошли.
Комиссар вздрогнул, решив, что в комнате есть кто-то еще, но нет, они по-прежнему были вдвоем и разговаривала с ним больная тетка Стеллы и Анджело.
— Я уже имел честь приветствовать вас, синьора, — чуть-чуть удивленно заметил он.
— Прошу вас, не сердитесь на меня, синьор, у меня случаются какие-то провалы памяти… Чем я могу вам служить?
Ага, значит, на нее только временами находит…
— Я хотел бы поговорить с вашей племянницей Стеллой…
— Она еще не вернулась, но теперь уже скоро придет… Хотите, подождем вместе?
— С удовольствием.
— Тогда садитесь вот тут, рядом, и…
— И?
Тарчинини увидел, как лицо старухи преобразилось. С него как будто сняли серое газовое покрывало. Молодой задор, бьющий изнутри, настолько оживил его черты, что тетка Анджело и Стеллы, казалось, сбросила много лет в считанные секунды. Она схватила со стола линейку и погрозила Тарчинини.
— А теперь расскажи-ка мне таблицу умножения! И постарайся не сбиться, иначе — береги пальцы!
Сворачивая на виа Неукки, где работала Валерия Беллато, инспектор Дзамполь чувствовал себя немного не в своей тарелке. Перед глазами у него все еще стояла Тоска, как громом пораженная вестью о смерти человека, которого, видимо, и вправду любила. Из-за нее Алессандро стал думать о своей Симоне с меньшей горечью. В конце концов, возможно, он сам отчасти виноват, что они не поняли друг друга и семейная жизнь так и не сложилась? Но инспектор настолько веровал в собственную непогрешимость, что сразу же с возмущением отмел крамольную мысль. И с тем удивительным отсутствием логики, что так характерно для людей, не желающих терзаться угрызениями совести, Дзамполь вдруг воспылал одинаково праведным гневом и против несчастной Тоски, и против певца радостей бытия Ромео Тарчинини. Тем не менее, не желая снова попасть впросак, он решил допрашивать Валерию со всей осторожностью, на какую только способен.
В колбасной «Фабри» свежие и румяные личики продавщиц радовали глаз покупателя ничуть не меньше, чем разложенные среди бумажных фестончиков и цветов деликатесы. Дзамполь сразу заметил невозмутимо спокойную Валерию. Девушка тонкими ломтиками резала мортаделлу для клиента, внимательно наблюдавшего за этой операцией. Одна из девушек тут же подошла к полицейскому и спросила, что ему угодно.
— Поговорить с Валерией Беллато.
— Ma que! В такой час это совершенно невозможно, вы ведь сами должны понимать, а?
— Для меня все возможно, синьорина. Я из полиции!
Девушка так смутилась, что, оставив инспектора, побежала к кассе и что-то зашептала на ухо внушительной матроне, которая показалась Алессандро живой рекламой своих товаров. Кассирша и не подумала выйти из кабинки, где она царила, как некая Юнона колбасно-паштетно-ветчинного Олимпа, а лишь послала к Валерии эмиссара. Девушка тут же вскинула голову и улыбнулась инспектору, как старому знакомцу. Если берсальера прикончила синьорина Беллато, то, похоже, содеянное ничуть не нарушило ее душевного равновесия. Алессандро увидел, как она отошла от прилавка и скрылась за дверью. Девушка, подходившая к полицейскому раньше, отвела его к Валерии. Та стояла у стола в просторной кладовой и на сей раз резала салями, правда, такими же тонкими ломтиками. Можно подумать, она вообще не умела делать ничего другого!
— Вы хотели поговорить со мной, синьор инспектор?
— Да… А не могли бы вы хоть ненадолго остановиться?
— Синьора Фабри терпеть не может, когда мы теряем время попусту.
— Я вижу, вы привыкли ловко орудовать ножом!
— Да я уж почти пять лет тут работаю…
Памятуя о реакции Тоски, Дзамполь думал, как бы помягче сказать девушке о смерти берсальера. А Валерия с четкостью метронома продолжала резать салями, и, казалось, ничто не может нарушить размеренного ритма ее движений.
— Синьорина Беллато… Вы очень любили Нино Регацци?
— Нет.
— Вот как? Однако вчера…
— Это безумица Тоска подбила нас на совершенно дурацкий поступок!.. А мы с Изой ни в чем не можем ей отказать. А что до Нино… в какой-то момент я поверила, будто он и впрямь хочет на мне жениться, ну а потом, в кино, все поняла…
— И вы на него больше не сердитесь?
— Нет… В первую минуту я ужасно разозлилась, но Тоска и Иза куда красивей меня… А уж коль он и вправду сделал ребеночка Стелле, так и вообще говорить не о чем, так ведь?
— Да, как вы верно сказали, говорить больше не о чем…
— Не понимаю…
— Нино Регацци мертв.
Нож почти с той же равномерностью продолжал стучать по доске, и ухо инспектора уловило лишь чуть заметный сбой. Наконец, отрезав еще десяток кусочков салями, Валерия проговорила:
— А отчего он умер?
— Его закололи кинжалом.
— О! Бедный Нино… Мы-то болтали, что хотим его убить, но скорее для смеху… А может, еще какая девушка, которой он морочил голову, так и не смогла простить?
— Где вы провели вчерашний вечер, синьорина?
Вопрос нисколько не смутил девушку.
— У синьоры Ветуцци. Мы там готовились к празднику Сан-Альфонсо. Я ушла только в двенадцать часов, и домой меня провожала Лоретта Бонджоли.
Для порядка Дзамполь записал имена и адреса людей, названных Валерией, но заранее не сомневался, что алиби окажется вполне надежным. Теперь ему оставалось поговорить только с Изой Фолько.
— До свидания, синьорина… И желаю вам удачи…
Валерия не ответила. На пороге Алессандро оглянулся: она продолжала механически резать салями, и только на один аккуратный ломтик упала слезинка.
С того дня как она поняла, что беременна, и особенно после вчерашнего разговора с Нино, когда ей открылся весь его отвратительный эгоизм, Стелле было совсем не до смеха, и все же, войдя в дом и узрев пожилого синьора, под угрозой линейки старательно рассказывающего тетушке таблицу умножения, девушка невольно расхохоталась. Раскаты ее звонкого смеха привели тетку в чувство.
— Ma que! Стелла! — возмутилась она. — Как ты себя ведешь? А вы, синьор? Что вам понадобилось здесь, у самых моих ног? И как вы сюда вошли? Я не заметила…
Немного успокоившись, Стелла подбежала к Тарчинини.
— О, синьор, простите нас… простите меня… Но я еще ни разу в жизни не видела такого ученика… Я вам все объясню насчет тети…
Больная еще больше рассердилась.
— Что это ты собираешься объяснять, Стелла? Здесь все объясню я, и никто другой!
Ромео собирался без обиняков выложить все, что думает о таком обращении с комиссаром полиции, но, покоренный нежным очарованием Стеллы, промолчал. Паскуднику берсальеру явно не составило особого труда соблазнить эту хрупкую, большеглазую блондинку — такие девушки верят каждому слову. Стелла подхватила тетушку под белы руки и заставила встать.
— Пойдемте на кухню, zia mia[260]. Вам придется помочь мне с ужином, иначе Анджело страшно рассердится!
— Анджело — хороший мальчик… — пробормотала больная и ушла на кухню, к плите и кастрюлькам. Стелла закрыла за ней дверь.
— Синьор, прошу вас еще раз простить нас, но бедная женщина…
— Я знаю, синьорина… синьорина Дани, так? Стелла Дани?
— Да, синьор… Вы хотели поговорить со мной?
— С вашего позволения, синьорина.
Девушка предложила комиссару сесть. Ромео она все больше и больше нравилась, так что симпатия к красавцу берсальеру почти угасла — и как он мог не оценить по достоинству такое сокровище! Веронец совершенно позабыл и о том, что ему надлежит расследовать преступление, и что прелестное создание, сидящее напротив, вполне может оказаться убийцей. Вечный влюбленный, Тарчинини без всякой задней мысли, а лишь ради удовольствия говорить о любви, восторгаться и таять от умиления, принялся ухаживать за слегка изумленной Стеллой. А девушку этот поток слов совершенно сбивал с толку, хотя странный синьор казался ей добрым и славным человеком.
— Только что ваша бедная тетя живейшим образом напомнила мне детство, приняв за одного из своих прежних учеников, но когда вошли вы, синьорина, — Santa Madonna! — я подумал, что вижу фею!
— Фею, синьор? Будь я феей, умела бы творить чудеса…
— Ma que! Так вы и сотворили чудо!
— Я?
— Ну да, вы вернули мне мои двадцать лет!
Стелла подумала, уж не ухлестывает ли за ней этот господин. Во всяком случае, он делает это совсем не так, как Нино… И кроме того, совершенно невероятно, чтобы он явился сюда просто наговорить любезностей…
— Но, синьор…
Нежный грудной смех Тарчинини походил на воркование.
— Я смутил вас, дитя мое? В таком случае мне нет прощения! Я ведь себя знаю… И мне бы следовало осторожнее относиться к словам… Но это сильнее меня! Как только вижу красивую девушку — не могу не говорить о любви! Ну, и в результате так смущаю девичьи души, что бедняжки только и мечтают властвовать надо мной безраздельно… Но это лишь мечта… дивный, прекрасный сон… Забудьте, дитя мое! Ромео Тарчинини умеет отличать действительность от грез! Вы вернули мне мои двадцать лет, но я не имею права их сохранить! И потом, я не свободен! Любовь навеки сковала Ромео Тарчинини с его Джульеттой, у меня шестеро детей, и старшая дочь — такая же красавица, как вы, синьорина!
Стелле стало страшновато. Судя по всему, незнакомец не менее безумен, чем тетушка Пия. Что ему надо? И почему он то говорит о любви, то рассказывает о своем семействе? И как бы его выпроводить до прихода Анджело? В последние дни брат и так в отвратительном настроении. И вдруг девушке пришло в голову, что, возможно, гость — самый обыкновенный коммивояжер и воспользовался таким необычным трюком, надеясь заставить ее слушать. Стелла привстала.
— Я должна вас сразу предупредить, чтобы вы попусту не теряли время: мне ничего не нужно!
Ромео, которого перебили на середине великолепной тирады, настолько поэтичной и трогательной, что у него увлажнились глаза, на мгновение застыл в совершеннейшей растерянности.
— Ma que! Чем вызвано это прозаическое замечание, синьорина?
— Разве вы не представитель какой-нибудь фирмы?
— Представитель? Честное слово, вы правы… Как вы верно угадали, я и в самом деле кое-что представляю… Carissima![261] Но неужели вы и впрямь вообразили, будто я нарочно болтаю о Ромео и Джульетте, чтобы всучить вам мыло, пылесос или воск для паркета?
— Но, в таком случае, кто же вы, синьор?
— Я вам повторяю это уже добрых пятнадцать минут, graziossima![262] Ро-ме-о! Я — Ромео Тарчинини!
— И что вы представляете?
— Закон, bellissima![263]
— Закон?
— Да, я комиссар полиции.
— Dio mio![264] Полицейский — у нас в доме? Но почему?
— Ну… это — вопрос куда более деликатный… и касается он берсальера…
Девушка сразу встревожилась:
— Нино?.. Он что-нибудь натворил?..
— Да вообще-то он… Но… давайте по порядку. Мне шепнули на ушко, синьорина, будто вы ждете ребенка от не в меру ретивого воина. Это правда?
Стелла покраснела.
— Нино сам вам сказал?
— Не совсем… Допустим, передал через третье лицо.
— Вам?.. Но почему?
— Какая разница, синьорина? Для меня главное — узнать, так это или нет.
— Да…
— И вашему брату Анджело это совсем не по вкусу, верно?
— Мне тоже, синьор комиссар, но я уверена, что Нино на мне женится. Он не захочет, чтобы его сын был незаконнорожденным…
— Так или иначе, но он уже сирота.
Смысл последнего слова как будто ускользнул от Стеллы, по крайней мере девушка совершенно не представляла, какое отношение оно имеет к ее будущему ребенку. Это не укладывалось в ее голове. Внезапно тетушка Пия распахнула кухонную дверь и, поднеся к губам свисток, пронзительно свистнула.
— Перемена кончилась! — крикнула она. — Загляните в укромное место и быстро возвращайтесь в класс! Я никому не позволю выходить во время урока!
И она исчезла так же быстро, как появилась. Если племянница не обратила на выходку больной никакого внимания, то Тарчинини не без труда восстановил драматическую атмосферу объяснений со Стеллой. Девушка встала и, подойдя поближе, склонила бледное личико к самому лицу Тарчинини.
— Почему вы назвали моего малыша сиротой? Я вовсе не хочу умирать, синьор!
— Что вы, я совсем не имел в виду, что он лишится матери… и так оно гораздо лучше для ребенка… во всяком случае, по-моему.
Стелла понизила голос, словно хотела поделиться с Ромео важной тайной.
— Что-то случилось с Нино?
— Да.
— И… и серьезное?
— Боюсь, хуже некуда.
— Он… он… умер?
— Вчера около полуночи.
Девушка закрыла глаза, пошатнулась и упала бы, не успей Ромео вовремя подхватить ее и усадить к себе на колени, как маленького ребенка. Комиссар думал о своей старшей дочери Джульетте, которую не раз утешал, точно так же взяв на руки. И Ромео Тарчинини, не замечая, что делает, начал тихонько укачивать рыдавшую у него на плече юную вдову, приговаривая, как некогда дочке:
— Ну-ну… agnellina mia… dolcezza de mio cuore[265]… Не плачь больше… Ни один мужчина, кроме меня, не стоит того, чтобы о нем плакали. Но я, я уже занят… А малыш? Ты ведь его вырастишь, правда? Он станет таким же красивым, как его папа… нет, даже лучше, потому что унаследует и красоту мамы… Представляешь? Если родится мальчик, из него выйдет настоящий сердцеед!
Но Стелла погрузилась в такое отчаяние, что не слышала ни слова. Вздрагивая от рыданий, она замкнулась в своем горе. Несчастная девушка овдовела, не успев выйти замуж, и безвозвратно потеряла не только любимого, но и уважение соседей. А о малыше и говорить нечего…
Ромео никогда не мог спокойно смотреть на так тяжко страдающую женщину. Его тоже душили слезы. И не только потому, что Тарчинини вообще имел обыкновение плакать и от радости, и от грусти, а просто богатое воображение помогло ему мгновенно отождествить себя со Стеллой и разделить ее боль. Он ласково гладил волосы девушки.
— Успокойся, бедняжка… Подумай о малыше… Ты же не можешь накормить его слезами, верно?.. Disgraziata creatura…[266] На свете нет ничего страшнее любви, и уж я кое-что об этом знаю!
Но Стелла не успокаивалась, и Тарчинини стал гладить ее по спине, по плечам, целовать в щеку и нашептывать все ласковые слова, какие только приходили ему в голову.
Войдя в контору Праделла на виа Пио Квинто, инспектор Дзамполь сразу понял, что там происходит что-то необычное. Секретарши, машинистки и стенографистки как угорелые метались по коридорам, словно муравьи в развороченном бессовестным прохожим муравейнике. На Алессандро никто не обращал внимания, и ему пришлось остановить какую-то рыжеволосую девушку, бежавшую по коридору со стаканом воды.
— Синьорина…
— Подождите минутку!
Девушка попыталась вырваться, но инспектор крепко держал ее за руку.
— Нет! Полиция!
— А?
— Что здесь происходит?
— Одна из наших коллег потеряла сознание, и мы никак не можем привести ее в чувство… Боюсь, как бы она не умерла, Santa Madre! Может, теплая вода с сахаром…
— Ну, если она при смерти, вряд ли это поможет, правда?
Девушка посмотрела на полицейского с крайним отвращением.
— Ma que! Неужто у вас совсем нет сердца?
Дзамполь пожал плечами:
— Когда-то было…
Он отпустил девушку, и та мгновенно исчезла. Зато откуда-то выскочил плюгавый человечек и, явно очень нервничая, сердито завопил на всю контору, еще больше переполошив всех вокруг. При виде полицейского он бросился в нападение, очевидно решив сорвать досаду и раздражение на незнакомце.
— Что вам здесь надо?
— А вам?
От возмущения коротышка так широко открыл рот, что полицейский увидел, в каком плачевном состоянии его зубы. Наконец зияющий провал исчез, гневливый малыш подскочил на месте, затопал ногами, и это принесло куда больший результат, нежели недавние крики и угрозы, — странный балет служащих прекратился в мгновение ока, и все они с живейшим интересом уставились на собеседника Алессандро.
— Вон отсюда! — завопил тот полицейскому.
— Нет.
— Ах нет? Ну, мы сейчас поглядим!
— И глядеть нечего — полиция!
— Что?
— По-ли-ция! Вы что, оглохли?
Человечек мгновенно успокоился и сменил тон:
— И что вам угодно?
— Сказать пару слов Изе Фолько.
Как волшебные слова в сказке, упоминание имени Изы оживило застывших от любопытства девушек. Они снова заволновались и застонали, а сердитый коротышка рявкнул:
— Ma que! Так ведь Иза Фолько — та самая, что сейчас лежит в обмороке!
Алессандро Дзамполь бросился в комнату, где уложили больную, и, выгнав всех, остался с ней наедине. По правде говоря, Иза вовсе не собиралась на тот свет. Просто кто-то из сослуживиц, услышав по радио о смерти Нино Регацци, передал ей, и девушка потеряла сознание. Отчаянно всхлипывая, Иза призналась полицейскому, что нисколько не сомневается: останься берсальер в живых, он бы непременно к ней вернулся, потому что никого, кроме нее, не любил. Дзамполь, сообразив, что рассуждения девушки, несомненно, почерпнуты из сентиментальных романов и модных шлягеров, в досаде покинул контору. Последний допрос позволял сделать лишь два вывода: что Иза неповинна в убийстве и что она непроходимо глупа.
Увидев, что его сестра сидит на коленях у пожилого господина, а тот ее гладит, целует и нашептывает какие-то нежности, Анджело Дани на мгновение остолбенел, потом так яростно выругался, что зазвенели стекла, Стелла вскочила, а из кухни вылетела тетушка Пия.
— Тихо! — приказала она. — Я все слышала! Анджело, ты пять раз напишешь фразу: «Я плохо воспитанный мальчик и прошу Господа простить меня за то, что оскорбил Его слух!» Стелла, садись вместо меня за кафедру и потом расскажешь, как вел себя Анджело!
Она ушла в кухню, Тарчинини, вытирая глаза, размышлял, уж не снится ли ему вся эта сцена, а Дани, вне себя от бешенства, отчитывал сестру:
— Ну а мне и за кафедру садиться не надо, я и так вижу, как ты себя ведешь! Afrontata! Vergogna della famiglia![267] Что, солдат тебе уже мало, шлюха?
Незаслуженная обида и напоминание о Нино так потрясли Стеллу, что она разразилась жутким, нечеловеческим воем. Соседи на верхних и нижних этажах распахнули окна и начали переговариваться: «Что случилось?» — «В чем дело, режут кого-нибудь, что ли?» — «Вы слышали, донна Мария?»
Анджело замахнулся на сестру, но Тарчинини бросился между ними.
— Piano![268]
Анджело попытался ребром ладони отшвырнуть полицейского, но тот крепко вцепился в него.
— Attenzione![269]
Парень в свою очередь схватил комиссара за лацканы пиджака:
— Это вы, синьор, поберегитесь, если сию секунду не объясните мне, по какому праву держали мою сестру на коленях!
— А разве отец семейства не имеет права утешить девочку, которая годится ему в дочери?
Анджело хмыкнул:
— Так, по-вашему, Стелла нуждается в утешениях?
Решив, что слова излишни, Ромео молча указал на девушку — та все еще рыдала, уткнувшись в спинку кресла.
— Что это с ней?
— Да все из-за берсальера Нино Регацци.
Анджело сжал кулаки и стиснул зубы.
— Лучше б этому типу добром попросить у меня руки Стеллы, до поживее!
— Он не придет!
— Вот как? И прислал с поручением вас?
— Нет, но мне все же пришлось сообщить вам…
— Я убью Нино Регацци!
— Нет!
— Нет? А кто мне помешает?
— Не кто, а что. Он уже мертв, синьор.
— Мертв? Нино мертв?
— Сегодня ночью его закололи кинжалом возле самой казармы.
Наступила тишина. Тарчинини внимательно вглядывался в лицо молодого человека.
— Поэтому она и плачет? — спросил Анджело.
— А по-вашему, не с чего?
— Да уж… и кто теперь даст имя ее малышу?
— Вы.
— Вы что, рехнулись?
— Почему? Хотите вы того или нет, а ребенок в любом случае будет носить фамилию Дани.
— Никогда!
— Ну, знаете, вас никто даже не спросит.
— Это мы еще увидим! И вообще, вы-то кто такой, синьор В-Каждой-Бочке-Затычка?
— Ромео Тарчинини, комиссар уголовной полиции.
Сообщение потрясло Дани как гром среди ясного неба.
— Из уголовной полиции? — тупо повторил он.
— Совершенно верно. Представьте себе, всякое убийство мгновенно вызывает у нас пристальный интерес, а искать убийц — наша прямая обязанность. Разве вы об этом не знали?
— Но это не объясняет, почему вы оказались в моем доме!
— Правда?
— На что вы намекаете?
— Ни на что я не намекаю, Анджело Дани, а просто и ясно говорю: вчера в присутствии дома Марино вы виделись с Нино Регацци и угрожали убить его, если он не женится на вашей сестре. Так или нет?
— Уж не собираетесь ли вы, часом, все свалить на меня?
— Если бы я предъявил вам подобное обвинение, синьор, то уж никак не случайно. Пока могу сказать только, что подозреваю вас в убийстве Нино Регацци…
Прежде чем Ромео успел почувствовать опасность, Анджело вцепился ему в горло. Стелла снова дико закричала, а из кухни, как кукушка из часов, выскочила больная тетушка.
— Анджело! — сурово одернула она племянника. — Когда же ты научишься вести себя разумно? Сейчас вовсе не время играть!
Глава 3
Комиссар после плотного обеда с удовольствием курил сигару и слушал рапорт инспектора Дзамполя о том, как тот допрашивал трех девушек. Алессандро с чувством описал немую скорбь Тоски, выразительно передал глупые, истеричные признания Изы и внешнюю холодность Валерии, чью душевную боль выдала лишь одна слезинка.
— Parola d'onore![270] — воскликнул удивленный его тоном Тарчинини. — Вы, кажется, становитесь похожим на человека, Алессандро!
Инспектор тут же взбеленился.
— Не понимаю, что тут особенного! — с раздражением воскликнул он. — Разве нельзя посочувствовать несчастным, опечаленным девушкам?
— Ma que, Алессандро! Особенное в этом только то, что их горе тронуло вас!
— Я же все-таки не бесчувственная скотина!
— Нет, конечно, только до сих пор сами не желали в том признаваться!..
И, пророчески воздев перст, Ромео добавил:
— Друг мой Алессандро, не за горами тот день, когда вы попросите меня стать крестным вашего первенца!
Однако, видя, что Дзамполь корчится от с трудом сдерживаемого бешенства, комиссар поспешил сменить тему:
— Короче говоря, инспектор, вы не считаете нужным и впредь донимать расспросами наших несчастных плакальщиц?
— Нет, синьор комиссар, они так же невинны, как новорожденные ягнята, или же самые потрясающие актрисы, каких я когда-либо видел.
— И тогда нашли бы работу получше… Стало быть, забудем о них, Алессандро, и попрощаемся (по крайней мере я) с Тоской, Валерией и Изой… А теперь моя очередь поведать вам о найденной мною несравненной жемчужине…
— О жемчужине?
— Ее зовут Стелла Дани.
И Ромео Тарчинини принялся рассказывать обо всем, что с ним случилось в доме Дани: о безумствах «больной тети» Пии, о красоте Стеллы, о том, в какое отчаяние ее привела гибель отца будущего ребенка, как комиссару пришлось ее успокаивать, наконец, о внезапном появлении Анджело и о том, как вмешательство больной, возможно, спасло ему, Тарчинини, жизнь.
— И вы не арестовали парня, синьор комиссар?
— Нет, Алессандро… Мне нужен убийца берсальера, а не бедолага, которого мысль о бесчестье сестры толкает на прискорбные крайности… И если мне придется посадить Анджело Дани за решетку, то сделаю я это вовсе не из-за того, что несчастный в минуту неизбывного возмущения поднял на меня руку.
— Вы очень великодушны, синьор комиссар.
— Да, помимо всех прочих, у меня есть и это достоинство… И потом, не надо забывать о Стелле, Дзамполь! Ради нее я готов простить ее брату что угодно… по крайней мере свои личные обиды…
Тарчинини вдруг умолк и пристально посмотрел на помощника.
— Что случилось, синьор комиссар? — спросил тот.
— Ничего-ничего… просто мне пришла в голову неплохая мысль… Да, пожалуй, это было бы замечательно и вовсе не так безумно, как выглядит на первый взгляд… Да, три человека сразу обрели бы счастье — малыша ведь тоже надо принимать в расчет, он-то ведь ни в чем не виноват, бедняжка! Вы меня понимаете, Алессандро?
— Нет, синьор комиссар, совершенно не понимаю…
— Может, это и к лучшему, во всяком случае, пока… А что до экспансивного Анджело, то, по-моему, парень вполне мог прикончить берсальера, тем более что у него нет ни намека на алиби. Говорит, будто, поужинав, ушел гулять в надежде успокоить разгулявшиеся после встречи с Регацци нервы…
— Хорошо еще, если Дани гулял далеко от казарм…
— То-то и оно, что совсем неподалеку!
— Ma que! И вы оставили его на свободе?
— Да, приказав не выезжать из города и работать в мастерской, как будто ничего не случилось. Такие люди никогда не пытаются сбежать, Алессандро… Дани уверяет, будто направился в ту сторону машинально, только потому, что слишком много думал о берсальере… Хорошенькая прогулка — туда и обратно… Так что никакие клятвы, что он вернулся домой не позже половины второго, не помогут…
— Я бы все же отправил парня в следственную тюрьму.
— Это потому, что вы не знакомы с его сестрой!
Утром на перекличке, узнав от сержанта Фаусто Скиенато о смерти своего товарища Регацци, берсальеры застыли, словно увидели труп Нино собственными глазами. А потом по рядам пробежал ропот — простые сердца солдат возмущались содеянным, и никто даже не пытался скрыть огорчение. Сержант почувствовал, что очень скоро не сможет заставить подчиненных стоять по стойке «смирно», как того требует дисциплина в подобных обстоятельствах, и уже собирался всех отпустить, как вдруг сквозь ряды солдат прошел лейтенант Паскуале де Векки. При виде любимого за элегантность и спокойное изящество шефа все подтянулись, а лейтенант скомандовал:
— Вольно!
Потом он окинул дружелюбным взглядом простодушные физиономии подчиненных, в основном горцев.
— Вы все уже знаете о смерти своего товарища… о его несправедливой гибели, ибо ни один солдат не должен умирать таким образом… Поэтому мы обязаны всеми силами помочь полиции найти убийцу, если, конечно, преступление не совершил какой-нибудь случайный бродяга… Я прошу всех, кто был особенно дружен с Нино Регацци, зайти ко мне в кабинет. И мы вместе решим, каким образом помочь следователям.
Как только лейтенант ушел, солдаты, разбившись на маленькие группки, стали лихорадочно обсуждать кончину красавца берсальера. Сержант Скиенато разглагольствовал посреди небольшого кружка, в котором стояли капрал Мантоли и солдат Нарди, едва ли не самые близкие друзья покойного.
— Не понимаю, чего лейтенант ломает голову! — ворчал Фаусто. — Регацци умер, как очень и очень многие бабники. Когда парень бегает от блондинки к брюнетке, лжет одной, обманывает другую, то рано или поздно рискует заработать нож под ребра, и, пожалуй, в какой-то мере заслуженно…
Мантоли не выдержал. Отстранив товарищей, он вырос перед сержантом.
— Только последний подонок может позволить себе говорить такие вещи, сержант!
Неожиданный и явно нарушающий дисциплину выпад капрала на некоторое время лишил Скиенато дара речи. Наконец, взяв себя в руки, он подошел вплотную к Мантоли и сунул ему под нос свои нашивки.
— Как по-вашему, что это такое, Мантоли?
— Нашивки!
— А вам известно, что они означают, капрал?
— Что вы — сержант!
— Вот именно! Так вот, позволив себе обругать меня, как вы это только что сделали, вы взбунтовались против начальства! Я составлю рапорт и готов съесть со своей униформы все пуговицы до последней, если вас не разжалуют, Мантоли!
— Разжалуют или нет, а все равно никто не помешает мне утверждать, что только законченный негодяй может так отзываться о мертвых, и я готов повторить это хоть при самом полковнике! Посмотрим, чью сторону он примет!
Страстную речь капрала Мантоли сопровождал одобрительный шепоток. Сержант Скиенато понял, что ни у кого не найдет поддержки и, коли начальству вздумается узнать, как было дело, его поведение наверняка осудят. Поэтому он решил замять дело.
— Я всегда относился к вам с уважением, Мантоли… Мне известно, что вы были лучшим другом Регацци, и потому, я думаю, ваши необдуманные слова вызваны печалью. Только скорбь могла заставить вас забыть о дисциплине и уважении к начальству. Но впредь постарайтесь держать себя в руках, Мантоли, поскольку я не прощу вам больше никаких дерзостей! Ясно?
И, не дожидаясь ответа, сержант повернулся на каблуках. Больше всего его сейчас занимало, какую бы работу поомерзительней взвалить на непокорного капрала. И Скиенато заранее радовался мести. А Мантоли вместе со своим приятелем Нарди пытался понять, кто, за что и почему убил Нино. Нарди, вспоминая о любовных подвигах Регацци, проговорил:
— Видишь ли, Арнальдо, сержант, конечно, подлец, но все-таки, возможно, в какой-то мере он прав… Бедняга Нино и в самом деле малость перебарщивал… менял девчонок каждые две недели! Помнишь, как его застукали в кино и втроем учинили скандал? Если кто-то из этих красоток оказался злопамятнее прочих… А может, одна из тех, кто, по его милости, оказался в очень скверном положении. Ну, ты меня понимаешь… А, Арнальдо?
— Еще бы не понимать, Энцо! И, если хочешь знать, Нино в самом деле здорово влип, сделав девице ребенка…
— Santa Madonna! Ты уверен?
— По-твоему, я стал бы такое выдумывать, да?
— И Нино не хотел жениться?
— Нет… Ты ведь его не хуже меня знал… Ну какой из нашего Нино отец семейства?
— И как он думал выйти из положения?
— Сказал, что даст девице денег, сколько та захочет, лишь бы оставила его в покое.
— Денег? А где бы он их взял?
Тут капрал рассказал Нарди, как накануне в казарму явились два богатых синьора и дали Нино огромную пачку банкнот.
— Почему?
— Ну, знаешь, старина… Об этом они не сочли нужным мне сообщить.
— А Регацци?
— Слишком торопился…
— Не знаешь, эти деньги при нем нашли?
— Нет.
Они молча прошли несколько шагов, потом Энцо Нарди посоветовал:
— На твоем месте, Арнольдо, я бы рассказал об этом лейтенанту.
Комиссар Тарчинини, пытаясь умерить негодование помощника, терпеливо объяснял:
— Не стоит все-таки принимать меня за идиота, Алессандро! Стелла Дани — самая очаровательная девушка, какую я когда-либо видел, не считая, конечно, моей Джульетты…
— Мать-одиночка! — презрительно хмыкнул инспектор Дзамполь.
И тут, быть может впервые в жизни, Ромео Тарчинини по-настоящему рассердился. Голос его зазвучал горько и жестко, а с лица исчезла привычная добродушная улыбка.
— Боюсь, я ошибся в вас, инспектор… Я принимал вас за упрямца, но в глубине души славного малого… А теперь вижу, что у вас, видимо, черствое сердце и недалекий ум! Зато ваша Симона становится мне все милее, и я от души скорблю о бедной девочке!
Алессандро попытался возразить, но комиссар заткнул ему рот:
— Помолчите, сейчас говорю я! Так вы смеете презирать несчастную девчушку только за то, что она поверила клятвам соблазнителя? А на каком основании, синьор Дзамполь? Кто дал вам право судить ближних? Кто позволил вам корчить из себя судью над невинными жертвами? Неужто вы всегда будете преследовать обиженных и беззащитных? Я надеялся избавить вас от неврастении — этого прибежища слабых душ — и вернуть вкус к
жизни, но вижу, что тут и надеяться не на что: у вас низкая душа, Алессандро Дзамполь, а другую, светлую и чистую, не в моей власти вам дать!
Тарчинини встал.
— Пойду к Бенито Дзоппи и попрошу перевести вас куда-нибудь. Я не могу работать с человеком, к которому больше не испытываю ни доверия, ни уважения.
Слушая суровую отповедь комиссара, Дзамполь сначала хотел было возмутиться, но мало-помалу и слова, и удивительное преображение Ромео его тронули. Алессандро задумался и в конце концов признал, что, возможно, он и в самом деле не такая возвышенная личность, как ему хотелось думать. И, хотя самолюбие Дзамполя ужасно страдало, хотя манера Тарчинини вести расследование выводила его из себя, инспектор не мог не чувствовать странной симпатии к забавному, но доброму и честному веронцу. И, видя, что тот собирается уходить, Алессандро понял, что ему чертовски тяжко вот так, навсегда, расстаться с маленьким толстяком, наделенным огромным, как гора, сердцем. Инспектор в свою очередь вскочил и, не раздумывая, крикнул:
— Синьор комиссар!
Тарчинини уже поворачивал ручку двери, но, услышав этот отчаянный призыв, обернулся.
— Синьор комиссар… я… прошу у вас прощения. По-моему, я действительно идиот!
Ромео окинул Дзамполя критическим взглядом, и лицо его вдруг снова осветила улыбка. Подойдя к инспектору, он дружески обнял его за плечи.
— Ну нет, никакой ты не дурень, Алессандро мио! Просто ты разозлился на весь свет из-за своей любовной неудачи! Раз ничего не вышло с Симоной, ты вбил себе в голову, будто никогда не сможешь обрести счастье ни с одной другой. А это чушь! Что тебе сейчас надо, Алессандро, — так это найти девушку, к которой ты мог бы относиться человечнее, чем к той, а я стану крестным вашего первого малыша, и он получит имя Ромео.
Дзамполь улыбнулся. Поразительный тип этот Тарчинини: с ним волей-неволей уверуешь, будто мир прекрасен, люди добры и жизнь — очень стоящая штука.
— Спасибо, синьор комиссар, — растроганно пробормотал он.
— Да ну же, обними меня и забудем об этом!
Они упали друг другу в объятия, и, если бы в кабинет случайно заглянул посторонний, он наверняка счел бы, что служащие уголовной полиции Турина на редкость добросовестно следуют евангельской заповеди «возлюби ближнего своего».
Наконец Тарчинини вернулся в кресло и, указав Дзамполю на стул, возобновил прерванный разговор.
— Итак, я говорил, что при всей симпатии к Стелле Дани уже надел бы на ее брата наручники, если бы смог доказать его виновность в убийстве берсальера.
— А почему бы не вызвать парня сюда и не допросить?
— Нет, Дзамполь… Будь вы знакомы с Анджело, вы бы так не говорили. Представьте себе тридцатилетнего парня, отказавшегося от семейного очага ради сестры и больной тетки, которую ни под каким видом не желает отдавать в сумасшедший дом. Вообразите, что однажды какой-то мерзавец, заботясь лишь о собственных удовольствиях, поставил под угрозу все, ради чего бедняга жертвовал собой… А ведь мы, итальянцы, очень дорожим своей репутацией… И наконец, попробуйте воссоздать ход мыслей Анджело: Стелла — мать-одиночка (помните собственную реакцию, Алессандро?), в доме появится незаконнорожденный, а полубезумная тетка, ничего не понимая в происшедшей драме, начнет изводить племянников неуместными замечаниями. Разумеется, Анджело не мог не подумать, что все его жертвы оказались напрасными, и пришел в ярость. Вне себя от гнева, парень отправился к берсальеру раньше, чем обещал. Сначала он следил за Регацци издалека и видел, как тот вошел в шикарный ресторан. Анджело не имел возможности позволить себе такую роскошь, да и место слишком людное. Поэтому наш мститель догнал обидчика только у самой казармы. Произошло объяснение. Возможно, берсальер начал насмехаться над заботливым, как мамаша-наседка, братом, а тот, не выдержав, нанес удар…
— Вы и в самом деле думаете, что все было именно так, синьор комиссар?
— Пока не вижу других объяснений.
— Но тогда почему бы не арестовать Анджело Дани?
— У нас нет доказательств, инспектор, а такой парень никогда не скажет больше, чем сочтет нужным.
— Но не можем же мы совсем оставить его в покое?
— То-то и оно, Алессандро… Мы бессильны, пока не вынудим Дани к признанию, а для этого придется не давать парню покоя… Надо, чтобы кто-то из нас ежедневно появлялся у него в доме. Анджело должен постоянно чувствовать, что за ним наблюдают, изучают каждый его шаг… Здесь все зависит от того, у кого окажется больше выдержки и кто устанет первым…
— Ну, если Дани такой крепкий орешек, как вы говорили…
— Да, но есть еще Стелла и злосчастная тетка… Без всякого худого умысла обе они тоже начнут изводить Анджело непрестанными расспросами… Возможно, ему в конце концов надоест все время видеть нас в доме и вести бесконечные разговоры… А кроме того, мы должны убедить Дани, что не сомневаемся в его виновности и что ему от нас не уйти… В остальном придется положиться на время. И заметьте, Дзамполь, я не испытываю к Анджело никакой враждебности, даже наоборот… Его поступок мне вполне понятен, хотя я и не решился бы его одобрить… Впрочем, могу без особой натяжки сказать, что, в сущности, красавец берсальер получил по заслугам.
— Ну, это уж слишком, синьор комиссар!
— Погодите, Алессандро! Сначала познакомьтесь со Стеллой, а потом мы вернемся к этому разговору! Кстати, как насчет ножа, который вы нашли возле трупа Регацци? Не дал он вам какой-нибудь зацепки?
— Нет, синьор комиссар, да и надеяться не на что: такие ножи сотнями продают по меньшей мере двадцать магазинов…
— Так я и думал… И все-таки мне очень хотелось бы знать, почему он валялся рядом с телом… По-моему, разгадав эту загадку, мы сразу же вышли бы на преступника…
Рассуждения комиссара прервал телефонный звонок. Инспектор снял трубку.
— Звонит некий Ренато Бурдиджана, — объявил он комиссару. — Хозяин бара на пьяцца делло Статуто…
— И чего он хочет?
— Поговорить с тем, кто расследует убийство берсальера. Вроде бы у него есть важные сведения!
Ромео пожал плечами:
— Ну, начинается!.. Ладно, раз нам так или иначе придется выслушать всех этих психов, лучше уж начнем немедленно!
Очень скоро в кабинет впустили Ренато Бурдиджана — высокого, плотного мужчину средних лет. Хитрая, заросшая темной шерстью физиономия кабатчика не вызвала у полицейских ни доверия, ни симпатии. Прежде чем он успел открыть рот, инспектор Дзамполь подвинул стул и сухо бросил:
— Садитесь…
— Спасибо…
Ромео вперил в посетителя самый грозный взгляд, свидетельствовавший, что он вовсе не расположен тратить время на пустую болтовню.
— Я комиссар Тарчинини, и расследование убийства берсальера Нино Регацци поручено мне. Вы действительно можете сообщить что-то важное?
— Да, синьор комиссар!
— Тогда я вас слушаю.
Ренато набрал полные легкие воздуха, как будто собирался проплыть стометровку кролем.
— Я держу бар на пьяцца делло Статуто, синьор комиссар, у меня много постоянных клиентов, и среди них — Лючано Монтасти, лудильщик… Он только что вернулся из армии. Служил в Бари. Это далеко… денег у парня не так уж много, и за все время службы в отпуск он приезжал всего один раз. Ну, вы сами знаете, как оно бывает, синьор комиссар… Невеста Монтасти, Элена Пеццато (заметьте, я вовсе не хочу сказать, будто она плохо себя вела, но, черт возьми, нельзя же требовать от молоденькой девушки, чтоб жила монашкой?), так вот, Элена хотела немного развлечься, ну и познакомилась с парнем… Они довольно часто гуляли вместе… а парень был берсальером…
— Вы имеете в виду нашего?
— Совершенно точно, синьор комиссар… Нино Регацци. Не знаю, слыхали вы или нет, как он вел себя с девушками?
— Немного.
— Стихийное бедствие, синьор комиссар! Ну, и когда Монтасти вернулся, само собой, нашлись добрые души — шепнули ему на ушко, что в его отсутствие Элена не особенно горевала. Парень стал докапываться и в конце концов узнал имя берсальера. Дальше — больше, ему рассказали о репутации Регацци. Короче, Монтасти решил, что ему изменили, и впал в самое мрачное расположение духа. Знаете, синьор комиссар, я даже не раз корил его по вечерам: «Ma que, Лючано! Ты и так уже перебрал! И к чему тебе это? До добра не доведет…» А он отвечал: «Мне остается одно из трех, Ренато: убить либо ее, либо его, либо себя… Но кто-то из троих точно должен умереть!»
Кабатчик поднял широкую, как валек прачки, ладонь и торжественно изрек:
— Клянусь головой своей покойной Эльвиры, так все и было!
— Ну, это только слова… — буркнул Дзамполь, которому доносчик внушал изрядное отвращение. — У нас, в Италии, вздумай кто-нибудь принимать всерьез угрозы и проклятия, что сыплются каждый день как из рога изобилия, очень скоро полстраны сидело бы под замком, а остальным пришлось бы охранять тюрьмы!
Ренато Бурдиджана рассердился. Как всякий человек, воображающий, будто сообщает необыкновенно важные сведения, а в ответ наталкивается на равнодушие и недоверие, он не мог скрыть обиду:
— Может, по-вашему, то, что случилось вчера вечером у меня в баре, — тоже пустая угроза и сотрясение воздуха?
Тарчинини подмигнул помощнику.
— Вы хотите сказать, что вчера произошла стычка между… как его там?.. Ах да, Лючано Монтасти и… Нино Регацци? — вкрадчиво спросил он.
— Вот именно, синьор комиссар!
Ромео поудобнее развалился в кресле, сложил руки на кругленьком брюшке и замурлыкал, как огромный кот.
— А вот это уже чертовски интересно… — заметил он. — Вы истинный помощник правосудия, синьор Бурдиджана…
Тупая и самодовольная физиономия кабатчика просияла от удовольствия.
— Может, вы нам несколько подробнее расскажете об этом происшествии, а?
Ренато с легким презрением взглянул на Дзамполя.
— Было часов семь-полвосьмого, синьор комиссар… Честно говоря, я не обратил внимания на время… Нельзя же обо всем подумать заранее, верно?
Тарчинини кивнул, и кабатчик воспринял это как поощрение.
— Как всегда или почти всегда по вечерам, Монтасти хандрил над бокалом вина… А тут откуда ни возьмись — берсальер. Ну, я сразу поглядел на Лючано, а тот еще ничего не заметил… Регацци — тот ни разу не встречался с женихом Элены, так что, если даже и увидел парня, все равно не заподозрил худого. Понимаете, синьор комиссар?
— Ma que! Еще бы!
— Берсальер выпил один за другим три карпано… И я подумал, что у него, должно быть, неприятности…
— Очевидно, он зашел к вам после встречи с домом Марино и братом Стеллы Дани.
— Ну, я в основном мыл бокалы да рюмки, а потому не очень-то смотрел, что делается на другом конце стойки… и только обернувшись, вдруг увидел… как думаете, что, синьор комиссар?
— Не знаю, но, надеюсь, вы нам расскажете!
— Я увидел, что Монтасти хлопает берсальера по плечу! Тот удивленно вытаращился на жениха Элены и спросил, чего ему надо.
Ренато Бурдиджана добросовестно описал дальнейшие подробности сцены между Нино и Лючано, правда для вящего интереса несколько драматизировав и приукрасив события.
— Ну вот, поэтому, прочитав в газете, что беднягу Регацци зарезали, я счел своим долгом поставить в известность полицию.
— И совершенно правильно! Вы на редкость сознательный гражданин, синьор Бурдиджана.
— К вашим услугам, синьор комиссар, и к услугам правосудия!
— Это одно и то же, синьор… Вы случайно не знаете, где живет Монтасти?
— Нет…
— А где он работает?
— Тоже нет, но могу дать вам адрес его невесты, Элены Пеццато… Виа Карло Видуа, десять… Это тоже в квартале Сан-Альфонсо де Лиджори.
— Evidentemente![271]
Выпроводив кабатчика, Дзамполь повернулся к шефу.
— В конечном счете, возможно, Анджело Дани ни при чем? — заметил он.
— Это мы решим, после того как немного побеседуем с Монтасти. Поехали на виа Карло Видуа, Алессандро!
Уже возле дома Пеццато инспектор предупредил, что днем у них очень мало шансов застать Элену.
— Ebbene![272] Тогда нам скажут, где она работает, и мы отправимся туда.
Полицейские долго звонили в дверь и, ничего не добившись, решили, что все семейство отсутствует. Но, когда они уже собирались уходить, Ромео вдруг схватил спутника за руку и велел прислушаться. Дзамполь тоже навострил уши и скоро уловил чьи-то крадущиеся шаги в глубине квартиры. Тарчинини рассердился и замолотил в дверь кулаками.
— Мы знаем, что тут кто-то есть! — крикнул он. — Отоприте, или нам придется вышибить дверь!
Прошло еще несколько секунд, потом мужской голос приказал:
— Открой, Эмилия!
Однако Эмилия, видимо испугавшись, начала возражать.
— Оттавио, умоляю тебя! Подумай, что ты… — услышали полицейские.
— Прекрати хныкать и отопри дверь!
В замке повернулся ключ — синьора Эмилия, очевидно, не привыкла спорить с мужем. Дверь отворилась, комиссар шагнул в квартиру, но почти сразу с живостью отскочил, не желая стоять под дулом охотничьего ружья. Дзамполь никак не ожидал столь резкого маневра, поэтому комиссар навалился на него всей тяжестью и, что хуже всего, пребольно наступил на ногу.
— Per bacco![273] — взвыл Алессандро.
Пытаясь высвободить ногу, он резко толкнул шефа в спину, и тот, вне себя от ужаса, снова оказался перед самым дулом.
— Стойте! — грубо рявкнул державший ружье Оттавио.
Муж Джульетты с удовольствием выполнил бы приказ, но, потеряв равновесие, поскользнулся, с бешеной скоростью налетел прямо на ружье и, чтобы не упасть, инстинктивно вцепился в ствол. Оттавио от испуга спустил курок, и весь заряд дроби, пробив полу пиджака Тарчинини, угодил в пол у ног инспектора. Тот побледнел как полотно. Испуганный крик Эмилии, удивленный — Оттавио, проклятия Дзамполя и дикие вопли комиссара смешались в невыразимо разноголосый гул, а потом наступила гробовая тишина. Каждый думал, что могло произойти, если бы… Больше всех явно переживал Оттавио — дрожь сотрясала его с головы до ног. Алессандро, сердито сверкая глазами и угрожающе выставив вперед подбородок, надвинулся на хозяина дома и сунул ему под нос револьвер.
— Ma que! Насколько я понимаю, вам вздумалось поиграть в гангстеров, а?
Эмилия, не сомневаясь, что сейчас станет вдовой, отчаянно заревела. От неожиданности инспектор чуть не выстрелил, что, несомненно, стоило бы Оттавио жизни. А Тарчинини все еще сидел на полу, судорожно соображая, каким образом он очутился у ног Оттавио и почему держится за ствол ружья. Что-то тут было явно не так… Всеобщее напряжение достигло крайнего предела и, вероятно, разрешилось бы самым неприятным образом, не появись в тот момент закутанная в цветастый домашний халатик юная особа.
— Dio mio! — сквозь слезы воскликнула она. — Что тут творится? Революция?
Синьора Эмилия, как и следует хорошей матери семейства, тут же забыв обо всех заботах, бросилась к дочери.
— Клянусь Распятием, ты что, сошла с ума, Элена? Неужели ты хочешь умереть? Встать в таком состоянии…
И она увела девушку подальше от поля сражения. Комиссар поднялся на ноги, печально разглядывая изуродованную полу пиджака.
— Смотрите, что вы наделали! — с горьким упреком сказал он хозяину дома, чуть не отправившему его на тот свет. — И что это за странная привычка встречать гостей с ружьем?
Дзамполь, решив, что объяснения неуместны, повернулся к комиссару.
— Я его арестую, шеф?
— Минутку, Алессандро. Пусть сначала расскажет, что на него нашло. Кто вы такой, синьор?
— Оттавио Пеццато… А вы?
— Комиссар Тарчинини… А это инспектор Дзамполь… Кто нам открыл дверь?
— Моя жена Эмилия… Девчушка в халате — наша единственная дочь Элена.
— И чего ради вы взялись за ружье?
— Я думал, что пришел Лючано, дочкин жених…
— Вот это да! Похоже, вы его здорово недолюбливаете?
— Парень совсем спятил!
— Может, объясните нам все спокойно и по порядку?
Пеццато позвал жену. Эмилия, проводив мужчин в крошечную гостиную, усадила за стол, поставила перед ними бутылку вина, бокалы и вышла. Вскоре Тарчинини уже чокался с Оттавио, но Дзамполь, соблюдая устав, отказался в рабочее время принять хоть что-нибудь от людей, в чьем доме намеревался вести следствие. Кроме того, Алессандро все еще не мог простить Оттавио едва не начавшуюся бойню и уже в который раз удивлялся поразительной способности комиссара так быстро переходить от слез к смеху. Инспектор успел привязаться к добродушному веронцу, но к симпатии примешивалось легкое презрение, ибо люди вообще склонны свысока взирать на то, что не укладывается в привычные рамки.
Оттавио рассказал, что два-года назад Элена обручилась с Лючано Монтасти, парнем без гроша в кармане, но красивым и работящим. К несчастью, Лючано оказался ужасным ревнивцем. Отправляясь в Бари, он измучил Элену и ее родителей, требуя обещаний и клятв верности. Послушать Монтасти, так бедняжка Элена должна была жить затворницей целых два года. Но ведь она совсем молоденькая девушка и очень любит потанцевать, сходить в кино и съездить на загородную прогулку. Среди ее друзей оказался и берсальер с очень дурной славой, но об этом родители узнали лишь потом. Короче, вполне возможно, что Элена, подобно многим другим, не без удовольствия слушала комплименты Нино Регацци, но, само собой, дальше дело не пошло. Однако, когда Монтасти вернулся, злые языки поспешили оповестить его об «измене», бессовестно перевирая факты и преувеличивая, а ревнивец, вообразив, будто невеста ему изменила, поклялся отомстить. Весь квартал слышал, как он обещал разделаться сначала с берсальером, потом с Эленой и, наконец, покончить с собой. Поэтому, узнав о смерти Регацци, Оттавио сразу подумал: «Очередь — за Эленой». Естественно, он не пошел на работу и решил с оружием в руках охранять дочь, пока Лючано не отправят в тюрьму. Он надеялся, что в случае чего успеет выстрелить первым.
— Короче, если я вас правильно понял, синьор Пеццато, по-вашему, убийца берсальера — Лючано Монтасти?
— Еще бы!
— Но у вас, очевидно, нет никаких доказательств?
— А угрозы?
— Да… только этого мало.
— А вам что, трупы нужны?
— М-м-м, да, это, разумеется, самый веский аргумент. И что думает обо всем этом синьорина?
— Ничего. Элена уже, можно сказать, умерла.
— Ma que! Как — умерла? Разве не она только что выходила в прихожую?
— И да, и нет…
— Как это?
— Вы, синьор комиссар, видели только тень моей девочки! Она так исстрадалась! Этот ревнивец Лючано выгрыз ей все внутренности! Чудовищу теперь незачем убивать Элену, это уже сделано! Будь у вас дочь, синьор комиссар.
— Она у меня есть…
— Так берегите ее хорошенько!
Тарчинини тяжко вздохнул.
— Слишком поздно… У меня ее похитили… — похоронным тоном признался он.
— Dio mio!.. Похитили? И полиция молчит?
— Да!
— Е imposibile![274]
Ромео скорбно покачал головой в знак того, что все возможно в нашем несправедливом мире, где отцам не дано сохранить при себе дочерей. Дзамполь сердито заметил, что Джульетту Тарчинини увезли в полном соответствии с законом, поскольку она вышла замуж. Комиссар удивленно посмотрел на помощника.
— И что это меняет, а? Со мной моя Джульетта или не со мной, я вас спрашиваю?
— Нет, разумеется, но…
— Вот видите, Алессандро…
Оттавио вдруг схватил руки Тарчинини и крепко сжал.
— Сочувствую вам… — пробормотал он.
— Спасибо…
И оба старались больше не обращаться к инспектору, ибо он, не имея детей, не мог понять, какие муки терпит отец, у которого отнимают любимую дочь, зеницу ока и радость жизни. Распознав в комиссаре брата, чье сердце стучит в унисон с его собственным, Оттавио Пеццато согласился отвести его к одру дочери, причем сделал это с таким благородством и сдержанностью, что Дзамполь сразу почувствовал себя не у дел и не посмел даже шевельнуться, когда его шеф встал со стула.
У изголовья постели, ловя каждый вздох дочери, сидела встревоженная мать, а сама Элена, прикрыв глаза, с ужасом думала, как бы теперь, после того как за ней ухаживали два самых завидных поклонника, не остаться старой девой. От одной мысли об этом девушку бросало в дрожь. Услышав скрип двери, Элена приоткрыла один глаз, но при виде отца и одного из полицейских снова зажмурилась и издала такой горестный стон, что он разжалобил бы кого угодно, включая инспектора Дзамполя! Оттавио нагнулся и взял ее за руку.
— Очнись, моя Элена… Этот синьор все понимает…
Тарчинини, в пароксизме отцовской нежности, тоже склонился над страдающей Эленой.
— Вам больше нечего бояться, дитя моя, я здесь…
— Он убил Нино… Он убьет меня… всех нас поубивает! — забормотала девушка, словно предчувствуя скорую кончину.
— Да нет же, нет… Я поймаю этого дикаря и отправлю в тюрьму! Там он уже никому не причинит вреда!
Элена привскочила в постели.
— В тюрьму? Моего Лючано? — возмутилась она. — Dio mio! Но почему?
Ромео подумал, что, будь сейчас рядом с ним Дзамполь, тот не упустил бы случая в очередной раз посмеяться над женской непоследовательностью.
— Послушайте, синьорина… Не вы ли сами только что утверждали, что этот Лючано убил берсальера?
— Потому что он меня любит!
— Но это же еще не повод…
Несмотря на отеческую задушевность тона, Тарчинини так и не удалось вразумить Элену. Девушка зарылась лицом в подушки и, отчаянно рыдая, умоляла защитить ее от убийственного гнева жениха, но в то же время не трогать и волоска на его голове. Наконец, уверившись, что его редкий талант успокаивать и внушать надежду не производит на нервную барышню ни малейшего впечатления, комиссар вместе с хозяином дома вернулся в гостиную, к Дзамполю. Пеццато, опасаясь, что Ромео поддался мольбам его очаровательной крошки и теперь не захочет ничего предпринимать, счел нужным высказать свое мнение:
— По-моему, Элена сама не знает, что говорит… Но я не сомневаюсь, что, пока этот Монтасти на свободе, всем нам грозит опасность!
— Успокойтесь, синьор Пеццато, мы с инспектором займемся молодым человеком. Где он работает?
— У жестянщика Сампьери, на виа Татукки. Это почти на углу пьяцца Райнери.
Выслушав рапорт капрала Мантоли и узнав, что накануне к Нино Регацци приходили два богатых синьора, очевидно передавших ему очень крупную сумму, лейтенант Векки позвонил в уголовную полицию. Но там ему сказали, что ведущий расследование комиссар отсутствует, и попросили позвонить еще раз через часок-другой или подождать, пока синьор Тарчинини сам перезвонит ему в казарму. Векки в тот день дежурил и предпочел второй вариант.
Дзамполь не выносил запаха свинца и сварки, поэтому, едва переступив порог мастерской Сампьери, почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Разумеется, это не улучшило его настроения. Хозяин мастерской, добродушный и ужасающе грязный гигант, с улыбкой вышел навстречу посетителям, распространяя довольно тягостный для обоняния аромат.
— Если вам надо что-нибудь починить, синьоры, придется малость подождать… Разве что дело ужасно серьезное…
— Синьор Сампьери?
— Он самый.
— У вас работает некий Лючано Монтасти?
— Да… А что?
— Полиция!
— А-а-а… И что он натворил?
— Именно об этом мы бы и хотели у него спросить, с вашего позволения или без оного. Хотя я лично предпочел бы получить от вас согласие…
— Монтасти чинит сифон в маленьком павильоне во дворе.
— Спасибо.
Тарчинини и Дзамполь пересекли мастерскую и свернули в коридор, пропитанный тошнотворной, хотя и не имевшей ничего общего с расплавленным металлом, вонью. Наконец они выскользнули во внутренний дворик и сквозь застекленную стену крохотного павильона увидели склонившегося над работой парня. Услышав голос Тарчинини, тот вздрогнул и едва не поранился.
— Лючано Монтасти?
— Да. Что вам угодно?
— Полиция! Мы пришли поговорить с вами.
Парень побледнел и, вскочив со стула, ухватил тяжелый разводной ключ. Дзамполь тут же вытащил револьвер.
— А ну, живо брось эту штуковину, или я рассержусь!
Но Монтасти был уже не в состоянии слушать что бы то ни было.
— Я знал, что вы придете! — заорал он. — Так и думал, что в его смерти обвинят меня! Но я не убивал его, слышите? Не убивал! Да, я ужасно рад, что проклятый берсальер мертв, но прикончил его не я! И попробуйте только спорить, я вам морды порасшибаю, грязные шпики!
Дзамполь прицелился Лючано в ноги.
— Положи разводной ключ, а то схлопочешь пулю в лапу! Ты что, хочешь стать калекой?
Немного поколебавшись, Монтасти положил ключ.
— Хорошо, теперь иди сюда… Ну, давай пошевеливайся!
Лючано задыхался и дрожал всем телом, но все же выполнил приказ.
— Что вы теперь со мной сделаете? — спросил он, приблизившись к инспектору.
— Прихватим с собой.
— Я не хочу в тюрьму!
— Хочешь ты или нет, нам плевать, ясно?
Монтасти подобрался и, прежде чем кто-либо из полицейских успел сообразить, что сейчас произойдет, распрямившись, как пружина, боднул инспектора головой в живот. Дзамполю показалось, что его долбанули тараном. Он выронил револьвер и упал навзничь, потеряв сознание прежде, чем голова коснулась пола. Лючано повернулся к Тарчинини.
— Если вам не в чем себя упрекнуть, ничего глупее вы не могли придумать, — невозмутимо заметил комиссар.
Спокойствие веронца, по-видимому, немного привело парня в чувство.
— Клянусь, я никого не убивал! — снова крикнул он охрипшим от волнения голосом.
Потом Монтасти распахнул дверцу, выходившую в соседний дворик, и рванул прочь. Ромео решил, что преследовать беглеца бесполезно, тем более что сам он никак не смог бы мчаться с такой скоростью. В это время на пороге мастерской появился Сампьери.
— Кажется, я слышал крики? А что, Лючано тут нет?
— Удрал!
— Удрал? Но почему?
Тарчинини кивнул в сторону все еще бесчувственного инспектора. Сампьери в ужасе отшатнулся.
— Madonna!.. — каким-то придушенным голосом пробормотал он. — Лючано его убил?
— К счастью, нет… Помогите мне привести малого в чувство.
— Погодите, сейчас сбегаю за граппой[275].
Сампьери исчез и почти тотчас вернулся с бутылкой. Опустившись на колени, он влил в рот Алессандро Дзамполя изрядную порцию водки, и тот, почувствовав на губах ее обжигающий вкус, потихоньку пришел в себя. Инспектор обвел мастерскую более чем туманным взором, вспомнил наконец, что произошло, и, подобрав револьвер, вскочил.
— Где этот бандит? — зарычал он.
Комиссар знаком показал, что Монтасти скрылся.
— И вы не бросились в погоню?
Ромео задумчиво посмотрел на помощника.
— Вы что же, Алессандро, принимаете меня за бегуна, достойного представлять Италию на Олимпийских играх? Судя по тому, с какой скоростью парень сорвался с места, догнать его мог бы разве что чемпион мира!
— Я тоже не чемпион, шеф, но, готов прозакладывать что угодно, этого типа я догоню! И тогда ему придется вести себя очень и очень вежливо, не то…
— Да ну же, Дзамполь, не пытайтесь строить из себя злюку! Вы совсем не такой!
— Верно, синьор комиссар, я человек не злой, но не слишком люблю, когда меня бьют головой в живот… Кому что нравится, non e vero?[276]
— Не стоит так нервничать, Алессандро… Мы запустим машину, и ваш обидчик далеко не убежит. Впрочем, меня бы очень удивило, вздумай он покинуть город, не попытавшись хотя бы увидеться с возлюбленной… По-моему, лучше всего беглеца подкараулить на виа Карло Видуа…
— Разве что Монтасти окажется гораздо хитрее и поспешит смыться, даже не заглянув туда.
— И не подумает!
— Почему вы так уверены?
— Потому что он влюблен и ему отвечают взаимностью.
Инспектор пожал плечами. Когда Тарчинини садился на любимого конька, он предпочитал не спорить.
— С утра у нас был всего один возможный убийца, а сейчас их уже двое, — заметил инспектор, когда они с Тарчинини вернулись в кабинет. — Если и дальше пойдет в том же духе, к концу недели нам, чего доброго, придется иметь дело с целой дюжиной подозреваемых!
Но подобная перспектива, казалось, нисколько не омрачила настроение Ромео.
— Чем сложнее задача, тем большее удовольствие я получаю от расследования.
— Как по-вашему, это Анджело или Лючано?
— Я бы скорее поставил на Анджело — он сильнее, спокойнее и храбрее. Такой человек, придя к определенному решению, ни за что не отступится. Но нам предстоит тяжелая схватка. И нападать «в лоб» значило бы заранее обречь себя на неудачу. Единственный выход — попытаться взять парня измором.
— А Лючано?
— Вряд ли он виновен… Правда, малый насмерть перепуган, но всему виной воображение, да еще ревность подтачивает беднягу с того дня, как он вернулся из армии… Монтасти ненавидел нашего берсальера, но не думаю, что он способен убить кого бы то ни было… Пороху не хватит.
— И однако меня он вывел из строя в мгновение ока! Видали, как налетел?
— Рефлекс загнанного зверя… Но заметьте, Алессандро, я вполне могу ошибаться, и на самом деле убийца — Лючано. Тем не менее у меня сложилось довольно стойкое впечатление, что парень не сможет долго скрывать от нас правду и расколется на первом же допросе.
— Ну, для этого его надо сначала найти!
— Не волнуйтесь, Монтасти мы поймаем, потому что влюбленный далеко не убежит. Возвращайтесь домой, Алессандро, и пораньше ложитесь спать — и тем скорее забудете об этом дурацком ударе в живот. А я перед ужином еще разок загляну к Дани…
— Ого, шеф! Я вижу, вам у них понравилось?
— Да, признаюсь, малышка Стелла — прелестна, но, чтобы раз и навсегда покончить с вашими оскорбительными подозрениями, впредь мы будем сменять друг друга, так что следующий визит — ваш. Мы должны вывести Анджело из терпения. Это единственный шанс узнать правду.
Комиссар Тарчинини уже собирался уходить, когда Дзамполь вдруг обнаружил среди множества бумаг, принесенных в их отсутствие, записку, оповещавшую, что насчет убийства берсальера звонил лейтенант Векки и просил комиссара при первом же удобном случае перезвонить ему в казарму Дабормида.
Ромео набрал номер и с неподдельным интересом выслушал рассказ собеседника, но час был уже поздний, поэтому он обещал заехать завтра с утра и побеседовать с капралом Мантоли. Повесив трубку, комиссар немного подумал, а потом повернулся к Дзамполю.
— Пусть то, что с нами сейчас произошло, Алессандро, послужит для вас уроком… Мы с величайшим пылом и рвением преследуем двух молодых людей, которых, казалось бы, можем с полным основанием подозревать в убийстве… И вдруг какой-то капрал заявляет, что перед уходом Нино из казармы его навестили два незнакомых синьора и передали кучу денег. Вам не кажется, что это очень любопытно?
— Да…
— Занимаясь Анджело и Лючано, я совершенно упустил из виду, что у Регацци неожиданно завелись деньги и что покойника, видимо, обобрали… За что могли так много заплатить солдату?
— Ну, например, это его доля в какой-нибудь махинации?
— Не исключено, но уж слишком романтично… Вы не находите?
— Тогда как вы это объясните?
— Пока не знаю, но надеюсь, что завтра сумею лучше разобраться во всем этом деле. До свидания, Алессандро.
Решив завоевать симпатии «бедной тети», Тарчинини подумал, что лучше всего — подыгрывать ей и ни в чем не перечить. Поэтому, как только Стелла открыла дверь, он бросился к сидевшей в кресле старухе.
— На сей раз вам не придется ни ругать меня, ни бить линейкой по пальцам — я выучил все уроки!
Тетушка Пия воззрилась на него с искренним изумлением.
— Прошу прощения, синьор, — спокойно заметила она. — Но я не совсем понимаю, что вы имеете в виду…
Совершенно растерявшись, комиссар застыл посреди комнаты, не зная ни что делать, ни что говорить дальше. И угораздило же его появиться у Дани в одну из тех редких минут, когда «бедная тетя» вернулась к действительности! И снова Стелла поспешила на помощь. Полицейский немножко ее пугал, но в то же время, бесспорно, вызывал симпатию. Девушку тянуло к Тарчинини, как к доброму и всепонимающему отцу, хотя она и внушала себе, что если в доме случится несчастье, то исключительно по вине все того же комиссара.
— Не обращайте внимания, zia mia, комиссар Тарчинини хочет поговорить со мной… Я не ошиблась, синьор, вы пришли ко мне?
Ромео вновь обрел хладнокровие и превратился в галантного кавалера, каковым переставал быть лишь под влиянием слишком сильных и неожиданных потрясений.
— Не будь я сейчас занят расследованием убийства, синьорина, несомненно благословил бы счастливый случай, познакомивший нас с вами!
Напоминание о Нино омрачило лицо Стеллы.
— Это не случай, а несчастье, синьор комиссар, — пробормотала она.
— Scusi[277], синьорина… Но, надеюсь, все же настанет день, когда вы поблагодарите судьбу за встречу с Ромео Тарчинини!
Комиссар поймал вопросительный взгляд девушки и, не желая давать никаких объяснений, решил немного поухаживать за «бедной тетей».
— А вы знаете, синьора, что ваша племянница — самая красивая девушка, какую я только видел в Турине?
Но Пия уже успела вновь погрузиться в свой ирреальный мир, а потому сурово заметила:
— Попробуй только насмехаться над нашим Дуче — и, сам знаешь, я мигом задам тебе хорошую трепку!
И снова Ромео потерял почву под ногами — старуха как будто поклялась лишить его дара речи. А Стелла, воспользовавшись замешательством комиссара, быстренько увела тетку на кухню — обычное место заточения бывшей учительницы в минуты кризисов. Пока обеих женщин не было в комнате, Тарчинини вытащил из кармана нож, найденный возле тела берсальера, и положил его на стол. Вернувшись из кухни, девушка еще раз извинилась за поведение тети.
— С ней становится все труднее и труднее… Но Анджело и слышать не хочет о больнице… Правда, она совершенно безобидна. Но тем, кто ничего не знает, конечно, может стать не по себе. Ой, а откуда этот нож?
Комиссар изобразил на лице крайнее недоумение.
— Разве это не ваш?
— Нет… я его только что заметила… Странно, правда?
Появление Анджело избавило Тарчинини от необходимости отвечать.
— Опять вы тут? — буркнул он, смерив полицейского отнюдь не доброжелательным взглядом.
— Поразительно, — вздохнул Ромео, — и почему никто никогда не радуется моему приходу?
Стелла почувствовала, что самое время вмешаться и сменить тему разговора. Взяв со стола нож, девушка показала его брату, а комиссар внимательно наблюдал за этой сценой.
— Это твой, Анджело?
— Мой? А зачем, по-твоему, мне мог понадобиться такой ножик?
Великолепный актер этот Анджело, или же он в самом деле не виновен!..
— А с какой целью вы к нам пожаловали на этот раз, синьор комиссар?
— Я жду.
— Чего, если не секрет?
— Когда убийца Нино Регацци себя выдаст!
— Вы надеетесь, что он сам все расскажет, а вам останется только надеть наручники? И долго же вам придется этого ждать!
— Кто знает? Преступник и не догадывается, что я слежу за каждым его шагом…
— Так он вам известен?
— Конечно!
— И кто это?
— Вы, Анджело Дани!
Стелла, боясь крикнуть, прижала руки к губам. Анджело сначала немного опешил, но оторопь быстро сменилась бешенством. Только Ромео, казалось, чувствовал себя превосходно, словно обвинить человека в убийстве — для него самое простое и естественное дело. Меж тем разъяренный Дани набрал в легкие воздуха и, схватив нож, который его сестра снова положила на стол, бросился к полицейскому, но Стелла преградила ему дорогу.
— Нет-нет, Анджело! Ради Бога! Возьми себя в руки, Анджело!
Парень упрямо стоял на своем:
— Прочь с дороги… Я его убью!
— А потом, несчастный? Ты подумал, что с тобой сделают потом?
— Плевать!
Девушка вцепилась в брата, изо всех сил пытаясь его удержать. Тарчинини медленно отступал к кухне, в надежде переждать там грозу, если Стелла не сумеет урезонить кровожадного братца оставить мрачные замыслы.
— Анджело! Тебя посадят в тюрьму, тетю запрут в сумасшедший дом… а я? Представь, что станет со мной!
Но Дани не желал ничего слушать.
— Тетку я тоже прикончу, чтобы избавить от приюта для умалишенных… тебя — чтобы никто не узнал о твоем бесчестье, а себя — чтобы не торчать до конца своих дней за решеткой… Но сперва я выпущу кишки ему!
Представив себе эту жуткую бойню, Стелла издала похоронный вопль, а Тарчинини, сочтя, что дело и в самом деле может обернуться крайне скверно, с неожиданной для такого толстяка прытью отскочил к кухонной двери. К несчастью, тетя Пия в ту же самую секунду ее распахнула. Старуха поспешно отпрыгнула в сторону, и Ромео, пролетев через всю кухню, машинально вцепился в плиту. От его диких криков кровь застыла в жилах стоявшего на пороге инспектора Дзамполя. Он уже добрых пять минут звонил в дверь, но в суматохе никто ничего не слышал. И лишь сообразив, что так отчаянно завывает его шеф, Алессандро решил вышибить дверь.
Впоследствии инспектор уверял, что, проживи он хоть сто лет, никогда не забудет зрелища, представшего его глазам в квартире Дани: какой-то здоровенный парень, словно обезумев, размахивал ножом и осыпал проклятиями неизвестно кого. Заплаканная девушка цеплялась за ноги этого типа, очевидно пытаясь его повалить (потом Алессандро признался, что отчаяние этого юного и прекрасного создания потрясло его до глубины души, тем более что даже слезы не смогли испортить очаровательного личика), наконец, в углу комнаты прямо на полу сидела старуха и, похоже, нисколько не интересовалась происходящим. И однако полицейский клялся, что самое сильное по драматизму впечатление произвели на него странные гимнастические упражнения комиссара Тарчинини. Маленький кругленький веронец подпрыгивал на месте, взмахивая руками, как крылышками, и тихонько подвывая. Алессандро окончательно поверил, что все это ему не снится, лишь когда обезумевший парень, отшвырнув девушку, кинулся к Тарчинини с явным намерением вонзить нож ему в грудь. Дзамполь выхватил пистолет и что было мочи гаркнул:
— Ferma![278]
Приказ прозвучал так внезапно и повелительно, что Анджело заколебался. Благодаря этому Дзамполь успел подскочить к нему и так стукнуть рукоятью пистолета, что тот рухнул на пол. Пока Тарчинини объяснял помощнику, что тут стряслось, Дани в легком обалдении стоял на четвереньках под дулом пистолета и мучительно пытался сообразить, какая блажь на него вдруг нашла. Комиссар аккуратно прихватил платком валявшийся на полу нож и подмигнул инспектору.
— Надеюсь, здесь мы найдем самые что ни на есть замечательные отпечатки!
Потом он спросил Дзамполя, каким образом тот успел вмешаться вовремя, избавив его от, возможно, очень крупных неприятностей.
— Тут нет никаких чудес, шеф… Обычная рутина… Как вы и предполагали, Монтасти побежал, к своей милой… Войти ему не помешали, а вот выйти обратно… никто не позволит, по крайней мере до вашего прихода!
— Отлично, пошли!
Брату Стеллы наконец удалось принять вертикальное положение. Судя по всему, приступ безумия миновал, и парень потихоньку возвращался к обыденной жизни, но в то же время в нем снова начал закипать гнев.
— Эй, слушайте, вы… — начал Анджело, увидев, что полицейские собрались уходить.
Ромео Тарчинини мгновенно повернулся, подскочил к Дани и, вдруг напрочь утратив все свое легендарное благодушие, зарычал:
— Вам крупно повезло, что мы сейчас торопимся в другое место! Но мы еще вернемся и объясним вам, что никто не имеет права охотиться на комиссара полиции и травить его, как опасного зверя! Да, синьор Анджело Дани, поблагодарите Мадонну! Вам просто фантастически подфартило!
И, закончив эту гневную речь, комиссар Тарчинини, словно Ахилл, готовый удалиться в палатку, после того как высказал соратникам все, что думает об их отвратительном поведении[279], с шумом покинул квартиру Дани. А Дзамполь, с трудом поспевая за шефом, думал, что, похоже, изучил комиссара далеко не так хорошо, как ему казалось.
После ухода полицейских Анджело Дани довольно долго стоял неподвижно, потом, по-прежнему не двигаясь с места, начал бормотать под нос самые страшные проклятия, и так монотонно, будто служил какую-то кощунственную литургию. Наконец, к ужасу сестры и тетки, парень издал похожий на хрип смешок и забился в самой настоящей истерике. Плача и смеясь как одержимый, он упал на стул и невидящим взглядом уставился в пространство.
— Повезло… — тупо проворчал Анджело. — Так мне, значит, подфартило?.. Моя бедная тетя рехнулась, сестра обесчещена, меня самого обвиняют в убийстве, лупят почем зря, а потом уверяют, что я везунчик…
Парень вдруг вскочил и, обращаясь к невидимым слушателям, рявкнул:
— Ma que! Хотел бы я знать в таком случае, что называется дьявольской непрухой! А?
Глава 4
Агенты, сидевшие в засаде на виа Карло Видуа, сказали комиссару и инспектору, что тот, кого они ловят, еще не пытался выйти из дому.
— А вы ничего не слышали? Скажем, выстрелов?
— Нет, синьор комиссар!
— Ладно. Что ж, пойдем все-таки подбирать трупы, Дзамполь.
Решив на всякий случай принять кое-какие меры предосторожности, инспектор уже на лестнице вытащил револьвер. Жизненный опыт подсказывал, что всегда лучше выстрелить первым, и Алессандро твердо решил руководствоваться этим мудрым принципом. На лестничной площадке они на цыпочках подошли к двери и прислушались. Из квартиры Пеццато доносился приглушенный шум, а потом полицейские услышали звук, похожий на приглушенный выстрел. Оба выпрямились, Тарчинини повернул ручку и, обнаружив, что дверь не заперта, ринулся в прихожую. Следом с револьвером в руке бежал Дзамполь. Сначала они никого не обнаружили и, лишь войдя в маленькую гостиную, замерли от удивления: Оттавио, Эмилия и Элена Пеццато сидели за столом вместе с Лючано Монтасти и дружно чокались асти «Спуманте»[280]. Очевидно, хлопок пробки полицейские и приняли за выстрел. Тарчинини и Дзамполь недоуменно хлопали глазами, а ошарашенные их внезапным вторжением хозяева и гость буквально окаменели за столом.
— Очень своеобразная резня, а? — наконец хмыкнул Ромео.
Перепуганный Монтасти хотел встать, но к нему в ту же секунду подскочил инспектор.
— А ну, не двигайся, бандит, не то заработаешь!
Лючано, дрожа всем телом, снова плюхнулся на стул, и Элена положила голову ему на плечо. Дзамполь презрительно фыркнул. Тарчинини сурово посмотрел на отца семейства.
— И что это значит, синьор? В полицейских вы стреляете, а с человеком, которого мы
разыскиваем, пьете асти?
— Послушайте, синьор комиссар, сейчас я вам все объясню…
— Это было бы весьма разумно с вашей стороны!
— Само собой, я жуть как сердился на Лючано — и за угрозы, и за дурацкую ревность… Клянусь, синьор комиссар, — и это так же верно, как то, что я сижу здесь, — мне даже в голову не приходило, что у парня хватит духу заявиться сюда… Вот только я не принял в расчет любовь…
Тарчинини, тут же растаяв, с улыбкой поглядел на Лючано и его Элену. Алессандро Дзамполь досадливо выругался сквозь зубы.
— Любовь… — вздохнул комиссар.
А приободренный этим явным знаком расположения Оттавио продолжал:
— Я понял, что, раз парень прибежал к моей дочке, несмотря на страшный риск (мы ведь слышали по радио, что его повсюду ищет полиция, и у бедняжки Элены чуть сердце не разорвалось), значит, Лючано любит ее больше жизни! Ну а потому отложил я ружье в сторонку и раскрыл объятия… А вы что сделали бы на моем месте, синьор комиссар?
— То же самое!
— И теперь нам остается только выпить за упокой души берсальера Нино Регацци, если, конечно, его смерть еще хоть кого-то волнует! — с горечью заметил инспектор.
— Согласитесь, Алессандро, они очень милы, а? Разве один их вид не напоминает вам о счастье?
— Прошу прощения, синьор комиссар, но я пришел сюда вовсе не за этим! Я должен думать не о счастье, а о парне, который лежит сейчас на столе в морге!
Элена всхлипнула. А Тарчинини воспринял это как урок.
— Ладно, инспектор. Давайте запретим себе любые проявления человеческих чувств и будем жить только ради мертвых и мести!
— Синьор комиссар, вы же не… — попытался вмешаться Пеццато.
— Сожалею, синьор, но инспектор напомнил мне о законе, который я обязан соблюдать… Монтасти, я нашел ваш нож!
Молодой человек так поглядел на комиссара, словно никак не мог взять в толк, о чем речь.
— Мой нож?.. Какой нож?.. У меня вообще нет ножа!
— Но вы ведь купили ножик, когда решили разделаться с тем, кого считали соперником?
— Если бы мне вздумалось прикончить берсальера, я сделал бы это голыми руками! У меня хватит сил свернуть шею кому угодно!
— Чем вы занимались вчера вечером?
Монтасти колебался, время от времени бросая смущенные взгляды на Элену.
— Вам трудно ответить на мой вопрос, а?
— Да, синьор комиссар…
— Почему?
— Потому что я пьянствовал!
Девушка возмущенно вскрикнула.
— А что вы хотите? С того дня как я пришел из армии, жизнь превратилась в пытку! И я до сих пор думаю, обманула меня Элена или нет… Ох, не люби я так, давно плюнул бы на все, но я люблю ее!
Польщенная и счастливая этим публичным признанием девушка с улыбкой взяла Лючано за руку, а тот продолжал:
— Вчера вечером в баре Ренато Бурдиджана, когда мы с берсальером распрощались, точнее, когда его выставили вон, я еще немного посидел, а потом побрел куда глаза глядят…
Дзамполь насмешливо хмыкнул, и голос Монтасти снова задрожал. Парень чувствовал, что ему не верят.
— …Помню только, что я пил во многих кафе неподалеку от Санта-Мария Аузилиатриче…
— Дабормида… Занятно, а? — насмешливо подчеркнул инспектор.
— Занятно или нет, но это чистая правда! — истерически закричал Лючано. — Слышите, вы, подонок? Чистая правда!
Дзамполь с угрожающим видом пошел к Лючано, явно намереваясь проучить за дерзость, но Тарчинини остановил его:
— Алессандро!.. Вы ведь понимаете, что парень не в себе? Чего только не наговоришь со страху!
Инспектор сжал кулаки, но послушно вернулся на прежнее место у двери, где стоял на случай, если бы кому-нибудь взбрело в голову выйти из комнаты до того, как комиссар закончит допрос. А Монтасти бросился искать поддержки у Тарчинини.
— Хоть вы-то мне верите, правда, синьор? Клянусь вам, я не убивал берсальера! Мне было грустно, и я пил вино… А что еще мне оставалось делать?
— Например, вернуться домой… — мягко заметил Ромео.
— Разве это помешало бы мне думать, что, возможно, Элена меня больше не любит… а этого… этого я никак не мог выдержать!..
Эмилия, мать семейства, тихонько заплакала. Оттавио, отец, смахнул скупую слезу, а Элена, невольная виновница драмы, бросилась на шею жениху и пылко его расцеловала.
— Bene mio![281] Я никого не люблю и не полюблю, кроме тебя!
Если бы за ним не наблюдал Дзамполь, веронец охотно поплакал бы вместе с семейством Пеццато, но из-за помощника ему приходилось вести себя «как полицейский».
— Все это очень мило, но я предпочел бы получить более весомое доказательство того, что вы находились в квартале Санта-Мария Аузилиатриче, а не караулили у казармы!
Лючано только руками развел в знак полного бессилия.
— Боюсь, вам придется-таки пойти с нами, Монтасти…
— Значит, и вы тоже считаете меня убийцей?
— Что я считаю или не считаю, касается только меня, молодой человек, но вы ударили присутствующего здесь инспектора… а потом сбежали… Этого более чем достаточно, чтобы посадить вас за решетку, пока мы не разберемся, какова же на самом деле ваша роль в убийстве берсальера.
И тут начался настоящий концерт. Слышались крики, жалобы, стенания. Всех святых рая умоляли прийти на помощь, Мадонну — заступиться за них перед своим Божественным Сыном, дабы он прояснил головы упрямцев полицейских, и даже самого Всевышнего просили явить любовь к своим созданиям, сотворив небольшое чудо в доме Пеццато, и лично засвидетельствовать невиновность Монтасти. Элена уговаривала своего Лючано поднапрячься и вспомнить хоть что-нибудь из ночных похождений, доказав таким образом свою полную непричастность к убийству, а инспектор предлагал комиссару арестовать всю компанию за противодействие расследованию. Наконец, когда Тарчинини уже хотел приказать Дзамполю надеть на Монтасти наручники, молодой человек вдруг завопил как безумный:
— Ага, вот оно!
Невообразимый гвалт сразу смолк, и все уставились на Лючано.
— Готово дело!.. Я вспомнил! Меня вышвырнули из кабака, потому что им пришло время закрываться, а я не желал уходить! Да, точно, и даже отвесили на прощание немало пинков!
— А где этот кабак?
— Ну… этого точно не скажу… По-моему, где-то рядом с институтом Салезиано… Вроде бы на виа Сассари… или на виа Салерно… Или на виа Равенна… а может, и на виа Бриндизи… Знаю только, что я лежал на земле и видел прямо перед собой стены института… Хозяин кабачка — здоровенный верзила… Когда он сгреб меня в охапку, я и рыпнуться не мог… Само собой, я был мертвецки пьян, но все же…
Дзамполь пожал плечами:
— Пустая болтовня!.. Ну, сам пойдешь или хочешь прогуляться в наручниках?
Лючано повернулся к комиссару:
— Но, в конце-то концов, чего он на меня так взъелся, этот варвар?
Инспектор побледнел от ярости:
— А ты что, сам не догадываешься? Или воображаешь, будто я забыл, как ты мне врезал башкой в живот? Терпеть не могу таких подарков! И пока не верну его тебе с лихвой, не усну спокойно! Ну, basta! Пошли!
— Минутку, Алессандро…
Дзамполь удивленно посмотрел на шефа:
— По-моему, мы и так слишком затянули это дело, разве нет?
— Вот что, Алессандро, надо дать парню последний шанс оправдаться, верно? Синьорина Элена, у вас найдется фотография жениха?
— Certamente[282], синьор комиссар!
— Дайте ее инспектору!
Девушка сбегала в спальню и робко протянула Дзамполю фотографию.
— И что я, по-вашему, должен с ней делать, шеф?
— Вы сядете в такси, Алессандро, и объедете все кабаки вокруг института Салезиано. Таким образом мы и выясним, соврал Монтасти или нет. Я подожду вас здесь.
Вернувшись через час, инспектор увидел мирную семейную сцену. Ромео Тарчинини устроился в самом удобном кресле. Справа от него — Оттавио и Эмилия, слева — Лючано, у ног — Элена. Комиссар рассказывал о своих двух Джульеттах — жене и старшей дочке, о младших девочках — Розанне и Альбе, и о сыновьях Дженнаро, Фабрицио и Ренато. Все хохотали, потому что, слушая байки Ромео, никто и никогда не мог удержаться от смеха. И Дзамполь снова явственно ощутил, как сам он чужд этому миру радости, счастья, настоящей жизни…
— Надеюсь, я вам по крайней мере не помешал? — ядовито осведомился он.
Все тут же притихли, ибо вместе с инспектором в маленькую гостиную как будто ворвались самые темные стороны человеческого бытия — несправедливость и злоба.
— Ну, Алессандро? — спросил комиссар.
— Монтасти говорил правду, синьор… — весьма неохотно признал Дзамполь. — Я нашел кабатчика, который выгнал его вон. Было больше часу ночи, и парень накачался по ноздри… сидел там безвылазно часа два… Хозяин кафе сразу узнал его по фотографии…
— В таком случае…
— …Монтасти не мог убить берсальера…
Послышались радостные возгласы, Оттавио обнял жену, та расцеловала Элену, девушка чмокнула в щеку Тарчинини, тот не остался в долгу, Элена поцеловала жениха, он — Эмилию, а хозяйка дома — мужа. Круг замкнулся. Дзамполь мрачно наблюдал эту идиллическую картину.
— Ну а мне достался удар в живот? — буркнул он. — Может, я еще должен поблагодарить синьора Монтасти?
Лючано встал:
— Синьор инспектор, я искренне сожалею, что так получилось, и прошу у вас прошения…
— И вы воображаете, что этого достаточно?
Тут к Дзамполю подошла Элена и, прежде чем полицейский успел увернуться, нежно поцеловала в обе щеки.
— А теперь, синьор инспектор? — шепнула она.
Алессандро не ответил. Зардевшись как роза, он молча выскользнул из комнаты. На виа Карло Видуа все еще дежурили два агента. Дзамполь отпустил их, объяснив, что наблюдение потеряло смысл. Наконец, когда он тоже собрался уходить, появился Тарчинини. И оба полицейских отправились восвояси. Довольно долго они шли рядом, не говоря ни слова. Первым прервал молчание веронец:
— Удачный денек… Хотя бы один из подозреваемых отпал так же внезапно, как появился… Решительно, у нас остается один Анджело, верно?
Дзамполь не ответил.
— Прошу вас, инспектор, будьте любезны слушать, когда я говорю! — не отставал Тарчинини.
— Извините, синьор комиссар…
Ромео по-приятельски взял спутника под руку.
— Что с вами, Алессандро?
— Не знаю…
— Наверное, во всем виноват поцелуй крошки Элены?
— Вероятно… Меня сто лет не целовала ни одна женщина…
Ромео дружески подтолкнул его локтем.
— Но это не последний раз, Алессандро, уж поверьте специалисту! Кризис миновал, и вы созрели для женитьбы!
Минут пятнадцать назад Дзамполь разразился бы возмущенными воплями, но теперь, после поцелуя Элены…
Это небольшое приключение так растрогало добряка Тарчинини, что, вернувшись в гостиницу, он тут же позвонил в Верону. Отсутствие жены его сейчас особенно тяготило. Услышав голос своей Джульетты, Ромео наконец дал волю чувствам:
— Это ты, моя голубка?.. Я звоню только сказать тебе, что меня истерзали заботы… Почему?.. И ты еще спрашиваешь? Ma que! Да потому что тебя нет рядом, вот почему! Джульетта моя, я могу дышать только одним воздухом с тобой!.. Я страдаю, гибну и пропадаю… я постарел на двадцать лет! Короче говоря, превратился в дряхлого старика и одной ногой — уже в могиле!.. Что?.. Преувеличиваю?.. О Джульетта, ну как ты могла подумать такое?.. В квестуре[283] при моем приближении все отворачиваются — так им тяжко смотреть на мое лицо!.. Ты смеешься?.. Да-да, смеешься, я слышал!.. Ах, Джульетта, поистине ты мать этой неблагодарной, бессердечной и бесстыдной девчонки, которая бросила родного отца, хотя клялась вернуться, и предпочла жить среди дикарей в Америке!.. Что?.. Что ты говоришь?.. Написала? Она возвращается?.. О благородная душа!.. Можешь болтать что угодно, Джульетта, но девочка — вылитый мой портрет! И когда же появится наш ангелочек? Когда вернется услада моего сердца? Счастье твое, что мы встретились, моя Джульетта, потому что иначе, может, у тебя и родились бы дети, но они и в подметки не годились бы тем, которыми ты сейчас по праву гордишься! Что? Когда я приеду?.. Да если б мог, примчался бы прямо сейчас! Хотя бы для того, чтобы сохранить остатки жизненных сил и лелеять тебя еще несколько лет, любовь моя… Но сначала мне надо арестовать убийцу… Чего я жду? Доказательств… О да, я знаю, кто преступник!.. Вернее, у меня есть очень серьезные подозрения… Нет, одного этого мало, моя соловушка… Вот заставлю его сознаться — и тут же приеду! С детьми все в порядке? А как бабушка? Дядя? Кузен? Племянники?
Получив от жены самые утешительные ответы, Ромео наконец повесил трубку, напоследок уверив Джульетту, что живет лишь ради нее и в разлуке ни к чему не испытывает ни интереса, ни вкуса. В оправдание Тарчинини можно сказать только, что он сам искренне верил собственным словам. Известие о скором возвращении старшей дочери преисполнило его неизъяснимой радостью. Теперь в его маленьком мирке снова восстановился мир и покой. И комиссар улегся спать с легким сердцем, блаженно улыбаясь, а во сне видел ангелов, причем каждый из них явно напоминал кого-нибудь из членов клана Тарчинини.
Сначала капрал Арнальдо Мантоли отчаянно робел перед следователями, тем более что ни один из них не отвечал его представлениям о полицейских. Но мало-помалу, поддаваясь обаянию добродушного комиссара, парень расслабился. Теперь он испытывал к маленькому кругленькому человечку с забавными усами и трогательно простодушным лицом безграничное доверие. Внутренний голос подсказывал, что если кто и отомстит за гибель его друга Регацци, то именно комиссар.
— Короче говоря, ваш друг никак не ожидал гостей?
— Бесспорно нет!
— Расскажите мне все…
— Что именно?
— Ну, как Регацци встретился с ними.
— Нино пошел со мной… Я уверен, что, пока он не увидал тех типов своими глазами, вообще думал, я его нарочно разыгрываю… Ну а потом, убедившись, что я не вру, растерялся.
«Арнальдо, — сказал он мне, — как по-твоему, кто бы это мог быть?» Я же, ясное дело, ни ухом ни рылом… Старший из двух синьоров, тот, у которого из кармана торчала толстая золотая цепка часов, спросил: «Это вы — Нино Регацци из Растро?» Ну а парень, конечно, ответил «да». «Отлично, — кивнул тот синьор. — У меня для вас приятные новости. Где бы мы могли спокойно поговорить?» Нино увел их в комнату для свиданий, а я вернулся в кордегардию…
— И что было потом?
— Минут через пятнадцать, а может и меньше, Нино вышел вместе с гостями. Пожали они друг другу руки, и буржуа укатили в своей машине — она стояла у самой казармы, но на другой стороне тротуара… «Фиат» то ли с кокардой, то ли с какой-то бумажкой на лобовом стекле… Я стоял слишком далеко, чтобы разобрать… Нино подбежал к нам и вытащил из кармана толстую пачку тысячелировых банкнот. Вид у него был совершенно очумелый! Парень даже приплясывал на месте…
— И он ничего не объяснил вам?
— Нет, слишком торопился в город…
— А к кому, не знаете?
— Нино бежал на свидание с девушкой, из-за которой у него могли быть неприятности…
— А как выглядели его гости?
— Два настоящих синьора… оба — очень важные… Старший, тот, что, видать, командовал, повыше ростом… Лицо гладко выбрито… и очки у него золотые. Одет в черный костюм и перчатки, на жилете — толстая золотая цепочка часов…
— А как он говорил?
— Не знаю… По-моему, как священник, но не приходский, повыше чином…
— А второй?
— Тот вообще рта не открывал… А одет… в синий с белыми полосками костюм, черную шляпу с загнутыми полями и тоже в перчатках. Еще у второго — густая черная борода…
— Они не показались вам… гангстерами?
Капрал расхохотался:
— О нет! Скорее оба смахивали на судей!..
Ромео Тарчинини пригласил помощника пообедать. Он заказал пикката[284] и, запивая ее кортезе, разливался соловьем, воспевая достоинства своей Джульетты с благородным намерением подтолкнуть Алессандро к скорейшей женитьбе, дабы тот наконец восстановил утраченное душевное равновесие. Однако Дзамполь, очевидно, слушал вполуха и, воспользовавшись минутной паузой, вдруг заметил:
— Как вы думаете, что за люди приходили к Регацци в казарму? — Мне кажется, Алессандро, вас не особенно интересует моя семья, верно? — немного поколебавшись, с досадой проворчал комиссар. — Неужто вы настолько «ищейка», что не в состоянии говорить ни о чем, кроме работы?
— Но, синьор комиссар, эта парочка…
— Ох, отстаньте от меня со всеми этими делами! Сейчас мы занимаемся не расследованием, а гастрономией! Так что наслаждайтесь пикката и скажите мне, разве это кортезе не благоухает всеми альпийскими травами?
О вине и вкусной пище Тарчинини мог говорить почти с таким же лиризмом, как о любви. Чтобы доставить ему удовольствие, инспектору пришлось долго распространяться о пьемонтских винах и кулинарных рецептах своей матери. А Ромео поведал о том, как готовит Джульетта-старшая и как много хитростей она унаследовала от родительницы, та — от своей и так далее, из поколения в поколение…
— Помните, Алессандро! — Тарчинини торжественно воздел перст. — Победы, поражения и тысячи погибших забываются очень быстро, зато рецепт хорошего блюда торжествует над любыми препятствиями и живет веками, игнорируя все человеческие глупости… Никто толком не знает, как выглядел Карл Великий, но всем известно, что он ел и что пил! Весьма утешительно, не правда ли?
— Утешительно?
— Вот именно, Алессандро! Мне нравится думать, что любая слава, достигнутая ценой крови, страданий и несправедливости, меркнет, тускнеет и исчезает, в то время как секрет какого-нибудь соуса, изобретенного чуть не тысячу лет назад, остается! Ну разве не замечательно, Алессандро, что ветер жизни уносит неизвестно куда любые договоры, составленные самыми ловкими дипломатами после победы какого-нибудь знаменитого полководца, а плоды раздумий безымянного древнего кулинара продолжают радовать нас до сих пор? Как правило, мы довольно смутно представляем, о чем думали наши предки в средние века, зато можем безошибочно сказать, что в постные дни они лакомились рагу из устриц, а в обычные — мясной похлебкой и что у них слюнки текли при виде утиного или «адского» соуса! Когда приедете в Верону, я дам вам все это попробовать, потому что в свободное время с удовольствием занимаюсь… археологической кулинарией.
За десертом, дабы вспрыснуть жирный, сочащийся кремом торт «Сан-Онорато»[285], Ромео велел принести бутылку «Санто», которое сразу разгорячило две лучшие головы туринской уголовной полиции (впрочем, одна из них безусловно принадлежала Вероне!).
Наконец, аккуратно промокнув усы (на случай, если к ним прилипло немного крема), Тарчинини блаженно прикрыл глаза и допил последний бокал «Санто».
— Как по-вашему, Алессандро, что за человек мог показаться простому парню вроде капрала Мантоли похожим на судью? — вдруг спросил он, поставив бокал на стол.
Внезапное напоминание о профессиональных заботах, о которых он, по милости комиссара, на время забыл, застало инспектора врасплох, и он не сразу собрался с мыслями.
— Право же, трудно сказать… Наверное, важность… или манера одеваться, или особо торжественный вид… Бог его знает, что навело парня на такую мысль!
— Вот именно — важность и торжественность! А какого рода профессии требуют таких качеств?
— Ну, не знаю…
— Для начала скажите, почему людям приходится напускать на себя такой вид?
— Чтобы внушить доверие?
— Отлично, Алессандро! Вы слышали, как капрал говорил, что старший из двух посетителей напоминал священника высшего ранга, иными словами, он, очевидно, имел в виду епископа… Чувствовалось, что по первому же знаку незнакомца парень охотно исповедался бы ему во всех грехах — значит, этот человек его подавлял и в то же время производил впечатление, будто может выслушать и простить что угодно. Однако наш незнакомец наверняка не принадлежит к духовенству. А кому еще охотно изливают душу?
— Врачу?
— Да, но врачи держались так степенно лет пятьдесят назад…
— Тогда — нотариусу?
— Правильно, Алессандро, вы попали в самую точку! И, если я не заблуждаюсь с начала и до конца, таинственный посетитель, несомненно, окажется нотариусом. Это тем более вероятно, что он передал берсальеру крупную сумму — нотариусы чаще выполняют подобные поручения, чем врачи.
— Но с какой стати он принес Регацци деньги?
— Об этом нам придется спросить у него самого, инспектор.
— Так вы что ж, знаете, кто он?
— Пока не имею ни малейшего представления.
— Но тогда…
— Вот что. Нино Регацци родился в Растро, почти на границе, и я предлагаю съездить к тамошнему нотариусу.
— Но ничто не доказывает…
— Разумеется, но лучше проверить, чем допрашивать одного за другим всех туринских представителей этой полезной профессии!
— Если вы правы, синьор комиссар, то почему нотариус Растро не дал нам о себе знать сразу после смерти своего клиента?
— И это тоже я хочу у него узнать, Алессандро. Заметьте, что в деревушке, скорее всего, нет своего нотариуса, но там нам по крайней мере скажут, кто обычно занимается передачей собственности, кто составляет завещания и заботится о наследстве местных жителей.
Около трех часов дня они уже подъезжали к Растро. Под конец с магистрали, ведущей к границе, пришлось свернуть на дорогу, куда более удобную для пешеходов, чем для машины. Сидевший за рулем Дзамполь от всей души молился, чтобы ему не пришлось разворачиваться на месте, потому что из подобной попытки явно не вышло бы ничего хорошего. А бледный как смерть Тарчинини закрыл глаза, чтобы не видеть пропасти, по краю которой они то и дело скользили, и думал, что такая прогулка кому угодно испортит пищеварение. Промыкавшись полчаса, они заметили вдали жалкую деревушку, и Дзамполь, чувствуя, что просто не в силах двигаться дальше, остановил машину. У дороги на камне сидел какой-то старик. Ромео вышел из машины и, с радостью ощутив под ногами твердую землю, снова пришел в отличное расположение духа.
— Добрый день, nonno![286]
Старик поднял на него светлые, как небо ранней весной, глаза, и на фоне почерневшего от солнца, прорезанного глубокими морщинами лица их голубизна выделялась так же ярко, как прозрачная вода ручья в каменном гроте. Внимательно изучив Тарчинини с ног до головы и хорошенько прочистив горло, старик плюнул на землю. Не то чтобы горец хотел оскорбить комиссара, нет, скорее его поведение выражало полное безразличие человека, окончательно отрешившегося от всех земных забот. Но веронец и не подумал оставить его в покое.
— Это Растро, а?
— Угу…
— А мэрия — на площади?
— Угу…
— А мэра вы знаете?
— Угу…
— И кто же он?
— Дурак!
Выражение лица Тарчинини, услышавшего столь краткую и выразительную характеристику главы администрации Растро, развеселило инспектора, и он с трудом сдерживал смех.
— А как его зовут?
— Кого?
— Мэра!
— Так же, как и меня.
— Как вас?
— Это мой сын.
— В таком случае как зовут вас?
— Не ваше дело!
На сей раз Дзамполь все-таки прыснул, а его шеф рассердился.
— Я вижу, вас это забавляет, Алессандро?
— Простите, синьор комиссар, но этот тип…
А старик начал в свою очередь расспрашивать Ромео:
— Вы опять насчет цирка?
— Цирка? Какого еще цирка?
— Разве вы не бродячие артисты?
— Мы?!
— Я думал…
— Черт возьми! Да с чего вы взяли, будто мы циркачи?
— Да просто давеча, когда приезжал цирк… клоун был одет точно как вы…
Старик немного покопался в памяти:
— Только у него были еще трость и складной цилиндр…
Инспектор предпочел побыстрее выйти из машины и, словно испытывая острую необходимость справить столь же естественную, сколь и безотлагательную нужду, отошел подальше, предоставив шефу и его собеседнику наедине вести самый удивительный диалог из всех, что ему когда-либо доводилось слышать. Комиссара маневр не обманул, но он мысленно оценил такт подчиненного.
— Скажите, nonno… Имя Регацци… Нино Регацци вам знакомо?
— Угу… Так звали паренька, который ушел…
— Верно! Он здесь родился?
— Нет… привезли мальчонкой в одну семью.
— Как их зовут?
— Крочини.
— Прекрасно. И где же я мог бы найти Крочини?
— На кладбище.
Тарчинини, поняв, что все равно не добьется от старика ничего путного, подозвал инспектора, и они отправились дальше.
Приземистые домишки напоминали устало свернувшихся зверей. Чувствовалось, что здесь идет борьба за выживание. У мужчин, женщин и даже детей, выскакивавших на шум автомобиля кто на облупившееся крыльцо, кто — на улицу, были унылые, словно застывшие лица. Полицейская машина выехала на перекресток, который с натяжкой мог бы сойти за крохотную площадь. Над входной дверью чуть меньше пострадавшего от времени дома красовалась надпись «Мэрия». Какой-то мужчина, стоя на коленях у входа, ремонтировал дверную раму. На сей раз комиссар отправил вперед Дзамполя.
— Salute![287] — с самым любезным видом поздоровался инспектор.
Мужчина, не поднимаясь с колен, повернул голову.
— Salute!
— Вы знаете мэра Растро?
— Угу…
Все начиналось, как со стариком! Алессандро с трудом взял себя в руки.
— А вы можете сказать, где он?
— Угу.
— Тогда, пожалуйста, объясните, как его найти.
— Незачем!
— А?
— Ну да, я и есть мэр.
— Мы из полиции. В машине — комиссар Тарчинини, а я — инспектор Дзамполь. Мы приехали из Турина.
— Ну и что?
— Вы помните Нино Регацци?
— Угу.
— А вам известно, что он умер?
— Угу.
— Я вижу, вас это не особенно волнует?
Мэр пожал плечами.
— Он был не здешний… И у каждого свои заботы, верно?
— А где живет нотариус?
— Какой еще нотариус?
— Тот, что ведет дела жителей Растро.
— Это мэтр Серантони… Армандо Серантони. Он живет в Сузе.
Сузе оказался совсем небольшим городком, и полицейские без труда нашли красивую виллу мэтра Серантони. У двери стоял «фиат» с врачебным удостоверением на лобовом стекле. Тарчинини указал на него инспектору:
— Вот что, скорее всего, капрал издали принял за кокарду! — заметил он.
Дверь открыла горничная и тут же заявила, что мэтр Серантони болен и никого не принимает, зато старший клерк Валериотти — в их полном распоряжении. Тарчинини отвесил самый изысканный поклон и, сняв шляпу, проговорил:
— Scusi, grazioza…[288] Но нам надо видеть самого мэтра Серантони, а не кого-то другого. То, что он болен, не имеет значения, если, конечно, ваш хозяин не при смерти.
— Дело в том…
— Быстро доложите о нашем приходе, grazioza, и можете не сомневаться, что нас примут… Комиссар Тарчинини и инспектор Дзамполь из уголовной полиции Турина.
Девушка широко открыла глаза.
— По… полиция?.. Но мы же ничего такого не сделали…
— Стало быть, вас не посадят в тюрьму, adorabile[289]… о чем я весьма сожалею, потому что с удовольствием послужил бы вам тюремщиком…
Девушка была слишком взволнована, чтобы обращать внимание на лицемерные комплименты собеседника (на самом деле она отнюдь не блистала красотой). Наконец ей удалось стряхнуть оцепенение.
— Оставайтесь здесь… я сейчас доложу…
Алессандро и Ромео оглядывали богатую, но строгую обстановку прихожей. Чувствовалось, что хозяин дома — не какой-нибудь мелкий чиновник. Каждый предмет свидетельствовал о достатке, хотя и не поражал изяществом. Никаких безделушек и украшений — лишь удобная прочная мебель, по-видимому веками хранившая достояние семейства Серантони. Казалось, стоит приоткрыть шкафы, комоды и кофры — и весь дом окутает запах лаванды или нафталина. Вне всяких сомнений, в этом доме моль считали наследственным врагом.
— А вы заметили, Алессандро, что, где бы мы ни появлялись, все пугаются, даже самые почтенные люди?
— Это и преимущество, и большое неудобство, впрочем, скорее все же последнее…
— Но почему мы внушаем страх и тем, кому не в чем себя упрекнуть?
— Потому, вероятно, что таковых не существует в природе.
Вошел элегантный мужчина лет сорока. Полноту его слегка обрюзгшего лица скрадывала легкая тень коротко подстриженной иссиня-черной бородки. Оба полицейских тут же вспомнили о молчаливом спутнике важного господина, передавшего берсальеру деньги.
— Насколько я понял, вы хотите видеть мэтра Серантони, синьоры?
— Мы специально приехали из Турина… А что, он серьезно болен?
— Нет-нет… Я его лечащий врач… Доктор Джузеппе Менегоццо… С моим другом Серантони произошел несчастный случай… короче говоря, он сам вам объяснит, хотя чувствует себя очень неважно… Не проделай вы ради этой встречи столь долгий путь, я бы попросил вас зайти в другой раз… Ну да ладно, пойдемте.
Врач проводил полицейских в просторную комнату, и с первого же взгляда на больного они поняли, что нашли-таки важного синьора, в день убийства навестившего Нино Регацци в казарме. Покрытое синяками лицо, замазанные марганцовкой кровоподтеки, раздувшаяся верхняя губа и разноцветный фонарь под глазом свидетельствовали, что почтеннейшего нотариуса из Сузе прежестоко избили. И комиссара Тарчинини, как учуявшего дичь пса, охватило лихорадочное нетерпение.
— Нам очень жаль, мэтр, что приходится беспокоить вас в постели… Очевидно, с вами произошло несчастье?
Но, прежде чем нотариус успел ответить, в разговор вмешалась плотная, седеющая дама.
— Раз уж вы из полиции, синьоры, прошу вас не оставить это дело без последствий! Мой муж стал жертвой гнуснейшего покушения! Если бы вы только видели, в каком состоянии он явился домой… Когда бедняжка вышел из такси, я просто-напросто подумала, что это мой свекор восстал из гроба!
Нотариус прервал поток возмущенных воплей супруги:
— Довольно, Мафальда…
Он посмотрел на посетителей:
— Это моя жена… синьора Серантони…
Ромео поклонился:
— Я — комиссар Тарчинини, временно прикомандирован к уголовной полиции Турина, а вот мой помощник, инспектор Дзамполь.
— Чем могу служить, синьоры? Честно говоря, на первый взгляд я никак не вижу связи…
— Мы просто хотели бы кое-что уточнить, мэтр… Скажите, не вы ли вместе с доктором Менегоццо побывали в казарме Дабормида позавчера вечером и разговаривали с берсальером Нино Регацци?
— Совершенно верно. У доктора были собственные дела в Турине, и он любезно согласился меня подвезти.
Инспектор Дзамполь подумал, что комиссар Тарчинини, вне всяких сомнений, умеет шевелить мозгами и все его предположения быстро подтверждаются. А комиссар, по-видимому, нисколько не удивился.
— И вы по-прежнему не понимаете, что привело меня к вам?
Нотариус поглядел сначала на врача, потом на жену, как будто ища объяснения или желая узнать, понимают ли они что-нибудь в странной причинно-следственной связи, установленной полицейским.
— По правде говоря, нет, синьор комиссар…
— Нино Регацци мертв.
— Мертв? Не может быть!
— Его зарезали позавчера вечером всего в нескольких шагах от казармы!
— Dio mio!
— Madonna Santa!
Удивленные возгласы супругов послышались одновременно, и только врач не стал призывать на помощь силы небесные.
— Вы были в курсе, доктор? — спросил Ромео.
— Да, я проглядывал газеты, но, учитывая состояние своего друга, не счел нужным его расстраивать.
Тарчинини снова повернулся к больному:
— А вы разве не читаете газет, мэтр?
— У меня так болит глаз, что Джузеппе на всякий случай запретил его утомлять.
— А вы, синьора?
— О, я… на меня в этом доме просто не обращают внимания, если, конечно, муж не болен… Я и в самом деле читала об убийстве какого-то солдата, но понятия не имела, что мой супруг с ним знаком…
Мэтр Серантони довольно невежливо оборвал жену:
— Хватит, Мафальда! Прошу тебя, будь поскромнее! Твои супружеские огорчения не интересуют комиссара! А могу я узнать, синьор, нашли на теле Регацци пятьдесят тысяч лир, которые я ему передал?
— Нет.
— И однако я думал, что поступаю правильно… Мне казалось, человеку, никогда не имевшему ни гроша, особенно приятно сразу получить такую сумму… Вероятно, он показал деньги кому-то из приятелей, а тот…
— По-вашему, преступление совершил кто-то из берсальеров?
— Во всяком случае, убийца наверняка знал о деньгах, а только очень стесненный в средствах человек способен убить за пятьдесят тысяч…
— Возможно, вы и правы… А теперь, мэтр, я полагаю, вам пора рассказать мне о своих отношениях с Нино Регацци.
— Весьма охотно, синьор комиссар… Мафальда, прикажи Лючии принести стулья.
Как только все удобно устроились, нотариус начал рассказ.
— Приблизительно год назад ко мне в контору зашел некий господин по имени Серафино Дзагато. По виду настоящий вельможа. Я позволил себе удивиться, что он выбрал меня, а не кого-нибудь из моих туринских коллег, но синьор Дзагато объяснил, что нарочно решил обратиться к незнакомому человеку, поскольку тому, кого видишь в первый и последний раз, проще сделать мучительное признание… Еще он сказал, что детей у него нет и все состояние по закону наследует племянница, некая вдова Валерия Росси из Пинероло. Однако мой клиент на склоне лет стал задумываться о спасении души и вспомнил о дурном поступке, совершенном много лет назад. В молодости Дзагато бросил девушку, узнав, что она беременна. Он поручил мне разыскать эту особу, сообщив только, что когда-то она жила в Сан-Амброльс. Мне повезло. Благодаря тому, что клиент не скупился на расходы, дело удалось распутать очень быстро. Выяснилось, что молодая мать, Нина Регацци, родила сына и отдала на воспитание в крестьянскую семью Крочини из Растро, а сама устроилась на работу в Турине, где и умерла, когда малышу шел всего пятый год. Приемные родители не захотели бросить мальчика, и он оставался у Крочини до тех пор, пока те в свою очередь не перебрались в мир иной. Тогда юный Нино отправился на заработки в Турин. Как вы уже догадались, он и есть берсальер, которому позавчера я поехал сообщить, что в соответствии с последней волей отца он наследует все его состояние, если согласен посмертно принять усыновление. Естественно, молодой человек не колебался ни секунды, поэтому я авансом выдал ему пятьдесят тысяч лир. А теперь горько в этом раскаиваюсь…
— И насколько велико наследство?
— Приблизительно шестьдесят миллионов лир.
— А теперь они достанутся вдове из Пинероло?
— Да, племяннице покойного.
— Вот уж кому следовало бы поставить свечку за здравие убийцы берсальера!
Нотариус покачал головой.
— Такова жизнь… — напыщенно проговорил он.
Комиссару мэтр Серантони явно не нравился: так и не сумев поверить в искренность нотариуса, Ромео счел его бессовестным лицемером.
— Ну а теперь займемся вами, мэтр… — холодно бросил он. — По словам синьоры Серантони, вы стали жертвой нападения, верно?
— Да.
— В Турине?
— Да, в Турине, в ту же ночь, когда бедного мальчика…
— Странное совпадение, не так ли?
— В нашей жизни все либо случайность, либо совпадение…
Комиссару, при всем его неисчерпаемом добродушии, ужасно хотелось взять нотариуса за грудки и трясти до тех пор, пока с него не слетит омерзительно лживая, ханжеская личина, но подобные методы допроса закончились бы крупным скандалом, и Ромео сдержался.
— Расскажите мне, как это случилось.
— Ну вот… Я решил поговорить с Нино Регацци именно позавчера, потому что все равно собирался участвовать в заседании нотариата. А когда собрание закончилось, пошел ужинать с коллегами.
— Куда?
Мэтр Серантони вздрогнул:
— Вы хотите знать, где мы ужинали?
— Да, если это вас не затруднит.
— Интересно, по каким таким причинам это может его затруднить? — сердито проворчала синьора Серантони.
Нотариус поспешил сгладить неприятное впечатление:
— Моя жена права, синьор комиссар, мне вовсе не трудно ответить на ваш вопрос. Просто он меня несколько удивил. Мы с коллегами ужинали в ресторане «Тернандо» на виа Сан-Франческо де Паола. Вы удовлетворены?
— Не совсем. Мне хотелось бы услышать от вас еще имена хотя бы двух-трех сотрапезников.
— На сей раз, синьор комиссар, вы явно перегибаете палку! Да что ж это такое? Вы, кажется, устраиваете мне самый настоящий допрос!
— Так оно и есть, мэтр.
И снова супруга бросилась на помощь нотариусу:
— Не волнуйся, Армандо! Назови полицейским фамилии, и пусть они наконец дадут тебе отдохнуть.
Больной уступил.
— Хорошо, но только чтобы доставить тебе удовольствие, Мафальда… Ибо я далеко не уверен, что этот господин имеет право обращаться со мной таким образом. Я все-таки не кто-нибудь, а помощник мэра Сузе, как и мой несравненный друг и почти брат Джузеппе Менегоццо!
Врач с улыбкой поклонился:
— Спасибо, Армандо… но поторопитесь ответить комиссару. Чем скорее вы покончите с этой крайне неприятной сценой, тем раньше вас оставят в покое.
Тарчинини одобрительно кивнул.
— Мэтр Рибольди… — начал нотариус, не отводя пристального взгляда от веронца. — Мэтр Джонелли… Мэтр Поревано… мэтр Ланцони… мэтр Криспа… Довольно с вас?
Ромео, писавший под диктовку законника, закрыл блокнот и сунул в карман.
— Да, вполне, мэтр. Однако, позволю себе заметить, вы до сих пор не рассказали мне ни где, ни при каких обстоятельствах на вас напали. Я полагаю, вряд ли это могло случиться прямо в «Тернандо», а?
— Разумеется, нет! После ужина, за которым, должен признаться, мы слишком увлеклись воспоминаниями о студенческой юности, а потому выпили чуть больше, чем подсказывал разум, все вышли из ресторана в превосходном настроении и чувствовали себя так, будто нам снова по двадцать лет. Только я один живу не в Турине, и мы всей компанией отправились провожать каждого до дому, пока я не остался один. Честно говоря, голова у меня слегка кружилась, и я не помню, кого проводил последним — то ли Джонелли, то ли Криспа. Но, так или иначе, я оказался возле Понте Моска, прохлада Дора Рипариа[290] несколько прояснила мне мозги, и, немного устыдившись, я поспешил к себе в гостиницу «Лиджуре» на пьяцца Карло Феличе. Я шел, злясь, что никак не могу поймать такси, немного сбился с дороги, и неподалеку от пьяцца Моска на меня напали двое бандитов. Они стали требовать денег… я отбивался, кричал… Но в такой поздний час улицы пустынны… Потом захлопали окна, бандиты убежали, а я остался лежать — сами видите, что они со мной сделали!
Синьора Серантони снова не смогла сдержать возмущения.
— Какой позор! — взорвалась она. — Чтобы в Турине на человека охотились, как в джунглях!
— Prego[291], Мафальда…
Супруга нотариуса покраснела:
— Scusi, Армандо…
— Прохожие помогли мне встать и отвели в аптеку. Там меня перевязали, и я наконец смог добраться до гостиницы… А на следующее утро нанял машину и приехал домой.
— Где вы подали жалобу?
— Где? Э-э-э… Аптекарь позвонил в ближайший полицейский участок, оттуда прислали агента, я дал показания и расписался…
— Отлично! Я сделаю все возможное, чтобы ускорить розыски, синьор Серантони, и поймать тех двух бандитов… А теперь мне остается лишь пожелать вам скорейшего выздоровления… Mirei ossequi[292] синьора… А кстати, мэтр, вдова из Пинероло уже знает, что смерть Нино Регацци принесла ей так много денег?
Алессандро Дзамполь с улыбкой стал ждать, угодит ли нотариус в ловушку, расставленную Тарчинини с напускным простодушием. Но мэтр Серантони оказался на высоте.
— Если она и в курсе, то никак не моими стараниями, поскольку вы сами только что уведомили меня о смерти клиента! Во всяком случае, я полагаю, что, узнай Валерия Росси о многомиллионном наследстве, она бы уже мне позвонила… Вы ведь понимаете, что такого рода нетерпение сдержать очень трудно…
— Вне всяких сомнений… A rivederci fra росо…[293] Синьор Серантони…
Комиссар и его помощник вышли из комнаты нотариуса. Доктор Менегоццо проводил их до парадной двери. Когда они уже попрощались и Тарчинини взялся за ручку двери, он вдруг обернулся.
— Кстати, синьор… Мне не хотелось тревожить синьору Серантони, но вашему другу, конечно, следовало бы как можно скорее приехать ко мне в Турин… Это в его же интересах!
Врач заговорщически улыбнулся.
— Хорошо… — тихо сказал он. — Можете рассчитывать на мое содействие…
В нескольких шагах от виллы нотариуса полицейские столкнулись с юной служанкой, которая открывала им дверь, и Тарчинини, поклонившись ей, как знатной даме, спросил, где здесь можно купить нож. Смущенная непривычно почтительным обращением горничная поспешила ответить, причем ее невзрачное личико удивительно похорошело от волнения:
— На площади, у Моретти… Это единственное место, где вы можете купить хороший ножик.
— Тысячу благодарностей, синьорина… А могу я позволить себе спросить ваше имя?
— Лючия…
— Вы не рассердитесь, Лючия, если я честно скажу, что редко имел удовольствие видеть такие интересные лица, как ваше?
Горничная настолько привыкла, что ее с детства дразнили дурнушкой, что на мгновение потеряла дар речи.
— Эт-то правда? — заикаясь, пробормотала она.
— Да, чистая правда! Верно, Алессандро?
Инспектор, немного поколебавшись, решительно подтвердил слова шефа:
— Несомненно!
Девушка звонко рассмеялась, и в ее смехе чувствовалась свежесть весеннего ручья, а потом пошла прочь такой легкой походкой, словно ложь Ромео озарила ее будущее.
— Позвольте заметить вам, синьор комиссар, что обманывать это несчастное дитя — просто бессовестно, — проворчал Дзамполь, как только горничная отошла на безопасное расстояние.
— Бессовестно?
Тарчинини дружески хлопнул инспектора по плечу:
— Povero…[294] Ты никогда ничего не смыслил в женщинах, и я догадываюсь, что твоя Симона… Нет, помолчи, о сем предмете ты способен наговорить одних глупостей! Да пойми же, упрямая голова, любая женщина ровно настолько хороша собой, насколько сама в это верит!.. Эту девочку наверняка высмеивали за неблагодарную внешность, но теперь в ее взгляде появилось что-то новое… Готов спорить, она тут же побежит домой, к зеркалу, и благодаря моим словам признает, что до сих пор ошибалась… Сначала наша Лючия скажет себе, что не так уж безобразна, потом начнет думать, что, пожалуй, даже привлекательна, и, наконец, уверует в свою красоту, а тех, кто этого не замечает, сочтет непроходимыми дураками… Но самое любопытное, Алессандро, — что со временем Лючия, возможно, и впрямь станет прехорошенькой!
Так, болтая, полицейские добрались до площади и вошли в магазин
Моретти. Но тщетно Тарчинини искал там нож, похожий (как догадался Дзамполь) на тот, что нашли возле тела берсальера, — поиски его не увенчались успехом.
Уже в машине Алессандро спросил:
— Что вы думаете о нотариусе, шеф?
— А вы?
— Мне показалось, что он нам наврал…
— Можете не сомневаться, так оно и есть. В жизни не встречал более отъявленного лгуна!
— Но зачем ему это понадобилось?
— Либо это Серантони убил берсальера, либо он обманывал из-за того, что при разговоре присутствовала жена.
— Не понимаю, что за корысть нотариусу в смерти Регацци?
— Я тоже, но, если бы удалось найти хоть малейшее доказательство или даже намек, что гибель клиента принесла Серантони какую-то выгоду, я бы с удовольствием его арестовал!
— А пока надо бы выяснить, в каком комиссариате зарегистрирована его жалоба.
— Бесполезно.
— Но, синьор комиссар…
— Говорю вам, Дзамполь: это зряшная трата времени. Он вообще не подавал никакой жалобы.
— Но тогда откуда синяки и кровоподтеки? Кто-то же наверняка избил Серантони…
— Кто знает? Возможно, наш берсальер перед смертью?
В Турине, прежде чем отпустить инспектора, Тарчинини попросил отвезти его в Сан-Альфонсо де Лиджори и высадить на виа Леванна, неподалеку от дома Дани.
— Несмотря на то что нотариус из Сузе меня всерьез заинтриговал, я не могу и не имею права забывать, что пока наш единственный стоящий подозреваемый — это Анджело Дани, и сейчас идет своего рода соревнование на выдержку. Только нас двое, а Дани — один… Стало быть, мы должны победить и победим! Я не могу спокойно сесть за ужин, пока не прощупаю противника еще раз — вдруг за это время в его панцире образовалась какая-нибудь брешь? До свидания, инспектор. Завтра — ваша очередь сюда прогуляться, а я отдохну… Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, синьор комиссар…
«Бедная тетя» не обратила на Тарчинини никакого внимания. С головой погрузившись в мечты, она объясняла воображаемому классу все тонкости употребления апострофа при выпадении гласного и усечении. Иногда она умолкала, словно внимательно слушая ответ невидимого ученика, потом исправляла ошибки, хвалила правильный ответ или ругала за нерадивость. Тарчинини буквально заворожил этот странный, как будто происходивший вне времени и пространства урок. Он все больше проникался симпатией к несчастной больной, уже много лет одиноко живущей в одном ей внятном мире прошлого. Комиссар испытывал едва ли не угрызения совести, думая о том, какие катаклизмы ему придется вызвать в семье Дани, став, в сущности, злым гением этих бедолаг. Но, в конце концов, никто ведь не заставлял Анджело убивать берсальера! Из кухни вышла Стелла. Ромео она встретила без особого удивления.
— А, вы здесь, синьор? — только и сказала девушка.
— Где ваш брат?
— Думаю, вот-вот придет… А что, у вас появились новые подозрения против него?
— Нет… и прежних — более чем достаточно.
Девушка подошла к полицейскому:
— Синьор комиссар… вы знаете, что означает для меня смерть Нино… и что меня теперь ждет… Я жизнь готова отдать, лишь бы убийца понес наказание… Но, клянусь вам, вы ошибаетесь — Анджело никого не убивал!
— У вас есть доказательства?
— Вы не знаете моего брата, а я знаю!
В словах девушки чувствовалась такая горячая вера, что Ромео заколебался, однако опыт подсказывал ему не слишком поддаваться природной склонности считать страдающих женщин правыми.
— Такого рода доказательства в суд не представишь, синьорина, — лаконично заметил он.
Тарчинини отчетливо видел, как у Стеллы подогнулись колени.
— Вы… вы нас просто преследуете! — почти прошептала она.
— Да нет же! Что за глупости! Напротив, ваша семья мне очень нравится… вот только у меня есть работа, и ее хочешь не хочешь надо выполнять, верно?
Девушка снова заплакала, и веронец, естественно, тут же обнял ее за плечи и прижал к груди, как поступил бы, утешая родную дочь.
— А вы ведь кажетесь совсем не злым… — сквозь слезы пробормотала Стелла.
Простодушие девушки тронуло комиссара. Он тихонько взял ее за подбородок и слегка запрокинул голову.
— Ma que! Так оно и есть, Стелла…
Честно говоря, в эту минуту Ромео не смог бы сказать, чисто ли отцовская нежность вызывает у него безумное желание поцеловать бедняжку или совсем иное чувство… Однако долго размышлять на эту тему ему не пришлось — тетушка Пия, незаметно подкравшись сзади, крепко ухватила комиссара за правое ухо и изо всех сил дернула вниз. Тарчинини взвыл от боли и выпустил Стеллу, а та слишком удивилась, чтобы немедленно отреагировать должным образом.
— Я поймала тебя на месте преступления! — визжала меж тем старуха. — На сей раз ты не посмеешь отпираться, а? Какой позор! Пользоваться тем, что ты сильнее, и обижать маленьких девочек! Продолжай в том же духе — и непременно попадешь в тюрьму! Ты самый настоящий варвар!
Тарчинини потирал ухо. Боль мешала ему оценить весь комизм положения. А Стелла попыталась вступиться за тетку.
— Ну вот, не обращаешь на нее внимания, воображаешь, будто она сидит себе спокойно и бормочет — и вот вам, пожалуйста… Вы очень сердитесь?
— А по-вашему, не с чего, да?
Но бывшая учительница не желала сдаваться. Она снова налетела на комиссара, и тот, защищаясь, инстинктивно поднял руки.
— Не смей на меня злиться! Я тебе запрещаю, слышишь? Я хочу, чтобы вы немедленно помирились! А ну, поцелуй ее сейчас же!
Ромео колебался, но девушка посоветовала ему не спорить и таким образом успокоить больную. Полицейский нежно поцеловал девушку в обе щеки, и, естественно, именно в эту минуту вошел Анджело.
— Кажется, это уже вошло у вас в привычку, а? — хмыкнул он.
Девушка отскочила от комиссара.
— Я тебе сейчас объясню, — начала она.
— Нечего тут объяснять… — перебил брат. — Короче, насколько я понимаю, вы уже освоились в нашей семье, синьор комиссар?
— Меня привел сюда профессиональный долг!
— Знай я раньше, что работа полицейского — одно удовольствие, тоже бы от нее не отказался! Мы-то, дураки, думаем, будто страж порядка обязан бегать за бандитами, хватать преступников… Ничего подобного! Оказывается, полицейские ходят по домам и, пользуясь отсутствием мужчин, целуют девушек, короче, ведут себя как самые настоящие… воры!
— Думайте, что говорите! — вскинулся Тарчинини. — Иначе угодите за решетку гораздо быстрее, чем до вас дойдет, что произошло!
— Ах, так я еще должен обдумывать свои слова? Второй раз я застаю сестру в ваших объятиях, и мне же, видите ли, надо придержать язык? Это что, закон такой? Может, вы, помимо всего прочего, имеете право садиться за мой стол без приглашения и есть заработанный мной хлеб? Что ж, если вам вдобавок захочется вздремнуть в моей постели, можете не стесняться!
— Как тебе не стыдно, Анджело? — возмутилась сестра.
— А тебе, распутница? Бесстыжие твои глаза!
Гневные тирады Дани прервал звон посуды. Все бросились на кухню — «бедная тетя» тупо смотрела на лежавшие у ее ног осколки супницы и разлитый по полу суп.
— Что с тобой, тетя? Что случилось?
— А кто тебе позволил разговаривать со мной на «ты», девочка? Знаешь, я уже давно за тобой наблюдаю! По-моему, ты все время замышляешь что-то дурное… Придется поговорить с твоей тетей… порядочной и весьма уважаемой особой!
Анджело в полном отчаянии схватился за голову.
— Это уже слишком! — крикнул он. — С меня хватит! Хватит! Хватит! Тетка все больше сходит с ума! Сестра ведет себя как последняя потаскушка! В доме вечно торчит какой-то полицейский! Я ухожу! Поужинаю где-нибудь в другом месте! До сих пор я никого не убивал, но, черт возьми, мне начинает чертовски этого хотеться!
Дани с такой силой захлопнул за собой дверь, что висевшая на стене картинка с видом Венеции упала на пол. Стелла опустилась в теткино кресло.
— Боже мой! Само Небо против нас! — простонала она.
Ромео, чувствуя, что за все неприятности, обрушившиеся в тот вечер на семью Дани, львиная доля ответственности лежит на нем, остался со Стеллой и «бедной тетей». Первой он помог приготовить легкий ужин, а со второй поддерживал довольно странный разговор, ибо старая Пия, видимо, совсем ушла в прошлое. Сейчас, когда обе женщины нуждались в его помощи, Тарчинини позабыл и о работе, и о том, что привело его в дом Дани. После скудной совместной трапезы (инспектор Дзамполь умер бы на месте от удивления, узнав, что его шеф осмелился сесть за стол в доме предполагаемого убийцы берсальера), полицейский даже скинул пиджак и, пока Стелла штопала дыры, пробитые пулями Пеццато, Ромео, глядя на девушку, вспоминал своих двух Джульетт, жену и дочь, и разливался соловьем — говорить на эту тему он мог до бесконечности. Поэтому, даже когда девушка покончила с добровольной работой, он все не умолкал. Однако ей, по всей видимости, рассказ веронца не доставлял особого удовольствия, так что в конце концов Тарчинини удивился и даже обиделся. Стелла поспешила объяснить, в чем дело:
— Простите, синьор комиссар, но вы рисуете мне картину счастливой семейной жизни… жизни, которой мне теперь уже не видать. И мне больно… очень больно…
Она отчаянно пыталась сдержать слезы, и Ромео, с его вечной жаждой утешить горюющую женщину, во что бы то ни стало решил заставить ее улыбнуться.
— Да ну же! Не надо плакать, бедняжка! У вас ведь будут и муж, и детишки, как у всех на свете, верно?
— Обычно у нас принято сначала выходить замуж, и только потом рожать детей… А у меня уже скоро появится ребенок, но насчет мужа…
— Basta! Вы молоды, красивы и наверняка найдете человека, который вас полюбит!..
— А кто, кроме меня, сумеет полюбить моего малыша?
— Как — кто? Да, конечно же, тот, кто влюбится в его маму и предложит ей выйти замуж!
— Ни один парень не захочет взять меня с таким подарком в придачу!..
Девушка так тяжко страдала, что Тарчинини не выдержал:
— И однако я сам знаю человека, который с удовольствием женится на вас!
Стелла удивленно уставилась на полицейского, пытаясь понять, смеется он над ней или нет.
— Бедняге ужасно не повезло с женой, но теперь она умерла… Потом он и слышать не хотел о женщинах… Черствел и буквально на глазах превращался в этакого бирюка, пока… не увидел вас!
— Меня?
Комиссар подумал, что хватил через край и давать волю фантазии наверняка не стоило, а теперь он вляпался в безвыходное положение, но, глядя на посветлевшее от восторга личико Стеллы, уже не мог остановиться.
— Ну да, любовь с первого взгляда…
— И… и он знает, что…
— Все знает… и про берсальера… и про бамбино…
— И, несмотря на это, я ему нравлюсь?
— Нравитесь? Мадонна! Да он с утра до ночи донимает меня разговорами о вас! «Шеф, — говорит, — как вы думаете, может она меня полюбить?.. Шеф, как по-вашему, она не рассмеется мне в лицо, если я скажу о своей любви? Я никогда не осмелюсь, шеф…»
Тарчинини выдумывал, вышивая по новой канве историю любви, вечно звучавшую в его душе. Он никогда не напишет ее, но будет жить ею до конца своих дней. В сущности, Ромео даже не лгал. Нет, он совершенно искренне думал, что ради общего счастья все должно случиться именно так. По правде говоря, очень скоро веронца уже не смущали никакие условности и ограничения. Идиллия рисовалась ему исключительно в лазурных тонах.
— Он любит вас и не смеет в том признаться, Стелла. Неужели вы откажетесь от своего счастья? Нет, это вы должны взять парня за руку и сказать, что знаете о его чувствах…
Ромео с блеском разыграл всю сцену. Он изображал отважную девушку, ради собственного счастья готовую отринуть предрассудки, и молодого человека, от восторга не смеющего верить собственным ушам. Описывая их встречу, он как будто сам переживал каждый миг, и обжигавшие его веки слезы умиления были настоящими, ибо Тарчинини, как и «бедная тетя» Пия, жил в не совсем реальном, далеком от нашего мире. И лишь прямой вопрос Стеллы Дани вернул его на землю:
— А почему он называет вас шефом, синьор комиссар?
В голове Ромео произошло что-то вроде сейсмического толчка. Сообразив, куда завели его краснобайство и природная восторженность, полицейский на минуту окаменел, но отступить он не мог, не рискуя прослыть лжецом. Тарчинини лишь проклял про себя неумеренную страсть к речам и попробовал утешиться мыслью, что все равно подумывал соединить инспектора и несчастную девушку. И все же, отвечая на вопрос Стеллы, Ромео чувствовал комок в горле, словно заведомо обманывал ее доверие.
— Потому, — смущенно пробормотал он, — что я говорил об Алессандро Дзамполе, инспекторе, который вчера вечером вырвал меня из когтей вашего брата…
Глава 5
Проснувшись, Ромео Тарчинини не ощущал обычной жизнерадостности. Для него это было настолько странно, что комиссар встревожился и сразу вообразил, будто здесь, вдали от близких, к нему прицепилась какая-то болезнь, ибо, с точки зрения Ромео, дурное настроение наверняка предвещает ужасный недуг. А стоило только подумать об этом — и богатая фантазия принялась рисовать картины одну страшнее другой. Одолей Тарчинини серьезное недомогание дома, в Вероне, у двери уже толпились бы друзья, но здесь, в Турине… Там, если бы его повезли в больницу (а уже одно это слово навевало мысли о бесконечно грустных событиях), на улице пришлось бы наводить порядок. А тут, у пьемонтцев, — хоть умри, никого это ничуть не взволнует! Комиссар померил температуру, внимательно изучил в зеркале язык и глаза, прощупал живот (на случай острого аппендицита), помял печень и, прикрыв глаза, стал прислушиваться к сердцебиению, однако с некоторой досадой и без особого облегчения убедился, что организм работает совершенно нормально.
Надеясь отогнать тревогу, Тарчинини снова натянул на голову одеяло и в тепле кровати стал мечтать о Вероне. Будь он дома, Джульетта уже готовила бы для него завтрак, а детишки подняли бы возню… Ромео слушал бы привычный шум в квартирах соседей… Но, увы, он в Турине, среди чужаков, а здесь, если какой-то звук и доносился из других номеров, то весьма тактично и чуть слышно — и комиссару не хватало человеческого тепла, той семейной атмосферы, благодаря которой он всегда оставался самим собой. Положа руку на сердце — Ромео просто нужно было ощущать рядом присутствие Джульетты. Без нее комиссар чувствовал себя немного потерянным. Тарчинини так привык приукрашивать все, что его окружало, что видел жену прежней, времен их молодости, и, несмотря на рождение шестерых детей, всегда думал о ней как о девушке, пленившей его четверть века назад. Комиссар вскочил и попросил телефонистку как можно скорее соединить его с Вероной.
Голос Джульетты ничуть не изменился с годами, и, едва услышав его, Ромео почувствовал, как сердце его тает от любви и нежности. Синьора Тарчинини несколько удивилась столь раннему звонку, но когда муж объяснил ей, что тревога и тоска по дому вот-вот доведут его до самой настоящей неврастении, матрона добродушно рассмеялась и в голосе ее зазвучала ответная нежность. Джульетте льстило, что ее комиссар, уже в который раз оказавшись в разлуке, не находит себе места, поэтому она так же искренно поклялась, что и сама безумно тоскует. Кроме того, Джульетта сказала, что приехавший в Верону по делам кузен Амполи заходит к ним каждый день, и это действует ей на нервы, потому что в конце концов соседи могут дать волю языкам. Тарчинини взвился под потолок. Сердце его охватила ревность, и этот пятидесятилетний седеющий толстяк закатил своей Джульетте дикую сцену ревности (впрочем, синьоре Тарчинини это не доставило огорчений — напротив, она упивалась бурной реакцией супруга). Забыв о почтенном возрасте и изрядно пострадавшей от времени внешности, комиссар и его дражайшая половина осыпали друг друга смехотворными упреками, глупыми угрозами и, припоминая друг другу некогда совершенные ошибки, с восторгом плакали и обвиняли друг друга в равнодушии и бессердечии, в глубине души нисколько не сомневаясь в обратном. Ромео обожал проливать слезы, его супруга — тоже, и когда наконец, совершенно обессилев и заикаясь, Тарчинини поклялся жене, что никогда больше не вернется в Верону, где другой уже занял его место, Джульетта решительно положила конец излияниям:
— Поторопись-ка лучше домой, дурачок, а то я совсем иссохла, ожидаючи твоего возвращения!
Умиротворенный ее словами комиссар подумал, что единственное препятствие, мешающее ему вновь обрести семейный очаг, — упрямое нежелание Анджело Дани признаться в убийстве берсальера. Но мысль об Анджело тут же напомнила и о его сестре. И, сообразив, что он накануне наговорил девушке об инспекторе Дзамполе, Ромео на мгновение сник. Однако комиссар очень быстро внушил себе (уж очень ему этого хотелось!), что из Стеллы получится великолепная супруга для Алессандро. Тарчинини и в голову не приходило, что молодые люди могут не понравиться друг другу, а будущий ребенок берсальера — стать серьезным препятствием его планам. И, как всякий раз, когда его немного угнетало неприятное предположение, веронец попытался больше о нем не думать и сосредоточиться на чем-нибудь другом, в данном случае — на Анджело, от которого ему позарез надо было скорее добиться признания, ибо это единственная возможность поскорее вернуться к Джульетте и малышам.
Анджело работал в мастерской у столяра, нанимавшего всего двух рабочих. Хозяин как будто нарочно подобрал людей своего склада — суровых, крепких и молчаливых парней. Все трое славных пьемонтцев искренне веровали, что созданы для работы, и только для нее. Хозяин, Бомпи, ревностный католик, неизменно благодарил Небо за тяготы и невзгоды, полагая, что Всевышний просто испытывает его веру и смирение. Его компаньон Люкка, убежденный коммунист, возлагал все надежды на конечную победу пролетариата. Правда, он плохо себе представлял, как должна выглядеть означенная победа и к чему она приведет, но сама перспектива выглядела утешительно и помогала терпеливо мириться с судьбой, а также прощать ярость жены, когда он приносил в дом свой жалкий заработок. Что касается Дани, то он в равной мере злился на всех — и на милосердного Бога, и на синьора Тольятти[295] — за все несчастья, преследовавшие его с детства: смерть родителей, безумие тети Пии, бесчестье Стеллы, а теперь, в довершение всего прочего, идиотское обвинение в убийстве мерзавца берсальера! От одной мысли о Нино Регацци у Анджело сжимались кулаки, и парень начинал жалеть, что соблазнитель Стеллы уже мертв, ибо Дани с удовольствием придушил бы его собственными руками!
Едва переступив порог мастерской синьора Бомпи, улыбающийся, любезный и жизнерадостный Тарчинини очень скоро почувствовал себя в совершенно чуждом, если не враждебном, мире. Все три столяра окинули его оценивающим взглядом и тут же снова принялись за работу. Угрюмое молчание пьемонтцев обескуражило привыкшего к словесным баталиям Ромео.
— Кто из вас хозяин? — осведомился он, не зная толком, как себя вести дальше.
Бомпи, не поднимая головы от верстака, проворчал:
— Ну, я.
Ромео попытался настроить его на более доброжелательный лад.
— Я — комиссар Тарчинини, — вежливо представился он.
— Ну и что?
— Мне хотелось бы поговорить с Анджело Дани.
Хозяин мастерской пожал плечами:
— Это его дело…
Анджело, казалось, нисколько не волновало, что речь идет о нем, — парень продолжал спокойно обстругивать доску. Даже ритм его движений нисколько не изменился. Тарчинини подошел поближе.
— Вы что, не слышали?
Брат Стеллы покачал головой.
— А не могли бы вы остановиться хоть на минутку?
— У меня сдельная работа.
Комиссар выругал себя за то, что ему взбрело в голову явиться сюда, к этим бессловесным варварам! Но уйти сразу он не мог из опасения «потерять лицо» — Ромео воображал, что таким образом он уронил бы престиж Вероны. Однако разговаривать с Дани при посторонних под скрип пилы и треск дерева… И все же комиссар решил сделать все возможное, чтобы этот визит не оказался напрасным.
— Анджело…
Обращение по имени настолько удивило парня, что он все-таки замер на секунду, и Ромео немедленно воспользовался паузой:
— Анджело… Мне бы хотелось вернуться домой, в Верону… Бедняжка жена тоскует, да и малыши…
— А кто вам мешает?
— Кто? Ma que! Да вы же!
— Не понимаю.
— Я не могу вернуться домой, пока не арестую убийцу берсальера…
— А мне-то что до этого?
— У меня нет никаких материальных доказательств против вас… а лишь глубокая уверенность. Но арестовать кого бы то ни было на подобном основании невозможно!
— А дальше-то что?
— Немедленно признавшись, вы оказали бы мне большую услугу!
— Признавшись в чем?
— Что это вы убили Нино Регацци!
Анджело нервно рассмеялся:
— Неужто у вас в Вероне все такие?
— Послушайте, Анджело Дани! Вы ведь славный малый, а? Да-да, я вас хорошо изучил! От вас не зависело, послушает Стелла берсальера или нет. Кстати, в какой-то мере я понимаю ваш поступок и без труда представляю, что скажет адвокат, стараясь добиться самого легкого приговора… Но, поверьте мне, Анджело, больше всего облегчит вашу участь добровольная помощь правосудию…
— То есть я должен броситься перед вами на колени и слезно молить, чтобы вы отвели меня в тюрьму?
— Не надо преувеличивать!
— А вам не кажется, что это вы преувеличиваете?
Бомпи и Люкка вскинули головы, разглядывая собеседников, и комиссар почувствовал, что дело принимает угрожающий оборот, а следовательно, дабы сохранить чувство собственного достоинства, ему лучше удалиться.
— Не будем ссориться, а попробуем рассуждать логически…
Хозяин мастерской спокойно подошел к комиссару:
— У нас нет времени.
— На что?
— Да на рассуждения!.. Если мы устроим болтовню, станет не до работы, а этого мы себе позволить не можем. Мы же не какие-нибудь чиновники и не буржуа… Так что оставьте нас в покое и не мешайте заниматься делом…
— Черт возьми! Но я ведь тоже должен выполнять свои обязанности! Или вы думаете, я пришел сюда ради собственного удовольствия?
— Никто вас тут не удерживает!
Тарчинини указал на Анджело:
— Он!
Дани положил рубанок, выпрямился, набрал полные легкие воздуха и, в свою очередь встав перед Ромео, ткнул его пальцем в грудь.
— Проклятье! Так вы упорно не желаете от меня отцепиться?
— Как только вы признаетесь, я оставлю вас в покое!
— Но не могу же я назваться убийцей только для того, чтобы доставить вам удовольствие?
— Это вы убили Нино Регацци, Анджело!
— Повторите еще раз, и уж тогда я точно совершу убийство!
Тарчинини был далеко не трусом, но всякий раз в минуту опасности представлял Джульетту вдовой, а детей — сиротами, и мысль об этом, смиряя отважные порывы, побуждала его к осторожности. Впрочем, Ромео попытался держаться стойко и, напустив на себя величественный вид, снисходительно бросил:
— Как вам угодно, синьор Дани. И не говорите потом, что я вас не предупреждал, да еще при свидетелях! Не стоит воображать, будто ваше поведение хоть в какой-то мере повлияет на ход расследования. Придя сюда, я хотел воззвать к тому лучшему, что еще сохранилось в вас, но вы ответили угрозами! Ладно… Что бы ни случилось, теперь пеняйте только на себя… И во всяком случае, знайте одно: мы не выпустим вас из поля зрения! Денно и нощно мы будем следовать за вами по пятам! И так до той минуты, пока вы наконец не скажете правду!
Анджело упрямо набычился.
— В конце концов вы таки заставите меня отправить вас к праотцам… — проворчал он.
— И таким образом сами же дадите превосходное основание посадить вас под замок? Да, тогда уж точно двери тюрьмы захлопнутся за вами навеки, можете не сомневаться… Arrivederce presto, Angelo. Salute, signori![296]
И комиссар Тарчинини с невозмутимым видом и слегка насмешливой улыбкой выплыл из мастерской. Он остался весьма доволен собой.
Однако, войдя в кабинет и увидев инспектора Дзамполя, Ромео почувствовал, как у него защемило сердце. Один Господь ведает, что произойдет между Стеллой, удивленной и несомненно обрадованной известием, что Алессандро влюбился в нее с первого взгляда, и ни о чем не подозревающим инспектором, для которого девушка ровно ничего не значит! Впрочем, комиссар имел обыкновение во всем, что выходило за рамки его возможностей, полагаться на Всевышнего: такая позиция, с одной стороны, позволяла проявить какую-то заботу о ближнем, а с другой — снимала всякую ответственность с него самого.
Ромео рассказал о неудачном посещении Анджело Дани, и Дзамполь, успевший проникнуться к столяру глубочайшей неприязнью, предложил:
— Позвольте мне взять Дани на себя, синьор комиссар, и, клянусь, я вырву у него признание!
— Анджело — крепкий малый, с ним лучше не шутить!
— Я тоже не калека! И мы еще поглядим, осмелится ли он поднять руку на служителя закона!
Ромео не счел нужным делиться с ним уверенностью, что Дани вполне способен отлупить кого и чем попало. Кроме того, он подумал, что враждебность Дзамполя к брату Стеллы еще больше осложнит положение, когда девушка огорошит инспектора известием о его несуществующей любви… Даже будучи большим оптимистом по натуре и не сомневаясь, что в конце концов все непременно уладится, супруг Джульетты предпочитал не думать о ближайшем будущем и непосредственных результатах своего разговора со Стеллой. Однако он решительно не умел скрывать что бы то ни было от ближних, а потому уже хотел покаяться в содеянном, но в кабинет вошел дежурный и доложил, что мэтр Серантони, нотариус из Сузе, хотел бы поговорить с комиссаром и ждет у двери. Ромео облегченно вздохнул и приказал ввести законника (впрочем, он предвидел, что тот скоро явится с повинной).
Прежде чем нотариус, чья внушительная внешность несколько пострадала от недавних побоев, успел открыть рот, комиссар добродушно заметил:
— Судя по тому, что вы пришли сюда, мэтр, доктор Менегоццо добросовестно передал поручение… С его стороны это было весьма разумно, да и с вашей — тоже.
— Дело в том… я должен вам объяснить…
— Да нечего тут объяснять, мэтр… садитесь.
Серантони опустился на стул. Вид у него был несчастный.
— И что же вы хотели мне если не объяснить, то поведать, мэтр?
— Я даже не знаю, как подступиться к одному довольно тяжкому признанию, синьор комиссар…
— Да самым простым и естественным образом, мэтр Серантони. Например, можно так: когда вы допрашивали меня в Сузе, синьор комиссар, я вам соврал…
Посетитель вздрогнул:
— Позвольте…
— …а солгал я вам, поскольку при нашем разговоре присутствовала моя жена, — невозмутимо продолжал веронец.
Нотариус слегка замялся.
— Это правда, — наконец признал он.
— Что ж, сами видите: откровенность — самая простая на свете штука (конечно, если мы можем позволить себе такую роскошь). А теперь, мэтр Серантони, расскажите мне, что произошло на самом деле.
Сначала голос нотариуса слегка подрагивал, но по мере рассказа обретал все большую твердость.
— Вы видели мою супругу… побывали в Сузе и успели понять, что это за городишко… Все это не очень-то весело, и не стану скрывать, синьор, что при первой же возможности я стараюсь поскорее удрать в Турин, где… у меня есть добрая подруга… То, что я говорил в прошлый раз, в основном верно. Я действительно присутствовал на заседании нотариата и встретил там коллег, чьи фамилии вам тогда перечислил. Но ужинал я не с ними, а с одной молодой особой… Вы позволите мне назвать только ее имя?
И нотариус с таким пылом шепнул «Андреа», что комиссара охватило живейшее любопытство.
— Мы с ней отправились в ресторан «Бьяджини» на виа Салюццо… Там меня хорошо знают, и вы можете проверить… Но только спрашивайте о синьоре Карло Поньести… Вы ведь понимаете, почему в данных обстоятельствах я вынужден пользоваться… псевдонимом?
Тарчинини кивнул, и нотариус воспринял это как знак одобрения.
— Узнай об этом моя жена, случилось бы что-то страшное! Не только мое положение в Сузе стало бы совершенно невыносимым, но, что самое паршивое, в нашей семье все состояние принадлежит не мне, а ей… Боже милостивый! Но это же не повод хоронить себя заживо, верно?.. Я тоже имею право хоть иногда вздохнуть спокойно, а?
— Несомненно, синьор, несомненно… Значит, насколько я понимаю, это синьорина Андреа привела ваше лицо в такое плачевное состояние?
— Она? Caro angioletto!..[297] Да она готова умереть за меня! Я — радость всей ее жизни! Разве Андреа могла бы сделать мне больно? О, синьор комиссар, сразу видно, что вы не знаете эту крошку!
— Но ваши раны…
— После ужина мы решили выпить шампанского в баре, о котором Андреа однажды слышала… Мы посмотрели аттракционы, немного потанцевали, а потом я вдруг заметил, что мой кошелек исчез… Разумеется, я стал возмущаться, но на меня тут же набросились двое здоровенных верзил, зверски избили и вышвырнули на улицу…
— А синьорина Андреа?
— Что она могла сделать, poveretta, против таких чудовищ? Очевидно, бандиты знали, с кем имеют дело, и догадывались, что я не посмею жаловаться… Вот и вся история, синьор комиссар…
— Ради ваших клиентов, мэтр Серантони, надеюсь, вы гораздо лучше разбираетесь в хитросплетениях закона, нежели в особах слабого пола…
— Что вы имеете в виду, синьор комиссар?
— Да ничего… Доктор Менегоццо знает о ваших шалостях?
— А как же иначе? Порой ему случается принимать в них участие, но в тот вечер он не смог остаться со мной, поскольку в Сузе собирался муниципальный совет, а Джузеппе — первый заместитель мэра. После того как мы заехали в казарму и поговорили с несчастным молодым человеком, доктор отвез меня на пьяцца Кастелло, а сам вернулся в Сузе.
— Короче, вы ничего не знали о смерти Нино Регацци?
— Ничего, синьор комиссар… По правде говоря, я читал об этом в газете, но ждал подтверждения, прежде чем оповестить наследницу, синьору Валерию Росси.
— Гибель берсальера для нее — большое везение, а?
— Несчастье одних приносит…
— Да-да… — перебил Ромео. — Вот только я никак не могу допустить, чтобы кто-то нарочно приносил несчастье другому… Но теперь синьора Росси уже, наверное, знает, какая ей привалила удача?
— Сегодня утром я ей позвонил.
— И что же?
— Представьте, синьор комиссар, она не особенно удивилась и не так обрадовалась, как я ожидал… Честно говоря, синьора даже обругала меня, вместо того чтобы поблагодарить. Ее, видите ли, удивило, что я слишком долго медлил и ей пришлось узнать новость из газет. А это, оказывается, с точки зрения синьоры Росси, просто недопустимо! Если хотите знать мое мнение, синьор комиссар, женщины — престранные создания!
— От души советую никогда не забывать эту мудрость, синьор нотариус… Скорее поезжайте к себе в Сузе и не беспокойтесь, мы никому не расскажем о ваших тайных развлечениях, хотя на будущее я рекомендовал бы вам быть осторожнее. Правда, нам придется проверить ваши утверждения (правила есть правила), но постараемся действовать потактичнее. Как называется заведение, где вас ограбили и избили?
— «Желтая бабочка» на виа делле Розине.
— Мне нужны еще фамилия и адрес синьорины Андреа.
— Это и впрямь так важно?
— Необходимо!
— Андреа Грампа, виа Вокьери, сто семьдесят семь… но надеюсь на вашу…
— Даю вам слово!
После ухода нотариуса Ромео вздохнул:
— Вот что вас ожидает, Дзамполь, если вы не женитесь вовремя!
Инспектор хмыкнул:
— Вы, наверное, запамятовали, синьор комиссар, что я тоже видел супругу мэтра Серантони?
— Нет, конечно нет… Тем больше у вас оснований, Алессандро, с толком выбрать жену, пока не поздно… А пока сообщите имя и фамилию этой Андреа Грампа полиции нравов. Сдается мне, что нотариуса очень ловко провели… И посоветуйте, кстати, своим коллегам устроить облаву в «Желтой бабочке» — наверняка они накроют там громил, которые так варварски отделали беднягу Серантони. Покончив с этим общественно полезным делом, вечером вы прогуляетесь к Дани, дабы показать Анджело, что мы не намерены упускать добычу и не менее упрямы, чем он.
— Как прикажете, синьор комиссар!
— Ну а я сразу после обеда попрошу кого-нибудь отвезти меня в Пинероло — мне не терпится взглянуть на выражение лица дамы, на которую с бухты-барахты свалилось шестьдесят миллионов лир!
— Значит ли это, синьор комиссар, что, по-вашему, эта особа каким-то образом замешана в убийстве берсальера?
— По правде говоря, Алессандро, меня бы это очень удивило… Женщины довольно редко орудуют ножом. Нет, пока мне не докажут обратного, я буду подозревать в убийстве Анджело Дани. И все же для очистки совести я должен проверить все варианты, не хочу ничего оставлять на волю случая. А кроме того, прогулка доставит мне удовольствие, так что визит к синьоре Росси напрашивается сам собой.
По обыкновению плотно пообедав, Тарчинини сел в машину, уже ожидавшую его у входа в ресторан. Он попрощался с помощником, закурил сигару и, удобно устроившись на заднем сиденье, приказал шоферу ехать в Пинероло, но не слишком торопиться, ибо, по мнению комиссара, быстрая езда портит пищеварение и мешает любоваться окрестностями. Повинуясь приказу, водитель потратил на дорогу из Турина в Пинероло около часу, хотя проехать им надо было всего тридцать шесть километров. Тарчинини пригласил шофера выпить кофе в «Турисмо», угостил рюмкой граппы и велел терпеливо ждать, пока он не покончит с делами. Радуясь неожиданному отдыху, водитель поклялся здоровьем своей многочисленной родни, что не двинется с места, даже если синьор комиссар вернется в кафе через год.
Вдова Росси жила на виа Савойя у подножия холма, в старинном доме, который Ромео счел достойным украсить какую-нибудь улицу Вероны. Соседка с первого этажа сказала комиссару, что синьора Росси занимает квартиру на четвертом. Лестницы всегда внушали Ромео непреодолимый ужас, и, прежде чем взяться за дверной молоток, он долго переводил дух, пытаясь успокоить колотившееся после тяжкого восхождения сердце. Отдышавшись, он наконец постучал. Дверь осторожно приотворила пропахшая камфорой и росным ладаном старуха. На вопрос, что ему угодно, Тарчинини ответил, что хотел бы поговорить с синьорой Росси. Старуха покачала головой.
— Никак нельзя, синьор… хозяйка больна… — прошамкала она.
— Che peccato![298] А я-то специально приехал из Турина!.. Надеюсь, у нее ничего серьезного?
— Une storta.[299]
— Но это совсем не опасно! Разве что — довольно болезненно…
— По-вашему, этого мало?
— Я не то имел в виду… Просто подумал, что вывих не помешает вашей хозяйке принять меня. Может, вы любезно спросите у нее разрешения?
Прежде чем ответить, служанка долго сверлила Тарчинини изучающим взглядом.
— А кто вы такой?
— Комиссар Ромео Тарчинини.
— А!
Упоминание о полиции, как всегда, подействовало — старуха испугалась.
— Сейчас узнаю… Подождите! — поспешно сказала она.
И служанка захлопнула дверь перед носом полицейского, оставив его на лестничной площадке. Комиссар давно привык к манерам старых слуг и нисколько не обиделся, а, напротив, стал терпеливо ждать. Тем не менее минут через пять, сочтя, что о нем забыли или понадеялись, что ему надоест околачиваться на лестнице, Ромео решил постучать еще раз, но посильнее. К счастью, служанка как раз распахнула дверь.
— Долго же вы возились! — буркнул веронец.
— Что ж, входите, синьор…
Старуха тщательно заперла за ним дверь, задвинув два или три засова, потом сделала знак идти следом, и вскоре комиссар оказался в обставленной на старинный лад гостиной. Все здесь дышало аскетизмом давно минувших времен. Темная мебель без всяких излишеств, тусклые ковры, а на стенах — портреты важного вида мужчин и гордых дам. Ромео невольно пробрала дрожь. Внезапно почувствовав чей-то взгляд, комиссар обернулся. За ним наблюдала сидевшая в мягком кресле и сплошь укутанная одеялами мертвенно-бледная женщина. Полицейский поклонился.
— Синьора Росси?..
— Да, синьор…
Казалось, это не голос, а чуть внятный шепот. Ромео на мгновение растерялся. Что это значит? Похоже, Валерия Росси вот-вот отдаст Богу душу…
— Вы больны, синьора?
Она ответила слабой улыбкой: вопрос явно выглядел идиотским. Тарчинини покраснел.
— Не то слово, синьор комиссар… Если будет на то воля Божья, скоро я покину этот мир… но я ни о чем не жалею… Я успела в полной мере порадоваться жизни!..
— Прошу прощения, синьора, но я, право же, смущен… ваша служанка упомянула только о вывихе…
— Паскуалина вообще простовата… Ее мать немного занималась костоправством, и для нее все, что не касается переломов, — сущие пустяки… Я и в самом деле вчера подвернула ногу, но, кроме того, у меня туберкулез… и жить осталось недолго. Поэтому я попрошу вас говорить покороче, синьор, и не подходить слишком близко… сами понимаете… болезнь заразная…
Комиссар не испытывал ни малейшего желания приближаться к больной — он терпеть не мог микробов и уже искал подходящий предлог удрать из этого дома как можно скорее, не нарушая, впрочем, правил вежливости.
— Я ни в коей мере не хочу утомлять вас, синьора… Позвольте мне удалиться… Возможно, в следующий раз вы почувствуете себя лучше?..
— Нет, синьор комиссар, раз уж вы здесь, расскажите, что вас ко мне привело. В моем положении неразумно откладывать дела на потом… ибо наверняка я просто не смогу вас выслушать…
Слезы уже начали пощипывать веки Ромео. Он корил себя за этот нелепый визит и в то же время стыдился собственной сентиментальности.
— Вы знаете о смерти Нино Регацци, синьора?
— Да… бедный мальчик… В его-то возрасте… Ужасно так быстро расстаться с жизнью…
— Вы были с ним знакомы?
— Каким же образом мы могли познакомиться? Я никогда не выезжаю из Пинероло… Пожалуй, уже лет двенадцать не бывала даже в Турине… с тех пор как умер мой бедный Альфонсо…
— А вы слышали о существовании Регацци?
— Краем уха…
— А со своим дядей Серафино Дзагато вы поддерживали отношения?
— Нет, я знала только, что где-то здесь, в Италии, живет брат моей матери. Лет в пятнадцать Серафино удрал из родительского дома и нанялся юнгой на корабль, капитан которого не особенно строго соблюдал правила. С тех пор никто из нас не имел о нем никаких известий. Сама я ни разу не видела дяди. Тем не менее несколько месяцев назад он написал мне и сообщил, что жив, хотя и стоит одной ногой в могиле, а кроме того, просил прощения, что не может оставить мне состояние, поскольку у него есть незаконнорожденный сын, Нино Регацци, и наследником по справедливости должен стать он. А чтобы я простила и не таила обиды на своего, в сущности, призрачного родственника, Серафино прислал великолепные брильянтовые серьги, те, что сейчас на мне. С ними меня и положат в гроб, когда настанет время встречи с дядей, которого я так и не повидала на этой земле…
— И вас нисколько не уязвило известие, что наследство попадет в другие руки?
Синьора Росси тихонько рассмеялась — так смеются очень старые и уставшие от жизни люди.
— Это в моем-то состоянии, синьор комиссар?
— А как вы распорядитесь дядиными миллионами теперь, когда они все же перешли к вам?
— Обеспечу безбедную старость Паскуалине, а остальное распределю между благотворительными обществами.
— Вы прочитали о смерти берсальера в газете?
— Да… меня это страшно потрясло… особенно потому, что и дядя умер совсем недавно… Подумать только, бедняга даже post mortem[300] лишился радости исправить прежние ошибки… Господь порой бывает очень суров, синьор комиссар… Счастье еще, что Серафино скончался, не догадываясь, как ненадолго переживет его сын!
Больная закашлялась, и Тарчинини с тревогой подумал, не подцепит ли он тут микробов. Не хватало еще привезти их в Верону и заразить малышей! Комиссар встал и начал прощаться.
— Благодарю вас, синьора, за то, что вы меня приняли… Должно быть, это стоило вам немалых усилий. Но я, честное слово, не догадывался, что вы так измучены…
Она вяло махнула рукой в знак того, что все это уже не важно.
— До свидания, синьора, желаю вам сил и мужества…
— Grazie tante[301], синьор комиссар.
Дребезжащий звонок оповестил Паскуалину, что ей пора проводить гостя. Ромео в последний раз поклонился хозяйке дома и уже собирался последовать за служанкой, как вдруг вспомнил замечание мэтра Серантони насчет бурной реакции наследницы на его телефонный звонок. Тут что-то явно не вязалось. И комиссар вернулся к вдове.
— Прошу прощения, синьора, но мэтр Серантони сказал мне, что сегодня утром, когда он сообщил вам о наследстве, вы ответили резкостью, довольно удивительной, если учитывать обстоятельства…
Синьора Росси снова издала жалкий, надтреснутый смешок.
— У мэтра Серантони богатое воображение… Одна из его бабок была актрисой… Поэтому он не может отказать себе в удовольствии разыграть комедию и наговорить всяких нелепостей, лишь бы порисоваться и привлечь внимание собеседника. Правда, по его мнению, всегда недостаточно драматична. Я сказала только, что мэтр мог бы сам предупредить меня о смерти Нино Регацци, а не ждать, пока я узнаю об этом из газет, и добавила, что такая бестактность с его стороны меня поражает.
Медленно поднимаясь вдоль виа Савойя, Тарчинини смутно чувствовал, что от него ускользнула какая-то мелочь, но никак не мог сообразить, какая именно. Лишь одно казалось бесспорным: синьора Росси так слаба, что, вопреки утверждениям нотариуса, не могла грубо разговаривать по телефону. Но действительно ли нотариус так склонен к преувеличениям?.. Комиссару не терпелось проверить, насколько рассказ мэтра Серантони о ночных неприятностях соответствует истине. Если, к несчастью, выяснится, что он солгал, придется заново изучать и эту версию убийства берсальера. И неожиданно Тарчинини сообразил, что совсем не испытывает прежней уверенности в том, что солдата убил Анджело Дани.
Официанты кафе «Чеккарелло» с удовольствием отметили, что кассирша Стелла Дани (к которой все они относились с большой симпатией) больше не выглядит такой печальной, как несколько дней назад, когда она казалась постаревшей лет на десять. Вместе с улыбкой к ней вернулся молодой задор, и в кафе снова воцарилась легкая, непринужденная атмосфера. Стелла и впрямь чувствовала себя счастливой: теперь после рождения ребенка весь квартал Сан-Альфонсо де Лиджори уже не станет
показывать на нее пальцем. По правде говоря, девушка еще с трудом верила в такую удачу, но верить так хотелось, что в конце концов она себя убедила. Воспользовавшись редким моментом просветления «бедной тети» Пии, Стелла поведала ей великую новость: полицейский инспектор влюбился в нее с первого взгляда и, несмотря на то что скоро родится ребенок, готов жениться на его матери. Тетушка на коленях возблагодарила милосердного Бога. Зато Анджело отнесся к известию скептически. Во-первых, он сомневался, что любовь может поразить человека в столь рекордный срок, во-вторых, не слишком жаловал полицейских, а в-третьих, предчувствовал ловушку, ибо не ожидал от подобных субъектов ровно ничего хорошего. Объяснение между братом и сестрой проходило довольно бурно — честно говоря, они чуть не поссорились. Исчерпав все разумные доводы (а в глубине души Анджело больше всего на свете хотел, чтобы его сестра вновь заняла достойное место в обществе), он воскликнул:
— Но в конце-то концов, если парень любит тебя так, как уверяет его приятель, почему он не скажет об этом сам?
— Потому что стесняется…
— А… насчет берсальера… он в курсе?
— Да.
— И это его не смущает?
— Он и сам был несчастлив…
— Каким образом?
— Из-за женщины… своей жены… Он любил ее, а она — нет.
— И где же его жена теперь?
— В чистилище или в аду!
— Ma que! И в твои-то годы ты собираешься выйти за вдовца?
— А кто я, по-твоему, теперь, если не вдова?
Последний аргумент попал в цель, и Анджело долго молчал, не зная, что возразить. Но парень нежно любил сестру — как-никак он посвятил ей всю жизнь и больше всего думал о ее счастье.
— Но ты, Стелла… — задал он главный вопрос, — ты-то сможешь его полюбить?
— Может быть, не сразу… но я настолько благодарна инспектору… что впоследствии…
— Ладно… Поступай как знаешь, но предупреждаю: если этот тип немедленно не попросит у меня твоей руки, я сверну ему шею! Довольно того, что один мерзавец уже посмеялся над тобой!
Стелла разрыдалась.
— Я… я… я запрещаю тебе!.. Ты… ты меня ненавидишь!
— Это я-то тебя ненавижу? Несчастная! Да ежели б я тебя ненавидел, думаешь, согласился бы стать шурином человека, который подозревает меня в убийстве?
Тарчинини, опустив голову, с озабоченным видом шел к гостинице «Турисмо», где его ждал шофер. Комиссар ненавидел неразрешимые загадки, а сейчас что-то явно ускользало от его понимания. Официанта, подбежавшего узнать, что ему угодно, полицейский попросил принести напиток покрепче, способный убить любые микробы. Мужчина за соседним столиком расхохотался и в ответ на сердитый взгляд Ромео отвесил легкий поклон.
— Простите, синьор, я невольно слышал ваши слова, и они меня немало позабавили… Позвольте мне как врачу заметить, что, будь на свете жидкость, убивающая все микробы, мы поспешили бы добиться ее запрета, чтобы не потерять практику и не впасть в нищету! А потому, синьор, я бы посоветовал вам забыть о микробах и, если вы не против, охотно угостил бокалом хорошего вина в знак дружеского расположения. Согласны?
Ромео всегда ценил вежливость.
— Volentieri![302]
Он перебрался за столик врача.
— Комиссар уголовной полиции Ромео Тарчинини, — представился он. И, шутливо погрозив пальцем, добавил: — Решил прогуляться сюда на машине с шофером.
Доктор вздохнул с притворным облегчением:
— Синьор комиссар, вы меня успокоили… Доктор Феличе Рацаньони. А можно мне узнать, синьор комиссар, чем вызвано ваше особое отвращение к микробам, к которым — и вы без труда угадаете причину — я испытываю некоторую нежность?
— Да просто я всегда боюсь привезти домой какую-нибудь болезнь и заразить малышей!
Врач спросил Ромео о его семье, и комиссар воспользовался случаем поговорить о своей Джульетте и детях. Он так долго и со вкусом распространялся на эту тему, что не прошло и получаса, как мужчины, осушив полдюжины бутылок, уже знали решительно все о предках, потомках и родичах обоих. Тарчинини и Рацаньони теперь чувствовали себя чуть ли не друзьями детства. Однако время шло, и комиссар с сожалением подумал, что пора наконец попрощаться с милейшим эскулапом. Тот удержал его за руку.
— Кстати, — заметил он, — вы так и не сказали мне, с чего вдруг испугались нашествия микробов. Между прочим, Пинероло славится как один из самых здоровых городов… увы!
— Когда мы с вами встретились, я как раз шел от больной туберкулезом в последней стадии, точнее, почти на смертном одре!
— Ну да? Здесь, в Пинероло?
— На виа Савойя.
— Дорогой мой комиссар, я лечу всех больных в городе. На виа Савойя у меня немало пациентов, но, клянусь вам, в настоящий момент я не знаю там ни одного больного туберкулезом и никто не выказывал ни малейших симптомов этого недуга!
— И однако синьора Росси…
— Синьора Росси? Синьора Валерия Росси?
— Она самая.
Рацаньони звонко расхохотался, а когда приступ безудержного веселья наконец миновал, врач дружески хлопнул Тарчинини по ляжке.
— Можете не переживать за Валерию, синьор комиссар! Не позднее чем сегодня утром я встретил эту даму на улице, и, уверяю вас, она была весела, как жаворонок. Впрочем, это и понятно, поскольку нотариус только что сообщил ей о наследстве в бог знает сколько миллионов!
Полагая, что произошло какое-то недоразумение, Ромео потребовал подробностей, но очень скоро убедился, что смертельно бледная, умирающая особа, с которой он только что разговаривал, и жизнерадостная синьора, делившаяся нежданной удачей с доктором Рацаньони, — одно и то же лицо. Комиссар совершенно растерялся.
— Но чего ради она разыгрывала передо мной комедию?
— Валерия — очень эксцентричная женщина! Она всегда обожала устраивать представления!
Слова врача не особенно убедили комиссара, и он вышел из кафе в глубокой задумчивости. Только опасение выставить себя в глазах Валерии Росси полным идиотом помешало ему вернуться на виа Савойя. Ромео не желал признавать, что его, веронца, сумела провести какая-то пьемонтка. Когда он уже сел в машину, доктор Рацаньони просунул голову в открытое окно.
— Кстати, хотите получить бесспорное доказательство, что наша Валерия чувствует себя преотлично? Она выходит замуж, дорогой мой! И это — в пятьдесят семь лет! Впрочем, приданое заставит жениха позабыть обо всем остальном, а?
— И за кого же она выходит?
— Валерия отказалась назвать мне счастливого избранника!
— Как только вы узнаете фамилию этого человека, доктор, пожалуйста, позвоните мне в управление уголовной полиции Турина. Могу я рассчитывать на вашу помощь?
Полицейский говорил так серьезно, что врач слегка оробел и у него пропало всякое желание смеяться.
— Положитесь на меня, — с самым важным видом уверил он.
Алессандро Дзамполю вовсе не нравилось поручение, возложенное на него Тарчинини. Не обладая самоуверенностью комиссара, он с тревогой спрашивал себя, под каким предлогом явится к Дани и уж тем более проведет в их доме какое-то время. Ближайшее будущее не сулило инспектору ничего хорошего, ибо, зная себя, он понимал, что не потерпит ни малейшей дерзости от Анджело, с которым Тарчинини неизвестно почему так смехотворно цацкается. И чем больше Дзамполь размышлял о брате Стеллы, тем сильнее его охватывало раздражение. Поэтому, добравшись до виа Леванна, где жил тот, кого он намеревался хорошенько встряхнуть, Алессандро сумел подавить природную робость и довольно энергично постучал в дверь Дани.
Полицейскому открыла «бедная тетя» Пия. К счастью для инспектора, старуха переживала один из редких для нее моментов просветления и сразу его узнала. Последний тут же перешел в наступление, боясь успокоиться и растерять скопившуюся по дороге злобу.
— Я пришел, чтобы…
«Бедная тетя», издав дребезжащий смешок, перебила гостя:
— Знаю, знаю, малыш…
Уже много-много лет никто не называл Алессандро малышом, поэтому обращение старухи его несколько смутило и растрогало.
— Вы одна дома, синьора?
— Да… — лукаво заметила Пия. — А вы об этом очень жалеете, правда? Но не стоит переживать — она сейчас вернется!
— Кто?
— Стелла.
— А, ну ладно…
— «Ладно»? И это все, что вы можете сказать?
Она снова засмеялась и, взяв полицейского за руку, усадила в свое собственное кресло.
— Вам незачем притворяться, — шепнула она, — я уже в курсе.
— Вообще-то, синьора, я предпочел бы…
— И совершенно правильно! Я — на вашей стороне!..
— А?
«Бедная тетя» нагнулась к инспектору.
— Мне выйти замуж не удалось, — заговорщическим тоном проговорила она, — но ведь это не повод мешать чужому счастью, верно?
— Несомненно, — согласился Дзамполь.
Впрочем, он готов был принять любое утверждение старухи, ибо уже проникся явственным ощущением, что ровно ничего не понимает. Инспектор уже хотел потребовать объяснений, но в квартиру с той стремительностью, что свойственна юным созданиям, всегда готовым забыть обо всех огорчениях, чуть небо слегка прояснится, вбежала Стелла. Уже с порога она крикнула:
— Здравствуй, zia!
И тут же заметила Дзамполя. Девушка застыла на месте и покраснела.
— Простите, синьор, я не предполагала… — пробормотала она.
Радуясь возможности ускользнуть от Пии, Алессандро встал, поклонился девушке и начал объяснять, что привело его в дом.
— Синьорина… я пришел сюда, чтобы…
— Знаю, синьор, и благодарю вас за это.
То, что Стелла догадывалась о причинах его появления здесь, полицейского нисколько не удивило, но вот с чего бы ей за это благодарить, ускользало от его понимания. Впрочем, Алессандро счел это еще одним доказательством, что от женщин можно ожидать любых каверз. Судя по всему, Стеллу радовало несчастье брата, и такое поведение окончательно укрепило женоненавистнические настроения инспектора.
«Бедная тетя» удалилась на кухню, а Алессандро Дзамполь, по приглашению девушки, снова занял ее кресло. Пия уже слишком давно пребывала в здравом уме, и это не могло продолжаться долго. Устроившись в удобном кресле, Алессандро наблюдал, как Стелла хлопочет по хозяйству, и нехотя признавал, что, вопреки всем его предубеждениям, смотреть на девушку доставляло ему удовольствие. Все они такие! Сверху мед, а внутри — яд! Неожиданно из кухни выскочила Пия и, остановившись на пороге, возопила:
— Я думала, вы оба уже умерли! Не слышно ни слова, ни звука — ничего! — Потом старуха накинулась на гостя: — Ну? Она уже здесь, ваша Стелла! Только что вы спрашивали о ней, и если не хотели поговорить, то к чему все это, хотела б я знать!
Внезапное нападение так ошарашило инспектора, что он не нашелся с ответом. И, что хуже всего, от возмущения странным молчанием предполагаемого воздыхателя племянницы Пия вновь вернулась к дорогим ее сердцу химерам. Она приблизилась к Алессандро и, уперев руки в боки, учительским тоном принялась отчитывать его, как нерадивого ученика:
— И по какому праву ты уселся на мое место, шалопай? Что ж это такое? Стоит мне на минутку выйти — и ты начинаешь озорничать? Погоди, пока я не увижусь с твоим отцом, — он услышит много интересного! Да он спустит с тебя шкуру, мой мальчик! Уж я позабочусь, чтобы ты как минимум две недели не смог садиться без стона! Тогда ты наверняка запомнишь этот урок! Ну! Su![303] Убирайся, паршивец, или я всерьез рассержусь!
И, поскольку опешивший Дзамполь не двигался с места, пытаясь уловить смысл обвинений старухи, «бедная тетя» подскочила к нему, вцепилась тощими пальцами в ухо и так вывернула, что полицейский взвизгнул от боли и мигом вскочил. Но едва инспектор оказался в вертикальном положении, бывшая учительница дважды с размаху стукнула его линейкой по ягодицам.
— Будешь знать, как себя вести, malcalzone![304]
Совершенно ошалевший и парализованный удивлением полицейский, не в силах разобраться, как вести себя в столь нелепом положении, чувствовал, что в нем закипает безумный, убийственный гнев. Чего только с Дзамполем не случалось за время работы в полиции, но еще ни разу в жизни его не драли за уши и не лупили линейкой пониже спины, да еще в присутствии девушки, казалось, пораженной не меньше его самого. Инспектор уже хотел взорваться и излить все свое негодование, но внезапно старая Пия зычным голосом, какого никто, несомненно, не ожидал услышать от столь тщедушной особы, затянула псалом в честь Пресвятой Девы. Пела она очень чисто, с таким жаром, что ни Алессандро, ни Стелла, глядя на нее во все глаза, не смели шевельнуться. Наконец бывшая учительница, словно вдруг заметив их присутствие, сурово приказала:
— На колени!
От ее хрупкой фигуры исходила такая сила, что и Дзамполь, хоть и считал все происходящее самым настоящим кошмаром, и Стелла, отуманенная мечтами, в которых полицейский занимал теперь первое место, молча повиновались. Появись в эту минуту Анджело, вероятно, он подумал бы, что грезит наяву, — уж очень своеобразное зрелище являли собой полицейский и Стелла, преклонившие колена перед «бедной тетей» и хором распевающие псалом по мановению ее линейки. К счастью для репутации помощника Ромео, в квартиру никто не вошел, и, как только поющие издали последнюю ноту, Пия с улыбкой объявила:
— А теперь вы можете немножко поиграть…
И она с достоинством ретировалась на кухню, в свою излюбленное убежище. После этого ненадолго наступила тишина. Стелла первой обрела хладнокровие и краем глаза наблюдала за полицейским. Зато Алессандро медленно стряхивал своего рода опьянение, в которое погрузила его фантастическая череда событий, неуместность и нелепость коих напрочь парализовала его мозг. Сообразив, что по-прежнему стоит на коленях, он покраснел от стыда, вскочил и, не имея возможности накинуться на «бедную тетю», поскольку та уже ушла, решил отомстить за унижение молодой женщине, но та смотрела на него с такой доверчивой и кроткой улыбкой, что все упреки застряли в горле. Сестра Анджело первой нарушила молчание:
— Простите нас, синьор… Вы же знаете, какое несчастье случилось с моей бедной тетей… Вы очень добры… спасибо, что исполнили ее каприз… Впрочем, я и так знала, что вы человек милосердный… и заранее хотела выразить вам всю свою признательность…
Инспектор с тревогой подумал, уж не сошел ли он с ума, но, так или иначе, у кого-то здесь явно не все дома. Стелла взяла Алессандро за руку и почти силком усадила на стул.
— Вы не согласитесь выпить немного карпано, синьор? — нежно спросила она.
Полицейский кивнул, решив смириться с неизбежным. Впервые в жизни ему довелось вести расследование таким образом! В домах подозреваемых в убийстве его встречали по-разному: криками, оскорблениями, угрозами, мольбами, но еще ни разу не принимали с улыбкой, а уж тем более не предлагали аперитив, уверяя в вечной признательности! Может, над ним издеваются? Видя, что гость молчит, Стелла взяла инициативу на себя:
— Синьор… вы, кажется, хотели мне что-то сказать?
— Скорее вашему брату! — сухо ответил Дзамполь.
— Да, верно, прошу прощения… Анджело заменил мне отца, и вполне естественно, что сначала вы решили обратиться к нему… но хочу сразу вас успокоить: я согласна, и вряд ли мне хватит всей оставшейся жизни, чтобы хоть попытаться оплатить долг перед вами.
Алессандро уже успел отхлебнуть из рюмки и, услышав слова девушки, чуть не подавился. У него потекло из носу, в горле запершило, и несчастный инспектор долго хрипел, чихал, кашлял, пока наконец не отдышался, но и тогда все его тело сотрясала дрожь, а в глазах стояли слезы. Стелла с материнской заботой хлопала его по спине и вытирала лицо своим платочком. «Все это, несомненно, очень мило, — думал полицейский, — но все же несколько нарушает привычные отношения между преступниками, их родней или сообщниками и теми, кто обязан их преследовать!» Окончательно придя в себя, Дзамполь решил, что эта юная особа, должно быть, настроена не на ту волну, нежели он сам.
— Послушайте, синьорина… с тех пор как я переступил порог вашего дома, со мной творится что-то непонятное…
— Может, от волнения?
— Меня бы это крайне удивило! Я ведь, знаете ли, не новичок!
— Ваша история мне известна… Она очень печальна, но, поверьте, со временем все забывается… Наша память недолговечна, как говорит Анджело…
— Анджело?! Потолкуем-ка немного о нем! Ваш брат, случаем, не забыл, что пырнул ножом Нино Регацци? А?
— Давайте больше не вспоминать о Нино… Поклянитесь мне, что мы никогда не будем говорить о нем!
Дзамполь посмотрел на нее круглыми глазами.
— Вы хотите, чтобы…
— Это лишь причинило бы боль нам обоим, и совершенно напрасно… Нино не заслуживал моей любви… Я просто ошиблась… Ради себя я ничего не прошу, но ведь малыш, который скоро появится на свет, ни в чем не повинен и не должен отвечать за мои ошибки, правда?
— Бесспорно нет!
И, прежде чем Алессандро успел сообразить, что сейчас произойдет, Стелла бросилась ему на шею и крепко обняла — так утопающий, надеясь удержаться на поверхности, хватается за соломинку. Открыв дверь, Анджело буквально подскочил при виде этой сцены. Парень настолько обалдел, что, не сообразив, кто кого держит в объятиях, как водится, принял воображаемое за действительное. А поскольку обычно инициативу проявляют мужчины, Дани решил, будто полицейский, не в силах совладать со страстью, осыпает Стеллу жгучими поцелуями. Первым его побуждением было броситься на Дзамполя, но с гораздо менее нежными намерениями, чем его сестра, однако потом молодой человек вспомнил, что Стелла говорила насчет возможного союза с инспектором и что это зависит от согласия самого Анджело. Поэтому парень лишь довольно громко и отчетливо проговорил:
— Если я вам мешаю… может, зайти в другой раз?
Услышав голос брата, Стелла испуганно вскрикнула и отпустила покрасневшего, как маков цвет, Алессандро. Последний вскочил со стула.
— Я… я должен вам… все объяснить… — заикаясь от волнения, пробормотал он.
Анджело благодушно пожал плечами:
— Да нет же, нет, я и так все отлично понял… Вы хотели заставить меня сказать «да», верно?
— Сказать «да»?
Полицейский никак не мог взять в толк, почему то, что он обнял девушку или позволил ей себя обнять, должно вынудить Анджело признаться в убийстве берсальера… Правда, с тех пор как он вошел в этот дом, Дзамполь испытывал явственное ощущение, что попал в мир, управляемый совершенно иными законами, нежели те, к которым он привык.
— Значит, вы признаете себя виновным в убийстве берсальера Нино Регацци?
И тут же полицейский сообразил, что совершил промах. Поглядев на него сначала с недоумением, а потом и с любопытством, Дани спросил:
— Вы с ума сошли?
А Стелла, тихонько потянув инспектора за рукав, шепнула:
— Да ну же, синьор, речь вовсе не о том!
— О чем же тогда?
Анджело Дани угрожающе нахмурился.
— Вы что, явились поиздеваться на нами? Тогда глядите в оба! Посмейте только продолжать в том же духе — и я не отдам вам руки своей сестры!
— Вы мне не…
Десять лет назад, катаясь на мотоцикле, Дзамполь попал в аварию. Не будь каски, дело кончилось бы похоронами — он неминуемо разбил бы голову о дерево. После этого столкновения в памяти Алессандро осталось жуткое ощущение шока, парализовавшего все его умственные способности, и он хорошо помнил, как сидел на обочине дороги, озирая окрестности, не в силах понять что бы то ни было. Мозг лишь регистрировал происходящее, но отказывался его анализировать. Точно такое же ощущение он испытывал, глядя сейчас на Дани. Замечание Анджело вызвало у бедняги такой же шок, как и резкое столкновение с деревом. Алессандро лишь отчетливо видел, что по щекам Стеллы текут слезы, и слышал ее жалобное бормотание:
— Вы больше не хотите жениться на мне? Тогда почему вы говорили о любви?.. И что теперь станется с малышом?..
Анджело огромной лапищей ухватил Дзамполя за грудки.
— Вы пришли сюда просить у меня руки сестры, да или нет?
— Я?! Что за дурацкая мысль!
— Святая Мадонна! Ma que! Да я своими глазами видел, как вы целовали ее в губы и так сжимали в объятиях, что едва не задушили!
— Это не я! Она сама бросилась мне на шею!
— Теперь вы еще и оскорбляете мою сестру?
Одним толчком Анджело швырнул инспектора на пол и, усевшись ему на грудь, принялся душить, невзирая на отчаянные мольбы Стеллы. Скорее всего, полицейскому спасло жизнь опять-таки лишь неожиданное вторжение «бедной тети». Не обращая внимания на разыгрывающуюся у нее на глазах драму, больная жизнерадостно предложила:
— А теперь, раз вы вели себя паиньками, давайте поиграем в салочки.
Предоставив Пию ее грезам, а Стеллу — печали, инспектор, с трудом сдерживая натиск противника, принялся угрожать ему всевозможными карами. Для начала он обещал засадить Анджело в тюрьму за нападение и ущерб, причиненный полицейскому при исполнении служебных обязанностей. Брат несчастной девушки презрительно хмыкнул:
— И вы сумеете объяснить комиссару, почему ваши служебные обязанности потребовали обнимать и целовать мою сестру, да?
— Это ложь!
— Тогда уж скажите сразу, что у меня паршиво со зрением!
— Она сама повисла у меня на шее!
— Так, по-вашему, моя сестра — распутница?
— Я этого вовсе не хотел сказать…
— И все же сказали, а?
Дзамполь пережил за этот вечер так много, что совсем вышел из себя.
— Ну, хватит! Я пришел сюда не для того, чтобы разыгрывать перед вами шута горохового, а заставить вас признаться в убийстве, Анджело Дани!
Стелла уцепилась за Алессандро.
— Но, синьор, вы же уверяли, что полюбите моего малыша, как если бы он был вашим собственным!
— Я?
Анджело оттолкнул сестру.
— Я согласен с вами, синьор, — крикнул он. — Довольно ломать комедию! Однажды доверие Стеллы уже обманули, и, клянусь, этого больше не повторится!
— Вы совершенно правы!
— Очень рад, что вы разделяете мое мнение, а теперь, синьор, скажите четко и ясно: хотите вы жениться на моей сестре и признать ее ребенка своим или нет?
— Ma que! Но почему вы решили выбрать именно меня?
— Да потому что вы любите Стеллу!
— Неправда!
Молодая женщина, поняв, что все ее радужные мечты улетучились, горестно запричитала. «Бедная тетя», мирно дремавшая в кресле, вздрогнула и, хлопнув в ладоши, снова уснула.
— Но, если вы не любите мою сестру, зачем вы ей об этом говорили? С какой бесчестной целью? А?
Вне себя от возмущения, Дзамполь призвал в свидетели Стеллу.
— Разве я когда-нибудь говорил вам о любви?
— Не мне, а комиссару, поручив ему сделать признание от вашего имени.
Алессандро, почувствовав, что его сейчас хватит удар, большим пальцем рванул пуговицу на вороте рубашки, а девушка продолжала объяснять:
— Он поклялся, что вы влюбились в меня с первого взгляда… что вам страшно не повезло в супружестве… и вы хотели бы начать новую жизнь вместе со мной… а малыша полюбите как родного… Так разве я могла усомниться? И потом, мне настолько хотелось верить…
Тарчинини!.. Этот гнусный Тарчинини! Вечно он сует нос в то, что его не касается! Дзамполя охватила такая бешеная жажда убийства, что все его мускулы напряглись, как для прыжка… Тут уж не до почтения к иерархии! Он, Дзамполь, сейчас же разыщет комиссара и с глазу на глаз выложит шефу все, что думает о нем, а заодно и о его методах работы! А потом он все расскажет начальнику полиции! Посмотрим, на чью сторону встанет Бенито Дзоппи!
Ни с кем не прощаясь и оттолкнув в сторону загораживавшего дверь Анджело, инспектор ринулся на улицу, вопя во все горло:
— Ах, комиссар Тарчинини, да?
Глава 6
Под впечатлением недавней поездки Ромео Тарчинини совсем забыл об угрызениях совести, мучивших его после того, как он сыграл скверную шутку с Алессандро Дзамполем. Будучи до мозга костей полицейским, комиссар не терпел бессмысленных загадок, а потому с особым тщанием обдумывал недавнее путешествие в Пинероло и все, что там произошло. Тем не менее Ромео никак не мог взять в толк, чего ради вдове Росси понадобилось его разыгрывать. Тарчинини не выносил, когда его принимали за дурака, и готов был приписать этой женщине все возможные грехи и заподозрить в самых дурных намерениях только за то, что позволила себе обвести его, комиссара, вокруг пальца.
Утром Ромео встал, все еще обдумывая проблему, не дававшую ему покоя вчера по дороге в гостиницу, и в той же глубокой задумчивости пришел в управление уголовной полиции. Зачем синьоре Росси вздумалось симулировать агонию, если еще утром она рассказала всему городу о своем скором замужестве? Навязчивая мысль настолько занимала Тарчинини, что он даже не заметил, как холодно поздоровался с ним Дзамполь, впрочем, холодность его выражалась всего-навсего в несколько натянутом молчании. Однако комиссар больше привык говорить сам, нежели выслушивать других, а потому внезапная немота подчиненного привлекла его внимание далеко не сразу. Усевшись за стол, Ромео по обыкновению принялся разглагольствовать:
— Феноменальная актриса эта Росси!.. Я вхожу в дом, представляюсь, а служанка говорит, что у хозяйки вывих и она никого не принимает… Я настаиваю на встрече… и вижу умирающую, буквально при последнем издыхании! Вы меня знаете, Алессандро, такт — основная черта моего характера…
Комиссар даже не слышал вздоха подчиненного, гораздо больше похожего на рык разъяренного тигра, готового броситься на добычу.
— Само собой разумеется, я смущенно предложил отложить разговор до лучших времен, но она меня удержала, заявив, что в ее положении загадывать на будущее было бы слишком опрометчиво… Деликатно задав несколько вопросов, я выяснил, что синьора знала о Нино Регацци лишь понаслышке, точнее, из письма дяди, сообщившего племяннице, что оставляет все состояние своему незаконнорожденному сыну, то есть нашему берсальеру… Короче, я ретировался чуть ли не на цыпочках, в полной уверенности, что имел неосторожность без особой нужды нарушить покой последних минут особы, и без того не слишком избалованной жизнью… Однако в кафе лечащий врач синьоры Росси поведал мне, что его пациентка чувствует себя превосходно, утром он встретил ее бодрой и свежей как огурчик, и, более того, синьора оповестила его о своем скором замужестве! Ну, Алессандро, что вы на это скажете?
— Что мне плевать!
До Тарчинини не сразу дошла вся непристойность такого ответа. И немало времени утекло, прежде чем он уверовал, что корректный Алессандро Дзамполь и в самом деле позволил себе подобную грубость, несовместимую ни с иерархией, ни с правилами вежливости, принятыми среди воспитанных людей. Бедняга Ромео настолько опешил, что лишь пробормотал:
— И это вы… вы, Алессандро, по… позволяете себе раз… говаривать со мной таким тоном?
— Совершенно верно, синьор комиссар!
— Но послушайте, Алессандро, вы ведь воспитанный молодой человек, превосходный полицейский и, наконец, мой друг?
— Я действительно люблю свою работу и стараюсь выполнять ее как можно лучше. И я был-таки воспитанным человеком, как вы любезно заметили, однако лишь до тех пор, пока некоему веронцу не взбрело на ум сунуть нос в мои личные дела! Что до нашей дружбы, то, может, я и был вашим другом, но, поистине, теперь считаю вас своим самым опасным врагом!
— Меня?
— Да, вас, господин комиссар, и я ждал вашего возвращения, прежде чем отправиться к синьору Дзоппи и попросить его перевести меня в другой отдел или же принять отставку!
Тарчинини с трудом сдержал слезы, чувствуя, что проявление слабости в такой момент окончательно погубит его престиж, но гнев Дзамполя потряс его до глубины души, ибо добряк Ромео уже успел привязаться к молодому человеку.
— Но почему, Алессандро?
— Почему?!
Инспектор встал. Он был бледен как полотно, глаза смотрели в одну точку, а губы кривила недобрая усмешка. Короче, весь облик Дзамполя являл собой живое воплощение попранной справедливости и оскорбленной добродетели.
— Потому что вчера вечером, выполняя ваш приказ, я сходил к Дани!
Ромео почувствовал, как вдоль его позвоночника заструился холодный пот, а волосы встали дыбом, ибо он хорошо представлял дальнейший ход событий — замечание помощника живейшим образом напомнило комиссару о вырвавшихся у него неосторожных словах. В тщетной надежде сделать вид, будто он совершенно ни при чем, Ромео попытался напустить на себя самый беззаботный вид.
— Ну и что?
Тарчинини отчетливо видел, как Алессандро закрыл глаза, сжал кулаки и зашевелил губами, видимо умоляя ангела-хранителя удержать его от кровопролития и помешать броситься на шефа. Осторожности ради комиссар слегка отодвинул кресло от стола, дабы в случае необходимости быстрее добраться до двери.
— И там я неожиданно узнал, что, оказывается, безумно влюблен в Стеллу Дани и мечтаю лишь об одном: поскорее жениться и дать свое имя маленькому незаконнорожденному, которого она носит во чреве! Я попытался возражать — и этот убийца Анджело чуть не отправил меня в мир иной. Так что, не вмешайся чокнутая бабка, я бы уже наверняка был покойником! А знаете, почему в этом сумасшедшем доме все вообразили, будто я готов предложить руку и сердце чужой любовнице, признать своим ее чадо, согласиться иметь теткой рехнутую старуху, а шурином — убийцу? Да только потому, что какой-то чертов комиссар, сунувшись не в свое дело, осмелился уверить Стеллу Дани, будто я обожаю ее больше всего на свете и полюблю ее отпрыска, как своего собственного!
— А это неправда?
Теперь уже Алессандро лишился дара речи — уж очень беспардонно прозвучал вопрос. Комиссар воспользовался его молчанием, вскочил и, обогнув стол, левой рукой схватил правую длань Дзамполя, а другую положил на плечо тому, кого, невзирая на легкое (с его точки зрения) недоразумение, продолжал считать другом.
— Алессандро… Неужто ты и мне осмелишься сказать, будто эта крошка тебе не по душе?
Инспектор на мгновение запнулся, и Ромео почувствовал, что, хоть до победы еще далеко, контуры ее уже вырисовываются.
— Не в том дело! — буркнул Дзамполь.
— Не пытайся лукавить с самим собой, Алессандро!.. Тебе нравится Стелла? Отвечай: да или нет? И сразу предупреждаю: если ты ответишь отрицательно, я все равно не поверю! Это дитя просто прелесть!
Дзамполь с горечью хмыкнул:
— Ничего себе дитя!.. Она уже успела пожить в свое удовольствие, не так ли?
— А ты?
— Это совсем другое дело!
— Только потому, что ты побывал в мэрии и церкви? Подобные аргументы недостойны тебя, Алессандро! У Стеллы был муж, у тебя жена, так что вы — квиты! Она вдова, ты — вдовец! Бедняжке не повезло с мужем? Ты тоже не обрел особого блаженства в браке. Да вы просто созданы друг для друга! Ты попросишь руки Стеллы, женишься — и делу конец. Тут и говорить не о чем!
— Не о чем говорить? — возопил инспектор. — Так, значит, вы меня жените, делаете отцом семейства, прежде чем я успею все обдумать, а в утешение не находите ничего лучше, как заявить, будто тут и без того все ясно? Ну нет! Разговор еще далеко не исчерпан! Не знаю, как принято поступать у вас в Вероне, синьор Тарчинини, но мы, туринцы, не имеем обыкновения заключать браки с бухты-барахты, наплевав на общественное мнение! И, кстати, по какому праву вы вмешиваетесь в мою личную жизнь?
— По праву дружбы! А еще потому, что ты мне очень нравишься, Алессандро… и я запрещаю тебе смеяться над этим… Возможно, я ошибся, но… с тех пор как мы познакомились, у меня возникло ощущение, что ты глубоко несчастлив и взъелся на всех женщин только за то, что крайне неудачно выбрал себе спутницу жизни… И потом, мне ужасно жаль очаровательную крошку Стеллу, которая за первую же совершенную глупость расплачивается внебрачным ребенком и вдобавок потеряла того, кто мог бы стать ее мужем… Вот я и сказал себе: в его годы мой друг Алессандро уже ни за что не найдет такой красивой девушки! И он наверняка обретет с ней истинное счастье, поскольку Стелла никогда не забудет, что именно он вернул ей честь! А что до малыша… Он, как пить дать, вырастет настоящим красавчиком. Уж прости меня, Алессандро, но вряд ли тебе удастся зачать такого, поскольку хоть покойный берсальер и немногого стоил чисто по-человечески, но уж насчет внешности — пардон! А ребенок так и не узнает, что ты ему не родной отец: во-первых, никто об этом даже не догадается, а во-вторых, мой Алессандро, с его золотым сердцем, привяжется к малышу! Вот что заставило меня заговорить о тебе со Стеллой… А она так обрадовалась… Будто я вернул ей смысл жизни! И еще я подумал, что в первый раз ты настолько неудачно выбрал подругу, что разумнее хоть теперь воспользоваться дружеской помощью… Мне бы не хотелось огорчать тебя, Алессандро, равно как и принуждать к чему бы то ни было. И лишь искренняя привязанность побудила немного обмануть Стеллу. Прости, если я не прав… Сейчас же пойду к Дани и повинюсь перед девушкой. Видно, бедняге на роду написано остаться матерью-одиночкой, а ее ребенку — незаконнорожденным, несчастным безотцовщиной… Ma que! В конце концов, это же ее вина, правда?
— Ее вина, ее вина… Не стоит все-таки преувеличивать! Этот берсальер оказался записным соблазнителем и обманщиком! А чем чище и неискушеннее девушка, тем легче ей угодить в сети…
— Короче говоря, — елейным тоном заметил хитрюга Ромео, — если я тебя правильно понял, Алессандро, тем, кто поддавался очарованию берсальера, в сущности, следовало бы выдавать свидетельство о благонравии?
— Право же…
Тарчинини так тяжко вздохнул, что человек более проницательный, нежели бедняга инспектор, наверняка заподозрил бы его в лукавстве.
— А теперь повторяю тебе, Алессандро, без всякой горечи: оставим этот разговор… Забудь мой необдуманный и неловкий поступок, хоть я и пытался действовать из самых добрых побуждений. И давай вернемся к нашей работе…
— По-вашему, я сейчас в состоянии работать? Вы хоть представляете, что подумает обо мне Стелла? Да она запросто может счесть меня таким же мерзавцем, как берсальер… хотя и менее красивым, о чем вы мне столь любезно напомнили!
— Но ты ведь совершенно ни при чем, виноват я один!
— Да, но вы-то не можете жениться на девушке!
— А ты не хочешь! По-моему, результат — один и тот же, разве нет?
— Не совсем… По вашей милости Стелла поверила, что я ее люблю!
— Так я скажу, что ошибся и на самом деле ты вовсе ее не любишь… Доволен?
— Доволен? Послушать вас, синьор Тарчинини, иногда невольно задумаешься, есть ли у вас сердце! Кто же это может радоваться, причиняя другому разочарование и горе? И потом… в глубине души я вовсе не уверен, что не испытываю к Стелле никаких чувств… О, разумеется, это еще не бог весть что… Робкий намек на нежность… так что не стоит и огород городить…
— А уж тем более жениться?
— Вне всяких сомнений!
— Но в таком случае, Алессандро, почему ты не хочешь, чтобы я сходил к Дани и попросил прощения?
— Это уже не ваша забота! И вообще мое дело! Ну скажите, что вы можете возразить, если бы мне и впрямь захотелось жениться на этой Стелле?
— Что она уже не девушка…
— А я, по-вашему, сосунок? Уж не принимаете ли вы меня за наивного мальчишку?
— И кроме того, у нее будет ребенок…
Дзамполь хмыкнул:
— Сколько мужчин с гордостью прогуливаются под руку с беременными женами, воображая, будто те носят во чреве их дитя? Я, по крайней мере, заранее знаю, как обстоит дело! Говорю же вам, это касается меня одного! И по какому праву вы мешаете мне жениться?!
До Алессандро вдруг дошло, что он сейчас сказал. Молодой человек осекся, но при виде растроганной, улыбающейся физиономии и не подумал идти на попятный. Инспектор улыбнулся в ответ, и они, рыдая, упали друг другу в объятия.
— Когда ты понял, что любишь ее, Алессандро?
— Сегодня ночью… Я никак не мог уснуть… Злился на вас, на нее, на целый свет… и прокручивал в голове все гадости, которых наговорю вам, Стелле и ее брату, а потом в мертвой тишине комнаты вдруг словно наяву услышал ее нежный и доверчивый голосок… Тогда-то до меня и дошло, что я больше не смогу жить счастливо, не слыша его… Но только, понимаете… тут еще вмешалось самолюбие… Не мог же я допустить, чтобы вы без меня меня женили?.. Ну и хитрец же вы, синьор комиссар!..
— Нет… Всего-навсего — вечный влюбленный и таковым останусь до конца своих дней… Я чувствую настоящую любовь, где бы она ни таилась и как бы тщательно ее ни пытались скрыть… Это истинный дар, Алессандро! Отныне я считаю тебя своим сыном и готов стать крестным твоего первенца, но только ты должен назвать его Ромео. Обещаешь?
— А если родится девочка, пусть будет Джульеттой? Клянусь!
Мужчины снова сели в кресла.
— С божьей помощью, — заметил Тарчинини, — похоже, в семье скоро будет три Джульетты: моя жена, дочь и крестница — твоя дочка, Алессандро!
— Вы и впрямь думаете, что она станет моей?
— Пусть только кто-нибудь при мне посмеет усомниться в твоем отцовстве! Как только мы арестуем убийцу берсальера, я позвоню жене и вызову ее сюда — пусть познакомится с вами обоими!
Они помолчали, восстанавливая душевное равновесие, ибо всего несколько минут назад едва не разругались насмерть, а теперь, после примирения, Тарчинини сообразил, что чуть ли не силком, в сущности, женил помощника, несмотря на глубокое отвращение последнего к брачным узам. Так что обоим было с чего перевести дух! И теперь подобно двум противникам, неожиданно для себя самих уступившим не свойственному им порыву, они в полной растерянности глядели друг на друга, не зная, что еще сказать. Наконец Дзамполь нарушил затянувшееся молчание:
— Кстати, насчет мэтра Серантони… Мы проверили его рассказ. Все верно. Синьорина Грампа без особого нажима призналась, что работает сообща с громилами из «Желтой бабочки» и все они извлекают немалую выгоду, облегчая кошельки неосторожных буржуа, решивших поразвлечься на стороне. Молодую особу арестовали вместе с сообщниками, а заведение прикрыли. Коллеги обещали мне не упоминать на суде имя нотариуса. Впрочем, думаю, вся компания отделается легким испугом, ибо огласка в таком деле весьма нежелательна. Вы меня понимаете?
— Конечно… и синьорина Грампа не замедлит наложить лапу на мэтра Серантони… ибо он по-прежнему питает иллюзии, что на склоне лет обрел сокровище, которого дотоле никак не мог найти, в отличие от нас с вами, Алессандро…
И теперь, когда смущение окончательно рассеялось, мужчины заговорщически подмигнули друг другу. Оба чувствовали себя вполне счастливыми.
Стелла Дани провела мучительную ночь. После стремительного бегства инспектора Анджело совершенно озверел, обвиняя сестру в преднамеренном обмане и ругая последними словами. Еще долго он на весь квартал выкрикивал имена всех, кого твердо намерен отправить к праотцам, причем совершенно забыв, что самый красивый из берсальеров уже может не опасаться возмездия, добавил и его к числу тех, кого приговорил к смерти, дабы восстановить поруганную честь семейства. «Бедной тете» Пии пришлось вмешаться и попробовать восстановить спокойствие в доме, словно охваченном бушеванием свирепого циклона, а поскольку в тот момент к ней снова вернулся рассудок, старуха принялась с жаром отчитывать племянника:
— Ma que! Да за кого ты себя принимаешь, Анджело? За Аттилу, Тамерлана или, может, за Чингисхана? А то и за Гитлера вкупе с Муссолини? Немедленно сбавь тон, малыш! Тебе бы следовало постыдиться так разговаривать с той, кого доверили тебе родители! Хорошенькую же помощь ты оказываешь сестре! С девочкой стряслась беда, а вместо утешения ты осыпаешь ее оскорблениями? У тебя что же, совсем нет сердца?
Но Анджело пребывал в таком бешенстве, что не мог сразу успокоиться. Он подошел к тетке.
— Выслушайте меня, zia, и попытайтесь хоть на сей раз понять!
— Grazie tante![305] Я отлично знаю, что порой не в себе, но это не значит, будто я окончательно рехнулась! И постарайся зарубить себе это на носу, иначе схлопочешь оплеуху, ясно?
Анджело огромным усилием воли попытался взять себя в руки.
— Вот что, zia, я вас очень люблю и уважаю, несмотря на все ваши странности, но лучше не вмешивайтесь в то, что касается Стеллы, тут вы все равно ничего не в силах понять!
— Зато ты, надо думать, понимаешь очень много! Прямо-таки специалист! Ну так я тебя спрашиваю: откуда такие познания, знаток? Ты хоть раз влюбился в девушку? Или, может, собирался жениться? Думал ты когда-нибудь о собственном семейном очаге?
— Иисусе Христе! По-вашему, мне мало нашего? Хватит того, что Стелла нас обесчестила!
— Ты рассуждаешь совсем как твой дед! И знаешь, что я тебе скажу, Анджело: я вовсе не считаю, что ошибка нашей дорогой Стеллы лишила меня доброго имени! Да, ее обманули, но что с того? Многих других морочат уже после свадьбы, а с ней, бедняжкой, несчастье случилось раньше… Ты ведь не станешь упрекать всех обманутых жен, скажи?
— А что вы будете делать, когда Стелла родит ребенка без мужа?
— Что делать? Помогу ей воспитать малыша, разумеется!
— Я ненавижу его заранее, прежде чем он появился на свет!
— Que vergogna![306] Ну что ж, тогда мы уйдем из дому все втроем и докажем, что вполне способны обойтись без твоей помощи!
— Могли бы доказать мне это и раньше!
— Ты упрекаешь меня за кусок хлеба? Va bene![307] Ты ужасный человек, Анджело! И если хочешь знать, меня нисколько не удивит, если в конце концов окажется, что ты и убил этого берсальера!
И «бедная тетя» удалилась в комнату Стеллы, оставив племянника в полной прострации.
Наутро Анджело ушел из дому, даже не позавтракав, дабы показать, что больше не желает иметь ничего общего с женщинами, вдруг превратившимися в его врагов. По правде говоря, ни он, ни Стелла, ни Пия не придавали особого значения собственным словам, однако делали вид, будто не сомневаются в их истинности, что позволяло каждому упиваться своим горем.
Ромео, полагая, что совершил один из лучших поступков за всю свою сознательную жизнь, пребывал в полной эйфории и тут же попросил у инспектора разрешения оповестить о событии жену. Дзамполь не стал возражать, а, более того, с восторгом согласился. И Джульетта, в который раз оторвавшись от домашних хлопот, узнала от супруга, что им предстоит стать крестными будущего ребенка инспектора, причем, несомненно, самого выдающегося младенца в Турине, ибо его папа — достойнейший человек во всей Италии. Джульетта немедленно отнеслась к новости с подозрением.
— Скажи-ка, Ромео, уж не ты ли, случаем, собираешься стать отцом?
Тарчинини на мгновение остолбенел, потом, оправившись от изумления, расхохотался.
— Да нет же, Джульетта миа, мало того, что на всей нашей планете лишь одна женщина способна очаровать меня до такой степени, но, поскольку я провел в Турине всего несколько дней, сама понимаешь, это было бы слишком…
Джульетта обещала приехать в Турин, как только ей сообщат день и час, когда потребуется ее присутствие.
— Ты же отлично знаешь, cuor mio[308], что я живу лишь тобой, и, если Всевышний, снизойдя к моей просьбе, позволит мне умереть первым, я буду ужасно страдать в раю, пока ты снова не присоединишься ко мне! — проворковал Ромео.
У Тарчинини, как и у его супруги, не возникало никаких сомнений, что обоим уготовано место в раю, если только справедливость Всевышнего не преувеличивают.
Когда Ромео повесил трубку, лицо его выражало такое блаженство, что комиссар выглядел лет на десять моложе обычного, и Алессандро от души понадеялся, что однажды и с ним произойдет нечто подобное после телефонного разговора со Стеллой, той самой Стеллой, которой он, в сущности, еще почти не знал.
— Алессандро, надо ковать железо, пока горячо! Я бегу в гостиницу за белыми перчатками, а потом мы вместе отправимся к Дани просить руки Стеллы!
Дзамполь почувствовал, что сопротивляться бесполезно. И потом, в глубине души он вовсе не испытывал желания спорить с шефом! Оба они уже собирались уходить, как вдруг зазвонил телефон. Инспектор снял трубку и почти сразу передал ее комиссару.
— Это вас… врач из Пинероло…
— Да, знаю… Здравствуйте, доктор… Вы хотите сообщить мне, кто покорил сердце богатой наследницы?.. Что?! Кто?! Не может быть!.. Она сама вам сказала?.. В таком случае… Совершенно невероятно… О нет, я не могу вам ничего объяснить по телефону… И часто он приезжал в Пинероло?.. Вы его ни разу не видели?.. Странно, правда?.. Во всяком случае, спасибо, доктор! И — до скорой встречи, ибо я наверняка не сегодня завтра снова загляну в Пинероло… До свидания и еще раз спасибо!!!
Тарчинини задумчиво опустил трубку на рычаг и суровым, довольно удивительным для такого весельчака тоном заметил:
— Очень возможно, Алессандро, что вам не придется стать зятем убийцы…
— Вы думаете, Стелла не согласится выйти за меня замуж?
— Не в том дело! Боюсь только, я с самого начала угодил пальцем в небо и, по всей видимости, Анджело Дани не имеет ни малейшего отношения к убийству берсальера… Угадайте, кто женится на вдове Росси и ее шестидесяти миллионах лир? Доктор Джузеппе Менегоццо!
— Ну и ну! А это точно?
— Куда уж точнее! Я даже вроде бы уловил легкую досаду в голосе собеседника… Похоже, везение коллеги его здорово уязвило…
— Но в таком случае, синьор комиссар…
— Dolcemente[309], Алессандро! Не стоит проявлять излишнее рвение! Пока ничто не доказывает, что доктор Менегоццо — не самый обычный охотник за приданым! Не стоит забывать, что в момент убийства берсальера он присутствовал на муниципальном собрании в Сузе! Верно?
— Так чем мы сейчас займемся?
— Программа — та же. Мы едем к Дани!
— Но, шеф, вам не кажется, что…
— Я полагаю, инспектор Дзамполь, что мы всегда успеем обелить или арестовать подозреваемого, зато хорошая жена не валяется на дороге! И раз уж вам повезло найти подходящую супругу, лучше не выпускать ее из рук! В путь, Алессандро!
За столом Дани царила мертвая тишина. Мрачный настрой Анджело, печаль Стеллы и отрешенность тетки не располагали к разговорам. Поэтому все в полном молчании ели поленту с горячей свининой. Из троих сотрапезников Пия меньше других поддавалась общему пессимизму. Судя по ее отсутствующему виду и внезапным приступам смеха, бывшая учительница вновь вернулась в свой собственный призрачный мир. Неожиданно она стукнула Анджело по руке черенком ножа.
— Перестань класть локти на стол!
И, прежде чем парень успел отреагировать, старуха повернулась к Стелле.
— А ты прекрати шмыгать носом! — приказала она. — Хотела бы я знать, где вы набрались таких отвратительных манер! Если будете продолжать в том же духе — попрошу священника не допускать вас с первому причастию! Слышишь, Анджело?
Молодой человек, не выдержав, так неприлично выругался, что Стелла вздрогнула, а «бедная тетя» отвесила ему здоровенную оплеуху.
— Turco! — возопила возмущенная старая дева. — Bestiemmiatore! Maledetta![310] Я лишаю тебя десерта!
И, дабы не быть голословной, она утащила из-под носа Анджело тарелку с полентой, унесла ее на кухню и вытряхнула в помойное ведро. Племянник сначала замер от удивления, потом вскочил и спокойно (что придало еще больше веса его словам) бросил сестре:
— Чокнутая и шлюха — это чересчур для одного дома! Я отступаюсь! Завтра же утром собираю манатки, и выкручивайтесь сами, как хотите! Может, у меня тоже есть право жить по-человечески, а?
Негромкий стук в дверь помешал этой сцене закончиться мелодрамой.
— Кто бы это мог быть? — пролепетала Стелла.
— Как по-твоему, откуда мне знать? — сухо отозвался Анджело. — Если ты не в курсе, могу сообщить, что пока не научился видеть сквозь стены!
Стелла открыла дверь и при виде полицейских мучительно покраснела. Тарчинини решительно вошел в дом, а за ним — смущенный Дзамполь. Анджело встретил гостей недовольной гримасой.
— Решительно, сегодня у меня на редкость невезучий день! Просто невероятно! И надо ж, чтоб все свалилось на голову разом!
Комиссар вежливо кивнул тете Пии, а синьору Дани отвесил весьма церемонный поклон. Однако прежде чем Тарчинини начал заготовленную по дороге речь, «бедная тетя» бросилась к нему и, прижав к тощей груди, возопила:
— Как хорошо, что ты надел белые перчатки, мой мальчик! Это просто замечательно! Падре будет очень доволен тобой! Право, ты заслуживаешь конфеты!
Покопавшись в складках юбки, старуха извлекла нечто липкое, весьма сомнительной чистоты, и насильно засунула в рот несчастного комиссара. Стелла наблюдала за сценой с ужасом, ее брат насмешливо, инспектора же мучили сомнения, ибо он никак не мог решить, стоит ли вмешаться. Ромео бросил на помощника взгляд, явственно сказавший последнему, что он приносит себя на алтарь дружбы во имя будущего семейного благополучия Алессандро. И это тронуло инспектора до глубины души. А тетушка Пия ласково похлопала страдальца по щеке.
— Теперь можешь поиграть, — заявила она и с достоинством удалилась к себе на кухню.
— Мы должны проявлять особое снисхождение к тем, у кого поврежден рассудок, и подчиняться их капризам, если, конечно, это не требует от нас слишком больших жертв, — изрек Ромео с таким пафосом, словно вещал с кафедры собора. Однако к Анджело он обратился уже совсем другим тоном: — Синьор Дани, мы пришли сюда повидать вас.
Парень пожал плечами и с горечью усмехнулся.
— Так я и думал… Вы меня арестуете?
— Вовсе нет! Ни о каком аресте и речи быть не может, мы хотим испросить вашего согласия… Мой помощник инспектор Дзамполь, кстати, весьма достойный полицейский, — вдовец. Не секрет, что его супружеская жизнь сложилась не особенно удачно… Инспектор уже смирился с мыслью об одинокой старости, ибо первый брак нанес ему тяжкую рану, но, к счастью, познакомился с вашей сестрой, синьориной Дани. И вот Алессандро подумал, что они вместе могли бы начать жизнь заново. Поэтому-то, синьор, как будущий крестный их первенца (того, что скоро появится на свет) я имею честь просить вас отдать руку вашей сестры моему другу, инспектору первого класса Алессандро Дзамполю.
Анджело недоверчиво уставился на комиссара:
— А вы, случаем, не издеваетесь надо мной?
— Знай вы получше Ромео Тарчинини, синьор, никогда не позволили бы себе заподозрить, будто он способен шутить на такую серьезную тему, как любовь!
И, не в силах более сдерживать природную восторженность, Ромео дал наконец волю чувствам:
— Ma que! Ну что за манеры, Анджело? Эти двое любят друг друга, так чего вы ждете? Трудно вам, что ли, дать согласие? Поглядите на этого беднягу! Да парень просто гибнет с тоски, так что, глядя на него, сердце разрывается! И с каждым днем несчастный все больше чахнет… Нет-нет, не спорьте, Алессандро! Это чистая правда! Если так пойдет и дальше, с вами просто-напросто станет невозможно общаться! Вас надо срочно женить, коли не хотите в сумасшедший дом! А она? Скажите на милость, что будет с несчастной, когда родится ребенок, а? Предупреждаю вас, Анджело Дани, попробуйте только заартачиться — и я живо упеку вас в тюрьму, уж там-то у вас хватит времени поразмыслить!
Стелла, естественно, рыдала, правда сама не зная почему: то ли от радости, что ее так любят, то ли огорчаясь упрямством брата. Что до Дзамполя, то он еще ни разу не видел и не слышал, чтобы сватовство происходило таким странным образом. Зато минуту назад кипевший от злости Дани при упоминании о тюрьме мигом успокоился.
— Ах, вы все-таки твердо намерены усадить меня за решетку? Похоже, у вас это навязчивая мысль! То вы жаждете отправить меня туда по обвинению в убийстве, то потому что я не тороплюсь принимать в семью полицейского!
Он повернулся к Алессандро:
— И вас не смущает перспектива иметь шурином преступника, а?
Тарчинини поспешил вмешаться:
— Теперь я уже отнюдь не уверен, что вы имеете какое бы то ни было отношение к убийству Нино Регацци…
— Это правда?
— Правда! Даю вам слово! А слово веронца кое-что значит, per bacco! И я не позволю ни одному пьемонтцу в нем усомниться!
Дани больше не колебался. Оглядев всех присутствующих, он подошел к сестре, взял ее за руку и подвел к Дзамполю.
— Берите ее, инспектор, вы возвращаете честь нашей семье, а взамен я не стану наносить урон вашей… Я и впрямь не убивал берсальера Нино Регацци и сейчас вам это докажу…
Они услышали, как Анджело возится на кухне, а «бедная тетя» во весь голос поет «Приди, Создатель». Наконец Дани вернулся с каким-то грязным свертком в руках и протянул его Тарчинини.
— Ваши ищейки не так уж проницательны, синьор комиссар, — заметил он. — Это лежало в каминной трубе…
Ромео без особого энтузиазма взял сверток и с брезгливой гримасой осведомился:
— Что там такое?
— Оружие, которым закололи Нино Регацци.
Парень ответил так спокойно, что никто не издал ни звука, лишь Стелла, вообразив, будто новое происшествие помешает ей стать синьорой Дзамполь, жалобно застонала, придав и без того драматичной сцене скорбный музыкальный фон. Ромео развернул пакет.
— Каким образом это оружие оказалось у вас?
— Я сам вытащил его из груди покойника.
— Зачем?
— Да просто я не хотел, чтобы вы поймали убийцу! Прикончив берсальера, он, сам того не ведая, отомстил за честь Дани!
— Но в таком случае, почему вдруг…
— А сейчас я не хочу мешать счастью Стеллы… И кроме того, вы ведь сказали, что больше не верите в мою виновность.
Тарчинини размотал тряпку и, увидев на лезвии засохшие пятна крови, невольно вскрикнул.
— На сей раз, Алессандро, все ясно, а?
— Я в себя не могу прийти от удивления, шеф!
— Что ж, торопиться некуда… А вас, Анджело Дани, мне следовало бы арестовать за намеренное сокрытие важных улик, да нельзя тянуть со свадьбой вашей сестры, ее надо отпраздновать как можно скорее… Ну, так согласны вы или нет?
— Разумеется, да!
— Хорошо… А теперь расскажите нам, как к вам попал этот нож.
— Пригрозив берсальеру в присутствии дома Марино, я тихонько пошел следом… Мне хотелось набить мерзавцу морду и предупредить, что не отстану, пока он не даст слово жениться на Стелле. Весь вечер я ходил за Регацци по пятам, собираясь хорошенько вздуть его возле казармы, поскольку ночью там нет ни души. И вот, когда я уже хотел подойти, из тени вынырнул какой-то тип, ударил берсальера и тот упал. Я бросился туда, и тот, кто нанес удар, тут же исчез в темноте. Убедившись, что Регацци мертв, я решил не выдавать убийцу, поскольку он невольно отомстил за нашу честь. Я обернул его нож платком и вытащил из раны, а рядом с телом бросил другой, тот, что купил незадолго до этого. Таким образом я надеялся сбить вас со следа.
— Черт знает что! — взорвался Тарчинини. — Я просто обязан за подобные фокусы отправить вас на каторгу! Однако ради Стеллы уж придется лишить себя такого удовольствия. А сейчас самое время объявить о помолвке. Сегодня ближе к вечеру нам с Алессандро надо съездить в горы, а вернемся к праздничному ужину и тогда уж отпразднуем обручение. Расходы я беру на себя! Пойдемте, Дзамполь!
События с такой стремительностью следовали одно за другим, что у Стеллы кружилась голова. Она уже чувствовала, что сейчас упадет в обморок, как вдруг дверь кухни с шумом распахнулась и «бедная тетя», неся зажженную свечу, торжественно прошествовала в комнату, распевая:
Il campanile scocca
La Mezzanotte santa
E'nato!
Alleluja! Alleluja![311]
Стелла бросилась к тетке.
— Ma que, zia! Сейчас еще вовсе не Рождество!
А Тарчинини, поторапливая помощника в управление уголовной полиции, заметил:
— Если хотите знать мое мнение, Алессандро, с тетушкой Пией вы никогда не соскучитесь!
Утром Валерия Росси велела Паскуалине приготовить на ужин «оссо буко», и весь день доносившиеся с кухни ароматы дразнили ее обоняние. Наконец, около шести вечера, синьора Росси села за стол, с нежностью думая о том, кто вскоре разделит ее трапезы, но, поскольку время романтических грез, лишающих молодых людей аппетита, для Валерии уже миновало, она с таким рвением принялась за «оссо буко», что вскоре для Паскуалины осталась лишь ничтожная часть лакомого блюда, да и эта жертва стоила синьоре Росси некоторых сожалений. Во избежание удушья вдова осушила бутылку барбареско, а изрядный кусок сыра помог ей допить вино до дна. Однако на этом ужин не закончился, и Валерия с удовольствием отведала приготовленного служанкой на десерт кастаньячика[312], запивая его мускатом.
После столь плотного ужина Валерия несколько отяжелела, но, подумав, как много вкусных кушаний и разнообразных вин сулит ей будущее наследство, сразу развесели все точки над i при новой встрече, а до нее оставались считанные минуты. Об этом и размышляла синьора Росси, когда в дверь тихонько постучали. Сначала вдова немного удивилась, но потом с умилением подумала, что жених проявляет весьма лестное нетерпение… В дверь снова постучали, на сей раз громче, и вдова весело крикнула:
— Паскуалина! Открывай скорее, а то он, пожалуй, ворвется силой!
Потом вдова поспешно опустилась в кресло и приняла позу, которая, по ее мнению, должна сразу внушить жениху почтение и заставить его повиноваться. Однако вместо суженого в комнату вошел уже знакомый ей полицейский, а вместе с ним — еще какой-то мужчина. Вдова вздрогнула от неожиданности.
— Синьора Валерия, они меня оттолкнули! — пожаловалась служанка.
— Довольно, Паскуалина, возвращайся к себе на кухню, а со стола уберешь потом. Что означает это вторжение, синьоры?
Вдова уже успела прийти в себя, и голос ее звучал более чем сухо. Тарчинини любезно поклонился:
— Вчера я оставил вас в столь плачевном состоянии, синьора, что мне непременно хотелось справиться о вашем здоровье…
Ромео, выразительно окинув взором уставленный остатками недавней трапезы стол, вздохнул с нескрываемым облегчением.
— Я вижу, вам стало намного лучше. Искренне рад за вас, синьора.
Вдова содрогалась от с трудом сдерживаемой злобы.
— По-моему, эта комедия — весьма дурного вкуса, синьор комиссар! — едко заметила она.
Тарчинини в свою очередь изменил тон:
— Так или иначе, она куда менее отвратительна, нежели та, что вы разыграли передо мной вчера, прикидываясь умирающей! И сейчас я пришел сюда узнать причины столь недостойного маскарада! А в крайнем случае — и потребовать объяснений!
— По какому праву?
— По праву полицейского, разыскивающего преступника, синьора!
— Преступника?
— Да, того или ту, кто убил Нино Регацци, собираясь присвоить шестьдесят миллионов лир!
— Что? И вы смеете…
— Я готов пойти даже еще дальше, синьора, и обвинить вас как минимум в пособничестве убийце!
— Меня? Меня?.. Ах, только потому, что я одинокая и беззащитная женщина, вы позволяете себе обращаться со мной таким непозволительным образом! Будь у меня муж…
— Если верить молве, синьора, вы, кажется, не замедлите обзавестись таковым?
Прежде чем хозяйка дома успела ответить, в комнату вошла Паскуалина.
— Пришел доктор, синьора Валерия! — доложила она.
Тарчинини встал и настежь распахнул дверь.
— Входите же, доктор, не стесняйтесь! — громко пригласил он врача. — Вы нам нисколько не помешаете, более того, по правде говоря, мы ожидали вашего появления!
Сначала у врача был довольно жалкий вид, но он быстро взял себя в руки.
— Вы шутите, синьор комиссар?
— И не думаю! Совсем наоборот, доктор… Разве что для вас преступление — веселый фарс!
— Не понимаю…
— Речь идет о смерти берсальера, того самого — помните, доктор? — который унаследовал шестьдесят миллионов… а теперь они переходят к синьоре Росси… а вы ведь собираетесь на ней жениться, не так ли?
— И что с того?
— Это мы еще обсудим, а пока позвольте заметить, что убийца Нино Регацци оказал вам крупную услугу, доктор… и подобной любезности никто не делает бесплатно…
— Поосторожнее, синьор комиссар!
— С чем?
— Вы намекаете, будто я нанял убийцу и натравил на несчастного берсальера, чтобы Валерия унаследовала шестьдесят миллионов, а потом я мог бы на ней жениться!
— Но я вовсе не намекаю, доктор, а просто-напросто утверждаю, что почти все, сказанное вами, — чистая правда!
— Правда?
— Да, с той небольшой разницей, что вы совершили убийство собственными руками!
— Так вы обвиняете меня еще и в убийстве берсальера?
— Совершенно верно, доктор, и вот доказательство!
Тарчинини вытащил из кармана пакет, переданный ему Анджело Дани, развернул грязную тряпку и сунул под нос Джузеппе Менегоццо скальпель.
— Это оружие убийства вы оставили в ране, услышав, как кто-то приближается к месту трагедии… и нашел его не кто иной, как наш друг Анджело Дани.
Доктор смертельно побледнел, но все еще пытался хорохориться.
— Любопытно было бы узнать, каким образом, находясь на собрании муниципалитета Сузе, я мог одновременно оказаться в Турине и совершить там убийство?
— Да очень просто, доктор. Сегодня днем я виделся с секретарем мэрии Сузе и попросил показать мне протокол заседания, проходившего в тот вечер. Вы действительно присутствовали на его открытии, но потом вас вызвали к больному, и вы больше не вернулись. А знаете, откуда вам звонили, доктор? Из Пинероло, где у вас, между прочим, нет ни единого пациента! Быть может, синьора Росси сумеет объяснить нам, кто звонил в муниципалитет?
Однако вдова предпочла благоразумно упасть в обморок, и, пока Паскуалина подносила ей нюхательную соль, комиссар продолжал:
— По-моему, дело было примерно так. Мэтр Серантони рассказал вам о своеобразном завещании Серафино Дзагато, а некоторое время спустя — и о смерти старика. Вы сообразили, что Нино Регацци наследует состояние, однако в случае его гибели шестьдесят миллионов перейдут к Валерии Росси. В Сузе вам уже так наскучило, что вы даже не раз соглашались участвовать в сомнительных приключениях нотариуса, зато шестьдесят миллионов позволили бы вести существование, о котором вы всегда мечтали. Итак, вы поехали в Пинероло, представились Валерии Росси и то ли очаровали ее, то ли предложили сделку — не важно. Но, так или иначе, прежде чем попрощаться до лучших времен, вы уже обо всем сговорились. Брак — в обмен на наследство. Вам предстояло разделаться с берсальером, а в награду получить руку синьоры Росси.
Из кресла послышался глухой стон, и Паскуалина начала тихонько молиться.
— Замечательно продуманный план, доктор, и, думаю, никто бы вас ни в чем не заподозрил, не взбреди вдруг синьоре неудачная мысль разыграть передо мной смехотворную сцену. Да и то я, вероятно, принял бы ее игру за чистую монету, но случайно познакомился в кафе с одним из ваших коллег, который и уверил меня, что Валерия Росси пребывает в самом что ни на есть добром здравии… Счастливый случай, а? Да, вынужден признать, что без него мне так и не удалось бы разгадать загадку. Но почему, черт возьми, вы решили убедить меня, что вот-вот отправитесь в мир иной, синьора?
— Это от страха… мне хотелось отвлечь от себя внимание…
— Проклятая идиотка! — рявкнул врач.
Валерия не осталась в долгу.
— Убийца! — завопила она.
Менегоццо бросился на нее и схватил за горло.
— Заткнитесь! Заткнитесь! Заткнитесь! — как безумный рычал он.
Тарчинини и Дзамполю лишь с величайшим трудом удалось оторвать его от жертвы и привести в чувство Валерию, над которой Паскуалина горестно завывала, словно преданный пес. Как только синьора Росси пришла в себя, комиссар, обращаясь к обоим преступникам, самым дружеским тоном посоветовал:
— Не лучше ли вам спокойно сделать добровольное признание?
— Это все он! — крикнула вдова. — Он все затеял! И он же убил берсальера!
Менегоццо снова вскочил и, пока полицейские удерживали его на месте, последними словами ругал сообщницу:
— Старая карга! Гнусная сова! Да я бы и пальцем не шевельнул, не предложи вы мне жениться на ваших шестидесяти миллионах лир в обмен на убийство берсальера!
— Я отказалась от этих денег, когда вы явились сюда предложить мне эту подлую сделку!
— Надо полагать, она показалась вам не такой уж подлой, раз в конце концов вы дали согласие!
Тарчинини не мешал им переругиваться, пока не счел, что услышанного с лихвой хватит для обвинительного заключения против обоих сообщников. Тогда он их утихомирил, приказал Дзамполю увести доктора в соседнюю комнату и держать под наблюдением, а сам стал записывать показания Валерии.
В тот же вечер Тарчинини и Алессандро Дзамполь, сидя в кабинете начальника уголовной полиции Турина, докладывали об окончании расследования убийства Нино Регацци, при жизни считавшегося самым красивым из берсальеров. В общих чертах рассказ сводился к следующему:
— Возможно, придержи мэтр Серантони язык, ничего бы и не случилось, но Джузеппе Менегоццо был его ближайшим другом и доверенным лицом. Холостяк, доктор отчаянно скучал в Сузе, где его держало лишь полное безденежье. Поэтому Менегоццо безумно позавидовал берсальеру, на чью голову неожиданно свалилось громадное состояние, решив, что парень наверняка не сумеет даже распорядиться им как следует. По словам врача, сначала он и не думал об убийстве, а в Пинероло поехал скорее из чистого любопытства, нежели с определенной целью. Пожалуй, его толкнуло туда циничное желание взглянуть на физиономию особы, которая могла бы стать сказочно богатой, если бы не… Однако, как все наследники, считающие себя несправедливо обделенными, Валерия Росси не могла скрыть горечи и обиды. «И почему только этот проклятый Регацци не умер еще во младенчестве?» — злобно крикнула она. Менегоццо утверждает, будто именно эти слова натолкнули его на мысль убить берсальера. Вроде бы сначала вдова разразилась возмущенными воплями, но потом надежда получить шестьдесят миллионов взяла верх над прочими соображениями, и Валерия согласилась заключить с врачом сделку. Менегоццо вместе с нотариусом съездил в Турин повидать Нино Регацци, а познакомившись с человеком, которого уже твердо решил убить, вернулся в Сузе — присутствие на заседании муниципалитета обеспечивало алиби. Он подписал список присутствующих, однако заранее договорился с вдовой Росси, что она почти тотчас же вызовет его якобы к больному.
— По правде говоря, — заметил Тарчинини, — мы бы распутали это дело гораздо быстрее, если бы чертов дурень Анджело Дани не вбил себе в голову выгораживать убийцу, в котором, видите ли, усмотрел мстителя за семейную честь. Вот и вся грязная история о враче, слишком любившем деньги. А теперь ему придется до конца жизни сидеть в тюрьме и раскаиваться за чрезмерную алчность.
— Да, уж не такого свадебного путешествия ожидала Валерия Росси, — проворчал Дзамполь.
Командировка Тарчинини в Турин закончилась, и он возвращался в Верону. Удачное расследование убийства берсальера в очередной раз прославило его имя. А кроме того, комиссар радовался, что совершил доброе дело, соединив Стеллу Дани и Алессандро Дзамполя. Все трое на станции Порта Нуова ожидали поезда из Вероны, а вместе с ним — и Джульетту Тарчинини, которая, как обещала, должна была приехать за мужем. Когда состав приблизился к перрону, Стелла и Дзамполь деликатно отошли в сторонку. А Ромео бросился вдоль вагонов, выкрикивая имя супруги под хохот и улюлюканье путешественников, коих он, впрочем, даже не замечал. Стелла и ее жених пытались угадать, какая же из пассажирок поезда — та, что заслужила такую безумную любовь комиссара, все его хвалы и дифирамбы. Наконец Стелла указала на красивую светловолосую женщину — похоже, Тарчинини устремился именно к ней.
— Смотрите! Вот она!
И у Стеллы слегка защемило сердце, ибо незнакомка поражала такой необычайной красотой и элегантностью, что скромная кассирша из кафе «Чеккарелло» и в подметки ей не годилась.
— Не может быть! — возразил инспектор. — Не стоит забывать, Стелла, что у них замужняя дочь, а этой женщине не больше тридцати пяти лет!
Впрочем, комиссар пробежал мимо восхитительной блондинки, даже не поглядев в ее сторону, и кинулся в объятия особы, чья ширина почти равнялась росту, так что вместе с мужем они походили на пару китайских или японских ваз. Стелла и Алессандро недоуменно поглядели друг на друга и разразились неудержимым хохотом. Так эта бесформенная масса и есть несравненная Джульетта, равной которой не найдешь на всей Земле? Молодые люди не без тревоги думали, каким образом им удастся сохранить серьезное выражение лиц при виде этой забавной парочки, но когда сияющий от счастья Тарчинини, взяв жену за руку, подвел ее к своим спутникам, неожиданно произошло чудо.
— Джульетта… вот Стелла и Алессандро… Они скоро поженятся и, надеюсь, будут так же счастливы, как мы с тобой…
Дзамполю вдруг расхотелось смеяться, и он подумал, что эта заплывшая жиром женщина в молодости, должно быть, отличалась редкостной красотой, да и сейчас сохранила прекрасные глаза и ослепительную улыбку. А Стелла даже не знала, как ответить на матерински нежный взгляд синьоры Тарчинини. И когда Ромео, гордо выпрямившись во весь рост, спросил: «Ну как, разве в Турине можно встретить такую красавицу?» — у Стеллы и Дзамполя перехватило дыхание, ибо до них внезапно дошло, что такое истинная любовь.
ВЕДИТЕ СЕБЯ ПРИЛИЧНО, АРЧИБАЛЬД!
Леонарду Грайблу [313] — с глубокой симпатией.
Ш.Э.
Главные действующие лица:
Сэр Арчибальд Лаудер, баронет [314].
Леди Рут, его жена.
Джим Фернс, британский консул в Вене.
Эннабель Вулер, секретарша Джима Фернса.
Малькольм Райхоуп, помощник Джима Фернса.
Терри Лаудхэм, помощник Джима Фернса.
Комиссар Гагенбрехт из уголовной полиции Вены.
Глава 1
Каждый день, покидая уютную квартирку на Маргарет-террас, в Челси, Рут Трексмор на мгновение замирала на пороге и окидывала ее кокетливое убранство горделивым взглядом — всего этого она добилась собственным трудом и величайшим рвением. Потом Рут садилась в автобус и с чистой совестью ехала на Оксфорд-стрит в контору фирмы Вулвертон, где заведовала персоналом.
В то утро, как, впрочем, уже довольно давно, едва открыв дверь кабинета, мисс Трексмор посмотрела на вазу из доултонского фарфора — там опять стояли цветы. Этот ежеутренний знак внимания и удивлял, и слегка раздражал Рут, ибо, несмотря на все расспросы служащих конторы, ей так и не удалось выяснить, кто с таким трогательным упорством украшает ее кабинет.
К тридцати годам Рут все еще оставалась очень красивой женщиной и вполне могла внушать самые пылкие чувства, но, возможно, робость предполагаемого воздыхателя объяснялась тем, что служащие фирмы, зная о трудном прошлом мисс Трексмор, хорошо понимали, как мало она теперь склонна доверять любовным излияниям.
Едва Рут села за стол, в дверь постучали. Она крикнула «входите», и на пороге появилась одна из уборщиц — Патрисия Крокет. С первого взгляда на смущенное лицо миссис Крокет Рут поняла, что та пришла с просьбой. Патрисии и вправду хотелось отгулять выходной завтра, поскольку ее брат собрался жениться именно в этот день. Зная суровость мисс Трексмор, молодая женщина начала распространяться о семейном долге, чтобы хоть как-нибудь оправдать подобное нарушение дисциплины, но Рут перебила ее:
— Вот что, миссис Крокет, я согласна дать вам завтра выходной, но с одним условием…
Весь облик Патрисии ясно говорил, что она готова на любые жертвы.
— …вы назовете мне имя того или той, кто каждое утро украшает цветами этот кабинет.
Миссис Крокет колебалась.
— Понимаете, я ведь обещала держать язык за зубами…
— Дело ваше!
— …а кроме того, за молчание мне платят полфунта в неделю… Но если я не скажу имя, вы не отпустите меня завтра, мисс?
— Совершенно верно.
Миссис Крокет тяжело вздохнула:
— Но вы ведь никому не скажете, что это я проболталась, мисс?
— Даю слово.
— Ну, так это сэр Арчибальд.
Рут Трексмор настолько удивилась, что даже не заметила, как Патрисия выскользнула из ее кабинета. Сэр Арчибальд Лаудер… Генеральный инспектор всех представительств фирмы Вулвертон, раскиданных по разным уголкам света… Чтобы сэр Арчибальд — и вдруг в нее влюбился? Да не может быть! Мисс Трексмор невольно рассмеялась — уж очень нелепой выглядела сама мысль о малейших проявлениях человеческих чувств со стороны такого безукоризненного сноба, как баронет. Сэр Арчибальд — живая картинка из мужского журнала мод, и Рут всегда казалось, что для подобного субъекта самое главное в жизни — первым надеть новую модель галстука от «Тэйлор и К°» с Бонд-стрит. Мисс Трексмор достаточно хорошо знала Теренса Вулвертона, вместе с братом Джошуа открывшего в Шеффилде первое отделение их семейной фирмы скобяных изделий, а теперь — коммерческого директора лондонских филиалов, и слышала от него, что сэра Арчибальда Лаудера держат скорее «для шику», как своего рода рекламу. Титул баронета открывал перед ним любые двери, а великосветский тон гипнотизировал оптовых покупателей, которых сэр Арчибальд приглашал в лучшие рестораны столицы. Проведя наедине с баронетом пару часов, никто из них не смел отказаться подписать контракт из опасения, что его оскорбит такое вопиющее хамство.
Сэр Арчибальд… Все утро Рут не могла выбросить из головы неожиданно возникшую перед ней проблему. Эти ежедневные букеты наверняка означали одно — тайную страсть. И мало-помалу прикинув, как прекрасно сэр Арчибальд вписался бы в обстановку квартиры на Маргарет-террас, мисс Трексмор стала склоняться к мысли, что, пожалуй, стать леди было бы совсем неплохо. Разумеется, о том, чтобы по-настоящему влюбиться в сэра Арчибальда, нечего и думать, но в ее возрасте брак по расчету куда предпочтительнее обманчивых порывов страсти. Опять-таки от Теренса Вулвертона Рут знала о материальном положении баронета. Оно представлялось довольно скромным. Сэр Арчибальд жил вместе с матерью в небольшом особняке на Бедфорд Уэй в Блумсбери. Само собой, если мисс Трексмор станет леди Лаудер-младшей, ей придется потратить немало усилий, дабы внушить мужу, насколько важнее заботиться о процветании семейного очага, нежели следовать последней моде Пиккадилли. Однако это не пугало молодую женщину, даже наоборот.
Деятельная натура мисс Трексмор требовала молниеносных решений, и Рут никогда ничего не откладывала в долгий ящик. Обдумав ситуацию, она быстро решала «да» или «нет» и тут же предпринимала соответствующие меры. Поэтому, узнав от диспетчера, что баронет уже на месте, Рут твердым шагом направилась к нему в кабинет.
Мисс Трексмор вошла к сэру Арчибальду, словно воин — на завоеванную собственным мечом территорию. При виде ее баронет встал и отвесил легкий поклон.
— Ваш визит — большая честь для меня, мисс Трексмор…
И он замер, от природной застенчивости явно не зная, что еще сказать. Рут окинула сэра Арчибальда критическим взглядом и пришла к выводу, что женский персонал фирмы Вулвертон не без основания находит в нем некоторое сходство с Гарри Купером, капитаном Труа и плюс к тому — Стивом Мак-Квином.
— Могу я предложить вам сесть, мисс Трексмор?
— Разумеется, тем более что, по-моему, сидя разговаривать гораздо удобнее.
— О да, конечно… вне всяких сомнений…
Явное замешательство баронета приятно щекотало самолюбие Рут.
— Я думаю, вам тоже лучше сесть, сэр Арчибальд, так будет намного естественнее.
— Что? Ах да!.. Прошу прощения…
Лаудер опустился в кресло напротив, вставил в глаз монокль и глубоко вздохнул.
— Я вас слушаю, мисс? — пробормотал он, и от смущения оксфордский выговор чувствовался сильнее обычного.
— Арчибальд…
Неожиданно фамильярное обращение так удивило баронета, что он слегка подскочил.
— Я хотела поблагодарить вас за цветы, которые каждое утро нахожу у себя в кабинете.
— А-а-а… так вы знаете?..
— И чем же объясняется этот цветочный дождь, Арчибальд?
Баронет совсем сконфузился.
— Видите ли, мисс… э-э-э… Вообще-то мне бы следовало вам сказать…
— Что именно, Арчибальд?
— М-м-м… я даже не знаю, как бы это выразить…
Робость сэра Лаудера начала действовать Рут на нервы, и она поспешила на помощь.
— Вероятно, таким образом вы хотели намекнуть, что любите меня?
С души баронета как будто свалился огромный камень, и он почти весело подтвердил:
— Так и есть, мисс! Совершенно верно! Я весьма рад, что вы догадались!
От волнения сэр Арчибальд выронил монокль, и тот теперь болтался на шнурке у его груди.
— Я очень польщена, Арчибальд… И давно вы меня любите?
— Думаю, с нашей первой встречи, но по-настоящему осознал это всего два месяца назад, в Китае.
— В Китае?
— Да, в одном шанхайском баре я увидел женщину… и фигура немного напоминала вашу… ну, и тогда до меня вдруг дошло, что я никогда не смогу чувствовать себя вполне счастливым, если вы навсегда исчезнете из моей жизни.
У Рут встал комок в горле.
— Спасибо за это признание… оно меня бесконечно тронуло… но все-таки… чего вы ожидаете от меня?
— Чтобы вы стали моей женой, мисс, если, конечно, сочтете это для себя возможным.
— На первый взгляд не вижу особых препятствий…
Баронет снова вставил в глаз монокль и, очень довольный собой, объявил:
— Я в полном восторге, дорогая. Вы позволите мне сказать об этом маме?
Вопрос несколько сбил с толку мисс Трексмор.
— Маме?
— Ну да, милейшей старой даме с добрейшим сердцем и множеством всяких предрассудков. Я уверен, она понравится вам так же, как и вы ей.
Рут всегда чуть-чуть иначе представляла себе и признание в любви, и обсуждение брачных планов. С досады она решила дать баронету небольшой урок.
— Арчибальд… а вы ни о чем не забыли меня спросить?
— О чем же, дорогая?
— Ну, могли бы, скажем, поинтересоваться, отвечаю ли я вам взаимностью! Или, по-вашему, это не имеет значения?
Лаудер явно удивился.
— Простите, я, кажется, не совсем улавливаю… Если вы не против выйти за меня замуж, разве это не означает, что вы меня любите?
— Так вот, Арчибальд, может, это покажется вам странным, но я вовсе не уверена в своих чувствах. О да, само собой, вы мне очень нравитесь, но этого еще мало…
— Вы так считаете?
— Бесспорно!
— Вы меня огорчили, дорогая. Но в таком случае, пожалуй, лучше повременить и пока ничего не говорить маме?
— По-моему, так было бы разумнее.
— А не могли бы вы сказать хоть приблизительно, за какое время вы рассчитываете прийти к окончательному выводу?
— Понятия не имею… Нам надо чаще встречаться и получше узнать друг друга… Короче, Арчибальд, боюсь, вам придется сделать над собой небольшое усилие и поухаживать за мной!
— К несчастью, я не очень-то умею ухаживать…
— Что ж, научитесь!
— Честно говоря, больше всего меня тревожит мама. Она знает, что я вас люблю, и все время уговаривает поскорее признаться… Боюсь, услышав, что произошло, она ни за что не поймет, почему вы сразу не сказали «да»!
— Так леди Лаудер даже не допускает мысли, что какая-то женщина может вас не любить?
— Разумеется.
Рут подумала, что рано или поздно у нее начнутся осложнения с этой чересчур влюбленной в сына мамашей.
Они вместе гуляли, ужинали в ресторанах, ездили в театр, но дни шли за днями, недели за неделями, а отношения по-прежнему оставались отчужденными. Баронет вел себя так корректно, что временами его вежливость смахивала на безразличие. И Рут невольно спрашивала себя, интересуется ли он вообще хоть чем-нибудь, кроме галстуков. Вероятно, несмотря на титул, мисс Трексмор довольно быстро отправила бы Арчибальда куда подальше, но с каждой новой встречей он казался ей все красивее, порядочнее и утонченнее, а завистливые взгляды других женщин лишь подтверждали это впечатление. Так что мало-помалу Рут привязалась к сэру Арчибальду, и чувства ее, похоже, расцветали тем стремительнее, чем холоднее и отстраненнее держался баронет.
Однажды в весеннюю субботу они катались на лодке по Темзе неподалеку от Сукхэма. Рут с некоторым раздражением наблюдала, как лихо ее робкий поклонник работает веслами, думая, что каждый взмах весла за милю выдает оксфордскую тренировку. Вероятно потому, что они плыли по воде, мисс Трексмор вдруг ощутила такой прилив энергии, словно в ее крови вскипело мужество всего британского военно-морского флота, и решила окончательно прояснить положение.
— Арчибальд!
От волнения баронет чуть не выронил весло. Наконец, вновь водрузив на место монокль и восстановив равновесие, он робко улыбнулся.
— Да, дорогая?
— Арчибальд, вот уже два месяца, как мы встречаемся почти каждый день!
Он поклонился:
— Поверьте, для меня это истинное блаженство!
— А вам никогда не приходило в голову, Арчибальд, что оба мы — уже не первой молодости… В наши годы на то, чтобы завести семью и вырастить детей, отпущено не так уж много времени, не так ли?
— С вашего позволения, я полностью разделяю столь трезвый взгляд на вещи.
Мисс Трексмор охватила нервная дрожь.
— Господи Боже! — воскликнула она. — Вы что, совсем не умеете говорить по-другому, Арчибальд?
Баронет вытаращил глаза:
— Неужели я случайно позволил себе бестактность, дорогая?
— То-то и оно, что нет! И это — самое ужасное!
— Боюсь, я не вполне понимаю, что вы…
— Арчибальд, я люблю вас, теперь я в этом уверена!
Рут слегка преувеличивала, но ей так хотелось стать леди! Услышав долгожданные слова, Лаудер опустил наконец весла, взял молодую женщину за руки и расплылся в счастливой улыбке.
— Я думаю, теперь мне можно называть вас просто по имени?
Да, конечно, они сидели в лодке, а это не самое удобное место для страстных объятий, но все же… Рут отнюдь не считала себя роковой женщиной, однако никогда даже не предполагала, что в ответ на ее признание в любви мужчина может остаться совершенно равнодушным, вежливым и холодным, как айсберг. Ей хотелось плакать от обиды.
Как только лодка причалила к берегу, мисс Трексмор выскочила и, не оборачиваясь, побежала вперед. Баронет догнал ее в несколько прыжков и, как ни странно, осмелился взять за руку.
— Вы разочарованы, верно?.. И однако я искренне вас люблю, Рут…
— Так почему, черт возьми, вы мне этого не желаете доказать?
Мисс Трексмор едва не прикусила язык — надо ж было выразиться так вульгарно! — но баронет, очевидно, даже не заметил грубости, ибо в ту же секунду буквально набросился на Рут и, стиснув изо всех сил, с невероятным пылом поцеловал в губы. Мисс Трексмор сначала охватила легкая паника — или она сейчас задохнется, или ребра не выдержат, — и Рут попыталась было отбиваться от поклонника, неожиданно превратившегося в гигантского спрута, но очень быстро все ее существо захлестнула волна нежности, и молодая женщина растаяла. Поэтому, когда баронет отпустил наконец мисс Трексмор, та лишь без особой уверенности в голосе простонала:
— Ве… дите себя при… лично, Арчибальд…
— Я тоже полагаю, что его следует призвать к порядку, мисс.
Незнакомый гнусавый голос заставил Рут обернуться, и она узрела самого здоровенного полисмена, какого ей когда-либо доводилось видеть, — по меньшей мере шести футов четырех дюймов росту. На вид мисс Трексмор дала бы гиганту лет пятьдесят, но, судя по выражению лица, его преждевременно состарили работа и огорчения. Полицейский, насупившись, взирал на парочку из-под кустистых бровей. Рут взглядом призвала баронета на помощь. Увы! Сэр Арчибальд уже виновато опустил голову и покраснел.
— Признаюсь, я вел себя как мальчишка…
Констебль вздохнул:
— В таком случае позвольте заметить вам, сэр из молодых, да ранних…
Мисс Трексмор возмутила и чуть ли не оскорбила слабость кавалера. В конце концов, Арчибальд мог хотя бы попытаться выказать гордость пускай не слишком приличным в общественном месте, но все же чисто мужским поступком! Но баронет молчал, и она решила взять дело в свои руки.
— Мы и в самом деле, пожалуй, потеряли голову, но только потому, что всего несколько минут назад решили пожениться, — с улыбкой объяснила Рут.
Полисмен, уже доставший было блокнот и карандаш, снова убрал их в карман.
— Ну, это совсем другое дело, мисс…
И, немного помолчав, он с мстительным злорадством добавил:
— По сравнению с тем, что вас ожидает, составлять протокол просто смешно…
Арчибальд поинтересовался, что он имеет в виду, и страж порядка охотно пояснил:
— Да вечно одна и та же история, сэр… и даже картинка не меняется… Либо опушка леса, либо берег реки… светит солнышко, а воздух настолько благоухает вереском или там скошенным сеном, что мы начинаем воображать, будто нам принадлежит весь мир. Ну и, ясное дело, спешим разделить его с первой попавшейся смазливой брюнеточкой — только потому, видите ли, что в ее смехе нам почудился звон серебряных колокольчиков, или блондинкой, если вдруг взбредет в голову, что таких
голубых глаз нет больше ни у кого на свете. А заканчивается все, сэр, двухкомнатной квартиркой в каком-нибудь невыносимом квартале и кучей ребятишек, которые вечно орут или просят есть. Тогда-то мы наконец замечаем дребезжащие нотки в смехе своей дражайшей половины или что у блондинки всегда были не голубые, а карие глаза, но уже поздно, сэр… Мы всегда опаздываем… Поэтому протокол — сущая чепуха в сравнении с тем, что уготовано вам в дальнейшем, верно?
— Честное слово, вы говорите как настоящий оксфордец! — воскликнул баронет.
— Не совсем, сэр. Я учился в Сент-Джонс-колледже с тридцать четвертого по тридцать седьмой год…
— Что? Вы закончили Кембридж и работаете простым констеблем? Не может быть!
— Это из-за брюнетки, сэр… почти такой же хорошенькой, как вы, мисс… Я бы пожелал вам счастья, да все равно бесполезно…
И старый, разочарованный жизнью гигант, развернувшись на каблуках, отправился продолжать обход.
Как только он скрылся из виду, жених и невеста весело расхохотались, нисколько не веря, что его болтовня имеет хоть какое-то отношение к ним самим, и таким образом с величайшим простодушием угодили в уже расставленную судьбой ловушку. Рут позволила себе взять баронета под руку.
— Ну, Арчибальд, по-моему, сейчас самое подходящее время попросить меня выйти за вас замуж! — кокетливо заметила она.
— Сначала я должен поговорить с мамой.
— Но, Арчибальд, наше будущее зависит от нас, и только от нас одних! В нашем возрасте, кажется, уже можно бы принимать решения, ни у кого не спросясь, даже у вашей матушки!
— В доме Лаудеров, дорогая моя, не принято, чтобы мужчина предпринимал что бы то ни было, не поинтересовавшись предварительно мнением жены или матери.
— Ну а если Лаудер остается сиротой, не успев жениться? Надо полагать, несчастному приходится бежать за советом к торговке газетами из ближайшего киоска?
— Боюсь, я не вполне уловил смысл вашего замечания, дорогая.
— Неважно! Давайте вернемся, ладно?
От ужасающего разочарования Рут за всю обратную дорогу не сказала и двух слов, а баронет, хоть и ощущал в ее молчании некоторую враждебность, из уважения к чувствам невесты тоже помалкивал. На Маргарет-террас Арчибальд извинился, что вынужден так скоро оставить ее одну.
— Я никак не ожидал, что вы дадите мне ответ именно сегодня, darling, и, к несчастью, взял на себя некоторые обязательства… А отказаться от них невозможно без урона для фамильной чести…
— Чести? — машинально повторила мисс Трексмор.
— Представьте себе, дорогая, в моем клубе (а там, честно говоря, я пользуюсь весьма значительным влиянием) сегодня должны принять в высшей степени важное решение. Вы только подумайте, дорогая, Герберт Вулер во всеуслышание заявил, будто джентльмен не может ловить рыбу на блесну…
— На блесну? — ошарашенно переспросила Рут.
— …хотя Майкл Файддн незадолго до этого говорил, что предпочитает этот способ всем прочим. Так что тут — намеренное оскорбление или обычная бестактность? Вот мы и решили обсудить вопрос безотлагательно. Сами понимаете, дорогая…
— О да, Арчибальд, еще бы мне не понять, что для нашего будущего важнее всего — выяснить, как лучше ловить рыбу: на блесну или босыми пальцами правой ноги!
— Простите, что?
— И вообще, мой дедушка ловил ее зубами!
— Чем?!
— Правда, он не был джентльменом!
И мисс Трексмор, решительно повернувшись, исчезла в доме, прежде чем остолбеневший от удивления баронет успел прийти в себя.
В ближайшие часы после столь жалкого финала свидания Рут познала несколько головокружительных взлетов и падений, однако, будучи женщиной с головой, в конце концов устыдилась, что позволила себе поддаться раздражению, как какая-нибудь слабонервная кукла из Майфэйра [315]. Нет, мисс Трексмор должна решать свои проблемы сама, без посторонней помощи, и раз ей захотелось стать леди Лаудер, так тому и быть, вне зависимости от желаний баронета!
Рут живо надела строгий черный костюмчик и около десяти часов вечера уже звонила в дверь леди Лаудер. Правда, прежде чем взяться за медный молоток, рука чуть дрогнула, но молодая женщина не привыкла отступать, да, впрочем, и не испытывала подобного желания.
Пожилая дама, открывшая Рут дверь, казалась воплощением хороших манер. Столь поздний визит ее откровенно удивил.
— Что вам угодно, мисс?
— Насколько я понимаю, вы — леди Элизабет Лаудер?
— Да, в самом деле, но…
— А я — Рут Трексмор!
Лицо матери баронета мгновенно осветилось улыбкой.
— Наконец-то! — воскликнула она. — Входите скорее! Я уже почти отчаялась когда-нибудь познакомиться с вами.
Проводив молодую женщину в небольшую гостиную, обставленную настоящей чиппендейловской мебелью, она с огорчением заметила:
— К несчастью, моего сына нет дома.
— Я в курсе и пришла не к нему, а к вам.
— Какая замечательная мысль!
Мисс Трексмор, почувствовав, что последние предубеждения против будущей свекрови тают, согласилась выпить рюмочку черри.
— Арчибальд рассказывал мне, какая вы красивая и элегантная женщина, но я даже и представить не могла, что вы так хороши, — как бы про себя проговорила хозяйка дома, наливая ликер. — Мальчику удивительно повезло! Из вас получится великолепная пара!
— Ну, прежде чем мы доберемся до этой стадии, леди Элизабет Лаудер, — сухо отрезала Рут, — нужно выполнить кое-какие мелкие формальности, которых ваш сын упрямо избегает.
— Правда? Что вы имеете в виду?
— В частности, попросить у меня руки! Он уверяет, будто ни за что не осмелится на подобный шаг без вашего согласия!
Пожилая дама рассмеялась:
— Арчибальд — вылитый отец. Ужасающе застенчив с женщинами. Вы, вероятно, удивитесь, дорогая, но мне пришлось буквально силком тащить ныне покойного сэра Руперта к пастору. Это наделало некоторого шуму в семье, боюсь, мое поведение даже посчитали скандальным, но в противном случае, пожалуй, мне бы так и пришлось доживать век в невестах! Так Арчибальд хочет получить от меня согласие? Что ж, я его даю, и от всего сердца! Обнимите меня, дорогая, теперь вы моя дочь…
— Но… как же ваш сын!
— Пустяки, мы ему скажем, когда вернется!
Женщины упали друг другу в объятия, и несколько слезинок окончательно скрепили их союз. А потом они провели вместе два восхитительных часа, болтая немного о настоящем, чуть больше о будущем, но главным образом — о прошлом. Рут не без любопытства слушала о детстве, отрочестве и юности будущего супруга.
Войдя в гостиную и застав Рут Трексмор за дружеской беседой со своей матерью, сэр Арчибальд, при всей его обычной флегме, не мог скрыть изумления.
— Я… просто в восторге… что вы здесь, дорогая… но, честно говоря, немножко… удивлен… — слегка заикаясь, пробормотал он.
Рут встала:
— Сэр Арчибальд Лаудер, я имею честь просить вашей руки, поскольку вы сами никак не решитесь сделать мне предложение!
— Я… э-э-э… я не… ожидал… вы ведь понимаете…
Баронет смахивал на пингвина, которому некий шутник вздумал объяснять Эйнштейнову теорию относительности. В панике он посмотрел на мать, но та ответила лишь ободряющей улыбкой. И тут к Арчибальду наконец вернулось хладнокровие. Он снова вставил в глаз монокль и отвесил гостье легкий поклон.
— Мисс Трексмор, вы бы не согласились осчастливить меня, взяв в супруги? — Выпрямившись, он пояснил: — По-моему, так будет правильнее. Я с нетерпением жду вашего ответа, мисс…
— Я согласна, Арчибальд.
— Благодарю вас.
— И это все?
— Простите, не понял…
— Вы не собираетесь меня поцеловать?
Арчибальд снова поглядел на леди Лаудер, и та дала материнское благословение.
— Таков обычай, Арчибальд. А помимо всего прочего, вам этого смертельно хочется…
И вновь, как на берегу Темзы, баронет ураганом налетел на мисс Трексмор, сжал в объятиях и наградил столь жарким поцелуем, что молодая женщина едва не задохнулась. Покраснев, как вишня, она с трудом высвободилась из рук баронета.
— Ведите себя прилично, Арчибальд! — чуть слышно прошептала она.
Леди Элизабет Лаудер по-матерински заботливо вступилась за сына:
— Не судите его слишком строго, Рут. Я ведь вам уже сказала: Арчибальд невероятно застенчив.
И мисс Трексмор призадумалась, что с ней будет, если баронет, паче чаяния, сумеет победить робость!
У двери кабинета шефа, Теренса Вулвертона, Рут Трексмор почувствовала, что ей изменяет мужество. Она весьма опасалась, что, узнав о помолвке с баронетом, «большой босс» отпустит какое-нибудь вежливое, но пронизанное нестерпимо жестокой насмешкой, замечание. Однако, против ожиданий, Вулвертон пришел в восторг и горячо поздравил Рут с будущим статусом леди Лаудер. Мисс Трексмор хорошо знала шефа и понимала, что за внешней беспечностью светского щеголя скрываются недюжинное честолюбие и неуемная жажда любым путем приумножить славу семейной фирмы. Сам Теренс тоже вдоль и поперек изучил каждого служащего и старался поддерживать со всеми доверительный, почти отеческий тон. Впрочем, делал он это весьма охотно, свято веруя, что могущество фирмы тесно связано с процветанием всего Соединенного Королевства. Естественно, прошлое мисс Трексмор тоже не осталось секретом для Вулвертона, и она рискнула попросить у шефа совета.
— Вам известно, сэр, что в моей жизни, говоря несколько выспренним языком, существует… некая тайна… Порядочность требует предупредить баронета до свадьбы, но, боюсь, подобные откровения все испортят и он больше не захочет связываться со мной…
Теренс дружелюбно улыбнулся:
— А вам очень хочется стать леди, не так ли?
— Да.
— В таком случае, мисс Трексмор, я буду разговаривать с вами честно — не как джентльмен, а как бизнесмен. Короче, я совершенно уверен, что из вас получится именно такая жена, какая нужна Лаудеру, а потому советую промолчать. Пусть узнает о ваших тайнах в свое время. Не сомневаюсь, парень настолько вас любит, что не рассердится. А кроме всего прочего, он слишком хорошо воспитан… Желаю вам счастья, мисс!
Наконец пришло время писать приглашения и уведомления. Жених и невеста сидели в гостиной на Бедфорд Уэй. Увидев, что Рут вывела на конверте имя полковника Стокдейла, баронет принялся над ней подтрунивать:
— А я и не подозревал, что у вас есть знакомства в армии, дорогая…
— Это старый друг, он мне очень помог в жизни…
— Бывший воздыхатель?
— Нет. Я никогда не видела Джеймса-Герберта Стокдейла.
На языке у Арчибальда вертелись новые вопросы, но хорошая выучка не позволяла требовать признании, которых, похоже, ему делать не собирались. И баронет промолчал. Вскоре они надписали последний конверт и стали пить чай вместе с по обыкновению заботливой леди Элизабет. Арчибальд воспевал тайное очарование старого Парижа, куда собирался отвезти Рут в свадебное путешествие. Мисс Трексмор слушала, с трудом скрывая смущение, ибо она отлично знала, что ни в какой Париж не поедет.
Свадьба превзошла все ожидания Рут, а когда старый, слегка скрученный подагрой, но зато благоухающий лавандой «Ярдли» и отличным виски джентльмен назвал ее «леди», молодая женщина испытала самую большую за всю свою жизнь радость. Только теперь она окончательно поверила, что добилась положения в обществе.
Наконец после множества церемоний и приемов Рут и Арчибальд впервые за весь день остались наедине в тихом домике на Маргарет-террас. Молодая женщина заглянула в ванную и, освободив ее для мужа, прилегла на большую двуспальную кровать в стиле Людовика XVI. Баронет, забывший надеть пижамную куртку, появился в спальне с обнаженным торсом, и его мускулатура настолько поразила новоиспеченную леди Лаудер, что она позволила себе выразить легкое удивление. Комплимент явно польстил самолюбию Арчибальда.
— Понимаете, дорогая, я с ранней юности никогда не забываю по утрам делать несколько упражнений по особой методе… Она называется «Станьте Гераклом незаметно для себя».
Рут отнюдь не обладала богатым жизненным опытом, но тем не менее она быстро пришла к выводу, что ей достался совсем неплохой муж. Увы, не прошло и нескольких минут, как зазвонил телефон. Баронет оставил молодую супругу и бросился к аппарату, воскликнув: «Наверное, это мама». Рут чуть не выругалась с досады.
Но это была вовсе не леди Элизабет. Лицо Арчибальда слегка окаменело.
— Это вас, дорогая… от того полковника, которого вы… якобы никогда не видели, — буркнул он, протягивая жене трубку.
Выслушав все, что пожелал сообщить незнакомый голос, леди Лаудер в некотором замешательстве отошла от телефона — дальнейший разговор с мужем рисовался ей далеко не в радужных тонах.
— Он желает нам самого большого счастья, — наконец пробормотала Рут.
— Весьма любезно с его стороны! — сухо отозвался баронет.
И молодая женщина поняла, что признание больше откладывать нельзя. Вот только как его сделать? Сам того не желая, Арчибальд помог жене, по обыкновению вставив в глаз монокль. Вместе с гранатово-красной, отороченной черным шелком пижамой это выглядело так трогательно и забавно…
— Бог свидетель, дорогая, я терпеть не могу вмешиваться в чужие дела, но коль скоро речь идет о моей жене… волей-неволей придется нарушить обыкновение. Скажите мне правду, Рут, этот Стокдейл имеет на вас какие-то права?
Она опустила голову:
— Да.
— Ах вот оно что!..
Удар, несомненно, попал в цель.
— Но в подобных обстоятельствах, дорогая, мне кажется более чем затруднительным…
— Прошу вас, Арчибальд, удержитесь от слов, о которых потом наверняка пожалеете… Если полковник Стокдейл и обладает надо мной определенной властью, то к любви это вовсе не имеет отношения… просто он мой шеф.
— Шеф?
Баронет так удивился, что монокль упал на ковер, а он и не подумал нагнуться.
— Видите ли, Арчибальд… Мое положение в фирме Вулвертонов — только «крыша»…
— «Крыша»?
Заговори она вдруг по-китайски, Лаудер и то вряд ли поразился бы сильнее.
— А на самом деле, Арчибальд, я тайный агент МИ-пять [316] и работаю в отделе полковника Стокдейла.
Глава 2
В спальне надолго воцарилась тишина — сэр Арчибальд Лаудер пытался разобраться в положении. Рут с тревогой ждала бурной реакции и резких объяснений. Наконец баронет поправил монокль и встал, забыв надеть комнатные туфли.
— В вулвертоновской конторе вы слывете женщиной с богатым воображением, дорогая, но я и не подозревал, что оно развито до такой степени! — бесконечно вежливым и холодным тоном заметил он. — Агент МИ-пять! Богом клянусь, моя милая, выдумка просто восхитительна!
Теперь уже молодая женщина окончательно перестала что-либо понимать.
— Выдумка?
— Да, дорогая моя, в цепи поколений Лаудеров многим случалось пострадать от супружеской неверности. Вы скажете, что такова судьба множества славных и почтенных семейств и, более того, возможно, они вообще до сих пор существуют только потому, что время от времени в усталые вены вливалась новая кровь… Я хорошо представляю и еще множество других доводов, какие могли бы привести в свое оправдание неверные жены, но за всю историю нашей семьи не припомню ни единого случая, чтобы хоть одна из женщин ради того, чтобы свободно видеться с любовником, прикинулась шпионкой!
— Вы мне не верите, Арчибальд?
— Нет, дорогая, не верю.
— Вы меня оскорбляете!
— Ну, это уж совсем забавно! Вы признаетесь, что у меня есть соперник, и, оказывается, я же еще и виноват?
— Но говорю вам…
— Слышал-слышал… что вы наша британская Мата Хари, вот только, к несчастью, совершенно не принимаю всерьез всю эту чушь со шпионскими историями, тайными агентами и прочим бредом!
Леди Лаудер ошарашенно взирала на мужа.
— Вы отрицаете существование МИ-пять? — пробормотала она.
— Нет, только полезность этого заведения… Но вообще-то должны же военные хоть чем-то заниматься в мирное время…
Это настолько противоречило здравому смыслу, что у Рут невольно вырвалось:
— Вы что, и вправду такой дурак?
— Кажется, вы совсем забыли о почтении к супругу? Меж тем это ваша прямая обязанность!
Когда б не босые ноги и плохо застегнутая пижама, сэр Арчибальд мог бы сойти за живую статую оскорбленного в лучших чувствах дворянина, но сейчас положения не спасал даже монокль, и Рут насмешливо бросила:
— Ну и нелепый же у вас вид, Арчибальд!
Баронет залился краской и чуть не вспылил, но, вовремя вспомнив о воспитании, лишь сунул ноги в комнатные туфли и накинул халат.
— Меня просто пугает ваш цинизм, дорогая. И где вы должны встретиться с этим Стокдейлом?
Рут пожала плечами — какой смысл пытаться что-либо доказать человеку, который не желает ничего понимать? Она уже устала.
— Я не собираюсь ехать к полковнику, но, зная, что я говорю по-немецки, он посылает меня в Вену.
— Это еще не повод! Я тоже отлично говорю по-немецки! А можно узнать, почему вы не сказали мне всего этого раньше?
— Я люблю вас, Арчибальд, и не хотела потерять…
— Ладно… допустим. Но, послушайте, вы хоть на минутку представили себе, что скажет мама, если узнает, что ее сноха… шпионка?
— Плевать мне, что она скажет!
— О!
— Да, для меня важно только то, что думаем мы с вами.
— И Стокдейл.
Рут, не ответив, снова откинулась на подушки, а баронет нервно бегал из угла в угол. Наконец он остановился у постели.
— И… зачем… вас посылают в Вену?
— К чему вам знать?
— Прошу вас, расскажите. Мне чрезвычайно любопытно узнать, каким образом вы разработали весь сценарий.
Новоиспеченная леди снова привскочила на кровати. Недоверие мужа выводило ее из себя.
— Нравится вам это или нет, но, представьте себе, у Британии есть в Будапеште агентурная сеть, которая помогает венграм, истомившимся по свободе, перебраться в Вену. Так вот, в последнее время эту сеть практически уничтожили, а наш лучший тамошний агент, мой коллега Фред Лукан, исчез в неизвестном направлении. Очевидно, кое-кто наверху уверен, что я в состоянии выяснить, какая беда обрушилась на нашу организацию!
— Вам бы романы писать!
— Угу, с той небольшой разницей, что здесь покойники настоящие…
— Я вам не верю! Все эти басни нарочно выдумали писаки, авторы детективных романов!
— А я и не подозревала, что в конце шестидесятых годов двадцатого века можно встретить настолько ограниченного субъекта!
— Именно так обычно и выглядят обманутые мужья!
— Давайте прекратим бесполезный спор, а? Мне надо отдохнуть — завтра утром я улетаю в Вену.
— Улетите… не улетите… Это — если я позволю!
— Вряд ли вы имеете право разрешать или запрещать мне что бы то ни было, Арчибальд. Возвращайтесь-ка поскорее к леди Элизабет и начинайте процедуру развода. Спокойной ночи.
И на глазах у разъяренного баронета молодая женщина скользнула под одеяло. Внезапное исчезновение жены на мгновение совершенно сбило Арчибальда с толку. В конце концов он не выдержал и, отбросив всякое чувство собственного достоинства, жалобно застонал:
— А как же я? Что теперь будет со мной?
Рут почувствовала, что, возможно, бой еще не проигран, и снова выглянула из-под покрывал.
— Вы вернетесь к маме и своим, таким вежливым и воспитанным, любителям рыбной ловли, а меня забудете!
— Но я… я не могу…
— Это еще почему?
— Да потому что я вас люблю!
Растроганная Рут совсем откинула одеяло и села в постели, готовясь продолжать разговор.
— Арчибальд, вы и в самом деле не хотите мне поверить?
— Я не могу поверить в такие бредни! Все это слишком экстравагантно! Не честнее ли просто сказать, что вы нарочно все выдумали с одной-единственной целью: спокойно встретиться со своим Стокдейлом в Вене?
— Он сейчас в Карачи! Повторяю вам: я ни разу не видела полковника и даже не знаю, как он выглядит! Но хватит, Арчибальд! Ложитесь спать или поезжайте к маме, но дайте мне отдохнуть. Я пришлю вам открытку из Вены. Еще раз: спокойной ночи!
— Нет, никаких открыток! Раз на то пошло, я сам докопаюсь до правды и готов сопровождать вас для этого в Вену! А там уж поглядим, найду я хоть одного шпиона или нет! Слышите, Рут? Хочется вам того или нет, а я поеду с вами!
— Представьте себе, вы меня только порадовали, дорогой…
Засыпая, Рут на полном серьезе воображала, что, раз муж согласился ехать вместе с ней, дело улажено. В Вене Арчибальд сам убедится, что ее слова — не выдумка, а грязная и кровавая действительность. Однако уже в самолете молодая женщина начала сомневаться, что когда бы то ни было сумеет внушить баронету трезвый взгляд на вещи. Сэр Арчибальд то отпускал ядовитые замечания, то разражался жалобами без всякого видимого повода. Ему не нравилось решительно все: самолет, место, сквозняки… Он беспокоился о багаже, хныкал, угрожал, короче, выглядел как совершенно омерзительное для окружающих живое воплощение британского снобизма. «Сноб, — думала Рут, — сноб и маменькин сынок». И по мере удаления самолета от Лондона молодая женщина с возрастающей тревогой раздумывала, уж не совершила ли она самую страшную в жизни ошибку, согласившись принять руку и сердце ни на что не годного бездельника баронета. В конце концов молодая женщина погрузилась в безысходную грусть, а очнувшись в Вене, вдруг почувствовала, что муж стал ей ужасающе безразличен. Видя, что жена упорно не реагирует ни на какие расспросы, сэр Арчибальд Лаудер в свою очередь замкнулся. Тем временем Рут размышляла о Фреде Лукане, чье внезапное исчезновение стало поводом для ее командировки. Она смутно помнила невысокого, но крепкого и энергичного парня… А теперь ей придется выяснить, какая смерть постигла Лукана. Вспоминая обо всех мужчинах из МИ-5 и сравнивая их с тем, кто сидел рядом и с кем она собственными руками сковала себя пожизненными узами, Рут испытывала бешеное желание расплакаться или надавать самой себе пощечин.
Чета остановилась на Вайбургхассе, в гостинице «Кайзерин Элизабет» — заведении, хоть и лишенном размаха первоклассных отелей, но весьма ценимом любителями комфорта. Титул сэра Арчибальда произвел обычное впечатление. Администратор с поклоном протянул ключ и приказал проводить высоких гостей в номер.
— Ну, моя дорогая, — насмешливо бросил баронет, когда Рут принялась распаковывать чемоданы, — вот мы и прибыли на место ваших грядущих подвигов… И что теперь? Купим маски или серые, в цвет стен, плащи?
— Если это образчик оксфордского юмора, я окончательно перестану жалеть, что никогда там не училась.
— Напрасно. Там вас по крайней мере поставили бы в известность, что порядочный человек не может выбрать работу, которая требует подслушивания у дверей или подглядывания в замочную скважину, а уж тем более — чтения чужих писем…
— Мой бедный Арчибальд… вы и в самом деле монумент…
— Кому или чему?
— Глупости.
— Благодарю, дорогая, это первый случай за всю семейную историю Лаудеров, когда жена позволила себе таким образом охарактеризовать законного супруга.
— Если вы похожи на предков — значит, их жены напрасно сдерживали естественные побуждения. Скажите честно, Арчибальд, для чего вы поехали со мной?
— Чтобы заставить вас признаться в беспардонном вранье!
После этого неприятного замечания оба супруга повернулись друг к другу спиной и каждый занялся своим делом. Разложив вещи, Рут надела шляпу и перчатки.
— Я ухожу в город, — предупредила она мужа. — Вы остаетесь или намерены сопровождать меня?
— Еще бы нет! А вдруг на вас набросятся иностранные шпионы? Кто, кроме меня самого, защитит мою жену? — иронически бросил баронет.
— Будь вы действительно моей последней надеждой и опорой, оставалось бы только написать завещание!
Они вместе дошли до Кяртнерштрассе, и Рут погрузилась в созерцание витрин, а муж нашептывал ей на ухо идиотские шуточки:
— Видите вон того толстяка? Уж не советский ли это агент? А вот этот малыш? По-моему, он явился сюда прямиком из-за железного занавеса! Осторожнее, дорогая: не удивлюсь, если у этой здоровенной тетки самые дурные намерения на ваш счет… О!.. А вот и автомобиль тормозит совсем рядом… Может, вас собираются похитить, Рут?
Какое-то время молодая женщина пропускала сомнительные остроты супруга мимо ушей, потом не выдержала и, к удивлению мирных обывателей Вены, громко и отчетливо высказала баронету все, что о нем думает. Тот на мгновение оцепенел, а придя в себя, отозвался так энергично, что полицейскому пришлось разгонять любопытных прохожих. Обнаружив, что это прославившиеся на весь мир британцы столь неподобающим образом ведут себя на улице, да еще за границей, страж порядка не мог скрыть удивления. Сэр Арчибальд объяснил, что его супруга, насмотревшись фильма «Третий», действие которого, как известно, происходит в Вене, вообразила, будто австрийская столица и в самом деле нашпигована вражескими агентами. Рут не осталась в долгу и посоветовала полицейскому не обращать внимания на бред ее супруга, поскольку это самый выдающийся кретин во всем Соединенном Королевстве. Расстроенный инцидентом австриец дружески попросил их успокоиться, поинтересовался, в какой гостинице они остановились, и, взглянув на паспорта, добавил, что если гости хотят оставаться здесь, в Вене, то лучше бы им выбросить глупости из головы и перестать думать о шпионах. Но леди Лаудер, желая оставить последнее слово за собой, ангельским голоском спросила, очень ли суровы австрийские судьи к женам, которые, не утерпев, в, быть может, несколько грубоватой форме избавляются от супруга. На какое-то время полицейский совершенно утратил дар речи.
— Вероятно, это образчик британского юмора, сударыня? Я вынужден в таком случае с сожалением признаться, что мы, видимо, еще не достигли должной утонченности и просто не в состоянии оценить его по достоинству.
— Ладно, тогда скажите мне хотя бы, где находится наше посольство.
— Вальнерштрассе, восемь.
Однако в посольство Рут не пошла, а вернулась в «Кайзерин Элизабет». Баронет как ни в чем не бывало семенил рядом. В гостинице леди Лаудер не стала ни кричать, ни скандалить, но четко и ясно выразила свое мнение:
— Я бы не рискнула сказать, чего в вашем поведении больше — глупости или подлости, но, клянусь, отныне с меня довольно и вас, и прочих Лаудеров, сколько бы их ни было с сотворения мира. Жаль, что я здесь в командировке и, следовательно, не могу сию секунду уехать домой…
— К тому же это разочаровало бы беднягу Стокдейла! — хмыкнул баронет.
— …зато вы имеете полное право сесть в самолет. Прошу вас, возвращайтесь скорее в Блумсбери и контору Вулвертонов — ни для чего другого вы все равно не годитесь!
— Скажите уж честно: вам просто не хочется, чтобы я разоблачил все ваше вранье!
Упрямство мужа сломило волю Рут. Она упала в кресло и горько разрыдалась. Сэр Арчибальд не знал, что делать, — отчаяние жены его глубоко тронуло.
— Рут…
— Ну, чего вам еще?
— Простите меня…
— Слишком поздно, Арчибальд. Я думала, что люблю вас, но ошиблась. Вы так безвольны, так ограниченны и набиты предрассудками, что я не могу даже уважать вас. О какой уж тут любви можно вести речь?..
Баронет приблизился к супруге.
— Я ревную, Рут… Да, я отлично знаю, что это отвратительно вульгарное чувство, но, к несчастью, ничего не могу с собой поделать. Стоит только вспомнить об этом Стокдейле, и…
— Сколько раз вам повторять, что я его в глаза не видела? Неужели вы так никогда и не поверите, что меня послали в Вену выполнять задание, и к тому же очень опасное?
— Простите меня, Рут, но либо этот полковник существует на самом деле и вы с ним встречаетесь, либо он — порождение вашей фантазии и тогда вы серьезно больны…
— Больна? Это еще что за новая чепуха?
— Рут, дорогая, у вас навязчивая мысль! Не может уравновешенная и здравомыслящая девушка до такой степени уверовать во всякие шпионские сказки, чтобы вообразить и себя действующим лицом… Позвольте мне обратиться к врачу, Рут! Я не покину вас, пока вы не выздоровеете, а потом вы сами решите нашу судьбу…
Леди Лаудер, не веря собственным ушам, долго разглядывала мужа. Наконец, убедившись, что он совершенно искренен, молодая женщина спокойно заметила:
— Продолжать этот разговор бесполезно, Арчибальд. Единственное, в чем могу вас заверить, так это в том, что, вопреки вашим домыслам, я вовсе не сумасшедшая. Поэтому оставайтесь здесь, пока у вас не откроются глаза, — другого выхода я не вижу. Прошу об одном: ни во что не вмешивайтесь и позвольте мне выполнить поручение так, как я считаю нужным. Мне и в голову не приходило, что в наше время где-то сохранился мирок, похожий на тот, в котором, по-видимому, живете вы, ваша мать и друзья, мир, где не принято передергивать, зато учат подавать чай, подбирать галстуки под цвет костюма, воспринимать тот или иной способ ловить рыбу как вопрос фамильной чести, а все это, вместе взятое, считать смыслом существования. Мы с вами живем в разных плоскостях, Арчибальд. Следовало бы догадаться об этом пораньше, но тут уж вина целиком на мне… Поэтому в свою очередь я тоже прошу прощения. Я напрасно строила иллюзии, полагая, что вы сможете понять мой образ мысли… Если вы не против, давайте условимся, что мы просто друзья и вместе поехали отдыхать, а из-за, допустим, нехватки мест случайно оказались в одной комнате. Я спокойно выполню задание, а уж потом, в Лондоне, мы приведем дела в порядок и каждый вернется к привычному образу жизни.
— Вы забываете, что я люблю вас, Рут.
— Еще одно ваше заблуждение, Арчибальд. Вы любите не меня, а воображаемую Рут Трексмор, как и я представляла себе некоего совершенно иного Арчибальда и выходила замуж за него, а не за вас. Так давайте больше не напоминать друг другу о взаимных ошибках, ладно?
Сэр Арчибальд дал согласие, и с этой минуты оба, казалось, взирали один на другого с чуть меланхолическим равнодушием.
Три дня Лаудеры бродили по Вене, в память о Марии Ветсера ездили в Майерлинг, пили белое вино в Гринцинге, короче, вели себя как образцовые туристы. Однажды вечером, вернувшись из Шёнбренна, они обнаружили в гостинице конверт из британского посольства с приглашением на прием к его превосходительству. Баронету польстила такая, с его точки зрения ничем не оправданная любезность, несомненно доказывающая, что род Лаудеров известен послу. Рут попыталась осторожно разубедить мужа:
— Не хотелось бы вас расстраивать, Арчибальд, но приглашают не столько вас, сколько меня.
— Вас?
— Да, поскольку, чтобы не возбуждать лишнего любопытства и не привлекать внимания, мне гораздо удобнее повидаться с нужными людьми в посольстве. Во всяком случае, так думают наверху.
— Опять начинается? А я-то надеялся, что вы — на пути к полному выздоровлению!
— Тсс! Не забывайте о нашем уговоре!
Чета Лаудеров выглядела настолько представительно, что вечером в посольстве ее появление произвело фурор. Посол и его супруга почли своим долгом сказать молодоженам несколько теплых слов. Довольный баронет пыжился, как павлин, а Рут искала глазами консула Джима Фернса, чью фотографию долго изучала в Лондоне, зная, что именно он возглавляет сеть британской контрразведки в Вене. Консул в одиночестве пил виски, с притворным восхищением разглядывая какое-то полотно Гейнсборо. Не зная Рут в лицо, Фернс, очевидно, ждал, когда к нему подойдут. И молодая женщина, воспользовавшись тем, что ее муж пошел танцевать с супругой посла, тихонько скользнула к коллеге.
— Прошу прощения, но вы случайно не сэр Джим Фернс?
— Совершенно верно, мисс.
— Леди Рут Лаудер…
— Извините.
— Мой дядя, полковник Стокдейл, просил передать вам, что в это время года в Карачи кактусы не цветут.
— Если не возражаете, леди Лаудер, я мог бы показать вам сад…
— Напротив, с удовольствием.
Как только они отошли от прочих гостей, Фернс сердито спросил:
— Не знаю, леди Лаудер, хорошо ли вы представляете, чего именно от вас здесь ожидают?
— Разумеется. А в чем дело?
— Да просто я нахожу более чем странным, что первой же заботой тайного агента (он особенно подчеркнул слово «тайного») было обратить на себя внимание местной полиции! Причем до такой степени, что венские стражи порядка более чем настоятельно порекомендовали мне приглядывать за вами!
Смущенной Рут пришлось объяснять, как отвратительно вел себя сэр Арчибальд, но по лицу собеседника она видела, что тот не верит.
— Не сердитесь, но, по правде говоря, мне иногда кажется, что наше лондонское начальство слишком легкомысленно выбирает агентов, — с горечью проговорил консул.
— Надеюсь, мне очень скоро удастся убедить вас в обратном. И только тогда я соглашусь принять извинения.
— Ладно. Приезжайте завтра в полдень на Центральфридхоф. Встретимся у перекрестка музыкантов. Там, на кладбище, нам не помешают, и я расскажу вам, в чем состоит ваше задание.
— Договорились.
— А пока пойдемте. Я познакомлю вас с теми, кто помогает мне в работе и, естественно, поможет вам. Все они, как вы понимаете, сотрудники консульства.
Когда они вернулись в гостиную, Джим Фернс указал Рут на невысокого мужчину лет сорока с помятой физиономией хронического алкоголика.
— Что бы вы ни думали, глядя на него сейчас, леди Лаудер, — шепнул Фернс, — Малькольм Райхоуп был одним из лучших и наиболее отважных агентов нашей резидентуры… До тех пор, пока не начал пить…
— А что его заставило пить? Порочные склонности?
— О нет, даже не в том дело…
Консул обратил внимание леди Лаудер на молодую англичанку с типично британской внешностью — белокурую, голубоглазую и румяную.
— Вот истинная причина его падения — моя секретарша Эннабель Вулер.
— Не понимаю.
— Малькольм много лет любит Эннабель, и та вроде бы отвечала ему взаимностью, во всяком случае, ей самой так казалось. И вдруг, когда молодые люди уже надумали пожениться и снова уехать в Лондон, появился Терри Лаудхэм.
— А кто он такой?
— Поглядите вон на того высокого красавца и скажите честно, доводилось ли вам когда-либо видеть более совершенный образчик англосаксонской расы!
— Да, вы правы…
— Терри Лаудхэм — изумительный агент, и внешность дает ему немалые преимущества… В Лондоне к Терри питают большое уважение, и, думаю, парня ждет блестящее будущее. Согласитесь, леди Лаудер, что у бедняги Райхоупа почти не было шансов выиграть в состязании с Лаудхэмом. Стоило Терри поманить пальцем — и Эннабель влюбилась по уши. Не знаю, как сейчас развиваются их отношения, но, если они до сих пор не нарушили границ, установленных добродетелью, виной тому никак не недостаток энтузиазма мисс Вулер — она буквально повисла у парня на шее с того самого дня, как он переступил порог консульства…
— А Райхоуп?
— Запил. Мне бы следовало отослать его домой, но в память о прежних заслугах никак не решусь… Да и жалко до смерти. Разве бедняга Малькольм виноват, что на него свалилось такое несчастье?
Несколько минут спустя Рут познакомилась с Райхоупом, Лаудхэмом и Эннабель. Легкое опьяние уже туманило голову Малькольма, и он почти сразу вернулся к стойке бара. Эннабель Вулер приняла леди Лаудер довольно прохладно — скорее как опасную соперницу. Зато Терри Лаудхэм очень понравился ей сердечностью и дружелюбием. Начал он с того, что выразил восхищение мужеством леди Лаудер, которая, имея такое прочное и высокое положение в обществе, готова рисковать жизнью, спокойствием и, наконец, комфортом, ввязавшись в такое трудное дело. Поведение возлюбленного явно действовало на нервы мисс Вулер, и она уже собиралась отпустить какую-нибудь колкость, но к ним неожиданно подлетел баронет.
— Ага, так вот они, ваши шпионы, дорогая?
Лаудхэм, Эннабель и Фернс, окаменев от ужаса, уставились на сэра Арчибальда, а его смущенная супруга растерянно соображала, как бы смягчить действие омерзительно тяжеловесной шутки мужа. Впрочем, она так и не успела ничего предпринять, потому что весьма довольный собой Лаудер продолжал:
— Скажите, дорогая, а великий индейский вождь Стокдейл — случайно не один из этих джентльменов?
— Прошу вас, Арчибальд, замолчите!
Справедливо опасаясь худшего, Рут попробовала сменить тему и представила мужу коллег, но Лаудер не желал так легко сдаваться.
— Так, значит, вы, джентльмены, и вы, мисс, вместе с моей супругой составляете славную четверку шпионов на службе Ее Всемилостивейшего Величества?
Джим Фернс, чувствуя, что его вот-вот хватит удар, пытался оттянуть воротничок от вдруг раздувшейся и онемевшей шеи. Эннабель Вулер смотрела на баронета открыв рот, как рыба, бьющаяся на берегу, — на рыболова, который внезапно лишил ее родной стихии. Лишь Терри Лаудхэма сцена, пожалуй, забавляла.
— Насколько я понимаю, сэр, вы большой шутник?
Баронет заговорщически подмигнул:
— А вы верите во все эти шпионские сказки?
— Ни в малейшей мере… Разве что в кино, да и то…
Сэр Арчибальд похлопал его по плечу:
— Вы мне нравитесь! Всегда приятно встретить человека здравомыслящего. Вы оказали бы мне чертовски большую услугу, согласившись помочь урезонить леди Лаудер и излечить ее от навязчивых идей…
— Однако мне леди Лаудер показалась весьма уравновешенной особой!
— Только не в тех случаях, когда речь заходит о шпионах! Вы не поверите, но бедняжка воображает, будто она тайный агент и от ее усилий зависит безопасность государства!
Никто, кроме баронета, даже не улыбнулся. Рут кипела от ярости.
— Вы еще глупее, чем я думала, Арчибальд! — прошипела она сквозь стиснутые зубы. — Поехали в гостиницу!
И Лаудеры, ни с кем не попрощавшись, быстро ушли. В отеле «Кайзерин Элизабет» произошло бурное объяснение. Баронет упрямо не желал признавать никаких доводов жены, полагая, что вел себя совершенно правильно и это наилучший способ избавить Рут от больных фантазий. Вряд ли он держался бы так самоуверенно, если бы мог слышать, как после их торопливого бегства Терри Лаудхэм негромко заметил:
— Некоторым женщинам желание попасть в высший свет обходится дьявольски дорого…
Эннабель горячо поддержала возлюбленного. Райхоуп, узнав о происшествии, сказал, что все это ужасно смешно и ему не терпится поскорее свести знакомство с симпатягой баронетом. На что мисс Вулер очень сухо ответила, что желание Райхоупа уже исполнилось бы, не торчи он все время у стойки. Что до Фернса, то он побежал звонить в Лондон и узнавать, чего там хотят на самом деле: найти виновника провала венгерской резидентуры или, наоборот, уничтожить заодно и австрийскую!
Меж тем в «Кайзерин Элизабет» дела шли все хуже.
— Видали физиономии своих друзей, дорогая, когда я им ясно показал, что весь этот сговор ни к чему не приведет? — самодовольно фыркнул баронет, и Рут едва не забилась в истерике.
Молодая женщина крепко сжала кулаки, стиснула зубы и прикрыла глаза.
— Ка-кой сго-вор, Ар-чи-бальд? — по слогам проговорила она, пытаясь взять себя в руки.
— Разве вы не подговорили друзей убедить меня в существовании всей этой шпионской чепухи, дорогая?
— Вы, вероятно, считаете себя очень остроумным?
— Не остроумным, а проницательным!
— Ах, проницательным!
И, испустив самый настоящий тигриный рык, леди Лаудер набросилась на мужа.
— А знаете, что вы наделали со своей проницательностью? — завопила она, молотя кулаками по мускулистой груди сэра Арчибальда. — Просто-напросто оповестили всех иностранных агентов, находившихся на приеме, чем на самом деле занимаются Джим Фернс и его служащие!
— Вражеские агенты — на приеме в британском посольстве? Полноте! Право, дорогая, вы уже не знаете, что и придумать! Как будто у его превосходительства посла нет других забот! Ну с какой стати ему приглашать в посольство чужих шпионов? Честное слово, Рут, порой вы совсем заговариваетесь!
Молодая женщина упала на кровать и вцепилась зубами в подушку, чувствуя, что сейчас закричит на всю гостиницу.
Когда на следующий день около одиннадцати часов утра баронет поинтересовался, куда идет его жена, та холодно ответствовала, что его это ни в коей мере не должно волновать и что он уже и так наделал достаточно глупостей, а потому она, Рут, больше не желает повсюду таскать с собой такого обременительного спутника. Арчибальд не хочет верить в существование тайных агентов — пожалуйста: никто слова не скажет, но, поскольку у нее, леди Лаудер, нет ни малейшего желания закончить жизнь в водах Дуная, с веревкой на шее или ножом между лопаток, лучше, если баронет впредь займется своими делами, а она — своими. На сем молодая женщина захлопнула за собой дверь.
На улице Рут показалось, будто она вновь обрела утраченную свободу, зато исчезли последние иллюзии насчет любви к баронету. Честолюбие сыграло с ней скверную шутку. Оба принадлежат к слишком далеким друг от друга мирам, а потому обречены на полное непонимание. Еще там, в Лондоне, по нежной и изысканной атмосфере гостиной леди Элизабет Рут следовало догадаться, что там нет места для таких грязных дел, как безжалостные схватки тайных агентов. Там предпочитают просто не замечать тех сторон действительности, которые могли бы оскорбить утонченный вкус. Зато в мире Рут и ей подобных приходится постоянно драться за выживание: и за саму жизнь, и за то, чтобы получить место, и за то, чтобы его сохранить. Ни удары, ни проклятия там никого не пугают, равно как и вульгарность.
Усаживаясь в трамвай на Шварценбергштрассе, Рут твердо решила снова стать мисс Трексмор и как можно быстрее забыть о своем коротком и смешном брачном приключении. Большое кладбище Центральфридхоф, вопреки ожиданиям Рут, не произвело на нее мрачного впечатления, и с первого же шага она поняла, почему Фернс избрал столь странное место встречи. Центральфридхоф скорее похож на огромный сад, а цветы и трава там занимают чуть ли не больше места, чем камень. Следуя распоряжениям консула, леди Лаудер добралась до перекрестка двух аллей, где вечным сном покоятся музыканты — Бетховен и Шуберт, Глюк и Брамс, Штраус и многие другие. Джим Фернс уже ждал у могильного камня Франца фон Зуппе. Со стороны могло показаться, что британский консул погружен в благочестивые размышления. Рут осторожно приблизилась, делая вид, будто рассматривает могильные камни, и они пошли рядом. Фернс не скрывал самого дурного расположения духа.
— Ну, так вам все-таки удалось избавиться от опеки супруга? — проворчал он.
— Как видите.
— И где вы только откопали подобного субъекта? Просто невероятно, чтобы он и в самом деле был таким болваном!
— С одной стороны, Арчибальд ревнует — он, видите ли, вообразил, будто я нарочно все выдумала, чтобы спокойно встречаться с его соперником. А с другой — Лаудер упорно не верит в существование тайных агентов. По его мнению, шпионаж — выдумка романистов.
— В Лондоне знали, что он едет с вами?
— Да.
— Ничего не понимаю… Ладно, оставим пока… Сейчас важнее всего ваше задание… С некоторых пор с венгерской сетью начало твориться что-то странное. Наши агенты исчезали один за другим, проводников ловили, а беглецы то и дело попадали в ловушки, расставленные пограничниками. По-видимому, кто-то из самых доверенных людей, знавших о каждом нашем шаге, решился на измену. Я доложил в Лондон, и оттуда прислали Лукана. Поговорив со мной, Лукан сказал, что попробует тайно пробраться в Будапешт. По моему совету он воспользовался обычным маршрутом — через Грац. Там, на Мюнцграбенштрассе, живет сапожник Ганс Крукель. Это наш агент, а его родные — крестьяне из Фюрстенфельда — отлично знают весь район, в том числе и места, где лучше всего переходить границу. Однако в Венгрии Лукана уже поджидала засада, и, как только он ступил на чужую территорию, пограничники открыли огонь. Вот и все. Короче говоря, необходимо выяснить, кто нас предает: Ганс Крукель, его фюрстен-фельдские родичи или… кто-то из здешних.
— Ваш сотрудник? Не может быть!
— Я слишком давно занимаюсь этим ремеслом, чтобы не допускать любых, даже самых невероятных на вид предположений.
— А что должна делать я?
— То же, что и Лукан. Повидаться с Крукелем, потом побывать в Фюрстенфельде. Только за вами мы установим постоянное наблюдение и в случае чего прикроем. Границу вам переходить ни к чему — в Фюрстенфельде вас сменит кто-нибудь еще. Короче говоря, ваша задача — убедиться, что те, кто отвечает за первый этап подготовки, не повинны в измене. Если благодаря вам мы установим надежность австрийской сети, останется проверить лишь венгерскую и целиком сосредоточиться на ней. Никто, помимо меня, не должен знать подробностей вашей миссии. Моим сотрудникам, разумеется, известно, что вы приехали нам помогать, а вот каким образом — пусть так и будет для них тайной. Я даже не упомянул, что собираюсь сегодня встретиться с вами здесь, и, следовательно, ни одна живая душа не узнает, о чем мы беседовали…
Однако прежде чем Фернс успел договорить, за их спиной раздался повелительный голос.
— Руки вверх или я стреляю! — предупредил он.
Консул и леди Лаудер застыли как громом пораженные.
— И не оборачивайтесь!
Рут подумала, что дерзость незнакомца переходит всякие пределы разумного — надо ж выкинуть такую штуку на кладбище, где в любую минуту может откуда ни возьмись вынырнуть свидетель! Судя по прерывистому дыханию, незнакомец приближался. Краем глаза Рут следила за реакцией Фернса — этот стреляный воробей, всю жизнь проработавший в контрразведке, не мог не сообразить, что делать в считанные секунды. Она не ошиблась. Сочтя, что враг подошел почти вплотную, консул упал на землю, выхватил пистолет и почти одновременно выстрелил. К счастью, он не успел толком прицелиться — иначе в эту секунду сэр Арчибальд Лаудер неминуемо переселился бы в мир иной.
Глава 3
В первые несколько минут все недоверчиво, растерянно и недоуменно таращились друг на друга.
— Арчибальд… — наконец выдохнула Рут.
Фернс настолько опешил, что повторял как заведенный:
— Он… вы… он…
— Он… он стрелял в меня! — в ужасе стонал баронет. — И мог бы убить на месте! Какое варварство!
Консул пожал плечами и сунул пистолет в кобуру.
— Попытайтесь понять, коли можете, — мне это точно не по зубам, — буркнул он Рут.
Молодая женщина потребовала от мужа объяснений таким тоном, что тот не посмел спорить.
— Что на вас нашло, Арчибальд?
— Я хотел только вас разыграть…
Фернс с отвращением сплюнул на землю.
— …Я вышел из гостиницы следом за вами, сел в тот же трамвай и видел, где вы сошли… Потом, заметив, что вы с кем-то разговариваете, стал приближаться, перебегая от могилы к могиле. Короче, я слышал весь разговор, и это доказывает, что в конце концов не такие уж вы асы, как воображали, верно?
Фернс выругался.
— А дальше… мне захотелось немножко вас попугать, чтобы вы знали: другие тоже умеют играть в шпионов! Вот только мне и в голову не приходило, что мистер Фернс воспримет шутку настолько всерьез! Между прочим, я хотел бы знать, с какой стати он разгуливает с оружием под мышкой? Это запрещено!
Консул в полном отчаянии поглядел на Рут:
— Нет, этот тип просто уникален! Клянусь, другого такого во всем свете не найдешь! Право, вы сделали редкостное приобретение, леди Лаудер!
— Я так больше не могу, Арчибальд! — вне себя от ярости воскликнула молодая женщина. — Слышите? Не могу!
— Вам нехорошо?
— Нехорошо? Я и в самом деле не удивлюсь, если заболею по вашей милости! Можно подумать, вы нарочно изо всех сил стараетесь усложнить мне задачу! А на сей раз еще и чудом не отправились к праотцам самым идиотским образом! Думаете, мне очень весело на все это смотреть?
— А мне?
— Ну, вы сами виноваты! И никто другой! По правде говоря, мне ужасно жаль, что Фернс промазал!
— То есть вы жалеете, что не овдовели?
— Нет, но попади вы хоть на какое-то время в больницу, я бы по крайней мере могла действовать свободно!
— И повидаться со своим Стокдейлом?
Баронет повернулся к Фернсу:
— А вы ей в этом помогаете, да?
Консул пожал плечами:
— По-моему, вам и вправду место в клинике для умственно отсталых! Счастливо оставаться!
Глядя вслед удаляющемуся Фернсу, баронет задумчиво спросил жену:
— При чем тут клиника для умственно отсталых? На что это он хотел намекнуть?
Рут решила, что пора менять тактику.
— И однако Теренс Вулвертон уверял меня, что вы далеко не кретин, Арчибальд…
— Весьма любезно с его стороны.
— Так докажите, что он не ошибся! Для этого надо всего ничего: посидеть спокойно и больше не соваться в мои дела! Гуляйте, изучайте Вену, а мне дайте спокойно выполнить задание! Мне и так придется рисковать жизнью, Арчибальд, а ваше вмешательство лишит последних шансов остаться в живых! Вы же не хотите, чтобы меня убили, Арчибальд?
Лаудер взял жену под руку и медленно повел к выходу.
— Нет, я, конечно, не желаю вам смерти, Рут, я ведь люблю вас… потому-то и хочу, чтобы вы немедленно прекратили всякие экстравагантные игры! Кстати, ваша с Фернсом комедия ничуть не ввела меня в заблуждение!
— Комедия?
— Ну да! Вы отлично знали, что это я стою сзади, и консул промахнулся нарочно. Главное — вам хотелось, чтобы я услышал весь разговор и со спокойной душой отпустил в Грац, где, вероятно, уже дожидается Стокдейл. Но имейте в виду: до тех пор пока вы носите мое имя, я не позволю делать из меня посмешище! Раз вы настаиваете на путешествии в Грац — поедем вместе. Может, там я наконец смогу выяснить отношения с вашим полковником? По-моему, этот тип создает слишком много ненужных осложнений…
Возвращаясь в гостиницу «Кайзерин Элизабет», Рут упорно молчала, пропуская мимо ушей все просьбы и укоры мужа. Молодая женщина для виду погрузилась в чтение скучнейшей книги, но отступать ни за что не хотела. Она не могла больше выносить присутствие Арчибальда, и каждая новая выходка мужа приводила ее в исступление. Даже любовь Лаудера больше не трогала Рут, ибо молодая женщина теперь склонялась к мысли, что баронетом движут не столько нежные чувства, сколько необузданное тщеславие. Больше всего Арчибальд боялся, как бы кто-нибудь не сказал, что одного из Лаудеров жена бросила в первые же дни после свадьбы. И этот самовлюбленный истукан нарочно цеплялся за свои химеры, боясь пагубного для самолюбия прозрения. Лучше отрицать само существование тайных агентов, чем признаться себе, что женитьба на честолюбивой мисс Трексмор оказалась ошибкой. Однако Рут твердо решила, невзирая на весь шум, который, несомненно, поднимется в британском высшем свете, сразу по возвращении в Лондон покончить с ненавистным браком. А пока важнее всего ей было максимально обезвредить баронета. В конце концов, возможно, думала леди Лаудер, «те, другие», не воспримут всерьез действия особы, обремененной столь феноменальным супругом? Так что глупости Арчибальда в некоторой степени могут послужить прикрытием… Кто станет опасаться тайного агента, громко заявляющего о себе на каждом шагу? Нет, скорее всего, к ним с Арчибальдом отнесутся как к паре клоунов! И Рут осталась очень довольна таким логическим заключением, подумав, что даже сам полковник Стокдейл наверняка не стал бы его оспаривать. И, раз уж ей при всем желании никак не отделаться от мужа, надо попробовать обратить в свою пользу все тернии, какие, сам о том не подозревая, рассыпает на ее пути баронет.
Около пяти часов вечера из приемной позвонил служащий и предупредил, что мистер Терренс Лаудхэм спрашивает разрешения подняться к сэру Арчибальду и леди Рут Лаудер.
— С нами хочет поговорить один из ваших приятелей-шпионов, — насмешливо бросил Арчибальд жене.
— Кто?
— Лаудхэм… Терри Лаудхэм.
Рут подумала, что, вопреки первоначальным намерениям, Фернс все-таки рассказал сотрудникам о ее миссии и, возможно, теперь отправил сюда Лаудхэма с последними уточнениями.
— Попросите его подняться сюда, Арчибальд.
Баронет передал в трубку приказ супруги, и несколько минут спустя Терри уже стучал в номер Лаудеров.
— Входите, входите, дорогой друг! — жизнерадостно встретил его баронет. — Надеюсь, я вам не помешаю?
— Простите, что?
— Может, вы рассчитывали застать леди Лаудер в одиночестве?
— Не понимаю, что вы…
— Но, послушайте, это же сама очевидность! Шпионы терпеть не могут, когда кто-то вмешивается в их дела! Хотите, я уйду?
— Вовсе нет! Мое почтение, леди Лаудер!
— Добрый день, Лаудхэм. Вы пришли рассказать нам последние новости?
— Нет, напротив, сам хотел спросить, будете ли вы еще в Вене к концу той недели.
— Ну, это одному Богу ведомо! — снова вмешался баронет. — Может, мы все еще будем здесь, а может, умрем. Как там говорится по-вашему? Ах да: нас могут ликвидировать… А возможно, нам предстоит томиться в коммунистических узилищах… Все зависит от нашей поездки в Грац.
Будь у Рут револьвер, в ту минуту она, как пить дать, заставила бы супруга замолчать навеки. Но слово — не воробей… Как и следовало ожидать, Терри очень удивился.
— Вы едете в Грац? Что за странная мысль! Знаете, в это время года там почти не на что смотреть…
— А мы едем не любоваться красотами. Моей супруге надо кое-кого повидать… какого-то сапожника… Более чем странные знакомства для леди, вы не находите?
Лаудхэм повернулся к Рут.
— Если я правильно понял, ваш муж имел в виду, что вы хотите встретиться с Крукелем? — нервно спросил он.
— Фернс просил меня сохранить это в тайне, но, к несчастью, наш разговор слышал Арчибальд… Да, я должна поговорить с Крукелем!
— Но это чертовски опасно и для вас, и для него. Не понимаю, как Фернс мог позволить вам так отчаянно рисковать! Если Крукель еще работает на нас, то только потому, что, видимо, его роль не окончательно прояснилась. Съездив туда, вы его выдадите. А окажись сапожник предателем, отправить вас в Грац — все равно что связанной отдать в руки противника. Прошу вас, леди Лаудер, подумайте хорошенько!
— Вы отлично знаете, Лаудхэм, что при нашей работе раздумывать над исполнением приказов не принято! Да иначе никто бы не решился сделать что-либо путное…
— Тогда позвольте мне сопровождать вас!
— Фернс не разрешит вам.
— К черту Фернса! У этих старых служак, похоже, вообще нет сердца!
Пылкость молодого человека и его несомненный испуг слегка удивили Рут. Но инстинкт подсказывал, что ради другой женщины он не стал бы так волноваться, а это приятно щекотало самолюбие.
— Будь Фернс слабаком, ему бы срочно пришлось искать другую работу. Спасибо за участие в моей судьбе, но, право же, не нам обсуждать распоряжения начальства!
Лаудхэм молча опустил голову. Положение становилось просто неловким, но тут сидевший немного в стороне баронет начал бурно аплодировать. Жена и гость удивленно вытаращили глаза. Сэр Арчибальд встал.
— Браво! И еще раз: бра-во! Вы оба держались потрясающе естественно! Кто-нибудь другой, услышав ваш взволнованный голос, сэр, и нотки смущения в вашем, Рут, наверное, попался бы на крючок! Вы, конечно, не те, за кого пытаетесь себя выдать, но одно во всяком случае не вызывает и тени сомнений: из вас получились бы превосходные актеры! Вот я и говорю: браво!
Терри Лаудхэм с неподдельным изумлением смотрел то на Рут, то на ее супруга. Поведение Лаудера настолько не укладывалось в голове, что молодой человек явно ждал объяснений. Леди Лаудер тяжело вздохнула.
— Мой муж не верит, что на свете есть разведка и контрразведка, а потому воображает, будто мы с вами ломаем комедию…
— Прошу прощения, дорогая! — перебил ее баронет. — Мне прекрасно известно о существовании секретных служб, но я полагаю, что люди вроде вас или мистера Лаудхэма там работать не могут. Вы оба слишком хорошо воспитаны, чтобы связаться с головорезами… Однако вы умеете добиться своего, Рут, и так очаровали всех этих джентльменов, что они добросовестно помогают вам ввести меня в заблуждение. Только я разгадал вашу игру и вижу, что пьеса, начало которой я видел на Центральфридхоф, продолжается…
Слушая баронета, Терри не верил собственным ушам. Такая поразительная слепота просто парализовала его волю. А очень довольный собой сэр Арчибальд снова опустился на стул и с самым победоносным видом закурил. Лаудхэм пребывал в такой растерянности, что Рут поспешила вывести его из затруднения.
— Но вы так и не сказали, с каким известием пришли к нам, мистер Лаудхэм?
Терри все еще не мог стряхнуть оцепенение, словно недавние тирады баронета напрочь блокировали его умственные способности.
— Прошу прощения… На той неделе; вероятно в пятницу, я собираюсь праздновать день рождения… мне исполняется тридцать пять лет… И я бы очень хотел видеть вас обоих за своим столиком у «Закера».
Баронет заверил Лаудхэма, что, если его супруга не будет слишком занята организацией государственного переворота в соседней стране или собственноручным отстрелом целой сети, например молдо-валахских шпионов, они с леди Лаудер с удовольствием придут праздновать тридцать пятый день рождения бесспорно симпатичного джентльмена.
Выходя из «Кайзерин Элизабет», Терри раздумывал, уж не приснилось ли ему все это действо с участием сумасброда баронета. Во всяком случае, если избавить прелестную Рут от невыносимого супруга — не в его власти, надо во что бы то ни стало помешать Фернсу послать молодую женщину на верную смерть или в плен. Кто знает, возможно, Лаудхэм, сам того не ведая, уже влюбился в леди Лаудер?
А Лаудеры у себя в номере с легкой враждебностью созерцали друг друга. Бывшая мисс Трексмор с глубокой непоследовательностью тех, кто в глубине души признает совершенную глупость и хочет найти ей оправдание, начинала по-настоящему ненавидеть мужа. Не находя в баронете прежних достоинств, молодая женщина мысленно упрекала его в обмане, как будто не она сама, своими собственными руками устроила этот злосчастный брак! Рут уже думала, что, раз с Арчибальдом сладить невозможно, лучше позвонить в Лондон и отказаться от задания, а заодно и подать в отставку. Впрочем, положа руку на сердце молодая женщина чувствовала, что работа уже не захватывает ее, как прежде, и, будь рядом другой спутник жизни, а не этот проклятущий баронет, она с удовольствием променяла бы рискованные приключения на мирную жизнь самой заурядной обывательницы Лондона.
— Дорогая, я, наверное, должен извиниться перед вами…
Рут настолько не ожидала ничего подобного, что тут же потребовала объяснений:
— Не может быть, чтобы до вас вдруг дошло, как мерзко вы себя ведете с тех пор, как мы приехали в Вену!
— Да, Рут, и с моей стороны это совершенно непростительно… Ума не приложу, как я сразу не сообразил, в чем дело…
Баронета, казалось, терзали искренние угрызения совести, и его раскаяние снова тронуло Рут.
— Я никогда не сомневалась в ваших добрых намерениях, Арчибальд, — уже мягче заметила она.
— Да, я должен был догадаться… Трудные детство и юность… то, что вы добились нынешнего положения тяжким трудом и лишениями… все это вынуждало вас так или иначе убегать от действительности в детские мечты… нежный и романтический мир грез…
— Куда вы клоните, Арчибальд?
— Все очень просто, Рут! Едва закрыв за собой дверь дома, вы отключались от повседневных забот и тягостной борьбы за существование и возвращались к любимым сказкам детства. Там вы, подобно Алисе в Стране чудес, легко одерживали победы над врагами и преодолевали все трудности. Мало-помалу, сами того не замечая, вы стали принимать эти мечты за реальность и с величайшим простодушием (чего я до сих пор не замечал!) уверовали, будто все ваши приключения — чистая правда.
— Иными словами, вы принимаете меня за сумасшедшую?
— Вы преувеличиваете!
— Значит, Джим Фернс, Терри Лаудхэм, Малькольм Райхоуп — тоже чокнутые? Лукан только воображает, будто его прикончили? А полковник Стокдейл — просто миф?
— Признаюсь, в этом вопросе кое-какие детали еще ускользают от моего понимания, но первой на ум приходит мысль о великолепном розыгрыше, задуманном праздными служащими. Что до Стокдейла, я начинаю верить, что, возможно, он и впрямь — одна из выдумок, которыми вы тешились до замужества, — герой наподобие Робина Гуда или Айвенго.
Самодовольная физиономия баронета до такой степени выводила его жену из себя, что в какую-то долю секунды Рут чуть не запустила в нее книгой. Но это ни к чему бы не привело. Арчибальд так упрямо держался за свои прописные истины, так искренне верил в несомненное интеллектуальное превосходство своего круга над всеми прочими, что его мозг был наглухо закрыт для понимания. Такому человеку ни за что не докажешь, что в жизни могут происходить вещи, о существовании которых он даже не подозревает.
Рут знала, что подвергается очень серьезной опасности — уничтожение всей венгерской сети ясно доказывало, что враг настороже. До сих пор ей страшно не хотелось, чтобы сэр Арчибальд вмешивался в историю, не имеющую к нему никакого отношения. Но раз он заговорил в таком тоне, то пускай получит за самоуверенность по заслугам. Она, Рут, покажет супругу действительность, которую тот упорно отрицает, а коли столкновение станет для него роковым — что ж, сам виноват! Молодая женщина с улыбкой посмотрела на мужа.
— Вы тонкий психолог, Арчибальд…
— Я тоже так думаю, дорогая.
А в кабинете Джима Фернса, где Терри Лаудхэм при Малькольме Райхоупе и Эннабель Вулер горько упрекал консула за бесчеловечное решение послать леди Рут Лаудер в Грац, разговор шел далеко не в таком любезном тоне.
— Самое настоящее убийство, Джим! И другим словом то, что вы собираетесь сделать, не назовешь! Эта девчушка почти ничего не смыслит в нашем деле, а кроме того, у нее на шее камнем висит болван, который стократно увеличивает опасность!
Фернс пожал плечами:
— Я только выполняю приказ Лондона.
— Ну, если вашей совести такого утешения довольно…
— Будь у меня совесть, Терри, я занимался бы чем-нибудь другим.
— Послушайте, Джим, но уж вы-то знаете, что мы имеем дело с совершенно безжалостными субъектами! Вспомните хотя бы Лукана! Либо Крукель — предатель, и тогда Рут Лаудер обречена, либо он и не помышлял об измене, а значит, отправив к старику нашего агента (не забывайте, что баронет во всеуслышание орал, чем мы занимаемся!), вы подпишете ему смертный приговор и утопите обоих!
— Повторяю вам, Терри, я обязан строжайшим образом соблюдать полученные из Лондона инструкции! Вы достаточно давно тут работаете, чтобы наконец понять: никто из нас ничего иного сделать не может!
— И все-таки это гнусно!
— Ваш интерес к этой Рут Лаудер по меньшей мере подозрителен, Терри! — пронзительно взвизгнула мисс Вулер.
— О, прошу вас, Эннабель, сейчас вовсе не время устраивать сцены ревности!
— И все же я не могу не удивляться тому, как занимает вас судьба этой женщины!
Райхоуп презрительно хмыкнул:
— Очевидно, наш донжуан в равной мере неравнодушен к блондинкам и брюнеткам!
Лаудхэм угрожающе шагнул к коллеге:
— Продолжайте в том же духе, Райхоуп, и я наконец устрою вам давно заслуженную трепку!
Малькольм вытащил пистолет:
— Попробуйте только поднять на меня руку — и я вас пристрелю. Меня уже не первый день так и подмывает это сделать… вы и представить себе не можете, с каким удовольствием я спущу курок!
— Как вам не стыдно, Малькольм! — завопила мисс Вулер.
— А вам, Эннабель?
— Мне? О! Да как вы смеете?
Не вмешайся Фернс, дело наверняка дошло бы до потасовки. С горечью буркнув, что Великобритания, несомненно, заслуживает защитников получше, нежели люди, озабоченные исключительно собственными мелкими дрязгами, консул предложил всем разойтись.
— А вы, Райхоуп, напрасно вообразили, будто моя дружба обеспечивает вам полную безнаказанность, — заметил он напоследок. — Если вы и впредь будете отравлять жизнь всему отделу, я потребую, чтобы вас отозвали домой. Что до вас, Лаудхэм, то вынужден вам напомнить: вы приехали в Вену не самоуправствовать, а строго выполнять мои приказы. Когда мне понадобится совет, я сам вас позову. А впрочем, раз вас настолько волнует будущее леди Рут Лаудер, поезжайте-ка завтра в Грац и обеспечьте ей прикрытие.
— Почему бы вам не послать Райхоупа? — взвилась секретарша.
— Вы тоже, Эннабель, начинаете действовать мне на нервы! Запомните раз и навсегда, что как представителю Соединенного Королевства мне есть о чем подумать, кроме ваших сомнительных амурашек!
— Сомнительных?
— Довольно, мисс Вулер! Не хотите получить обратный билет в Лондон — прикусите язык. Вы свободны, леди и джентльмены!
Решив избрать новую тактику и окончательно усыпить возможные подозрения мужа, Рут согласилась пойти с ним в оперу на «Отелло». Благодаря этому они провели вместе такой замечательный вечер, что сэр Арчибальд на несколько часов перестал казаться жене несносным субъектом. После театра баронет предложил супруге выпить по бокалу шампанского в «Казанове».
Но не успели супруги войти в ресторан, как из бара их окликнул Малькольм Райхоуп, прочно, как корабль на якоре, сидевший у стойки. В страшном смущении сэр Арчибальд и леди Рут дружески помахали пьянице рукой и быстро шмыгнули в уединенный уголок, куда проводил их метрдотель.
— Наверное, принял нас за влюбленных… — заметила леди Лаудер.
— А разве это не так, дорогая?
Молодая женщина благоразумно промолчала. Баронет заказал шампанское, а Рут с горечью подумала, что, будь сейчас рядом по-настоящему близкий и любимый человек, она чувствовала бы себя счастливейшей из женщин. Перед мысленным взором леди Лаудер тут же мелькнул образ красивого и мужественного Терри Лаудхэма, и она невольно покраснела. Волнение спутницы не укрылось от баронета.
— Что-нибудь не так, дорогая? — наивно спросил он.
— Смотрите, кто к нам идет…
Малькольм, отцепившись от стойки, упрямо шел к столику Лаудеров. Он был явно пьян, но держался великолепно. Правда, время от времени помощнику Фернса немного изменяло чувство равновесия и он слегка покачивался, но все же в последний момент как-то ухитрялся устоять на ногах. Так что, хоть посетители и поглядывали на подгулявшего британца с веселым любопытством, неприятностей никто не ожидал. По всей видимости, Райхоуп умел пить.
— Боюсь, дорогая, встречи нам никак не избежать, — пробормотал баронет.
Добравшись до их столика, Малькольм Райхоуп на мгновение застыл по стойке смирно, потом отвесил легкий поклон.
— Мое почтение, леди Лаудер… Добрый вечер, сэр Арчибальд.
— Садитесь, Райхоуп. Хотите выпить с нами бокал шампанского?
— Если не возражаете, я предпочел бы не мешать виски ни с чем другим…
В знак особого расположения к завсегдатаю бармен сам принес рюмку Райхоупа. Англичанин тут же отхлебнул.
— По-моему, у вас… очень усталый вид, мистер Райхоуп… — осторожно заметила Рут.
— Я пьян, леди Лаудер… — фыркнул Малькольм, — вдребезги пьян. Заметьте, в посольстве нам вовсе не запрещают пить. Нельзя только показывать, в каком ты состоянии. Кажется, я уже приобрел неплохой опыт по этой части. На моем месте любой, кому не надо думать о карьере, просто не удержался бы в вертикальном положении. А я могу стоять хоть на одной ноге, да еще поставить на голову полный бокал. Хотите взглянуть?
— Нет-нет, умоляю вас, не надо! Я верю вам на слово!
Райхоуп вздохнул:
— Жаль. Видать, вы тоже полны скепсиса… Никто меня ни в грош не ставит… с тех пор как появился этот мерзавец!
— Вы имеете в виду Терри Лаудхэма, не так ли?
Услышав ненавистное имя, Райхоуп как будто даже протрезвел.
— Да, — более твердо сказал он, — этого донжуана контрразведки! Неотразимого для всех женщин красавчика! Супергероя, поражающего сердца с первого взгляда, короче, того, кому не надо доказывать, на что он способен, — и так верят!
— А напрасно? — негромко спросил баронет.
Немного поколебавшись, Малькольм признал-таки превосходство соперника.
— Нет, он и впрямь супермен… увел у меня Эннабель всего за несколько часов… Стоило ему войти — и она уже не могла отвести глаз, как зачарованная… Правда, сравнение явно не в мою пользу, уж чего там… И однако я уверен, что она любила меня… Мы хотели пожениться через месяц, подать в отставку и уехать домой, в Лондон. Оба мечтали о крохотном домишке в Патни, который оставили мне родители… Эннабель одна на свете. Мы могли быть так счастливы… иметь детей…
Помощник консула невесело рассмеялся:
— Знаете, хоть по виду этого и не скажешь, но мне всего тридцать семь лет…
После этого замечания, сделанного для вящей убедительности, Райхоуп, очевидно, вконец расстроился и начал беззвучно ронять слезы в бокал виски. Лаудеры в полной растерянности не знали, что предпринять. Наконец Рут попробовала утешить его самым банальным и испытанным образом:
— Послушайте, мистер Райхоуп, может, с кем-то еще вы сумеете обрести то, что не сумела вам дать мисс Вулер? Вам, по вашим же собственным словам, всего тридцать семь лет! А мисс Вулер — не единственная женщина на земле.
— Но я люблю ее! — простонал бедняга Малькольм. — Понимаете, леди Лаудер? Люблю! Это первая девушка, к которой я привязался, и первая, кому я был не безразличен. Она не имела права так поступать!
Сэр Арчибальд в свою очередь попытался совладать с этим, совершенно непонятным ему, приступом тоски.
— Дорогой мой, женщины реагируют на все иначе, не так, как мы… Поверьте мне, лучше всего простить эту юную особу и поискать другую родственную душу.
Малькольм упрямо покачал головой:
— Нет! Я никогда не прощу! И я причиню и ей, предательнице, и ему, вору, и Фернсу, их сообщнику, все зло, на какое только способен! Теперь для меня больше ничего не существует, кроме мести! И, клянусь вам, я отомщу!
В голосе этого человека, ускользнувшего из-под власти алкоголя, как только речь зашла о возмездии, звучала такая ненависть, что Рут призадумалась. Райхоуп пребывал как раз в том расположении ума, когда человек, не думая о прошлом, готов на все, вплоть до измены, лишь бы утолить чувство попранной справедливости. Неужто Фред Лукан стал невинной жертвой этого наваждения? И леди Лаудер решила попытаться что-нибудь выяснить.
— Скажите, а вы знали Фреда Лукана?
Малькольм посмотрел на нее ясным взглядом, и молодая женщина восхитилась его умением так быстро трезветь, пусть даже от гнева.
— Знал ли я Лукана?
Райхоуп погрузился в размышления, потом мягко, словно и не он только что бушевал от ярости, заметил:
— Лет двадцать назад мы с Фредом вместе учились в Лондонском университете… И с тех пор каждый год старались выкроить друг для друга хоть несколько дней… Он собирался стать моим шафером, но теперь и Фред мертв, и свадьбы не будет… Да, я прекрасно знал Фреда Лукана. И его последний вечер здесь мы провели вдвоем. Утром парень ушел в Грац, и с тех пор его никто не видел. Что там произошло — совершенно ясно, надежды никакой. Мне следовало поехать вместе с Фредом.
— Вы думаете, сапожник…
— Крукель? Да ни за что на свете! Это замечательный старик! Русские прикончили всю его семью, и теперь бедняга тоже один как перст. Так зачем ему предавать? Чтобы сделать приятное убийцам родни? Ради денег, на которые он все равно не сумел бы пожить в свое удовольствие? К несчастью, Фернс и Лаудхэм принадлежат к старой школе и рабски доверяют логическим цепочкам. Раз след Лукана потерялся в доме Крукеля, стало быть, он и убийца… Идиоты!
— А у вас есть другие предположения?
— Нет… но я совершенно уверен, что сапожник тут ни при чем. Он не может быть предателем.
— Почему?
— Потому что я близко его знаю!
— Совсем недавно вы полагали, будто можете сказать то же самое о мисс Вулер, — вкрадчиво заметил баронет.
Райхоуп на секунду опешил, потом кивнул в знак согласия:
— Верно. Официант! Виски!
— Вам не кажется, что вы и так уже выпили более чем достаточно? — спросила Рут.
— А что мне еще осталось в этой жизни?
Лаудеры уже собирались возвращаться в гостиницу, оставив Малькольма наедине с бокалом, когда в бар неожиданно вошли Терри Лаудхэм и Эннабель Вулер. Баронета и его жену они заметили сразу, а вот Райхоупа скрыла колонна. Молодые люди двинулись к столику сэра Арчибальда и наконец разглядели коллегу, но отступать было уже поздно — это выглядело бы по-хамски. Всех охватило ужасное смущение. Рут предложила Эннабель и Терри сесть, а ее муж поспешно заказал еще одну бутылку шампанского. Военные действия открыл Малькольм.
— Ну как, помечтали вдвоем при луне? — спросил он мисс Вулер.
Остальные сделали вид, будто не слышат глупого вопроса, и принялись обсуждать спектакль венской Оперы — Эннабель и Терри слушали его накануне. Но Райхоуп не желал смириться с напускным безразличием коллег — последний бокал виски, по-видимому, снова затуманил ему мозги.
— Я считал вас умной девушкой, Эннабель, а на самом деле вы ничуть не лучше тех, кто подписывается на «Почту любви»…
— Ладно, Райхоуп, вы просто пьяны, — отозвался Терри. — И вдобавок мы с вами занимаем такое положение, что не можем себе позволить никаких скандалов… Но все-таки предупреждаю: немедленно прекратите оскорблять мисс Вулер, или я разобью вам физиономию. Ясно?
— Эннабель сама себя оскорбила, связавшись с подобным типом.
Терри привстал, явно намереваясь стукнуть коллегу, но сэр Арчибальд удержал его:
— Прошу вас, Лаудхэм…
Терри со вздохом опустился на стул, а мисс Вулер стала сердито отчитывать бывшего возлюбленного:
— На вашем месте, Малькольм, я бы сгорела со стыда!
— А на своем вам уютно?
Рут попыталась успокоить девушку:
— Не обращайте внимания, мисс, мистер Райхоуп сегодня слишком… утомлен. Не стоит принимать его слова всерьез…
— Она… имеет в виду, что я… пьян… — икая, пояснил Райхоуп. — Настоящая… леди.
— Мне противно на вас смотреть, Малькольм!
— Да, с тех пор как появился другой…
— Ну и что?
— Должно быть, у мистера Лаудхэма более внушительный счет в банке, чем у меня.
Мисс Вулер ударила его по щеке. Она сразу пожалела об этом, но сделанного не воротишь. Эннабель оставалось лишь извиниться перед Лаудерами и попросить Терри проводить ее домой. Малькольм окинул обоих угасшим взглядом.
— Я убью вас, Лаудхэм… — наконец пробормотал он. — Не знаю ни когда, ни как, но непременно убью…
— Чем нести ахинею, продолжайте-ка лучше лакать свое виски!
— Выслушайте меня внимательно, Малькольм, если, конечно, вы еще в состоянии что-либо понимать… — вставая из-за столика, сказала Эннабель. — Если вы намерены продолжать в том же духе, я уговорю Джима Фернса поскорее отправить вас в Лондон. Вы стали позором для всего нашего посольства! А что до Терри Лаудхэма, то, нравится вам это или нет, а мы с ним любим друг друга!
Лаудхэм в полном замешательстве потянул ее за рукав.
— Прекратите, Эннабель, наши отношения никого не интересуют…
Девушка вырвала руку.
— Я хочу раз и навсегда поставить точки над i! Имейте в виду, Малькольм: не останься вдруг на этой планете ни единого мужчины, кроме вас, я бы все равно сказала «нет»! Я ненавижу пьяниц и не уважаю людей, которые ради удовлетворения собственных порочных наклонностей тратят куда больше, чем зарабатывают! Спокойной ночи!
Лаудхэм и его спутница удалились, провожаемые любопытными взглядами посетителей бара. А Рут и ее муж не отводили глаз от Райхоупа, пытаясь угадать, как он отреагирует на последние слова Эннабель. Парень долго сидел молча, потом тяжело встал и, ни с кем не попрощавшись, побрел к двери. Гардеробщице пришлось бежать следом и вручить англичанину пальто и шляпу уже на улице.
По дороге в «Кайзерин Элизабет» Рут выглядела серьезной и озабоченной, зато сэр Арчибальд, наоборот, совсем расслабился. На недоуменный вопрос жены, с чего вдруг он так развеселился после крайне неприятной сцены, свидетелями которой им пришлось стать против воли, баронет ответил:
— Я думаю, дорогая, теперь у вас не осталось никаких сомнений, что господа, с коими вам вздумалось поиграть в шпионов, — не джентльмены!
— Хоть вы пощадите мои уши и не болтайте чепухи! Меня и так ужасно тревожит Малькольм Райхоуп…
— С вашей стороны весьма великодушно принимать участие в судьбе какого-то пьяницы!
— Он несчастен.
— Это еще не основание так безобразно себя вести.
— Так, значит, вас, Арчибальд, никакое горе не заставило бы позабыть, что вы джентльмен?
— Думаю, да, дорогая.
— В таком случае мне вас жаль!
— Вы, вероятно, шутите?
— Угадайте!
Больше они не сказали друг другу ни слова. Рут не ответила, даже когда сэр Арчибальд, укладываясь спать, пожелал ей спокойной ночи. Тем не менее через некоторое время, уже в темноте, снова послышался ее голос:
— Что вы думаете о Малькольме Райхоупе, Арчибальд?
— Он мне неприятен.
— А если попытаться забыть о его пороке?
— Тогда просто скучен.
Опять надолго воцарилось молчание.
— Арчибальд… — вдруг опять заговорила Рут. — Вы слышали, как Эннабель Вулер упрекнула бывшего поклонника в том, что он якобы тратит больше, чем зарабатывает?
— Да. Ну и что?
— Как по-вашему, может Райхоуп черпать деньги из… другого источника?
— Не понимаю.
— Парень совсем исстрадался… Возможно, он готов отомстить всему Соединенному Королевству за то, что сделали с ним Эннабель и Терри? Иными словами, как вы думаете, не толкнуло ли Райхоупа разочарование в любви к измене?
— По-моему, да, Рут, потому что, вздумай кто-нибудь отнять у меня вас, я, кажется, готов был бы развязать ядерную войну.
— Надеюсь, это шутка?
— Разумеется, дорогая. Приятных снов.
— Спокойной ночи…
Глава 4
Рут не спалось. Почти всю ночь она обдумывала сцену, происшедшую в «Казанове», и неожиданно для себя прониклась глубоким сочувствием к бедняге Малькольму. Во-первых, он стал жертвой несчастной любви, а во-вторых, невзирая на обвинения, казался порядочным человеком. Молодой женщине инстинктивно хотелось защитить Райхоупа и ему подобных от глупых Эннабель и бесчувственных баронетов, короче, от всех, кому неведомо, какие замечательные человеческие качества могут таиться под внешностью беспробудного пьяницы. Но все же где Малькольм берет деньги, которые каждый вечер тратит в барах Вены? При его нынешнем состоянии души Райхоуп идеальный объект для международных торговцев совестью… Неужели именно он погубил всю венгерскую агентуру МИ-5? В то же время Райхоуп говорил о Фреде Лукане с таким искренним волнением… Что это — комедия, угрызения совести или полная невиновность?
Леди Лаудер проснулась. Дневной свет, проникая сквозь тяжелые шторы из синего бархата, падал на лицо сэра Арчибальда. Сидя в постели, она равнодушно вглядывалась в безукоризненный профиль супруга. Да, баронет, бесспорно, красив, и кто мог бы заподозрить, что под оболочкой самоуверенного самца скрывается жалкая тряпка, не способная ни мыслить, ни чувствовать по-своему? Слепота мужа и его упорное нежелание видеть неприятные стороны действительности выводили молодую женщину из себя. Нет, Райхоупы при всех их слабостях стократ дороже Арчибальдов Лаудеров с их нелепыми принципами! Пусть Малькольм страдает и, возможно, вывозился в грязи, но это живой человек. Его можно ненавидеть, с ним можно бороться, на худой конец — пожалеть… В общем, Райхоуп — из тех людей, кому порой необходимо опереться на дружескую руку. А вот баронету даже в голову никогда не придет взывать к ближнему. Он уверен, будто знает решительно все, что необходимо джентльмену. А остальное — тоска, боль, отчаяние — слишком сильные эмоции для утонченного сэра Арчибальда Лаудера. На губах спящего мелькнула легкая, как ветерок над прудом, тень улыбки. Наверное, мечтает о новом галстуке… Но не лукавит ли Рут сама с собой? Не потому ли она так сочувствует Малькольму Райхоупу, что ее собственные мысли слишком сильно занимает Терри Лаудхэм? Не потому ли Рут безотчетно готова принять сторону Малькольма, что в глубине души испытывает неприязнь к Эннабель Вулер, счастливой избраннице Терри? На мгновение леди Лаудер представила, что рядом с ней, на месте сэра Арчибальда, лежит Лаудхэм, и сердце ее затрепетало от волнения. И однако бывшая мисс Трексмор не привыкла потакать слабостям, напротив, она всегда подавляла свои собственные и презирала чужие. Нет, тут и думать не о чем… Терри любит Эннабель, Эннабель любит Терри, а она еще на некоторое время прикована к баронету. Рут с чуть меланхолической радостью представила, как снова в полном одиночестве возвращается в квартирку на Маргарет-террас. В вулвертоновской конторе, узнав о разводе Лаудеров, наверняка начнут судачить, но всем придется по крайней мере признать, что Рут Трексмор — не из тех, кого можно купить.
Молодая женщина тихонько скользнула в ванную и уже хотела повернуть кран, но так и застыла с вытянутой рукой. Почему, когда Эннабель Вулер сказала, что они с Лаудхэмом любят друг друга, лицо молодого человека выражало такое ледяное равнодушие? Судя по всему, поведение секретарши Фернса немного раздражает ее поклонника… И леди Лаудер принялась с еще большим рвением приводить себя в порядок.
Рут и сэр Арчибальд поехали в Грац на поезде, как самые обычные туристы. Леди Лаудер добросовестно изображала типичную путешествующую англичанку из тех, что, путешествуя по чужим краям, до занудства вникают в каждую мелочь с единственной целью сравнить, классифицировать, нацепить ярлычок и описать в длиннющих письмах провинциальным кузинам. Баронет, приняв игру за чистую монету, радовался как ребенок и с удовольствием отвечал на вопросы супруги. Таким образом, они не оставили без внимания ни единого замка, ни одного холма, с которого принято любоваться пейзажем. Поскольку Грац — столица Штирии, сэру Арчибальду снова представился случай блеснуть эрудицией. Он поведал жене о Бабенбергах, предшественниках Габсбургов, и о знаменитом эрцгерцоге Йоханне, без памяти влюбившемся в дочь почтмейстера из Аузее — Анну Плохи. Десять лет он пытался завоевать сердце возлюбленной, а потом счастливо еще тридцать прожил с ней.
— А вот вы, Арчибальд, наверняка не способны на такую упорную осаду!
— Ну, знаете, эта Анна была самой заурядной девушкой… из простонародья.
«А я, по-вашему, кто?» — чуть не крикнула Рут, но вовремя прикусила язык.
Скорее всего, она несправедлива, но что делать, если с каждым днем муж становится все более чужим, а то и неприятным человеком? Больше всего молодую женщину потрясала его бесчувственность.
В Граце Лаудеры сняли номер в гостинице «Даниель», расположенной на площади напротив вокзала, и до самого вечера гуляли по городу. На Гауптплатц, у подножия статуи возлюбленного Анны Плохи, они сели в фиакр и долго катались по старым кварталам левобережья. В гостиницу оба вернулись в полном восторге от тихого старинного городка. То, что Фред Лукан мог погибнуть в этом мирном, аристократическом уголке Европы, не укладывалось в голове, и все же…
На следующее утро Рут решила скорее повидаться с сапожником Крукелем, но долго раздумывала, брать ли с собой Арчибальда. В конце концов молодая женщина пришла к выводу, что лучше держать супруга под контролем, иначе он все равно пойдет следом и, чего доброго, выкинет очередной дурацкий фортель вроде того, что случился в Центральфридхоф и едва не стоил баронету жизни. Узнав о планах жены, Лаудер тут же согласился, по его словам, «взглянуть, как далеко зайдет шутка».
В слабой надежде немного успокоить нервы Рут отправилась на Мюнцграбенштрассе пешком — вдоль Анненштрассе, Гаутбрюке, Герренхассе и Йакоминиплатц. По дороге она краем глаза наблюдала за мужем — малейшая глупость Арчибальда могла испортить все дело. Но баронет казался счастливым и беззаботным, как ребенок на прогулке, глубоко вдыхал чистый утренний воздух и с удовольствием разглядывал старинные дома. Наконец, слегка наклонившись к жене, баронет высказал свое мнение:
— Вы очень мудро поступили, избрав конечным пунктом нашего путешествия Грац, дорогая… Очаровательный городок… Должно быть, здесь на редкость приятно жить на старости лет.
«Конечным пунктом»! Боже милостивый, и ведь он говорил совершенно искренне! Рут с трудом удержала вертевшуюся на языке колкость — не хватало только дать волю гневу в тот момент, когда надо выполнить самое трудное задание за всю ее недолгую карьеру в контрразведке.
— А вам бы не хотелось остаться тут навсегда, дорогая?
Молодая женщина суеверно скрестила за спиной пальцы, думая, что в столице Штирии ей суждено остаться лишь в одном случае: если бы тем, кто убил Фреда Лукана, удалось отправить на местное кладбище еще одну жертву. Решительно, сэр Арчибальд не упускал ни единой возможности отличиться!
Внезапно баронет словно окаменел и, не
поворачивая головы, шепнул супруге:
— По-моему, за нами следят, дорогая.
Голова, плечи и шея баронета так напряглись, что Рут охватил испуг, как бы его странное оцепенение не привлекло внимания прохожих!
— Я думаю, вы ошибаетесь, но в любом случае ведите себя естественнее, иначе нас наверняка заметят.
Леди Лаудер уговаривала себя, что слова мужа — просто новая сомнительная шутка. Арчибальду так нравилось высмеивать то, что он, в своем безумном ослеплении, называл «экстравагантностями супруги»! Но, когда они шли мимо Ратуши, сэр Арчибальд, внезапно бросив спутницу, подскочил к скверно одетому бродячему музыканту с неопрятной черной бородой и чумазой физиономией. И сам оборванец, и зажатый в руке футляр от скрипки внушали глубокую жалость. От удивления Рут отреагировала не сразу, но, прикинув, каких невероятных глупостей способен натворить ее благоверный, бросилась следом. Меж тем Арчибальд, схватив музыканта за плечо, повернул его к себе лицом и весело крикнул:
— Не вышло, приятель! Я вас узнал!
Парень, очевидно ни в коей мере не ожидавший нападения, хотя бы и такого благодушного, как это получилось у баронета, растерянно бормотал:
— Прошу вас, не надо, это смехотворно! Сейчас же отпустите меня! Отпустите, или я разобью вам морду!
— Э, нет, приятель, как хороший игрок сначала вы должны сознаться, что проиграли!
К баронету подбежала Рут.
— Арчибальд! Что на вас нашло?
— Дорогая моя, позвольте представить вам мистера Терри Лаудхэма!
Сконфуженная физиономия коллеги, чье переодевание неожиданно превратилось в нелепый маскарад, выглядела так потешно, что леди Лаудер прыснула от смеха и все ее раздражение исчезло.
— Да скажите же ему, чтоб оставил меня в покое! — вздохнул Лаудхэм. — А то поглазеть на нас сбежится весь город! Я приехал сюда по приказу Фернса охранять вас…
— Охранять? — расхохотался баронет. — Но от кого и от чего? Господи Боже!
Терри с мольбой взглянул на Рут, и та попробовала утащить супруга, но неизвестно откуда вынырнувший полицейский во что бы то ни стало хотел узнать, что происходит. Баронет охотно объяснил, что речь идет всего-навсего о дружеском розыгрыше. Один из их с женой друзей похвастал, будто сумеет одеться так, что его никто не узнает, а теперь, когда из затеи ничего не вышло, очень разочарован. Страж порядка вполне удовольствовался объяснением и отечески посоветовал Терри скорее бежать домой и принять более достойный вид, раз шутка все равно сорвалась. И Лаудхэм ушел, даже не попрощавшись и не пытаясь скрыть, что все в нем кипит от возмущения.
— Думаю, вы не станете отрицать, что у меня превосходный нюх, дорогая? Ну и рожу скорчил бедняга Лаудхэм!
Они свернули на Рейтшульхассе.
— С нюхом у вас все в порядке, Арчибальд, а вот с сообразительностью — гораздо хуже, — буркнула Рут. — Вы хоть понимаете, что натворили? Из-за вас о моем приезде в Грац почти наверняка стало известно… Так что, если теперь со мной случится беда, можете смело винить себя одного!
— Вы хотите меня напугать?
— Вряд ли вы способны по-настоящему встревожиться, Арчибальд, для этого нужно обладать хотя бы крупицей разума!
Когда они вышли на Дитрихштейнплатц, Рут указала мужу маленькое кафе на углу Мюнцеграбенштрассе.
— А теперь будьте умницей, Арчибальд, и спокойно посидите здесь, пока я не закончу дела с Крукелем.
— А нельзя мне пойти вместе с вами?
— Ни в коем случае!
— Хорошо… и долго мне придется ждать?
— Скажем, если я не вернусь через пятнадцать минут, можете сходить поглядеть, что со мной сталось.
Баронет хитро подмигнул и расплылся в улыбке:
— А что, по-вашему, тут может произойти, дорогая?
Молодая женщина сердито передернула плечами:
— До скорого…
И она поспешила уйти, не ожидая новых идиотских расспросов баронета. А сэр Арчибальд, по-видимому смирившись с неизбежным, проводил жену взглядом и вошел в кафе, где, как самый простой смертный, заказал бокал белого вина.
Рут без труда обнаружила в самой середине улицы сапожную мастерскую Ганса Крукеля, но с огорчением убедилась, что дверь заперта. Соседка сказала, что не понимает, в чем дело, поскольку сама видела сегодня утром папашу Крукеля — тот открыл лавочку в обычное время. Скорее всего, предположила она, старик просто вышел в магазин. Рут поблагодарила, но, не слишком доверяя объяснениям соседки, вошла во дворик, примыкавший к мастерской Крукеля, и оказалась у двери черного хода. Без особой надежды на успех молодая женщина повернула ручку, но дверь, к ее удивлению, тут же открылась. Все это выглядело более чем подозрительно, и Рут решила действовать с особой осторожностью. Медленно, на цыпочках, она проскользнула внутрь и сразу замерла.
Сначала леди Лаудер ничего не увидела, но постепенно, по мере того как ее глаза привыкали к густому сумраку, разглядела, что стоит в узком проходе, с одной стороны примыкающем к мастерской (в чем она убедилась, слегка отодвинув пропахший пылью и сыростью занавес). На табурете у столика с инструментами, где обычно работал старый Крукель, никого не было. С другой стороны прохода Рут увидела еще один занавес. Откинув его как можно бесшумнее, она чуть не споткнулась о ступеньку и замерла, с ужасом ожидая, что сейчас кто-нибудь войдет. Но в доме стояла все та же гнетущая тишина. Молодая женщина сделала еще один шаг. В ту же секунду комнатку залил яркий свет, чья-то рука зажала леди Лаудер рот и ее резко дернули назад.
— Попробуйте только пикнуть — и вам конец, — чуть слышно предупредил мужской голос.
Почувствовав у горла острие ножа, Рут убедилась, что это не пустая угроза. Впрочем, она не испытывала ни малейшего желания кричать. Леди Лаудер не могла отвести взгляда от распростертого прямо на полу тела старика и от страшной раны у него на шее. В голове мелькнуло лишь, что это Крукель и смерть навсегда избавила его от подозрений Фернса. Значит, Лукана погубил вовсе не старый сапожник… И впервые со дня свадьбы молодая женщина пожалела, что рядом нет Арчибальда.
— Я вижу, вы готовы вести себя благоразумно…
Рут отпустили. Она глубоко вздохнула, но тут же чуть не потеряла сознание — кровь старого Крукеля заливала пол до самых ее туфель.
— Не очень-то приятная картинка, а? Но никто не заставлял вас сюда приходить…
Повернувшись, молодая женщина увидела красивого парня с необычным, скуластым лицом. Тот слегка поклонился:
— Вы — леди Лаудер, насколько я понимаю?
— Да, но откуда вы знаете?
— В МИ-пять вас должны были бы отучить от привычки задавать ненужные вопросы! Так, значит, вы хотели потолковать с милейшим Крукелем? А его адрес, конечно, получили от Фернса?
— Теперь моя очередь напомнить вам, что некоторые вопросы задавать бессмысленно.
— Ошибаетесь… когда ты уверен, что непременно получишь ответ, расспрашивать можно о чем угодно… А я нисколько не сомневаюсь, что очень скоро вам самой ужасно захочется выложить как можно больше, леди Лаудер… особенно если я рассержусь. Садитесь-ка на этот стул!
Рут выполнила приказ, и незнакомец связал ей руки и ноги.
— Ну вот, теперь я просто убежден, что мы сумеем договориться. Вы ведь, очевидно, очень дорожите если не жизнью, то по крайней мере своей хорошенькой мордашкой?
Молодая женщина не ответила, боясь, как бы дрожь в голосе не выдала ее панический страх. Почему, ну почему она не взяла с собой Арчибальда? А незнакомец с веселым любопытством, словно в комнате не лежал так пугавший ее обезображенный труп, принялся разглядывать Рут.
— Никак не могу взять в толк, что за блажь понесла особу голубых кровей в нашу замечательную труппу акробатов, где так и кишат самые разнообразные бандиты? Любовь к приключениям? Сильных ощущений захотелось? Ну так положитесь на меня, дорогая, вы их получите, и с лихвой. Но сначала дайте-ка я на вас хорошенько погляжу… Само собой, вы знаете, что очень красивы… Люблю красивые мордочки! Во всяком случае, пока по ним не течет кровь… от крови я теряю самообладание… Понимаете, что я имею в виду? Стоит появиться кровушке — и я бью, не разбирая… Голова так и кружится…
Незнакомец вздохнул:
— Надеюсь, вы не станете толкать меня на подобные крайности?.. Жаль было бы попортить картинку… А потому, если я вас стукну, молите Бога, чтобы кровь пошла не сразу.
Леди Лаудер видела, что руки ее противника подрагивают от возбуждения.
— Кровь так прекрасна… — прерывающимся от волнения голосом продолжал он. — И вся эта красота скрывается в нас… Но надо освободить ее, показать всем! Взгляните на старого негодяя Крукеля! При жизни это был жалкий, скорее отталкивающего вида человечишка… А как он благороден сейчас, в этой длинной красной мантии!
Рут невольно всхлипнула от страха. А парень улыбнулся.
— Не бойтесь… Вы и так достаточно хороши… может, пускать кровушку и не понадобится… Так вот, будьте паинькой — и я вас даже пальцем не трону. Зачем вы приехали в Грац?
— Как друг Фреда Лукана…
— Фреда Лукана? Ах да… Честный был малый, но ужасно упрям. Ни за что не хотел говорить. А уж мы ли не старались завести беседу! Боюсь, ваш Лукан умер в довольно жалком состоянии…
Сэр Арчибальд давно успел допить вино и теперь отчаянно скучал. Рут ушла всего восемь минут назад, а ему казалось — целую вечность. Поэтому, рискуя навлечь на себя недовольство жены, баронет решил отправиться к сапожнику или хотя бы побродить вокруг лавки. Любопытно же взглянуть, на что похоже логово этого любителя шпионских игр! Найдя мастерскую запертой, Лаудер удивился не меньше жены. Если Крукеля нет на месте, почему Рут сразу же не вернулась обратно? Баронет заподозрил неладное. В свою очередь он вошел во дворик, толкнул дверь черного хода и оказался в темном проходе. Почти тотчас его внимание привлекли отголоски разговора. Голоса доносились откуда-то справа. Сэр Арчибальд подкрался поближе, чуть-чуть отодвинул занавеску и увидел, что его жена привязана к стулу, на полу лежит труп старика, а какой-то изверг бьет леди Лаудер по лицу. Зрелище настолько возмутило баронета, что он выскочил из укрытия.
— Нет, но по какому праву вы осмелились поднять руку на леди Лаудер? — возмущенно крикнул сэр Арчибальд.
Убийца Крукеля мгновенно развернулся, но при виде баронета его угрюмая физиономия просияла.
— Гляньте-ка, а вот и кретин пожаловал! Только вас нам тут и не хватало, сэр Арчибальд!
Баронет гордо выпрямился и, поглядев на грубияна сквозь монокль, изрек:
— Насколько мне известно, мы с вами незнакомы!
Рут, сначала воспринявшая появление мужа с несказанным облегчением, поняла, что Арчибальд рискует очень дорого заплатить за упрямство и нежелание верить в существование тайных агентов. И ее охватила какая-то дикарская радость. В самом деле, почему, когда Луканы умирают под пыткой, Арчибальды продолжают наслаждаться жизнью?
Замечание баронета слегка сбило убийцу с толку, но скоро на его лице снова появилось такое же выражение, как у жестокого мальчишки, вздумавшего позабавиться страданиями безобидного зверька.
— Пусть вас это не беспокоит, — хмыкнул он. — Мы еще успеем познакомиться как следует, прежде чем я уложу вас рядышком вон с тем типом… И — кто знает? — возможно, у вас внутри тоже полно чудненькой красной кровушки! А?
Баронет слегка наклонился к жене:
— Право, у вас более чем странные друзья, моя дорогая… Этот изверг, насколько я понимаю, убил того несчастного?
— Да.
— О! Но это же очень дурно с его стороны!
Леди Лаудер вдруг захотелось только одного — чтобы кто-нибудь скорее положил конец дикой, гротескной сцене. Либо Арчибальд и в самом деле непроходимо глуп, либо не отдает себе отчета, какая судьба уготована им обоим.
— В первую очередь, сэр, я хотел бы знать, кто позволил вам привязывать мою жену к стулу. Более того, вы, кажется, имели наглость ударить ее по лицу? Неслыханно! Хотел бы я знать, где вас воспитывали, мой мальчик!
Рут не выдержала.
— Хватит! Хватит! — завопила она. — Ради бога, замолчите, Арчибальд! Мне стыдно за вас!
Убийца похлопал баронета по плечу.
— Слыхали, Арчибальд? Вы заставляете краснеть свою прелестную маленькую женушку!
— Довольно, сэр! Ваши хамские манеры просто невыносимы!
— Ну да? Так я вас мигом успокою…
С этими словами бандит прижал каблуком сверкающий нос ботинка сэра Арчибальда.
— Ой-ой-ой! — взвыл баронет. — Вы раздавите мне ногу, дикарь этакий!
Леди Лаудер плакала в три ручья. Еще ни разу в жизни ее так не унижали. И подумать только, что она носит фамилию этого клоуна! Даже смерть теперь не так страшила молодую женщину — в конце концов, могила навсегда избавит ее от Арчибальда! Убийца, хохоча во все горло, убрал каблук и отпустил баронета. Тот, жалобно взвизгивая, запрыгал на месте, повернулся вокруг собственной оси, чуть не упал, но удержал равновесие, вцепившись в рукоять топорика, вколоченного в полено, и, продолжая вращательное движение, снова оказался лицом к лицу с обидчиком, только на сей раз сэр Арчибальд держал в руке топорик. Он размахнулся и в мгновение ока раскроил парню череп. Убийца Крукеля рухнул ничком, так и не успев отсмеяться. Недавний гвалт сменила полная тишина. Рут, вытаращив глаза, смотрела на эту сцену.
— Боюсь, я ударил слишком сильно, — извинился Арчибальд, — но, по правде сказать, он сам нарывался на неприятности, верно?
Молодая женщина не ответила. Слишком быстрая перемена в судьбе лишила ее дара речи.
— По-моему, вам пора занять более приличествующее вам положение, дорогая…
Баронет ловко перерезал веревки, удерживавшие его супругу на стуле.
— С вами все в порядке?
— Вроде бы да, Арчибальд.
— Дорогая моя…
— Вы… вы сделали это просто потрясающе!
— Потрясающе?
— Да, прикончив этого мерзавца, вы отомстили за Лукана!
— Вот как?.. А знаете, Рут, если честно, я сам не ожидал такого финала…
— Увы, догадываюсь…
— В крикете это классический удар, но только в руке должна быть бита…
— Правда?
— Правда…
Прежде чем уйти, Рут указала на оба трупа:
— Ну, Арчибальд, теперь вы верите в сказки про шпионов?
— Я должен извиниться перед вами, дорогая, но, согласитесь, леди все же не место среди подобных людей… Отвратительное зрелище! Не понимаю, почему полиция Граца так плохо защищает туристов!
Рут долго смотрела на мужа:
— Вот уж никогда не думала, Арчибальд, что на земле еще водятся люди вроде вас!
— Это укор, дорогая?
— Разве можно обвинять бронтозавра за то, что он не похож на газель?
Баронет долго обдумывал слова жены.
— Разумеется, нет… Но какую связь вы ухитрились найти между мной и бронтозавром?
Молодая женщина уклонилась от прямого ответа.
— Пойдемте! Мне не терпится поскорее уехать обратно, в Вену!
Снова оказавшись на улице, Рут решительно отвергла предложение сесть в такси. Только хорошая пешая прогулка могла немного успокоить ее расшатавшиеся нервы. Что до сэра Арчибальда, то, судя по всему, недавнее убийство произвело на него не большее впечатление, чем если бы он очистил апельсин. Теперь Лаудеры шли той же дорогой, но в обратном направлении. Когда они уже сворачивали на Гауптбрюке, где стоят две статуи, символизирующие Австрию и Штирию, Арчибальд вдруг отпустил руку жены и бросился следом за каким-то мужчиной. Однако тот все же сумел улизнуть от баронета.
— Что за муха вас опять укусила, Арчибальд? — спросила Рут, когда ее супруг вернулся.
— Я хотел поймать одного типа, но он оказался проворнее.
— А что его так напугало?
— Возможно, то, что я его узнал…
— И кто же это?
— Пока не имеет значения.
В гостинице Лаудеры единогласно решили, что нуждаются в отдыхе, а на поезд можно с тем же успехом сесть завтра утром. Рут сразу легла, но ее муж сказал, что хочет еще немного пройтись. Узнав в приемной адрес уголовной полиции, он взял такси и поехал туда. В полицейском управлении баронет долго блуждал по коридорам и лестницам, расспрашивая то одного, то другого, пока не нашел дежурного сержанта, который наконец поинтересовался, чего ему надо.
— Кто у вас здесь занимается убийствами?
— Что?
— Кто расследует убийства? — Сэр Арчибальд сунул в глаз монокль. — Разве вы не понимаете по-немецки, друг мой?
— Нет, но вы говорите с таким сильным акцентом, сударь…
— Он вам неприятен?
— Не в том дело, просто я хотел бы знать, кто вы такой.
— Сэр Арчибальд Лаудер, баронет.
— Англичанин?
— Да, вот уже тридцать пять лет, с тех пор как живу на свете.
— И… вы пришли поговорить насчет убийства?
— Да, но не с вами.
— Хорошо, тогда подождите здесь.
Сержант исчез, но не прошло и двух минут, как он снова вырос перед Лаудером.
— Прошу вас идите за мной!
Полицейский проводил англичанина в большой удобный кабинет и, распахнув дверь, удалился. Из-за стола навстречу гостю поднялся мужчина в пенсне.
— Сэр Арчибальд Лаудер?
— Он самый.
— Разумеется, у вас есть документы?
— Естественно.
Полицейский, взглянув на протянутый англичанином паспорт, вернул его владельцу.
— Благодарю вас, сэр. Не угодно ли сесть?
Баронет опустился в кресло.
— Юлиус Малькампф, комиссар уголовной полиции, — представился хозяин кабинета. — Чем могу служить?
— Я пришел дать показания, господин комиссар.
— Насчет чего?
— Убийства.
— Но вы сами, насколько я вижу, не жертва?
— Нет, я совершил его.
— Что?
— Само собой, исключительно в целях законной самозащиты.
Полицейский явно раздумывал, уж не сумасшедший ли перед ним.
— В первую очередь не волнуйтесь…
— Но я и не думаю нервничать, господин комиссар.
— Тогда, может, вы спокойно и по порядку все мне расскажете?
— Позволю себе еще раз заметить, что я здесь именно для этого.
— Я вас слушаю.
— Дело вот в чем, господин комиссар. Мы с леди Лаудер гуляли возле Дитрихштейнплатц. Я зашел в кафе, а жена тем временем решила заглянуть на Мюнцграбенштрассе, к некоему Крукелю.
— Вы с ним знакомы?
— Нет, но над дверью лавки написана фамилия владельца.
— А могу я узнать, зачем леди Лаудер пошла к сапожнику?
— Надо полагать, это как-то связано с обувью. Короче говоря, она попросила меня подождать минут десять. Я посидел в кафе, но жена все не возвращалась, и я пошел навстречу. Представьте же себе мое удивление, господин комиссар, когда оказалось, что лавка заперта!
— Заперта?
— Ну да! Спрашивается, если сапожника нет на месте, то где леди Лаудер? Я обошел дом и, найдя дверь черного хода, толкнул ее. Мои глазам предстал небольшой темный коридорчик, отгороженный от лавки занавесом. Я осторожненько приподнял этот занавес и… что, как вы думаете, увидел?
— Леди Лаудер?
— Совершенно верно. Леди Лаудер, но самым недопустимым образом прикрученную к стулу!
— Прикру…
— Да-да, господин комиссар! Меж тем Лаудеры связаны родственными узами с Дункхэмами из Эрджила и дэвонскими Мэлреди! Невероятная бесцеремонность!
— А сапожник?
— Тоже был там.
— И что он вам сказал?
— Ничего.
— Странно, правда?
— Не особенно, если принять во внимание, что ему от уха до уха перерезали горло…
Комиссар ответил не сразу, а когда наконец решился открыть рот, голос его звучал сурово.
— Я надеюсь, сэр Арчибальд Лаудер, вы бы не позволили себе насмехаться над государственным служащим Австрийской республики?
Баронет сквозь монокль смерил полицейского презрительным взглядом.
— Я закончил Джизус-колледж в Оксфорде, сэр! — сухо бросил он.
— Прошу прощения…
— Ничего.
— Итак, вы вошли в комнату и увидели жену связанной, а хозяина лавки — на полу, с перерезанным горлом. Так?
— Да, правильно.
— В таком случае либо сапожник покончил с собой, предварительно связав леди Лаудер, либо леди Лаудер…
— …зарезала сапожника, а потом сама себя связала и стала ждать возможного визита? Помимо того что столь ловкий фокус явно не по силам леди Лаудер, я вынужден предупредить вас, что не в ее привычках резать незнакомых людей… Не знаю, как развлекаются дамы здесь, в Граце, но могу уверить вас, что в Лондоне…
— Будьте любезны, повторите мне адрес этого сапожника, сэр.
— Мюнцграбенштрассе. Если идти от Дитрихштейнплатц, лавка — с правой стороны.
— Благодарю вас.
Комиссар снял трубку и, распорядившись отправить на Мюнцграбенштрассе следственную группу, снова повернулся к баронету:
— А кстати, сэр Арчибальд Лаудер… Войдя в этот кабинет, вы признались мне, что совершили убийство, не так ли? Уж не вы ли расправились с сапожником?
— Нет.
— Нет? Тогда кого же вы отправили на тот свет?
— Того, кто убил сапожника и напал на мою жену.
— Значит, он тоже там был?
— Естественно.
— И вы об этом умолчали?
— Вы не дали мне времени сказать.
— А могли бы вы описать этого человека?
— Высокий, широкоплечий, лицо если и не совсем монголоидного типа, то по крайней мере выдает явную примесь восточной крови…
— Вы оставили тело на месте?
— Надеюсь, вы не думаете, что я прихватил его с собой?
— А каким образом вам удалось разделаться с парнем?
— Я стукнул его топориком и, да простит меня Бог, кажется, размозжил череп… Должен признать, что подобный поступок не вполне достоин джентльмена, но мною двигала крайняя необходимость.
— Вы ударили его сзади?
— Господин комиссар! Вы намеренно оскорбляете меня?
— Прошу прощения… Так вы убили этого человека за то, что он поднял руку на вашу жену?
— Не совсем. Помимо всего прочего, мерзавец позволил себе обращаться со мной самым недопустимым образом. Представляете, господин комиссар, во-первых, он разговаривал отвратительно грубым тоном… Чтоб незнакомый человек так фамильярничал! Непотребство, да и только… Во-вторых, эти совершенно невыносимые угрозы… И при этом бандит размахивал перед носом огромным ножом, словно и впрямь собирался отправить в мир иной… В конце концов он жестоко отдавил мне ногу, тут уж, честно говоря, я потерял терпение… и стукнул, как молоточком по шару.
— Молоточком?
— Вы, наверное, незнакомы с крикетом, господин комиссар?
— Увы!..
— В таком случае лучше всего показать, как это выглядит.
Баронет попросил полицейского сыграть роль жертвы и продемонстрировал удар, избавивший его от посягательств противника.
— Но как вы объясните, сэр Арчибальд, что парень угодил в такую, по-детски примитивную, ловушку?
— Очевидно, он принимал меня за дурака.
— И он — тоже?..
— Прошу прошения, не понял…
Телефонный звонок избавил комиссара от необходимости подыскивать ответ на столь трудный вопрос.
— Кажется, все в самом деле произошло именно так, как вы описали, — проговорил он, опуская трубку на рычаг.
— Вы сомневались в моих словах, сэр?
— Такая уж у меня работа, сэр Арчибальд. Все надо проверять.
— Только не в том случае, когда вы имеете честь разговаривать с человеком моего положения!
— А как себя чувствует леди Лаудер?
— Она сейчас отдыхает в «Даниеле».
— И долго еще вы намерены пробыть в Граце?
— Нет, завтра утром возвращаемся в Вену. Там нас всегда можно найти в гостинице «Кайзерин Элизабет».
— Возможно, мне придется просить вас засвидетельствовать показания, сэр Арчибальд.
— Я — в вашем полном распоряжении.
— Тогда будьте любезны не покидать Австрию, не уведомив меня об этом.
— Договорились.
Если бы инспектор Хайнлих не позвонил с Мюнцграбенштрассе и не подтвердил, что действительно обнаружил два трупа и несколько перерезанных веревок, лежащих возле стула, комиссар, вероятно, подумал бы, что бредовый разговор с баронетом ему просто приснился.
Глава 5
Когда баронет вернулся в гостиницу, Рут только что встала. Чувствовала она себя свежей и отдохнувшей. Молодая женщина прекрасно отдавала себе отчет, что чудом спаслась от ужасной смерти, и мысль об этом настраивала ее на особенно жизнерадостный лад. Более того, несмотря на признание Арчибальда, что он вступил в бой вовсе не ради нее, леди Лаудер невольно испытывала к мужу благодарность. Поэтому она заговорила с ним гораздо дружелюбнее, чем в последнее время, точнее, со дня свадьбы.
— Хорошо погуляли, Арчибальд?
И, не ожидая ответа, Рут села причесываться за туалетный столик.
— Боюсь, это не самое подходящее слово, дорогая. Выполнять долг всегда неприятно, тем более что государственные учреждения на всех широтах выглядят довольно мрачно… Поэтому, можете мне поверить, я провел время не слишком весело. Удивительно, почему чиновнику так трудно втолковать что бы то ни было, независимо от того, какой стране он служит… особенно это касается полиции…
Рут так и застыла перед зеркалом:
— Полиции?
— Я имею в виду комиссара уголовной полиции, которому рассказал обо всех наших приключениях.
— Что?!
Молодая женщина резко повернулась.
— В чем дело? — удивился баронет.
— Вы хотите сказать, что побежали в уголовную полицию и выложили…
— …что я убил человека, который незадолго до этого тоже совершил убийство. Знаете, дорогая, такого рода подвиги лучше не пытаться сохранить в тайне.
Леди Лаудер, вцепившись в волосы, бегала по комнате. Поистине фантастическая глупость, невежество и ограниченность баронета выводили ее из себя. Рут лишь с огромным трудом сдерживала рвущийся из груди вопль отчаяния. Наконец, обессилев, она бросилась в ванную и стала жадно пить холодную воду.
Арчибальд недоуменно взирал на жену.
— По-моему, с вами творится что-то не то, дорогая…
Рут на мгновение остановилась и посмотрела ему в глаза.
— А что может чувствовать женщина, получив муженька вроде вас?
Неожиданное нападение так удивило Лаудера, что он выронил монокль, однако в последнюю минуту успел поймать его на лету. Снова вставив любимую игрушку в глаз, он высокомерно заметил:
— По-моему, вы забываетесь, дорогая…
Леди Лаудер мгновенно уступила место Рут Трексмор, девушке, которой с восемнадцати лет приходилось биться за кусок хлеба в самых неаристократичных лондонских кварталах.
— Слушайте, вы, надутый кретин! Вы хоть понимаете, что натворили?
— Я не позволю вам…
— Любые действия секретных служб, естественно, требуют строжайшей тайны. Но даже эта простая истина вам не по зубам! Мы сражаемся во мраке, а наши покойники не имеют права на пышные похороны! Никаких цветов, венков и речей! Фернс и его помощники могут заниматься своим делом только потому, что никто об этом не подозревает! А вы что удумали? Помчались в полицию и как будто нарочно подняли шум вокруг дела, которое должно было бы остаться для всех за семью печатями! Да вы что, в конце концов, с ума сошли?
Баронет, плохо понимая, что привело его супругу в такое бешенство, удивленно хлопал глазами.
— Меня не интересуют ваши темные истории! — возмутился он. — Я презираю такого рода занятия! Но я не могу допустить, чтобы мою жену привязывали к стулу и обращались с ней самым безнравственным образом! Кроме того, я не потерплю, чтобы всякие бандиты непристойно нагло разговаривали со мной! Как только мы вернемся в Вену, я пожалуюсь послу и потребую привлечь внимание властей к тому, как обошлись с баронетом и его супругой в Граце, городке, известном спокойствием и вежливостью жителей. Мы просто не имеем права закрывать глаза на некоторые вещи! Недостаток почтения к нам — прямое оскорбление британской Короны, дорогая!
— Замолчите, Арчибальд! Сейчас же замолчите, или я за себя не отвечаю!
Баронет умолк и, опустившись в кресло, закурил сигарету. Вероятно, в эту минуту он подумал, что женщины — более чем своеобразные существа и в Оксфорде его явно недостаточно просветили на сей счет, а потому нечего и надеяться что-либо понять в их странном поведении. А леди Лаудер, сидя на своей кровати, кипела от злости и возмущения. Руки ее непроизвольно рвали в клочки носовой платок, словно пытаясь дать выход накопившемуся раздражению. Теперь можно было не сомневаться, что австрийская полиция потребует объяснений. Что скажет Фернс и как отреагируют на все это в Лондоне? Полковник Стокдейл горько пожалеет, что доверил ей серьезное задание… Рут с позором выгонят из МИ-5… Но это бы еще ничего… Наглядевшись на жуткие кровавые раны, молодая женщина хотела только одного: поскорее вернуться в мирную и кокетливую квартирку на Маргарет-террас. Но что ее по-настоящему пугало, унижало и выводило из себя — так это невозмутимое самодовольство баронета, воображавшего, будто он решительно все понимает, хотя на самом деле этот болван не мог додуматься до самых простых вещей.
— Арчибальд?
— Да, дорогая?
— А вы не подумали, что после ваших признаний дело получит огласку и приятели убитого вами типа проведают, кто мы такие? Очень возможно, ваша глупость будет стоить мне жизни…
— Вы преувеличиваете! И потом, их агента уничтожили вовсе не вы, а я!
— Ну, уж вас-то вряд ли кто-нибудь заподозрит в принадлежности к МИ-пять!
— Естественно. Человеку моего положения нечего делать среди каких-то головорезов!
— И это большое счастье, иначе британская контрразведка давно перестала бы существовать!
— По-вашему, это было бы так плохо? Но, так или иначе, вам нечего опасаться, пока я рядом!
— Пустые слова!
— Я готов умереть за вас, Рут!
И баронет в порыве нежности обнял жену. Но леди Лаудер с отвращением оттолкнула его.
— Что на вас нашло? — взвизгнула она. — Совсем взбесились? Отпустите! И ведите себя прилично, Арчибальд!
Напоминание о светских манерах, по обыкновению, сразу как будто парализовало волю баронета. Он снова вставил в глаз монокль.
— Извините, дорогая… но вы ведь моя жена!
— Только до возвращения в Лондон. Поэтому, раз вы не умеете ничего другого, кроме как всегда оставаться джентльменом, хотя бы ведите себя по-джентльменски!
Сидя в кабинете Фернса, Рут при Терри Лаудхэме получала самую потрясающую в своей жизни выволочку.
— Невиданно! Неслыханно! — бушевал консул. — Да за всю историю разведки я не упомню ничего подобного! Для начала вы приволокли в Вену придурка из «high society» [317], но и этого вам, очевидно, показалось недостаточно: нет чтобы заставить супруга сидеть спокойно, вы повсюду таскаете его с собой, да еще посвящаете в наши дела! Вы что, голову потеряли? И подумать только, что в Лондоне меня заверили, будто Стокдейл относится к вам с большим уважением! Должно быть, я чего-то не понимаю!
— Это не моя вина, мистер Фернс! Начальство отлично знало, что баронет едет со мной!
— Должно быть, никому и в страшном сне не привиделось бы, что вы позволите мужу предпринимать самостоятельные шаги!
Терри попробовал вступиться за молодую женщину:
— С сэром Арчибальдом дьявольски трудно справиться. Он так искренне чувствует себя центром мироздания, что и мысли не допускает, будто кто-то может интересоваться чем-либо, помимо его великолепной особы. По мнению баронета, если человек не принадлежит к его кругу, то и не добьется в жизни ничего путного…
Консул бросил на него испепеляющий взгляд.
— Может, довольно, а? Вы не сказали мне ничего нового о характере этого проклятущего баронета! И почему только он не умер в младенчестве? Ну скажите, леди Лаудер, как вы могли найти что-то привлекательное в подобном субъекте?
Рут опустила голову.
— Мы слишком мало знали друг друга, и я жестоко ошиблась, но теперь уже почти убедила сэра Арчибальда сразу по возвращении в Лондон подать на развод.
— Что ж, это единственная приятная новость за сегодняшний день! Как подумаю, что, прикончив Штефана Дрожека, этот олух не нашел ничего лучше, чем рассказывать о своих подвигах комиссару Малькампфу из уголовной полиции! Счастье еще, что его превосходительство посол, узнав, в чем дело, немедленно связался с австрийским министром внутренних дел и попросил замять эту историю… Нам повезло, что Дрожек оказался преступником, уже отсидевшим в тюрьме на родине, и что он пробрался в Австрию тайком. Я думаю, полиция согласится признать все это обычной уголовщиной. Мы представили дело так, будто Дрожек убил Крукеля из-за денег, вы застали его на месте преступления, но прежде чем убийца успел расправиться и с вами, появился ваш муж… Выглядит просто и убедительно… Во всяком случае, для тех, кто не станет лезть из кожи вон и докапываться до истины…
Рут грустно посмотрела на Фернса.
— Я так хотела добиться успеха… но теперь понимаю, что эта работа — не мое призвание. Жаль только, что придется уйти после такого провала.
Терри попытался ее утешить:
— Я всегда думал, что вам не место среди нас, поэтому и возмущался вашей рискованной командировкой в Грац. Подумайте, не вмешайся вовремя сэр Арчибальд, вы были бы сейчас обезображенным трупом и гнили тихонько где-нибудь в окрестностях Граца…
Леди Лаудер закрыла лицо руками.
— Прошу вас, замолчите… хотя бы из сострадания…
— Я бы никогда не простил себе, случись с вами что-нибудь в этом роде…
Несмотря на сотрясавшую ее нервную дрожь, Рут почувствовала, как участливо, почти нежно звучит голос молодого человека. Она не стала раздумывать о причинах, а просто порадовалась в глубине души. И только мысль о существовании Эннабель Вулер немного омрачала удовольствие.
— Думайте, что болтаете, Терри! — вмешался Фернс. — Чего ради вам понадобилось пугать леди Лаудер?
— Я не хочу, чтобы она изменила решение. Чем раньше леди Лаудер уйдет из разведки, тем лучше.
— Возможно, все это чертовски благородно, Терри, но вам скорее следовало бы поразмыслить о своем собственном поведении!
— Что вы имеете в виду, Фернс?
— Там, в Граце, вы ведь тоже оказались не на высоте, а? Я послал вас охранять баронета и его супругу, но вы не нашли ничего умнее, чем с первых же шагов привлечь к себе внимание. Фантастическая ловкость для тайного агента, правда?
Лаудхэм засмеялся:
— Да, признаться, уж этого я никак не предполагал… Я старался не попадаться на глаза вам, леди Лаудер, а вашего мужа совсем упустил из виду… Если честно, я просто не принимал его в расчет и настолько не ожидал подобной прыти, что, когда сэр Арчибальд схватил меня за руку, должно быть, стоял болван болваном!
Рут не стала спорить.
— Да, по правде говоря, у вас был очень расстроенный вид. Счастье еще, что Арчибальду не вздумалось рассказывать полицейскому, кто вы такой!
— Во всяком случае, мне пришлось идти переодеваться к одному из наших людей, а когда я наконец приехал на Мюнцграбенштрассе, все уже закончилось. Само собой, мне и в голову не приходило, что баронета понесет в полицию, иначе я поостерегся бы так долго торчать в тех местах. Но я никак не мог сообразить, что случилось, и думал, вы еще просто не заходили к сапожнику. Представляете, стою я себе, спокойно поджидаю вас, а тут как снег на голову сваливаются стражи порядка!
— Так или иначе, — подвел итог Фернс, — но теперь нам надо отыграться. Поездка в Грац дала только одно: уверенность, что бедняга Крукель не был изменником. Впрочем, отрицательный результат тоже полезен… Леди Лаудер, вам нельзя сразу уезжать из Вены — это могло бы вызвать подозрения, так что советую еще немного пожить здесь.
Лаудхэм вышел из кабинета консула вместе с Рут.
— Баронет вас уже ждет?
— Да, в «Казанове»… По-моему, мы начинаем там осваиваться, как истинные обитатели Вены. Даже сэр Арчибальд находит, что атмосфера почти та же, что и в его клубе…
— А можно мне вас проводить?
— Конечно, буду очень рада.
— Сегодня удивительно теплый вечер… Может быть, прогуляемся до «Казановы» пешком? — предложил Лаудхэм, когда они вышли на улицу.
Рут отлично понимала, что следовало бы отказаться, но ей так нравилось общество Терри! Ладный парень с его кипучей, мужественной энергией выгодно отличался от баронета. Короче говоря, леди Лаудер кивнула, и они прогулочным шагом двинулись в сторону бара. Совсем как влюбленные… Выскользнувшая из-за угла дома Эннабель Вулер проводила парочку свирепым взглядом. В ту же минуту у двери консульства появился Фернс. Заметив свою секретаршу и проследив направление ее взгляда, он все понял и тихонько подкрался к мисс Вулер.
— Ну, Эннабель, я вижу, вы начали шпионить ради собственного удовольствия?
— Она у меня его не отнимет! О нет, этого я не допущу!
— Послушайте, Эннабель, ваши любовные истории становятся несколько обременительными…
— Отвяжитесь от меня! — огрызнулась секретарша.
Оставив на тротуаре опешившего от такой грубости (особенно неожиданной в устах благовоспитанной молодой англичанки) консула, мисс Вулер поймала такси и в свою очередь помчалась в «Казанову».
Сэр Арчибальд потягивал третий бокал виски и, немного оттаяв, почти дружелюбно смотрел по сторонам. Какой-то австриец повернулся к нему и с фамильярностью соседа по стойке спросил:
— Вам нравится Вена, сударь?
— Пожалуй, да, — немного поколебавшись, ответил баронет.
— В таком случае я искренне сожалею, что вы не видели нашего города в былые дни… Тогда здесь не было так скучно!
— Значит, вы полагаете, что сейчас здесь тоскливо?
— А вы разве не согласны со мной?
— Боже мой, я приехал всего несколько дней назад и, честно говоря, пока не заметил, чтобы время тянулось слишком долго…
— Значит, вам повезло… Тут никогда ничего не происходит…
Именно в эту минуту в бар влетела Эннабель Вулер и, обведя взглядом зал, тут же бросилась к баронету. Собеседник Лаудера при виде этого живого урагана осторожности ради отодвинулся подальше.
— Сэр Арчибальд!
— Да, мисс Вулер?
— Ваша жена сейчас с Терри Лаудхэмом!
— В самом деле?
— И они идут сюда пешком!
— Ну и что?
— Но… Неужели вы не понимаете?
— Что именно, мисс?
— Неужели вы не знаете, какая у Терри репутация? Уж кто-кто, а я на собственной шкуре убедилась, что молва не преувеличивает!
Баронет поправил монокль.
— Я понятия не имею, что говорят о мистере Лаудхэме, — ледяным тоном заметил он, — и меня это ни в малейшей степени не интересует, мисс Вулер. Зато доброе имя леди Лаудер мне весьма дорого, и я не допущу, чтобы его пятнали хотя бы намеком на какие бы то ни было подозрения… Буду премного обязан, если вы это хорошенько запомните.
Англичанка покраснела до корней волос.
— Короче, вам плевать, что ваша жена и Терри…
— Прошу вас, мисс Вулер, ни слова больше… Позвольте откланяться.
И, не обращая больше внимания на Эннабель, сэр Арчибальд демонстративно повернулся спиной. Публичное унижение так потрясло секретаршу консула, что с нее мигом слетел весь благоприобретенный лоск.
— Тряпка, жалкая тряпка — вот вы кто! — завопила она. — Дегенерат! Другой вот-вот уведет у вас жену, а вы отделываетесь банальными фразами.
Посетители с особым любопытством взирали на эту сцену, поскольку британцы крайне редко ссорятся на людях. Баронет, чуть заметно пожав плечами, снова повернулся к мисс Вулер.
— Боюсь, вас слишком мало шлепали в детстве, мисс…
— И вам бы очень хотелось восполнить этот пробел, грязный аристократишка?
В баре раздались приглушенные смешки.
— По правде говоря, мисс, это и впрямь доставило бы мне удовольствие.
Секретарша, вне себя от ярости, замахнулась на баронета, но вовремя подоспевший Малькольм Райхоуп поймал ее руку на лету.
— Эннабель! Вы что, с ума сошли?
— Отпустите меня, мерзкий пьянчуга!
В ту же секунду к ним подошел метрдотель.
— Позвольте, я вас провожу, мисс.
Как и следовало ожидать, мисс Вулер разрыдалась и покорно проследовала к выходу. Метрдотель подозвал такси и приказал отвезти англичанку домой. Некоторое время после ее ухода в баре царило напряженное молчание. Атмосферу разрядил сэр Арчибальд. С самым светским видом он, как ни в чем не бывало, поблагодарил Малькольма.
— Благодарю, что так удачно заглянули сюда, мистер Райхоуп. Выпьете со мной виски?
— С удовольствием. Что за муха ее укусила?
— Насколько я понял, мистер Лаудхэм идет сюда вместе с леди Лаудер. Этого оказалось довольно, чтобы вызвать приступ бешеной ревности. Надо полагать, мисс Вулер настолько ценит привязанность молодого человека, что искренне вообразила, будто все женщины только и мечтают его похитить.
— Терри Лаудхэм — подонок.
— Ну-ну, не хватало еще, чтобы и вы тоже впали в истерику. Битва не проиграна, пока кто-то из противников не покинул поле.
Сэр Арчибальд повернулся к австрийцу, с которым разговаривал до прихода мисс Вулер.
— Как видите, сударь, в Вене тоже кое-что происходит!
Австриец поклонился.
— Меня восхитила ваша выдержка, сэр. Эта буйная юная особа позволила себе назвать вас тряпкой… Честно говоря, я бы, пожалуй, не стерпел!
Баронет добродушно улыбнулся и, обращаясь одновременно к обоим собеседникам, заметил:
— Мисс Вулер ревнует, а от ревнивицы не стоит ожидать здравых суждений. Кроме того, она, вероятно, еще ничего не знает, иначе не посмела бы так со мной разговаривать…
— Не знает о чем, простите за нескромность?
— Да о том, что вчера в Граце я прикончил парня, который имел наглость невежливо со мной разговаривать.
Райхоуп закрыл глаза и судорожно стиснул в руке бокал. А другой сосед сэра Арчибальда чуть не захлебнулся мадерой. Впрочем, флегматичное замечание баронета вызвало сильное волнение среди всех, кто его расслышал.
— Вы убили человека, сэр?
— Да, и довольно крепкого малого, но уж очень несимпатичного…
Австриец, окинув ближайшее окружение слегка потерянным взглядом, попросил уточнений:
— Так вы его и в самом деле…
— Я думаю, да… Раскроил череп топориком. Должен признаться, зрелище не из приятных. Очевидно, у меня слишком тяжелая рука, но, уверяю вас, в комнате стало очень грязно…
Малькольм попытался урезонить баронета:
— Этих господ совсем не интересуют такие вещи, сэр Арчибальд!
Однако его реплика вызвала лавину возражений.
— Похоже, никто не разделяет вашей точки зрения, старина, — ехидно бросил Лаудер.
— Но, прошу вас, сэр Арчибальд, послушайте доброго совета…
— Вы становитесь скучным, мой дорогой, а именно этого настоящий джентльмен вынести никак не может. В том числе, конечно, и я.
— Надеюсь, вам не придется пожалеть об излишней откровенности…
— Я никогда ни о чем не жалею.
Рут и Терри долго шли молча. Не смея в том признаться открыто, оба наслаждались прогулкой вдвоем, но в то же время испытывали легкие угрызения совести. Рут не могла выбросить из головы Арчибальда, а Терри — изгладить из памяти Эннабель. Общее сожаление о потерянной или по крайней мере изрядно ограниченной свободе еще больше сближало молодых людей, но пока они об этом не догадывались.
Разговор начался с ничего не значащих банальностей, словно каждый с трудом преодолевал невидимый барьер. Наконец, поговорив об Австрии, и в частности о Вене, а заодно о Великобритании, Лаудхэм рискнул задать мучивший его вопрос:
— Леди Лаудер… Как вы могли выйти замуж за баронета?
Сама не понимая почему, Рут почувствовала, что ей непременно нужно оправдаться в глазах Терри. Она рассказала о своем безрадостном детстве, не только без родителей, но и без единого близкого родственника, потом о столь же невеселой юности и обо всем, что ей пришлось пережить, чтобы добиться нынешнего положения. Перед свадьбой сэр Арчибальд представлялся лишь своего рода возмещением за прежние горести… Превратиться в леди, по сути дела, значило бы зримо доказать, что Рут преодолела все препятствия, какие только жизнь ставила на ее пути. И, соглашаясь выйти за баронета, она не думала ни о чем другом.
— Вы… вы его любите?
Не слишком приличное любопытство собеседника отнюдь не возмутило молодую женщину. Здесь, в Вене, в волшебный вечерний час хотелось пренебречь всеми общественными установками и освященными временем и традицией нормами сдержанности. Не отдавая себе в том отчета, леди Лаудер разговаривала не столько с Терри, сколько сама с собой. Более того, посмей Лаудхэм задать тот же вопрос утром, Рут сурово поставила бы его на место.
— Нет.
— А он?
— Арчибальд? Вряд ли он вообще способен питать глубокие чувства к кому бы то ни было. Прежде всего баронет влюблен в самого себя, да еще, пожалуй, испытывает искреннюю привязанность к матери. Жизнь он постигал в Оксфорде, и все, что не соответствует вынесенным оттуда представлениям, склонен считать сказкой или ложью. Никто и ничто не сможет открыть ему глаза.
Рут нисколько не обиделась, когда Терри ласково сжал ее руку в знак того, что понимает и разделяет огорчение спутницы. Бывшая мисс Трексмор впервые в жизни откровенно говорила о себе. Это приводило ее в замешательство и в то же время облегчало душу.
— А вы, мистер Лаудхэм?
— О, я мог бы рассказать вам примерно ту же историю. Нищие родители… Отец слишком много пил, чтобы скопить хоть малую толику денег. Мать рано умерла — надорвалась за работой. Учился я через пень-колоду, в пятнадцать лет удрал из дому, а отец и не подумал разыскивать. Потом мне повезло — в Америке я встретил одного потрясающего типа. Он-то и объяснил толком, что за штука жизнь и каким оружием с ней бороться. Еще через некоторое время я поступил в небольшой провинциальный университет, а деньги на это добывал, помогая старику садовнику. В Англию я вернулся готовым на все — как на самые благородные поступки, так и на преступление, но, к счастью, почти сразу столкнулся с агентом МИ-пять. Было это семь лет назад… Вот и все.
— А теперь у вас есть Эннабель Вулер…
— О, Эннабель… Это не она у меня есть, нет, правильнее было бы сказать, что Эннабель хочет получить меня.
Рут охватило блаженное тепло.
— Кажется, она вас очень любит?
— Да, как Райхоупа, до того как появился я…
— Откуда такая горечь, Терри? Я не сомневаюсь, что мисс Вулер вполне порядочная девушка.
— Несомненно, как, впрочем, и то, что она навевает на меня смертельную скуку.
— Но в таком случае почему вы до сих пор не сказали ей об этом?
— Пороху не хватает.
Она умолкла, чувствуя, что самое главное уже сказано. Но через несколько минут Терри не выдержал.
— Из Эннабель с ее снобизмом и вечной оглядкой на чужое мнение получилась бы идеальная супруга для баронета, — с напускной беспечностью рассмеялся он.
— Так вы находите, что я…
— Вы? Нет, вы созданы вовсе не для светских салонов и реверансов. Вам следовало бы встретить парня вроде меня… А уж если б мне подфартило найти такую подругу, я бы далеко пошел.
Рут промолчала. Теперь к сказанному уже и в самом деле было нечего добавить, и больше никто из них не проронил ни слова. Только когда Рут уже собиралась толкнуть дверь в бар, Лаудхэм удержал ее.
— Возможно, нам больше не представится случая поговорить так свободно… Но я хочу, чтобы вы знали, насколько ваше присутствие здесь, ваше доверие и дружба помогают мне держаться на плаву. И я благодарен вам до глубины души.
Леди Лаудер охватило доселе неведомое ей чувство.
— Я тоже… вам благодарна, — с трудом выдавила она. — И рада, что мы смогли познакомиться поближе…
Сами по себе слова не выражали и сотой доли ее волнения, зато интонация с лихвой искупала их незначительность.
Войдя в бар, молодые люди с изумлением обнаружили, что все посетители собрались в одном углу, но не прошло и нескольких минут, как в центре этого мини-столпотворения они узрели разглагольствующего баронета.
— Господи, что он еще отчудил? — простонала Рут.
Увидев коллег, Райхоуп бросился навстречу.
— О, леди Лаудер! Если вы имеете хоть какое-то влияние на сэра Арчибальда, умоляю вас, попытайтесь заставить его умолкнуть!
— А что он натворил?
Малькольм скорчил гримасу:
— Ничего особенного… Всего-навсего рассказывает кому ни попадя, каким образом прикончил убийцу Крукеля… Таким образом, если до сих пор хоть одни австриец не знал, чем мы занимаемся, то теперь и он в курсе. Честно говоря, леди Лаудер, мне бы страшно хотелось, чтобы вы навсегда избавили нас от своего супруга! Я чудовищно плохо воспитан, миледи, и потому сразу скажу, что каких только кретинов я не встречал в этой собачьей жизни, но такого, как баронет, еще ни разу!
И, решив, очевидно, что разговор исчерпан, Малькольм Райхоуп вернулся к собравшимся вокруг сэра Арчибальда. Лаудхэм наклонился и шепнул на ухо Рут:
— Надеюсь, вы не сочтете меня неотесанным грубияном вроде Малькольма, если я скажу, что, по-моему, вы заслуживаете спутника жизни получше?
— Нет… но лучше ничего не говорите…
Баронет в очередной раз описывал внимательным слушателям и зрителям, каким мастерским ударом он раскроил череп противника, как вдруг до него донесся голос леди Лаудер:
— Боюсь, вы роняете свое достоинство, Арчибальд. Ведите себя прилично!
— Вы так думаете, дорогая?
— Уверена!
— В таком случае прошу меня извинить, джентльмены…
Недавний собеседник баронета не мог скрыть разочарование:
— А вы не знаете, зачем тому типу понадобилось убивать сапожника?
— Нет, мне это совершенно безразлично. Подобные людишки вообще не заслуживают ни малейшего внимания.
Перед сэром Арчибальдом внезапно вырос Райхоуп.
— Немедленно заберите свои слова обратно!
Баронет окинул его высокомерным взглядом.
— Мне не нравится ваш тон, — обронил он.
— А мне — та несусветная чушь, которую вы несете вот уже добрых полчаса!
— Как ни прискорбно, но я вынужден заметить, что вы не джентльмен, Райхоуп!
— А я имею честь сообщить вам, что не знаю, какая из черт вашего характера вызывает у меня большее презрение: малодушие или тупость!
— Мне очень жаль, Райхоуп, но, право же, вы сами нарывались на неприятности!
Как истинный британец баронет нанес молниеносный боксерский удар левой, и Малькольм без сознания рухнул к его ногам. Сэр Арчибальд оглядел бар.
— Еще раз прошу прощения, джентльмены, но я терпеть не могу хамства. — Он подозвал бармена. — Будьте любезны, приготовьте ему виски.
— Здорово же у вас работает левая рука, сударь! — заметил кто-то из посетителей.
Терри и один из официантов взгромоздили Малькольма на стул, а Рут начала растирать ему виски. Посетители вернулись за столики, радуясь неожиданному развлечению и немного досадуя, что все так быстро кончилось. Открыв глаза, Райхоуп увидел, что баронет протягивает ему бокал виски. От выпивки он не отказался, но сердито пробормотал:
— Вы меня застали врасплох… ну да ничего! Я еще отыграюсь!
— Вы злитесь на меня, потому что я застукал вас в Граце, у Гауптбрюке! Вы надеялись ускользнуть незамеченным…
— Да нет, я понял, что вы меня обнаружили, но не хотел попадаться на глаза Фернсу.
— Фернсу? — удивился Терри.
— Угу, он шел по пятам за баронетом и леди Лаудер.
Рут, Лаудхэм и сэр Арчибальд переглянулись.
— Короче говоря, вчера все мы дружно побывали в Граце, — подвела итог леди Лаудер.
Как только они вернулись в «Кайзерин Элизабет», Рут спросила мужа, что он думает о поездке Фернса в Грац. Врать Райхоупу незачем, поскольку у них с консулом вроде бы неплохие отношения. Но почему Фернс никого не предупредил, что тоже поедет в столицу Штирии?
— Понятия не имею, дорогая… впрочем, с какой стати туда понесло Райхоупа, я тоже не понимаю…
— А ведь верно! Он не сказал нам, зачем ездил в Грац! Но вы ведь не думаете, что…
— Послушайте, дорогая, я был бы вам очень признателен, если бы вы больше никогда не упоминали при мне об этих людишках. Ради вашего удовольствия я готов признать, что между разными секретными службами и в самом деле происходят довольно неприглядные столкновения, но я ни в коем случае не желаю принимать в них участия. Хорошо бы и вам поступать точно так же.
— И не надейтесь! Я дала слово и сдержу его во что бы то ни стало!
— Но, в конце-то концов, неужели вам нравится общество всяких бандитов?
— Они ничуть не хуже вас и ваших светских приятелей, сэр Арчибальд Лаудер! Да, никто из этих ребят не учился ни в Оксфорде, ни в Кембридже… возможно, им не хватает моральных принципов, но никак не мужества! А коли хотите знать мое мнение, так оно куда важнее любых правил! Да вы хоть знаете, что такое жизнь?
— Мне тридцать пять лет, дорогая…
— По документам — да, но на самом деле вы так и остались недорослем!
— В то время как Терри Лаудхэм, похоже, мужчина в полном смысле слова?
Рут сразу потеряла почву под ногами.
— Почему вы упомянули именно о Терри Лаудхэме?
— Разве не с ним вы прогуляли весь сегодняшний вечер?
— Да, и что с того? Вы, часом, не ревнуете?
— Чтобы я стал ревновать к какому-то Лаудхэму? Полагаю, вы шутите? (За одни эти слова леди Лаудер с удовольствием надавала бы супругу пощечин.) Нет, о ревности не может быть и речи, но из-за этого молодого человека мне пришлось выдержать крайне неприятную сцену с мисс Вулер.
— С Эннабель? И… где же?
— В «Казанове».
— А почему она устроила скандал?
— Да все ревность, дорогая моя, самая обыкновенная ревность. Юная особа вбила себе в голову, будто вы хотите отбить у нее жениха, и просила меня вмешаться.
— Вот психопатка!
— Примерно так я ей и сказал. — Баронет презрительно хмыкнул: — Просто невероятно, до чего нахальны бывают эти мещане! Представьте себе, мисс Вулер якобы пеклась о вашей репутации! Ну, мне и пришлось объяснить, что, будучи леди, вы сумеете сами о себе позаботиться. Хотя, разумеется, все мы знаем, что такое ослепление любви…
— Вы?..
— Я говорил вообще…
— А, ну ладно…
— Однако скандальное поведение мисс Вулер доказывает, как мало вы себя цените, дорогая. Прошу вас, бросьте вы все эти глупые фантазии и давайте поскорее вернемся в Лондон!
— Я не могу уехать, пока не выясню, как погибли Лукан и Крукель.
— Ну, насчет последнего, по-моему, все совершенно ясно: парню перерезали горло…
— Я хотела сказать, почему…
— Не понимаю, какое отношение это имеет к вам! Из-за ваших капризов мне приходится вести совершенно дикий образ жизни, выслушивать оскорбления и убивать, защищая и себя, и вас! Вы отдаете себе отчет, что, узнай обо всех этих гнусностях в моем клубе, меня могут лишить почетного титула президента?
Рут, с жалостью взглянув на мужа, покачала головой:
— Бедный Арчибальд!..
И она скользнула под одеяло, подумав, что даже человек, столкнувшийся с мамонтом, вряд ли оказался бы в более затруднительном положении, чем она, выйдя замуж за Лаудера.
Глава 6
Вместе с завтраком Рут принесли телефонограмму: мистер Джим Фернс просил леди Лаудер как можно скорее приехать к нему в консульство. Выяснилось, что шеф венской контрразведки звонил полтора часа назад, но, несмотря на явную спешку, просил не будить Рут.
Не обращая внимания на супруга, все еще погруженного в счастливый сон, молодая женщина торопливо умылась и побежала в консульство. Сэру Арчибальду она оставила записку, что вернется к обеду.
Фернс принял леди Лаудер, как только ему доложили о ее приходе. Судя по всему, настроение его оставляло желать лучшего. И, едва Рут опустилась в кресло, консул сердито буркнул:
— Хочу сразу предупредить, дорогой друг: вашим мужем я сыт по горло!
— Что же тогда говорить обо мне?
— Позвольте? Вы сами его выбрали, а я не сделал ровно ничего такого, чтобы терпеть подобную пытку!
— Но не могу же я его убить?
— А жаль, потому что если сэр Арчибальд намерен и дальше продолжать в том же духе, то очень скоро сделает из нашей сети посмешище, а это похуже физического уничтожения! Странно, что до сих пор никто в секретных службах до этого не додумался! Вчерашняя сцена в «Казанове» — сплошное неприличие! Мало того, что баронет публично болтал о наших маленьких тайнах, так еще и поколотил одного из моих агентов! Спятил он, что ли?
— Что касается его столкновения с Дрожеком, то Арчибальд и впрямь разглагольствовал на эту тему, во всяком случае до того момента, когда в бар вошли мы с Терри… я хотела сказать, с мистером Лаудхэмом…
— О, я прекрасно все понял! И, уж коли вы затронули эту тему, позвольте сказать вам, что Эннабель Вулер тоже сообразила, в чем дело…
Рут мгновенно стала на дыбы:
— Что означают ваши слова, мистер Фернс?
Консул немного смутился.
— Прошу прощения, леди Лаудер, но за Лаудхэмом так прочно укрепилась репутация донжуана, что волей-неволей подумаешь, как осторожно надо вести себя особе вашего положения, дабы не допустить ни крайне нелестных замечаний в свой адрес, ни гротескных сцен вроде той, которую мисс Вулер вчера закатила сэру Арчибальду!
— Мисс Вулер болезненно ревнива!
— Несомненно, но, хоть и не в моих привычках вмешиваться в личные дела подчиненных, я никак не могу допустить, чтобы они вредили работе! Само собой разумеется, я уже высказал свое мнение мисс Вулер, и по моей настоятельной просьбе она не преминет извиниться перед баронетом. Однако вернемся к нашим баранам. С чего сэру Арчибальду вздумалось колотить Райхоупа?
— Мистер Райхоуп его оскорбил.
— Еще того не легче!
— А вы, мистер Фернс, как поступили бы, назови вас кто-нибудь при всем честном народе кретином?
— Черт возьми! Да неужто все мои подчиненные вдруг взбесились?
Консул схватил трубку и набрал номер кабинета Малькольма. Тщетно.
— И еще смеет не являться на работу! Да за кого он себя принимает, этот мистер Райхоуп?
Вне себя от бешенства, он перезвонил Лаудхэму.
— Терри? Прошу вас немедленно зайти ко мне в кабинет!
Помощник, не мешкая, появился на пороге. В первую очередь он тепло приветствовал леди Лаудер, но консул сразу оборвал все восторженные излияния.
— Вы не знаете, где Малькольм?
— По правде говоря, нет…
— Ну, он свое еще получит! Почему вы не сказали мне, что Райхоуп оскорбил баронета, Терри?
— Потому что сэр Арчибальд сам же признал, что Малькольм просто ухватился за первый попавшийся предлог, а истинная подоплека его раздражения — совершенно иная!
— Вот как?
— Да, баронет сказал, что позавчера в Граце узнал Райхоупа, и тот разозлился. — Немного помолчав, Лаудхэм негромко добавил: — И, насколько я понял, Фернс, вы были там же…
Слова Терри ничуть не обескуражили консула.
— Да, действительно… Я ничего не хотел говорить, но решил тоже съездить в Грац, опасаясь, как бы туда не бросился Малькольм… Честно говоря, я установил тайное наблюдение за ним накануне ночью, а потом, из уважения к прежней дружбе, сам сменил на дежурстве агента…
— Но чего именно вы опасались?
— Пока не могу сказать что-либо определенное… Но мне кажется, Малькольмом сейчас владеет одна-единственная навязчивая мысль: с тех пор как Эннабель бросила его ради вас, он ненавидит нас всех… А кроме того, парень тратит в «Казанове» слишком много денег. Откуда они, хотел бы я знать?
— Неужели вы думаете…
— Я запрещаю себе думать что бы то ни было… слишком боюсь прийти к естественному выводу, который подсказывает логика…
— И вам удалось незаметно для него добраться до Граца?
— Да. Малькольм заметил меня только на Гауптбрюке.
— И… куда он ходил?
Фернс ответил не сразу.
— К Крукелю, на Мюнцграбенштрассе, — наконец глухо проворчал он.
Продолжать разговор никому больше не хотелось. Первой тишину нарушила Рут:
— Так Райхоуп побывал там до нас?
— Да, судя по вашему донесению, примерно часом раньше. Я знаю, о чем вы сейчас подумали, но, ради бога, не делайте поспешных заключений! Если бы не давнее знакомство, я сам без проволочек нейтрализовал бы Малькольма, но из памяти не изгладишь ни каким он был прежде, ни его боевые раны, ни многое другое… Не может быть, чтобы Райхоуп вдруг превратился в…
Фернс не договорил, словно вертевшееся на языке слово обжигало губы.
— Разве что пьянство и несчастная любовь сделали его совершенно другим человеком…
Баронет с увлечением занимался гимнастикой, но, когда он делал особо сложное упражнение, вдруг зазвонил телефон. От неожиданности сэр Арчибальд чуть не потерял равновесие и досадливо выругался, однако трубку все же снял и довольно нелюбезно осведомился, кто звонит в столь неурочное время. Оказалось, дежурный сержант хочет предупредить, что комиссар уголовной полиции Руди Гагенбрехт просит сэра Арчибальда Лаудера до обеда заглянуть в управление. Баронет, сразу вспомнив об обязанностях светского человека, ответствовал, что с радостью сведет знакомство с еще одним австрийским стражем порядка и не преминет поскорее воспользоваться приглашением Руди Гагенбрехта.
Плотно позавтракав и надев самый красивый галстук, сэр Арчибальд спортивным шагом пошел в управление уголовной полиции. Там его приняли с изысканной вежливостью, и баронет совсем расцвел.
Руди Гагенбрехту оставались считанные месяцы до отставки. Всю жизнь он с трудом сдерживал природную раздражительность, боясь повредить карьере. Однако столь мудрая политика не принесла желаемых плодов, и Гагенбрехт продвигался по служебной лестнице далеко не так быстро, как ему хотелось бы. Зато теперь, покидая службу, комиссар больше ничего не боялся и спокойно высказывал все, что тридцать пять лет держал при себе. Сэра Арчибальда он встретил отнюдь не ласково и, взглянув на бумаги, тотчас начал допрос:
— Сэр Арчибальд Лаудер, высокие покровители в рекордный срок добились того, что дело об убийстве в Граце, где вы играли первостепенную роль, закрыто.
Баронет отвесил легкий поклон.
— Но только меня не испугать давлением сверху. Понимаете?
— Превосходно, господин комиссар.
— Я хочу докопаться до истины, а нравится это начальству или нет, мне чихать!
— Вы совершенно правы, господин комиссар.
Полицейский недоверчиво уставился на англичанина. Уж не издевается ли над ним этот тип с моноклем?
— Любопытно, как вы поглядите на то, что мне не внушает особого доверия байка, рассказанная вами моему коллеге в Граце?
— О вкусах не спорят, господин комиссар.
— Вы начинаете действовать мне на нервы, сэр Арчибальд Лаудер!
— О, знай вы, какое впечатление производите на меня, господин комиссар, это наверняка не доставило бы вам удовольствия.
— Я запрещаю вам…
— Вы не можете запретить или разрешить мне что бы то ни было, любезный, а вздумаете продолжать в том же духе — я просто уйду.
— Если я вас отсюда выпущу!
— Ой ли?
Они пристально посмотрели друг другу в глаза, и полицейский взял себя в руки.
— Ладно, но, клянусь, все свое вы получите сполна! Повторите мне, что произошло в Граце!
— Ту версию, которую я изложил вашему коллеге?
— А что, есть другая?
— Разумеется…
— Настоящая?
— Скажем, именно такая, как вам хотелось бы.
— Я вас слушаю!
Баронет спокойно вынул из портсигара сигарету, закурил и, несколько раз затянувшись, начал рассказ:
— Не стану скрывать, господин комиссар, в Граце я смертельно скучал и, не зная толком, как убить время, подумал: «А почему бы мне для разнообразия не прикончить какого-нибудь сапожника?»
— Что?
— В тот момент я как раз шел по Мюнцграбенштрассе, ну и зашел в первую попавшуюся лавку… Случайно это оказалась лавка Крукеля. Не повезло бедняге. Я предложил ему помочь мне надеть пару ботинок (якобы для того, чтобы показать, насколько они малы) и заставил, таким образом, сесть на стул. Сапожник стал ворчать, и пришлось прикрутить его веревкой. Тогда Крукель завопил во весь голос. Что я мог поделать? Только перерезать ему горло! Иначе как бы я заставил старика замолчать? Не успел я управиться — в лавку вошел другой посетитель. Ему, видите ли, не понравилось, как я утихомирил Крукеля, а я терпеть не могу, когда кто-то осмеливается критиковать мои поступки, поэтому стукнул наглеца по голове первым, что подвернулось под руку, точнее, топориком. Уж не знаю, зачем он там валялся…
Пока баронет говорил, лицо комиссара последовательно меняло цвет, пока не приобрело удивительный иссиня-багровый оттенок.
— Вы что, издеваетесь надо мной? — рявкнул полицейский; изо всех сил шарахнув кулаком по столу.
— Да, господин комиссар.
— Думаете, раз вы англичанин, так можно…
— Нет, господин комиссар, просто мы, британцы, полагаем, что с гражданами другой страны, то есть с гостями, всегда следует обращаться особенно вежливо. Жаль, что таким элементарным правилам не обучают в австрийской полицейской школе. Придется сказать пару слов его превосходительству послу Австрии в Лондоне. Имею честь кланяться, господин комиссар.
Баронет уже почти дошел до двери, когда Руди Гагенбрехт наконец выдавил:
— Сэр Арчибальд Лаудер…
Англичанин обернулся.
— Я… прошу прощения, если показался вам… резковатым…
— Я уже забыл об этом, дорогой мой.
— Может быть, вы все-таки расскажете мне, что произошло на Мюнцграбенштрассе?
— Перечитайте еще раз мои показания. Какой-то бандит зарезал сапожника, по-видимому собираясь ограбить. Леди Лаудер застала его на месте преступления. Не решаясь сразу расправиться заодно и с ней, убийца привязал ее к стулу. Что он собирался делать дальше? Понятия не имею… Как бы то ни было, мне удалось избавить жену от дальнейших неприятностей. Остальное вам известно. И вообще, по-моему, вы слишком серьезно относитесь к людишкам, которые по большому счету просто не заслуживают внимания. Кроме, возможно, несчастного сапожника… Но что поделаешь? Мы же не можем его воскресить, правда? Всего наилучшего, господин комиссар.
Стычка разгорячила сэра Арчибальда Лаудера. Он вообще терпеть не мог гневаться, и уж тем более до обеда. Поэтому баронет решил выпить прохладительного в «Казанове».
Однако не успел сэр Арчибальд устроиться за столиком, как к нему твердой поступью подошла мисс Вулер. При виде ее баронет недовольно поморщился. Неужто эта скандалистка снова вздумала изводить его своей патологической ревностью? Однако как безукоризненно светский человек он встал, поклонился и предложил Эннабель сесть. Мисс Вулер согласилась и, как только официант принес заказанное баронетом чинзано, произнесла небольшую, явно приготовленную заранее речь.
— Сэр Арчибальд, я пришла просить у вас прощения за вчерашнюю глупую выходку, а если вы рассказали о ней леди Лаудер, то, пожалуйста, попросите и ее принять мои искренние извинения…
— Забудем об этом.
— Нет, я должна все высказать, иначе вы, чего доброго, сочтете меня сумасшедшей. Мне двадцать девять лет, и я ужасно не хочу остаться старой девой… Малькольм мне нравился, но ни о какой страсти и речи быть не могло… Вы понимаете, что я имею в виду?
— О, разумеется.
Мисс Вулер отхлебнула вина.
— Райхоуп, к несчастью, слишком устал от жизни… Он так долго жил в постоянном напряжении, так много работал для своей страны… Ну, как бы это объяснить?.. Короче, теперь ему не хватает огня, энергии… Складывается впечатление, что бедняга уже не в силах интересоваться чем бы то ни было…
— Позволю себе заметить, мисс, что, по-моему, Райхоуп очень привязан к вам…
— Просто я была для него своего рода спасательным кругом. Вот и цеплялся за меня, чтобы не утонуть. А стоило мне отойти — камнем пошел на дно… Бедняга Малькольм!..
Баронет восхитился наивностью мисс Вулер, жалевшей человека, которого она сама же и толкнула в пропасть. А Эннабель, словно угадав мысли собеседника, начала оправдываться:
— Не появись на горизонте Терри, может, у нас что-то и вышло бы… Но он появился, и с того дня, нет, с той минуты, моя жизнь стала совсем другой… В конце концов, я же не замужем за Малькольмом! Так чего ради приносить себя в жертву?
Болтовня мисс Вулер отчаянно утомляла сэра Арчибальда, и он с тоской спрашивал себя, с какой стати ему то и дело кто-нибудь изливает душу.
— Будь у Райхоупа хоть крупица разума, он понял бы, что, выбирая между ним и Терри, ни одна женщина не колебалась бы ни секунды.
— Вы слишком много хотите от мужчин, мисс…
— Тогда-то он и начал пить… а заодно швырять деньги на ветер… Слишком много денег… — Эннабель понизила голос: — И тогда же наши венгерские агенты стали исчезать один за другим…
Баронет изумленно воззрился на мисс Вулер. С каким хладнокровием она намекала, будто ее неудачливый поклонник и есть тот предатель, которого так упорно разыскивает Рут! Подобная бесчеловечность просто пугала.
— Это очень тяжкое обвинение, мисс Вулер, — не выдержал сэр Арчибальд.
— Поэтому я не повторила бы его при ком-нибудь другом… Если, как я опасаюсь, Малькольм и в самом деле виновен, пусть бы он лучше поскорее подал в отставку и уехал в Лондон, пока другие ничего не заподозрили…
— Вы разговаривали об этом с Лаудхэмом?
Эннабель удивленно захлопала глазами.
— Конечно! У меня нет от него тайн!
— А вы уверены, что Лаудхэм не шепнул словечко мистеру Фернсу, как того требует, насколько я понимаю, его служебный долг?
— Если подумать… возможно…
— Ах вот как? Если подумать! Мисс Вулер, мне кажется, вы сыграли с Малькольмом Райхоупом очень скверную шутку…
— О, сэр Арчибальд! Неужели вы станете укорять меня за то, что я защищаю интересы своей страны?
— Тем более что они так чудесно совпадают с вашими собственными!
— Ну и что? — Эннабель с детской обидой смотрела на баронета. — Вы же сами заметили Малькольма в Граце, сэр Арчибальд! Что он там делал?
— А Фернс?
Удар, очевидно, попал в цель.
— Да, Джим Фернс тоже очень странно себя ведет… — согласилась мисс Вулер. — Но он так любит Малькольма… О, сэр Арчибальд, но ведь не может быть, что они сговорились, правда?
Лаудер допил вино.
— Послушайте, мисс Вулер, зачем вам понадобилось рассказывать все эти мерзости мне?
— Да просто… просто мне хотелось, чтобы вы передали Малькольму, какие над ним тяготеют подозрения… Сама я не могу этого сделать. Я же на службе, понимаете? А вы не связаны никакими обязательствами.
— Короче, если я правильно понял, мисс, вы не желаете обманывать доверие начальства, однако находите вполне естественным взвалить неприятное поручение на меня?
— Только ради спасения Малькольма…
— Мистер Райхоуп мне совершенно безразличен, равно как мистер Фернс и, уж простите великодушно, мистер Лаудхэм.
— О, как вы можете?!
— Надо полагать, очарование мистера Лаудхэма не тронуло моего сердца.
— Я… я ненавижу вас!
— И это тоже меня нисколько не волнует, мисс.
Эннабель вскочила. Сейчас она больше всего напоминала избалованного ребенка, чей каприз неожиданно для него отказались выполнить.
— Я заранее знала, что вы мне не поможете!..
— В таком случае могли бы избавить себя от разговора, крайне тяжелого для вас и в высшей степени неприятного для меня.
— И все-таки я спасу Малькольма!
— А мне-то какое до этого дело?
Мисс Вулер вышла из бара с таким оскорбленным видом, что кое-кто из посетителей косо посмотрел на Лаудера. Вероятно, они подумали, что баронет сделал девушке неприличное предложение.
Из кабинета Фернса Терри и Рут вышли вместе. Обоих потрясло то, что они сейчас услышали от консула.
— Как по-вашему, Фернс ошибается? — спросила леди Лаудер.
— Не знаю…
— А мне кажется, он объяснял странности в поведении Райхоупа вполне правдоподобно…
— Это потому, что вы его не знаете! Малькольм сто лет работает в контрразведке и всегда слыл первоклассным агентом. Любому профессионалу ясно, что это не пустой звук. Нет, человек, тысячу раз рисковавший жизнью в самых тяжких условиях, только потому что верит в свое дело и не считает присягу бессмысленным набором слов, не предаст родину и товарищей из-за любовных огорчений.
Рут с удивлением смотрела на Терри и невольно любовалась классической четкостью его профиля. Лаудхэм напоминал бывшей мисс Трексмор одну из тех греческих статуй, которые она видела в Британском музее.
— А я-то думала, вы терпеть не можете друг друга! — заметила она.
— Личные симпатии и антипатии не имеют ни малейшего отношения к профессиональным качествам, которые мы сейчас обсуждаем. Малькольм меня действительно на дух не выносит, да и я не испытываю к нему особой нежности, но как профессионалу доверяю на все сто!
— Однако если так думаете даже вы, Терри, почему же тогда Фернс не разделяет вашей уверенности?
— Я не понимаю многих поступков Фернса… — немного поколебавшись, сказал молодой человек. — Они меня удивляют и даже смущают… Например, то, как он объяснил причины собственного присутствия в Граце, по-моему, притянуто за уши… Меня он послал туда под первым попавшимся предлогом и без определенного задания. Защищать вас? Но когда и как? В каких пределах? Почему Фернс не предупредил меня, что за Райхоупом установлена слежка? Он спокойно мог бы поручить мне приглядывать за парнем в Граце, а сам сидел бы в Вене.
— Но тогда… зачем Фернсу понадобилось навлекать подозрения на Райхоупа?
— Честно говоря, пока я предпочитаю не задавать себе таких вопросов.
Рут и Терри, не сговариваясь, дошли до Бурггартена и сели на лавочку у подножия статуи Моцарта. Стояла чудесная, теплая погода. Детишки играли в саду, а их матери весело болтали на скамейках. Здесь, в Бурггартене, особенно чувствовалось, как хорошо жить на свете. Но Рут тяжело вздохнула:
— Невыносимо грустно, что нельзя доверять даже тем людям, на которых, казалось бы, можно положиться…
— Ну, меня уже не раз предавали друзья… Хотя должен признать, что в нашем тесном мирке, таком суровом и безжалостном, где постоянно ощущаешь присутствие смерти, я искренне верил, что все мы вправе до конца рассчитывать друг на друга.
— И что вы собираетесь делать теперь?
— Уехать.
— Уехать?
— Видите ли, я не могу жить в постоянных сомнениях. Работа нравилась мне до тех пор, пока я верил, что меня окружают необыкновенные люди… А раз они ничуть не отличаются от прочих, какой смысл тянуть лямку? Это уже не интересно… В определенном смысле не исключено, что наши задачи вообще не для простых смертных.
— Именно об этом я все время думаю, Терри, после того как увидела тело Крукеля.
Рут, сама того не заметив, назвала спутника по имени. Лаудхэм взял ее за руку, и она не стала противиться.
— Я получил наследство от дяди… долгие годы он ни разу не вспоминал о моем существовании и на старости лет, видать, почувствовал угрызения совести. Это маленькая ферма в Дорсетшире, неподалеку от Йевола, называется она «Три березы». Прекрасное место для фермера-джентльмена… Я хотел спокойно дожить там до гробовой доски в полном одиночестве, но с тех пор как познакомился с вами, понял, что это будет нелегко…
— Замолчите… — пробормотала Рут. — Вы не должны так говорить… я ведь замужем…
— Вы не любите мужа, а такая женщина не станет жить с человеком, к которому не испытывает хотя бы уважения.
— Эннабель…
— О, она быстро утешится! Девушки вроде мисс Вулер не умеют долго переживать. Нет, Рут, вы должны выслушать меня! Я предлагаю вам не приключение-однодневку, а прочный, надежный союз. По-моему, мы можем счастливо дойти вместе до конца пути…
Сопротивление леди Лаудер ослабевало на глазах.
— У меня нет ни гроша.
— Ни слова об этом! Моего состояния хватит на двоих, а кроме того, вы поможете мне управляться с «Тремя березами». Если хотите, Рут, я в ближайшие дни попрошусь обратно в Лондон и, отгуляв отпуск, подам в отставку.
— А вы уверены, что не пожалеете о…
— Рядом с вами — нет… И потом, не стану скрывать, в какой-то мере я спешу бежать отсюда из малодушия. Предпочитаю не видеть ни окончательного падения Райхоупа, ни возможных разоблачений Фернса. Может, я сам поговорю с сэром Арчибальдом?
Баронет задумчиво глядел в пространство. Раздумывая, что за бес толкает то одного, то другого сотрудника консульства исповедоваться перед ним, сэр Арчибальд незаметно осушил два бокала виски и принялся за третий. И зачем, черт возьми, крошка Эннабель явилась к нему со своими излияниями? Неужто и в самом деле воображала, будто он, сэр Арчибальд Лаудер, станет учить патриотизму и верности едва знакомого человека? И это — после вчерашней драки? И в качестве кого он должен давать Райхоупу советы? Сэр Арчибальд пожал плечами. Очевидно, он окончательно пришел к выводу, что за пределами Британии мир являет собой картину невообразимого хаоса, в котором истинному джентльмену нечего делать.
Баронет уже решил, что жена, видимо передумав, сразу вернулась в гостиницу и ему тоже пора поспешить в «Кайзерин Элизабет», но в бар неожиданно вошел Райхоуп. Сэр Арчибальд снова сел. Он не желал, чтобы у Малькольма создалось впечатление, будто один его вид обращает недавнего противника в бегство, и предпочел подождать, пока тот подойдет к бару и закажет виски, а уж потом тихонько испариться. Однако, к удивлению Лаудера, Малькольм сразу направился к его столику. Выглядел он трезвым как стеклышко. Правда, еще не было и часу пополудни.
— Вы не разрешите мне присесть на минутку, сэр Арчибальд? Я хотел бы поговорить с вами…
Баронет невольно застонал:
— Как, и вы тоже?
Можно подумать, все они нарочно сговорились не давать ему ни минуты покоя… Райхоуп с любопытством взглянул на мужа Рут.
— А почему «тоже»?
— Садитесь и выкладывайте, зачем пришли.
— Прежде всего, я должен попросить у вас прощения за вчерашнее, — опускаясь на стул, начал Малькольм.
«Продолжение следует», — с тоской сказал себе сэр Арчибальд.
— Зря так упорно нарывался на глупую ссору, но я был, во-первых, пьян, а во-вторых, никак не мог успокоиться после смерти Крукеля. Я его очень любил… Мы познакомились сразу после того, как я приехал в Вену. Я знал все и о самом старике, и о его несчастьях. Крукель принадлежал к той категории людей, которым политические бури переломали всю жизнь… Впрочем, я не жалею, что беднягу убили, смерть наконец принесла ему покой.
— Неплохо бы поинтересоваться и его мнением…
— Поверьте, я почти наверняка знаю, что не ошибся. Так вот… я часто навещал Крукеля в Граце, а когда узнал, что Фернс отправляет туда леди Лаудер, встревожился не меньше Лаудхэма. Я не считаю Терри хорошим агентом, и вовсе не потому, что он отобрал у меня Эннабель. Да, это отличный боец, и мужества ему не занимать, а вот тонкости и проницательности, по-моему, не хватает. Лаудхэм всегда идет напролом. Выглядит это очень эффектно, но никогда не приносит окончательного результата. Вы понимаете, о чем я говорю?
— Кажется, да.
— Я не сомневался, что наши враги уже знают о планах леди Лаудер, и решил подстраховать и ее, и, в случае чего, Крукеля. Однако, добравшись до старого города, вдруг обнаружил, что следом идет Фернс. Сначала я не понял, что бы это значило, а потом подумал, что, вероятно, шеф следит за мной. Упрямиться не имело смысла, и я не нашел ничего лучше, чем просто погулять до следующего поезда. Тогда-то вы меня и заметили.
— Выпьете чего-нибудь?
— Нет, спасибо… Не хочется… Честно говоря, я вообще больше не могу разобраться, чего бы мне хотелось, если, конечно, не потерял способности желать чего бы то ни было…
Они немного помолчали, а потом баронет задал уже почти ритуальный вопрос:
— Почему вы решили рассказать все это мне, мистер Райхоуп?
— Понятия не имею… Скорее всего, только потому, что мне больше не с кем поговорить, а с похмелья одиночество особенно невыносимо. Простите, что нарушил ваше уединение…
— Позвольте заметить, мистер Райхоуп, по-моему, все вы слишком усложняете жизнь. В глубине души никто из вас не доверяет коллегам… И это бесконечно грустно, во всяком случае, с моей точки зрения. Только что сюда приходила мисс Вулер… и просила поговорить с вами.
— Со мной?
— Ну да.
— И зачем же?
— Чтобы посоветовать как можно скорее собрать чемоданы и уехать в Лондон.
Малькольм хмыкнул:
— Неужели я ей так мешаю?
— Не в том дело…
— Бросьте! Эннабель в глубине души совсем не злая, и как бы ни хорохорилась, наверняка ее мучают из-за меня угрызения совести. Конечно, она спит и видит, чтобы я убрался с глаз долой и не мешал миловаться с красавчиком Терри.
Баронет совсем приуныл.
— Насколько я понял, мисс Вулер заботится не о себе, а о вас, — проворчал он.
— Обо мне?
— Да, боится, что вас с минуты на минуту арестуют.
— Арестуют?
— За измену, а возможно, и убийство. Прошу прощения, но я лишь передаю то, что сказала мисс Вулер.
Однако Малькольм отреагировал совсем не так, как ожидал сэр Арчибальд. Некоторое время он сидел молча и лишь покачивал головой, потом мягко и грустно заметил:
— Так Эннабель Вулер настолько забыла меня, что поверила, будто я способен предать, да еще и убить друга…
— Мисс Вулер полагает, что, после того как она вас бросила, с горя вы возненавидели всю Великобританию и не помышляете ни о чем, кроме мести.
— У Эннабель мания величия.
— Кроме того, коллеги не понимают, откуда у вас столько денег на горячительные напитки.
— Да просто сбережения. В моем возрасте это вполне естественно, правда? Я все время немного откладывал на тот день, когда уйду в отставку, а после того как Эннабель предпочла мне Лаудхэма, начал все это тратить… Быть может (и даже наверняка), это ужасная глупость, но будущее без Эннабель потеряло всякий смысл… Так вот как любовь может изменить женщину, некогда клявшуюся вам в вечной любви?.. Теперь она жаждет избавиться от меня любым способом, нет, хуже, выбирает самый подлый и трусливый… Спасибо, что выполнили поручение, сэр Арчибальд.
— Я вовсе не собирался этого делать, о чем и предупредил мисс Вулер.
— Так или иначе, наглости ей не занимать!
— Прошу вас, мистер Райхоуп, не надо!
— Пусть только попробует при мне повторить хоть половину своих гнусных обвинений — и я мигом сверну ей шею!
— Убийство, знаете ли, навлекает на человека массу неприятностей… Во всяком случае, в нормальном обществе, а не у вас, шпионов… После этой дикой истории в Граце мне упорно не дают покоя… Так что, если вы пойдете на подобные крайние меры, мистер Райхоуп, можете не сомневаться: полицейские поймают вас и посадят за решетку.
— Только если я сам на это соглашусь!
— Простите, не понял.
Малькольм показал ему вторую сверху пуговицу на пиджаке.
— Там лежит капсула цианистого калия, сэр Арчибальд, а имея такую штуку, можно в любую секунду ускользнуть от кого и чего угодно… На задании мы носим ее во рту, в пустом зубе… Так что, уверяю вас, вздумай я и вправду наделать глупостей, арестовать меня никто не сможет!
— Надеюсь, вы поверите, мистер Райхоуп, если я признаюсь вам, что ненавижу вмешиваться в чужие дела? И однако, с тех пор как мы приехали в Вену, я, в сущности, только этим и занимаюсь. Ни одна женщина не заслуживает, чтобы ради нее совершали самоубийство или до конца дней своих садились в тюрьму, и уж тем более, с вашего позволения, этого не стоят особы вроде мисс Вулер. А теперь прошу прощения, но мне пора идти. Рад был узнать вас поближе, мистер Райхоуп.
Рут обдумывала последний разговор с Лаудхэмом, а в ушах баронета еще звучал грустный голос Малькольма Райхоупа, поэтому обед прошел в полном молчании. И лишь когда они поднялись к себе в номер, леди Лаудер решила расставить все точки над i.
— Послушайте, Арчибальд…
Баронет, погрузившийся было в чтение «Таймс», опустил газету и вопросительно посмотрел на жену.
— Я полагаю, мы должны говорить друг другу любую правду, какой бы она ни была…
— По-моему, это само собой разумеется, дорогая.
— Так вот, Арчибальд, я думаю, нет смысла и дальше закрывать глаза на то, что наш брак — ошибка… Я не создана для жизни среди людей вашего круга, а вы не тот мужчина, рядом с которым я могла бы спокойно дожить до старости. Я не упрекаю вас в этом, Арчибальд, а просто констатирую факт. К тому же большая часть ответственности за ошибку лежит на мне самой… Я не имела права утаивать от вас, что работаю в МИ-пять.
— Но вы ведь так хотели стать леди!
— Это верно, хотя я искренне думала, что люблю вас…
— А теперь уверены в обратном?
— Простите, Арчибальд, но… я и в самом деле не люблю вас…
— Это очень печально, дорогая!
— А?
— Да, потому что, невзирая на все ваши экстравагантные поступки, я продолжаю вас любить.
— Еще раз прошу прощения, Арчибальд, но вы ошибаетесь… Вы не любите меня. Вы внушили себе эту любовь, потому что я ваша законная жена, а у вас, аристократов, принято любить ту, что носит ваше имя.
— Боюсь, вы слишком упрощаете… Но к чему весь этот разговор, Рут?
— Я хочу просить вас вернуть мне свободу.
— Да? Так вы решили вернуться к холостой жизни?
— Нет.
— Ага, значит, все-таки объявился ваш полковник Стокдейл?
— Нет… О Стокдейле я могла только мечтать, потому что ни разу его не видела… а теперь наверняка не увижу… Я расстаюсь с
МИ-пять, Арчибальд. Судя по всему, я не обладаю необходимыми для подобной работы качествами.
— Позвольте поздравить вас с таким мудрым решением.
— И еще я хочу выйти замуж за Терри Лаудхэма…
— А вот это уже куда менее разумно.
— Почему?
— Какой смысл уходить из МИ-пять, дорогая, если там работает ваш супруг?
— В том-то и дело, что Терри, то есть Лаудхэм, тоже собирается подать в отставку. Он получил в наследство от дяди небольшую ферму в Дорсете с романтическим названием «Три березы». Там мы и будем жить, понемногу занимаясь хозяйством…
— Новые Филимон и Бавкида, насколько я понимаю?
— Не смейтесь, Арчибальд! Это недостойно вас!
— А как же мисс Вулер?
Рут немного смутилась.
— Она слишком всерьез приняла легкий флирт и придумала себе бог знает какую великую любовь…
— Короче говоря, Лаудхэм решил бросить ее, как вы — меня? Вероятно, для того чтобы избавить вас от угрызений совести и привести дело к счастливой развязке, мне следовало бы жениться на мисс Вулер и ездить с ней на уик-энд в «Три березы»?.. И не надейтесь, дорогая! Во-первых, я люблю вас и никогда не полюблю другую, во-вторых, мисс Вулер внушает мне легкое отвращение, и, наконец, из-за некоего Малькольма Райхоупа…
— Ну, о нем вам нечего беспокоиться! Сегодня вечером или завтра Райхоуп получит приказ срочно ехать в Лондон и оставаться в распоряжении начальства. Джим Фернс уже составляет рапорт. Подумать только, кто бы мог вообразить, что Райхоуп убил Крукеля и, следовательно, он же предал всю нашу венгерскую резидентуру?
— Нечто подобное я уже слышал от милейшей мисс Вулер, которую мистер Райхоуп продолжает любить… Да, кажется, нам обоим крупно не повезло с женщинами.
— Терри хотел бы поговорить с вами, если вы согласны вернуть мне свободу…
— Я не думаю, что кого бы то ни было можно силой удержать рядом, дорогая. Однако прежде чем дать окончательный ответ, я хотел бы посоветоваться с мамой. Сейчас я ей позвоню.
Рут с горечью рассмеялась:
— Бедняга Арчибальд! Я говорю вам, что наш брак потерпел фиаско, а вы не находите ничего лучшего, чем бежать к мамочке за советом! Когда же вы наконец станете мужчиной, Арчибальд?
Не желая, видимо, чтобы его разговор с леди Элизабет подслушивала телефонистка гостиницы, Лаудер предпочел сходить на почту. Вернувшись в номер примерно через час, он сказал жене:
— Ваше решение, дорогая, неимоверно удивило маму, во всяком случае, насколько я мог судить по тембру ее голоса… Она просила дать ей время поразмыслить и обещала потом перезвонить. Мама, конечно, уже старенькая, но жизненного опыта ей не занимать.
— И где же леди Лаудер-старшая его приобрела? — иронически бросила Рут.
— О, за свою долгую жизнь мама повидала очень много разных людей!
— Из тех, что не ведают никаких забот о хлебе насущном! Да самые серьезные потрясения для всех этих леди и лордов связаны исключительно с вопросами самолюбия, престижа или, на худой конец, уж простите за грубость, адюльтера!
— О! И вы могли подумать, что мама…
— И вы, и ваша мама, Арчибальд, всегда жили, как кроты, вне реальности!
Неприятный разговор прервал телефонный звонок. Баронет снял трубку и почти сразу передал ее жене.
— Это вас — Джим Фернс.
Рут долго слушала консула, и Арчибальд видел, как ее рот все больше округляется от удивления.
— Не может быть!.. — наконец пробормотала леди Лаудер. — О Господи!
Она медленно опустила трубку на рычаг.
— Арчибальд… Эннабель Вулер умерла…
— Что?
— Ее задушили…
— Фу, как вульгарно! А кто…
— Малькольм Райхоуп.
Глава 7
Известие настолько потрясло обоих, что они долго молчали, не в силах проронить ни слова. Первым очнулся баронет.
— Каким образом стало известно, что убийца Райхоуп? — вздохнул он.
— Тело нашли в комнате Малькольма. У нее был свой ключ.
— Что ж, теперь хоть мисс Вулер не придется задавать себе мучительных вопросов… Райхоупа уже арестовали?
— Нет. Он в бегах… но, надеюсь, очень скоро попадет за решетку!
— А я — что бедняге удастся спастись!
— Арчибальд! Да вы ли это? Вы что, готовы восстать против закона?
— Нет, дорогая, но, по-моему, несчастный и так носит в душе ад… И самое страшное наказание — предоставить его суду собственной совести. А кроме того, на мой взгляд, вы просто неблагодарны к нему, Рут!
— Неблагодарна?
— Разве, убрав с дороги Эннабель Вулер, он не облегчил вам путь к Терри Лаудхэму?
— Да как вы смеете?! И еще в такой момент! Ведите себя прилично, Арчибальд!
Баронет тут же сник.
— Слушайте, Рут, неужели и эта страшная кончина не навела вас на мысль, что жизнь, возможно, не так проста, как спокойное прозябание в Дорсете с богатым фермером? Может, попытаемся начать все сначала, дорогая? Я готов на любые жертвы, лишь бы вы меня полюбили… потому что я буду очень несчастен, если вы меня покинете.
— Сожалею, Арчибальд, ничего не выйдет — теперь я вас достаточно хорошо знаю. Женщины редко судят мужей, но уж коли это случилось, решение обжалованию не подлежит. Поверьте, Арчибальд, вам лучше оставаться у маминой юбки. Ваше место в гостиной или в клубе, где так приятно пить чай с утонченными леди или обсуждать с другими джентльменами, чем лучше ловить рыбу — удочкой или сачком!
— На блесну.
— Ну, пусть на блесну, неважно. До сих пор вам удавалось прятаться от жизни, так продолжайте в том же духе. Вы не созданы для борьбы.
— Может, вы и правы…
— Вы отлично знаете, что так и есть, Арчибальд.
— Но раз виновный уже найден, вам вроде бы незачем оставаться в Вене… Значит, мы можем уехать когда угодно?..
— Арчибальд, вы согласны поговорить с Терри Лаудхэмом?
— Не вижу причин отказывать вам в последней просьбе.
— Когда?
— Скажем, завтра, часов в пять вечера.
Рут встретилась с Терри в Фольксгартене и сообщила ему приятную новость. Лаудхэм предложил ей съездить в фиакре в Пратер, но молодая женщина отказалась — она обещала Арчибальду вернуться к чаю.
— Это самое меньшее, что я могу сделать для него в благодарность за понимание и доброту. А теперь расскажите мне о бедняжке Эннабель…
Лаудхэм провел рукой по лицу, словно отгоняя кошмарное видение.
— Я воображал, будто могу не дрогнув смотреть на любой труп, но эта несчастная девушка со страшным, чудовищно обезображенным лицом… Вся кожа потемнела и вздулась, глаза вылезли из орбит, да еще огромный почерневший язык… О нет! Малькольм не имел на это права! Должен же быть предел… Наверное, парень совсем потерял голову и рехнулся!
— Как ее обнаружили?
— Соседка поднималась по лестнице… На площадке всего две квартиры — ее и Райхоупа… Женщина уже собиралась повернуть ключ, как вдруг дверь Малькольма распахнулась, он вылетел на площадку и опрометью бросился вниз по лестнице, даже не закрыв за собой квартиру. По словам соседки, Райхоуп был вне себя от ужаса. Любопытство заставило ее войти в квартиру соседа. Ну а увидев тело Эннабель, она закричала на весь дом. Короче, через десять минут туда приехала полиция, через полчаса из лаборатории уголовного отдела пришли первые данные, и следователь позвонил в консульство. Фернс послал меня опознать труп. Нет, Эннабель Вулер не заслуживала такой жуткой смерти! Слишком трагично для нее… Тут есть какая-то странная несоразмерность, которая и возмущает, и шокирует одновременно.
— Ее похоронят здесь?
— Пока да. Но, кажется, у нее есть родственники где-то в Йоркшире, и со временем они наверняка заберут тело. Ах, Рут, после этой дикой истории мне еще больше хочется поскорее уехать и навсегда покончить с таким существованием! На черта нужны приключения, если они даже для самых невинных могут кончиться насильственной смертью?
— А о Малькольме что-нибудь известно?
— Нет. Должно быть, он затаился в каком-нибудь темном углу. Но рано или поздно высунуть нос придется, и тогда полиция его поймает.
— А что говорит Фернс?
— Ничего… Он был очень привязан к Райхоупу, но все же я никак не могу понять его поведения. Знаете, что он сказал мне, когда я вернулся с места убийства? «Лучше бы Малькольма первым нашел кто-то из нас двоих, Лаудхэм. Это дало бы нам возможность пристрелить парня, прежде чем до него доберется полиция!»
— Наверное, Фернс считает, что это наше внутреннее дело и, следовательно, неподвластно чужому правосудию.
— Или же он хочет, пока не поздно, заткнуть Райхоупу рот.
— Терри! Надеюсь, вы не имели в виду, что…
— Прошу вас, Рут, не спрашивайте меня ни о чем! Я и сам совершенно запутался. О воздух Дорсета! Как же мне не терпится им подышать!
Смятение этого крепкого малого, до глубины души потрясенного несправедливо чудовищной гибелью коллеги, хотя чего он только не пережил за семь лет работы в контрразведке, да и сам привык расправляться с противником, глубоко тронула Рут. Зарождающаяся любовь к Терри переполняла ее сердце почти материнской нежностью. Молодой женщине хотелось обнять его прямо тут, на лавочке Фольксгартена, и крепко-крепко, как испуганного ребенка, прижать к груди. Но гуляющие по саду обыватели Вены наверняка не оценили бы ее порыва и возмутились. Поэтому Рут лишь сжала руку молодого человека, давая понять, что разделяет его чувства и вдвоем они сумеют преодолеть любые трудности.
В условленное время баронет пришел на почту, и всего через несколько минут его позвали к телефону. Сэр Арчибальд заперся в кабине и долго слушал собеседника. Выходя на улицу, он улыбался и чувствовал себя почти счастливым.
В «Кайзерин Элизабет» портье предупредил Лаудера, что в гостиной его ожидает какой-то господин. Сам не зная почему, сэр Арчибальд вдруг подумал о Райхоупе, но ждал его комиссар Гагенбрехт.
— Вы, господин комиссар?
— Я вам помешал?
— Нисколько.
— Приятно слышать.
— А могу я узнать, чему обязан вашим визитом?
— Меня привело сюда самое обыкновенное любопытство.
— Правда?
— Да! Можете смеяться сколько угодно, сэр Арчибальд Лаудер, но мне очень интересно, по какой такой странной случайности вы окружены покойниками? То находите труп, то совершаете убийство, то разговариваете с людьми, которых вот-вот отправят на тот свет…
— Простите, я что-то плохо понимаю…
— И однако это очень просто. Приехав в Грац, вы заходите в третьесортную лавчонку сапожника, хотя дома, в Лондоне, вы, вероятно, ни разу не пользовались услугами подобных ремесленников. Там вы обнаруживаете тело сапожника и собственную жену, привязанную к стулу. Любой мало-мальски здравомыслящий человек невольно спросит себя, что понадобилось леди Лаудер в жалкой лавочке Крукеля. Ну да ладно… замнем… Там же по странной случайности оказывается еще один человек, и вы, очевидно ради собственного удовольствия, разбиваете ему голову топориком, который опять-таки ненароком подворачивается вам под руку. Все это на редкость логично, не так ли?
— Я по-прежнему не понимаю, к чему вы клоните.
— А вот к чему, сэр Арчибальд Лаудер: если наверху готовы удовольствоваться вашими причудливыми объяснениями двух убийств, то меня они ни в коей мере не устраивают!
— Поверьте, мне очень жаль.
— И, надо думать, еще больше вы жалеете о том, что последним видели мисс Эннабель Вулер живой?
— После меня ее видел убийца.
— Ну, чтобы сказать «да» или «нет», я еще должен выяснить, кто совершил это преступление!
— Так, по-вашему, это мог сделать я?
— А почему бы и нет?
Баронет с видимым огорчением покачал головой.
— Боюсь, что сведения об Англии вы почерпнули от какого-то шутника, господин комиссар. Уверяю вас, наше дворянство, вопреки вашим представлениям о нем, пока не включило охоту на ближних в число любимых развлечений.
Гагенбрехт встал и с оскорбленным видом выпрямился.
— Вам больше нечего мне сказать, сэр Арчибальд Лаудер?
— Могу уверить вас только в одном: на сегодняшний вечер у меня не запланировано ни одного преступления.
Полицейский пристально посмотрел баронету в глаза.
— Трудно поверить! До свидания!
— До свидания, господин комиссар.
Избавившись от Гагенбрехта, сэр Арчибальд хотел подняться в номер, но дежурный позвал его к телефону. Баронет сразу подумал о Рут. Наверное, жена хочет предупредить его, что не вернется к чаю. Но в трубке послышался голос Малькольма Райхоупа.
— Сэр Арчибальд?
— Да.
— Прошу вас, не называйте имен! Вы меня узнали?
— Разумеется.
— Вы, конечно, уже в курсе?
— Естественно.
— Это не я, сэр Арчибальд!
— А?
— Даю вам слово!
— Почему?
— Что почему?
— Почему вы звоните мне? Я не имею к этой истории никакого отношения и ничем не смогу вам помочь.
— Сможете!
— Но, послушайте, почему бы вам не обратиться к своему… шефу?
— Невозможно! Он мне не поверит!.. И это было бы для меня слишком опасно. Честное слово, только вы один можете вытащить меня из осиного гнезда, в которое я угодил!
— Ладно… Ну, так что вы хотели мне сказать?
— Мне надо поговорить с вами не по телефону.
— Где и когда?
— Сегодня, в девять вечера в Пратере, остановка Лилипутбан.
— А нельзя ли найти место чуть-чуть поближе?
— Боюсь, там нам помешала бы полиция.
— Хорошо, до вечера, но я приду только ради личной симпатии к вам.
Баронет повесил трубку. Звонок его очень удивил. Чего от него хочет Райхоуп? По правде говоря, сэра Арчибальда тронуло то, что загнанный беглец сразу подумал о нем. Неужели хоть один человек воспринимает его всерьез?
Рут уже ждала в номере. При виде мужа она немедленно распорядилась принести чай.
— Хорошо погуляли, Арчибальд?
— Пожалуй… а вы?
— Великолепно!
— Это заметно по вашим сияющим глазам, дорогая. Ну, так вы по-прежнему собираетесь в деревню пасти овечек?
— Более, чем когда бы то ни было!
— Счастье сделало вас жестокой…
— Простите, Арчибальд. Я вовсе не хотела причинить вам боль. Леди Элизабет еще не звонила?
— Звонила… бедная мама… По-моему, она в полной растерянности и тщетно ломает голову, пытаясь понять, что произошло. Как, впрочем, и я. Разумеется, я ни слова не сказал о вашей внезапной страсти к полевым работам. Поэтому мама считает это обычной размолвкой и думает, что мы вернемся в Лондон еще дружнее, чем прежде… Короче, бедняжка вообразила, будто я ищу у нее утешения, поссорившись с вами… По правде говоря, у меня не хватило мужества ее разубеждать. Успеется.
— Я вообще не понимаю, зачем вам понадобилось звонить леди Элизабет!
— Как я вам уже говорил, это старая привычка…
— Вот в том-то, я думаю, и кроется глубинная причина нашего отчуждения, Арчибальд. Вы так крепко связаны условностями и традициями, что в вашей жизни, право же, нет места посторонним.
— Думаете, я не способен измениться, дорогая?
— Это невозможно! Я вам уже говорила, Арчибальд, что успела неплохо вас изучить. Впрочем, тут нет никакой моей заслуги — вы прозрачны как стекло.
— Правда?
— Вы добрый и мягкий человек, но в глубине души — ужасный эгоист, убежденный, что никто не может интересоваться тем, что скучно ему самому, ненавидящий любые проявления вульгарности и всерьез верящий, будто английское дворянство — соль земли. Вы не желаете знать темных сторон жизни, более того, нарочно закрываете глаза, чтобы не создавать себе лишних забот. Физические усилия для вас существуют только на соревнованиях по крикету. Женщин вы считаете существами второго сорта. По-вашему, они должны лишь верно и преданно служить мужу. Во всяком случае, вы явно не тот человек, на которого может опереться особа, привыкшая с боем добывать кусок хлеба. О, я знаю, вы сейчас скажете, что теперь, став леди Лаудер, я избавилась от необходимости бороться за что бы то ни было. Так вот, представьте себе, я по-прежнему люблю все делать своими руками, добиваться от жизни именно того, что хочу от нее получить! А этого-то супруга сэра Арчибальда Лаудера и сноха леди Элизабет никак не может себе позволить, не нарушив кучу всяких условностей!
— Вы на редкость тонкий психолог, дорогая моя.
— О, вас так нетрудно понять, Арчибальд! Надеюсь, я не сказала ничего обидного?
— Рут… А ведь я у вас на глазах убил человека!
— Случайно, вы же сами сказали… Вы действовали рефлекторно, защищаясь. Нет, Арчибальд, вы прикончили венгра не за то, что он мне угрожал, а потому, что, разговаривая с вами по-хамски, он растоптал дорогие вашему сердцу традиции. Или я ошибаюсь?
— Возможно, да, возможно, нет… Вы, кажется, знаете меня лучше, чем я сам. Поэтому, вероятно, сумеете сами ответить на свой вопрос.
— Попросив вас вернуть мне свободу, я ответила на него заранее, Арчибальд.
В дверь постучали, и в комнату, толкая стол на колесиках, вошел официант. На столике стояли чашки, чайник, кувшин молока и блюдо шоколадных пирожных — гордости венских кондитеров. Если Рут почти ничего не ела, то баронет, напротив, закусывал с отменным аппетитом, так что приятно было смотреть. Глядя на него, Рут не могла удержаться от смеха.
— Возможно, вас и вправду огорчает, что из нашего брака ничего не вышло, Арчибальд, но, благодарение Богу, это нисколько не отражается на вашем здоровье!
Баронет отодвинул чашку и вытер губы.
— Меня всегда учили отличать духовные заботы от телесных.
— И вы прекрасно усвоили урок!
Почувствовав в голосе Рут нотку презрительного сочувствия, Лаудер смутился. И снова атмосферу разрядил телефонный звонок. Фернс спрашивал Рут, можно ли ему заглянуть к ней минут через пять. Она сказала, что да, и, повесив трубку, предупредила мужа. Сэр Арчибальд встал.
— Мне не хочется ни видеть Фернса, ни слушать, как вы секретничаете. Надеюсь, этот тип не собирается впутать вас в очередную бредовую затею. Спущусь-ка я в гостиную и почитаю газеты. Пожалуйста, позвоните мне туда, как только спровадите визитера.
— Договорились.
На пороге он обернулся.
— Да, кстати, дорогая, я не смогу сегодня поужинать с вами.
— Вот как?
— В девять часов у меня свидание в самом неподходящем месте… Представляете, в Пратере, да еще на Лилипутбан!
— И с кем же?
— С Малькольмом Райхоупом.
И, прежде чем Рут опомнилась от удивления, баронет вышел.
Лаудер устроился в гостиной. Дверь он закрывать не стал и видел, как появился Джим Фернс. Впрочем, тот задержался наверху не больше пятнадцати минут, и очень скоро грум предупредил сэра Арчибальда, что его ждет супруга.
Рут явно нервничала, и баронет спросил, в чем дело.
— Фернс принес вам дурные вести?
— Нет-нет… он только попросил нас присутствовать на похоронах Эннабель Вулер… должен же кто-то идти за гробом!
— И вы, конечно, согласились?
— Естественно… Послушайте, Арчибальд, я боюсь, что вы взвалили на себя непосильную задачу…
— Что вы имеете в виду?
— Зачем вам понадобилось встречаться с Райхоупом?
— Но… он позвонил мне, когда вы уехали на свидание с Лаудхэмом, и попросил приехать.
— И вы пошли на поводу?
Баронет пристально посмотрел на жену:
— Я не понимаю вас, дорогая.
— Разве вы не знаете, что Райхоупа разыскивает полиция?
— Ну и что?
— Неужели не ясно? Тайную встречу с ним могут расценить как пособничество и укрывательство!
— Ну и что?
— Но это же безумие, Арчибальд! Райхоуп — убийца, и вы не имеете права ему помогать!
Баронет вставил в глаз монокль.
— Моя дорогая Рут, очень возможно, что, как вы весьма откровенно заметили, я не отличаюсь большим умом, — просто начал он. — Вне всяких сомнений, я не особенно люблю уличные драки, горы трупов и прочие мерзости (тут вы тоже не ошиблись). Да, я не одобряю профессию, которую вы почему-то избрали. Однако я отлично помню, что еще мальчишкой, в колледже, меня учили всегда протягивать руку тому, кто зовет на помощь. И сегодня я собираюсь встретиться не с предполагаемым убийцей Эннабель Вулер, а с одиноким, загнанным в угол человеком, поскольку он, в полном отчаянии, подумал именно обо мне. Честно говоря, дорогая, я никогда не думал, что кому бы то ни было в таком положении вздумается просить у меня поддержки.
— Короче, вы делаете это из тщеславия?
— Не совсем. Но мне и в самом деле приятно, что не все разделяют ваше мнение на мой счет. Правда, вы в отличие от Малькольма Райхоупа счастливы… Понимаете, Рут, воспитание, образование, традиции, за которые вы так жестоко меня высмеивали, все же имеют и кое-какие преимущества. К примеру, они дают представление, как вести себя в самых затруднительных обстоятельствах. Во главе английских войск не раз стояли полные идиоты, но на поле боя они вели себя прекрасно, и только потому, что были джентльменами.
Рут молча выслушала урок, и весь вечер ее мучило смутное подозрение, что, возможно, сэр Арчибальд не так уж прост и напрасно она хвасталась, будто видит его насквозь.
Когда баронет вышел из трамвая «А», на Пратерштрассе уже сгустились сумерки. Он нарочно не взял такси, решив, что, воспользовавшись обычным транспортом, меньше привлечет к себе внимания. С Пратерштрассе он свернул на площадь, в центре которой красуется статуя адмиралу Тегетхофу. Углубившись в Гаупталлее, сэр Арчибальд вдруг услышал эхо выстрела и ускорил шаг, но у самого вокзала чуть не попал под машину, летевшую прямо на него с бешеной скоростью. Лишь с величайшим трудом Лаудеру удалось избежать катастрофы. Он бросился на станцию — ни души, хотя девять уже пробило. Баронет скользнул в тень и стал прислушиваться, надеясь уловить в прохладном ветре, долетавшем с Дуная, осторожные шаги Райхоупа. Тщетно. Тогда он решил подождать Малькольма внутри, в крошечном зале ожидания. Стояла полная темнота. Англичанин включил электрический фонарик и невольно вздрогнул — в уголке лежал Райхоуп. Луч фонаря скользнул вдоль его руки, и баронет увидел револьвер. Лицо Малькольма заливала кровь. Сэр Арчибальд опустился на колени. Несчастный поклонник Эннабель Вулер отправился следом за любимой… МИ-5 может спать спокойно: ее заблудший агент уже никому ничего не скажет и не выболтает никаких секретов. Пуля вошла в голову чуть выше правого уха и вышла у левой щеки. Лаудер уже хотел встать, но его остановил грубый голос:
— Что это вы здесь делаете?
И тут же луч мощного фонаря осветил лицо сэра Арчибальда. Однако прежде чем баронет успел ответить, послышалось негромкое восклицание — полицейский в свою очередь разглядел труп. В ту же секунду он выхватил пистолет и взял англичанина на мушку.
— Ни с места, или я стреляю! Руки вверх!
— По-вашему, это так необходимо?
— Делайте что приказано, черт возьми!
Баронету не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться.
— Похоже, мне отчаянно не везет с австрийской полицией! — проворчал он.
— Молчать! За что вы убили этого человека, а? Отвечайте! Ага, вы отказываетесь давать показания?
— Тут явное недоразумение, сэр: вы приказываете мне молчать и тут же требуете объяснений. Будьте любезны, растолкуйте мне, каким образом я могу выполнить оба распоряжения одновременно!
— Ну, ты, я вижу, стреляный воробей! Погоди, мой мальчик, ты свое еще получишь!
Страж порядка поднес к губам свисток и издал такой мощный звук, что сэр Арчибальд удивился.
— Может быть, вы…
— Заткнись!
— Я не позволю вам разговаривать со мной подобным тоном!
— Ах, не позволишь, да? Подожди, в участке я поговорю с тобой ногами, убийца!
С улицы донесся глухой шум — патрульные полицейские спешили на свист. Начальник патруля, выслушав краткий рапорт подчиненного, приказал баронету повернуться лицом к стене и послал одного из агентов звонить в уголовный отдел. До тела никто не дотронулся — очевидно, дорожная полиция предпочитала оставить эту неприятную обязанность медицинскому эксперту. Вскоре у станции заурчали моторы, и в крохотное здание ворвалась целая толпа служителей закона. Врач опустился на колени возле трупа, а комиссар решил тем временем допросить баронета. Тот по-прежнему стоял, уткнувшись носом в стену и досадуя, что время тянется так бесконечно долго.
— Повернитесь!
Англичанин выполнил приказ. Разглядев его, Гагенбрехт издал удивленный и радостный вопль, причем оба чувства смешались в равных долях и звук получился крайне неприятный, похожий на торжествующее ржание.
— Вы?!
Сэр Арчибальд поклонился:
— Рад вас видеть, господин комиссар.
— А уж я — тем более! Ну, сэр Арчибальд Лаудер, хотел бы я знать, как вы будете выкручиваться на сей раз!
— Выкручиваться?
— Ну да! Как вы объясните это новое убийство?
— А?! Так вы думаете, это я?..
— Интересно, как вы сможете это отрицать, если вас застукали чуть ли не с поличным?
— Уж не принимаете ли вы меня случайно за Джека Потрошителя, господин комиссар?
— Послушайте, друг мой, я еще могу допустить одно, от силы два случайных совпадения, но три — уже чересчур! Вы едете в Грац и оставляете там двух покойников, но вас отпускают, поверив на слово, что это не вы прикончили сапожника. Здесь, в Вене, вы о чем-то совещаетесь с молодой женщиной, а через несколько часов ее находят задушенной. На все мои вопросы вы отвечаете, будто слыхом не слыхивали и видом не видывали. Наконец, вы отправляетесь в самое неподходящее время в Пратер, на станцию, где поздно вечером заведомо не бывает ни души, и, конечно, сразу обнаруживаете бездыханное тело. По-вашему, все это вполне нормально?
— Честно говоря, нет.
— Ага, все-таки вы это признаете! Ну, так за что вы убили парня?
— Я его не убивал.
— Естественно!
— Да, представьте себе.
— Послушайте, сэр Арчибальд Лаудер, не может быть, чтобы вы ни с того ни с сего поехали в Пратер в такой час, когда все приличные люди сидят дома, в кафе или на спектакле. Нет, вы сюда явно заглянули не просто так… и человек этот оказался рядом тоже не случайно!
— Мы с ним должны были встретиться.
— Да?.. Тогда как же зовут жертву?
— Малькольм Райхоуп.
— Маль… Так ведь это же тот, кто…
— Да, предполагаемый убийца мисс Вулер.
— И вы хотели с ним повидаться?
— Я уже имел честь сказать вам, что да.
— А вы не знали, что его разыскивает полиция?
— Нет.
— Вероятно, вы не имеете представления, как мы называем человека, укрывающего преступника от правосудия? — почти дружелюбно поинтересовался Гагенбрехт.
— Сообщником.
— Совершенно верно. Кажется, мы начинаем неплохо понимать друг друга, а?
— Можно мне задать вам один вопрос, господин комиссар?
— Пожалуйста.
— Как у вас в Австрии называют того, кто предает друга в беде и, какие бы над несчастным ни тяготели обвинения, бежит с доносом в полицию? Мы, англичане, считаем такого человека трусом, а плохо воспитанные люди — еще и подонком. Более того, у нас настолько развиты дружеские чувства, что всякого, кто одобряет поведение труса и подонка, мы автоматически причисляем к той же категории.
— Вот что, сэр Арчибальд Лаудер, вы, кажется, позволили себе оскорбительный намек в мой адрес?
— И в мыслях не держал, господин комиссар. Мы же не в Англии, а в Австрии. Вероятно, у вас здесь иные представления о дружбе. У всякого народа — свои нравы, верно?
— А что, если я разобью вам физиономию? Будете знать, как издеваться надо мной!
— Тогда лучше заранее вызовите подкрепление, потому что, если вы посмеете поднять на меня руку, я живо отправлю вас в больницу!
— Теперь вы мне еще и угрожаете?
Баронет сменил тон:
— Вы становитесь слишком утомительным, господин комиссар. Не желаю больше отвечать на ваши вопросы. Пусть пришлют кого-нибудь поумнее.
— Я арестую вас! — заорал Гагенбрехт. — Слышите? Вы арестованы за убийство…
В это время к комиссару подошел медицинский эксперт.
— Поосторожней, Гагенбрехт! — шепнул он.
— Не суйтесь не в свое дело, доктор! Что до вас, сэр Арчибальд Лаудер…
— Что до меня, господин комиссар, то я британский подданный, и вам не следует об этом забывать.
— Да будь вы хоть двоюродным братом английской королевы, это нисколько не меняет дела!
Врач собрал инструменты и, захлопнув чемоданчик, повернулся к комиссару:
— Тело можно везти в морг. Вскрытие я сделаю завтра.
— Я хочу как можно скорее получить от вас заключение.
— К полудню пришлю, но могу сразу сказать, что вы напрасно подняли такой шум: этот тип покончил с собой. Доброй ночи!
Гагенбрехт остолбенел, а когда к нему вернулся дар речи, врач уже был у двери. Полицейский бросился следом и схватил его за руку.
— Вы уверены?
— В чем?
— Что это самоубийство?
— Может, вы лучше меня разбираетесь в медицине?
Эксперт вырвал руку и ушел, оставив комиссара в полной растерянности. К нему приблизился сэр Арчибальд.
— Я мог бы потребовать извинений, господин комиссар, но предпочитаю обойтись с вами великодушно. Спокойной ночи!
Гагенбрехт не ответил.
На обратную дорогу в «Кайзерин Элизабет» Лаудер потратил около часу. Впрочем, он долго шел пешком, надеясь расслабиться после недавней сцены и успокоить нервы.
Когда он тихонько вошел в номер, Рут уже спала. Сэр Арчибальд бесшумно проскользнул в ванную, разделся, принял душ и лег, но жена тут же проснулась и зажгла лампу.
— Арчибальд? Наконец-то! Почему вас так долго не было?
— Я возвращался пешком, а от Пратера путь неблизкий.
— Вы знаете новость?
— Какую?
— Малькольм Райхоуп покончил с собой. Фернс звонил мне, перед тем как ехать в морг.
— Да, я в курсе.
— Он застрелился после разговора с вами?
— Нет.
— Как — нет?
— Когда я приехал, Райхоупа уже убили.
Глава 8
Рут поняла не сразу, но когда вся несообразность ответа наконец дошла до ее сознания, леди Лаудер, забыв о британской сдержанности, в одной ночной рубашке соскочила с постели и принялась трясти уже засыпавшего баронета.
— Что вы сказали, Арчибальд? Немедленно повторите!
— А? Что? В чем дело?
Тут молодая женщина вдруг сообразила, что слишком легко одета и что, хотя она все еще носит имя Лаудера, Терри Лаудхэм, увидев эту сцену, был бы очень недоволен. Поэтому Рут сбегала за халатом и, накинув его, снова уселась на край кровати весьма раздосадованного этим обстоятельством супруга.
— Вы не хотите дать мне отдохнуть, дорогая?
— Не время сейчас отдыхать!
Сэр Арчибальд ошарашенно посмотрел на часы — почти полночь.
— Не время? — повторил он. — Когда же, по-вашему, спать, если не сейчас, дорогая?
— Не в том дело!
— Прошу прощения, но я всегда думал, что в полночь…
— Не прикидывайтесь дурачком, Арчибальд! Вы отлично знаете, что ваши слова о смерти Малькольма Райхоупа нуждаются в объяснениях!
— Но, ради всего святого, дорогая, каких объяснений вы от меня ждете? Повторяю вам: когда я приехал на свидание, назначенное вашим коллегой, его уже убили.
— Вот именно!
— Я вас не понимаю, Рут!
— По радио сказали, что Райхоуп покончил с собой. Следовательно, таково заключение медицинского эксперта.
— Несомненно.
— Но вы утверждаете, будто Малькольма прикончили, да?
— Правильно.
— Стало быть, врач — осел?
— Да нет же! Нормальный человек, ужасно недовольный тем, что его вытащили из-за стола и заставили в плохо освещенном месте осматривать труп. Увидев в руке Райхоупа пистолет и следы пороха там, где вошла пуля, врач, естественно, счел его самоубийцей. Окончательное заключение он даст только после того, как получит данные лабораторного анализа, подтверждающие, что из пистолета Малькольма недавно стреляли. Кроме того, завтра полицейские наверняка найдут пулю и окончательно убедятся, что она соответствует калибру оружия вашего коллеги. На том дело и кончится.
— Но каким чудом вы все это знаете, Арчибальд?
— Я прочитал довольно много детективов.
— Значит, у вас все, как в романе: гениальный любитель исправляет ошибки полиции и ловит преступника?
— Я не собираюсь заходить так далеко. Просто я имел несчастье видеть тела трех самоубийц — двух мужчин и одной женщины, дорогая. Все трое застрелились, причем, если можно так выразиться, самым классическим образом.
— Ну и что?
— А то, что рана Малькольма выглядит совершенно иначе. Будь это самоубийство, пришлось бы предположить, что он чуть ли не вертикально поднял правый локоть, а это полная чушь. Зато если кто-то стрелял сзади, прижав пистолет к затылку сидящего Райхоупа, получилась бы именно такая картина, какую мне пришлось наблюдать.
— По-моему, самоубийцы не очень-то раздумывают, как держать локоть?.. И я, пожалуй, напрасно всполошилась. В конце концов, все ваши предположения ни на чем не основаны, и на самом деле у вас не может быть полной уверенности, что Малькольма убили.
— Ошибаетесь, дорогая, и я останусь при своем мнении до тех пор, пока мне не объяснят, чего ради парень, имея при себе ампулу цианистого калия — то есть самого надежного средства перебраться в мир иной без лишнего шума, счел нужным дырявить себе голову на каком-то грязном вокзале. Тем более что сегодня утром тот же человек уверял меня, что, коли вздумает распроститься с жизнью, просто разгрызет ампулу…
— А с чего вы взяли, будто у Малькольма был под рукой цианистый калий? Он ведь вполне мог потерять ампулу или оставить дома, правда?
— Нет, вот она.
Баронет протянул жене пуговицу от пиджака Райхоупа.
— Пуговица?
— Она развинчивается.
Рут немедленно отвинтила верхнюю часть пуговицы, вытряхнула на ладонь крошечную ампулу и с легким испугом уставилась на мужа.
— Где… вы ее взяли?
— Оторвал от пиджака Малькольма Райхоупа.
— Зачем?
— По-моему, для ваших друзей лучше, чтобы австрийская полиция считала это самоубийством.
Рут настолько растерялась, что не находила слов.
— Ложитесь-ка лучше спать, — мягко посоветовал баронет.
— Нет, я все равно не усну… Арчибальд!
— Да?
— Но кто мог убить Малькольма?
— Вероятно, тот же человек, что убил и мисс Вулер.
— Так вы думаете, Райхоуп ее не…
— Будь у парня желание прикончить Эннабель, он бы не стал так долго ждать.
— Но кто же? Кто?..
— Могу сказать только, что Райхоупа он убил не без посторонней помощи.
— Так у него был сообщник?
— Да, невольный. И я знаю, кто это.
— Знаете? В таком случае умоляю вас, Арчибальд, скажите и мне тоже!
— Леди Рут Лаудер.
Молодая женщина отшатнулась, как будто ее вдруг охватила паника, но баронет взял жену за руку.
— Подумайте сами, дорогая… Малькольм Райхоуп позвонил мне и просил приехать в Пратер довольно поздно вечером, очевидно зная, что его разыскивают. Следовательно, Райхоуп наверняка никому не рассказывал о нашем свидании. Я же говорил о нем только одному человеку — вам, Рут.
— Вы… надеюсь… не думаете, что это я его… — чуть слышно пробормотала леди Лаудер.
Сэр Арчибальд улыбнулся.
— Успокойтесь, дорогая, я вовсе не считаю вас убийцей. Но мне бы очень хотелось знать, с кем вы беседовали после моего ухода.
Немного поколебавшись, она с трудом выдохнула:
— С Джимом Фернсом…
— Ну вот!
А Рут, не глядя на мужа, как бы про себя начала перечислять:
— Фернс не предупредил нас, что собирается в Грац, а когда мы все же узнали о его поездке, свалил все на Райхоупа, за которого якобы беспокоился… Вчера вечером Терри не удалось вовремя поужинать, потому что он слишком долго ждал возвращения Фернса, но тот даже не счел нужным объяснить, чем занимался все это время… Только с убийством Эннабель Вулер ничего не понятно… Хотя она так преданно служила Фернсу, что, наверное, знала о его делах больше, чем следовало… Возможно, бедняжка догадалась? Тогда все могло выглядеть примерно так: решив избавиться от мисс Вулер, Фернс назначил ей свидание у Райхоупа — днем тот практически не бывал дома… Это дало консулу возможность без помех убить Эннабель и свалить все на обезумевшего от несчастной любви Малькольма. Когда я упомянула, что Райхоуп просил вас о встрече, Фернс, должно быть, струсил… Так вы думаете, наш консул и есть предатель, которого мне приказано разоблачить?
— Вы знаете столько же, сколько и я, дорогая.
— И что вы собираетесь делать?
— Если вы не возражаете, спать!
— Спать? Вместо того, чтобы покарать убийцу?
— Это не мое дело.
— Ваши безразличие и эгоизм просто чудовищны, Арчибальд!
— Не понимаю, зачем вам нужно, чтобы я все время вмешивался в дела, которые меня совершенно не касаются? Мама всегда говорит…
— Как же вы мне обрыдли вместе со своей мамой!
Потрясенный словом, ни разу не слышанным им ни от одной из знакомых леди, баронет промолчал.
— У вас на глазах убивают, предают, а вы не находите ничего лучше, чем презрительно цедить: «Меня это не касается». Ненормальный вы, что ли, Арчибальд?
— Ненормальный? Что вы имеете в виду?
— Да ничего! Просто вы мне омерзительны!
Рут скинула халатик, забралась в постель и, погасив свет, добавила:
— Нравится вам это или нет, но после похорон Эннабель Вулер я пойду к Джиму Фернсу и выложу все, что о нем думаю!
— Осторожнее, дорогая, это может быть небезопасно!
— Ну и что? Вам-то какое дело? К тому же я прихвачу с собой Терри Лаудхэма…
На Центральфридгоф хоронить Эннабель Вулер собралось очень мало народу: Джим Фернс, Терри Лаудхэм, леди Рут Лаудер, сэр Арчибальд, около дюжины обитателей британской колонии в Вене и несколько полицейских, в том числе и комиссар Гагенбрехт. Во время недолгой церемонии Рут не отрывала глаз от Джима Фернса. Как могло случиться, что резидент сознательно послал на смерть тех, кто ему безгранично доверял?
У выхода консул подошел к Гагенбрехту.
— Господин комиссар, что бы ни совершил Малькольм Райхоуп, смерть стирает все прегрешения… Мы, англичане, не можем забыть, что он наш соотечественник. Так когда вы позволите забрать тело из морга и достойно предать земле? Для Великобритании это вопрос чести.
— Пришлите за ним сегодня во второй половине дня.
Как и следовало ожидать, в конце концов баронет и комиссар столкнулись нос к носу. Сэр Арчибальд отвесил врагу изысканный поклон, и тот, удивляясь про себя неожиданной учтивости британца, вынужден был ответить на приветствие. Бессильная ярость Гагенбрехта, по-видимому, немало забавляла сэра Арчибальда, и он, конечно, не упустил случая в очередной раз подшутить над противником.
— Позвольте представить вам леди Рут Лаудер, господин комиссар… Дорогая, это комиссар Гагенбрехт из австрийской уголовной полиции.
Рут улыбнулась:
— Счастлива познакомиться с вами, сэр. А я и не знала, что вы с мужем — друзья!
— Друзья?!
Австриец чуть не задохнулся от возмущения, но, поймав удивленный взгляд очаровательной супруги баронета, взял себя в руки.
— Я хотел сказать, что никогда не позволил бы себе назвать дружбой те… официальные отношения, которые возникли у меня с сэром Арчибальдом Лаудером. Надеюсь, дома ваш супруг менее склонен к таким фантазиям, какие он допускает в толковании законов здесь… Имею честь кланяться, сударыня…
Гагенбрехт сердито зашагал прочь, а леди Лаудер повернулась к мужу.
— По-моему, он вас здорово недолюбливает, а?
— И напрасно, дорогая, совершенно напрасно…
Все уже начали расходиться, и Рут отыскала глазами консула.
— Мне нужно немедленно поговорить с вами, мистер Фернс.
Консул явно удивился.
— Надеюсь, не на кладбище?
— Давайте встретимся в одиннадцать часов у вас в кабинете, хорошо?
— Это… настолько важно?
— Очень!
— Что ж… раз так, то конечно… В одиннадцать так в одиннадцать… Вас подвезти, Лаудхэм?
— Благодарю, я тоже на машине, — сухо бросил Терри. — С вашего позволения, я загляну к вам вместе с леди Лаудер. То, что она хочет вам сказать, интересует и меня.
— Если леди Лаудер не возражает, — с легким поклоном отозвался консул.
— Напротив, мистер Фернс, присутствие Терри мне только поможет.
— Да?.. А вы, сэр Арчибальд, придете?
— Если вы не против.
— О, еще бы! Прошу вас.
На обратном пути Лаудеры и Лаудхэм, прикинув, что у них еще есть время, решили заглянуть в кафе и остановили машину на Шварценбергплатц. Как только они сели за столик, Терри повернулся к баронету.
— Когда леди Лаудер передала мне ваши слова, сэр Арчибальд, я долго не мог поверить… Вы не из наших, и поэтому не знаете, что для каждого из нас дружба — самое главное. Нет ничего хуже, чем узнать об измене друга… Степень риска так велика, что нельзя сделать ни шагу, не обеспечив надежный тыл. Как можно идти на задание без уверенности, что за спиной — настоящие друзья и в случае чего они тебя прикроют?.. Попробуйте хоть на минуту представить, что почувствовал Лукан или любой другой, угадав правду! Малькольм стал бы остерегаться кого угодно, только не Фернса. А Эннабель вообще на него молилась… Какая гнусность!
Баронет явно чувствовал себя не в своей тарелке, как человек, которому первый встречный ни с того ни с сего вздумал бы рассказывать о семейных неприятностях.
— Как вы справедливо заметили, мистер Лаудхэм, я не принадлежу к вашей… компании. Леди Лаудер известно, что я не одобряю никакой подпольной деятельности и если вынужден сопровождать свою супругу, то лишь потому, что меня к тому обязывает честь. Однако не ждите, что я стану выражать возмущение, которого вовсе не испытываю, или высказывать совершенно неуместные в моих устах упреки. Леди Лаудер хорошо знает, что я терпеть не могу вмешиваться в чужие дела.
— Прошу вас, Арчибальд, замолчите! — воскликнула Рут. Слушая подобные разглагольствования супруга, она всегда чувствовала себя униженно. — Это просто бессовестно! Вы, кажется, совсем забыли, что Терри и его товарищи с риском для жизни защищают в том числе и ваши привилегии! Так будьте же по крайней мере благодарны!
— Мне бы очень хотелось, дорогая, чтобы вы хоть при посторонних разговаривали со мной другим тоном!
— Тогда ведите себя иначе! Что бы вы там ни думали, Арчибальд, но это не я, а вы нарушаете приличия!
Лаудхэм попытался разрядить атмосферу:
— Прошу прощения у вас обоих… Я никак не думал, что мои слова приведут к ссоре. У баронета своя философия, леди Лаудер. Нам остается лишь понять его и смириться с неизбежным. В конце концов, те, с кем мы постоянно живем бок о бок, не всегда самые близкие духовно люди… Между прочим, скоро одиннадцать… Не пора ли нам ехать к Фернсу?
Рут
предложила мужу вернуться в «Кайзерин Элизабет» и ждать ее там, но баронет обиженно заметил, что обещал консулу приехать и не видит причин нарушать слово.
Они устроились в кабинете Фернса: Рут и Терри — рядом, напротив кресла консула, а сэр Арчибальд нарочно сел поодаль, подчеркивая, что его дело сторона. Часы уже пробили половину двенадцатого, а Фернс все не появлялся. Первой встревожилась леди Лаудер:
— Неужели он угадал, о чем пойдет речь?
— Ну что вы, это совершенно исключено! — возразил Лаудхэм. — Без ваших объяснений я бы до сих пор думал, что Малькольм покончил с собой.
— Тогда почему консула до сих пор нет?
— Понятия не имею.
Без четверти двенадцать баронет поинтересовался, не думают ли его спутники, что нет никакого смысла и дальше торчать в этом скучном кабинете.
Терри неуверенно поглядел на молодую женщину:
— По-моему, это полная безнадега…
— Не понимаю, что его так задержало!
— Признайтесь лучше, что вы боитесь сказать вслух то, что подсказывает сама логика!
— Это верно…
Наконец, когда украшавшие камин старинные часы пробили двенадцать раз, Лаудхэм встал.
— Я думаю, нам больше незачем упорствовать… В три часа я сюда вернусь и, коли окажется, что Фернс по-прежнему не подает никаких признаков жизни, позвоню в Лондон… А вас, леди Лаудер и сэр Арчибальд, я прошу оказать мне честь и согласиться выпить у меня по бокалу чего-нибудь освежающего. Я живу совсем рядом. А потом мы могли бы вместе пообедать.
Рут сказала, что это прекрасная мысль, и баронет не решился ей перечить. Тем не менее уходя, он сердито буркнул:
— Я должен проучить этого Фернса! Пусть знает, что с сэром Арчибальдом Лаудером не ведут себя столь неподобающим образом!
Баронет вытащил из бумажника визитную карточку, с раздражением нацарапал несколько слов и, найдя на столе чистый конверт, запечатал послание, а сверху написал просто «Фернсу».
— Надеюсь, это поставит его на место! — высокомерно заметил он.
Лаудхэм и Рут обменялись красноречивым взглядом. Бедный Арчибальд, похоже, он до конца дней своих останется несмышленышем, нуждающимся в материнской опеке леди Элизабет…
Терри Лаудхэм снимал уютную квартиру в старинном особняке, где некогда бывал Шуберт. Баронет похвалил хозяина за хороший вкус, а Рут украдкой пожала руку. Они выпили за Англию, за королеву и за решительное превосходство англичан над всеми другими народами. Наконец Лаудхэм, повинуясь настойчивым знакам леди Лаудер, откашлялся и начал заранее приготовленную речь:
— Может быть, мы воспользуемся случаем побеседовать начистоту и прямо сейчас поговорим о том, с чем я собирался прийти к вам в «Кайзерин Элизабет» в пять часов? Рут… Вы позволите мне называть ее просто по имени, сэр Арчибальд?
— Я бы предпочел, чтобы вы продолжали говорить «леди Лаудер», — сухо ответствовал баронет.
В воздухе потянуло холодком, и Рут немедленно бросилась на помощь своему Терри:
— Да ну же, Арчибальд, не ломайте комедию! Вы ведь сами согласились вчера вечером!
— Я согласился поговорить с мистером Лаудхэмом, но это не значит, что я готов принять его предложение.
— И к чему все это лицемерие?
— Такое, как вы говорите, лицемерие в порядочном обществе называется соблюдением приличий.
Терри совсем скис и тщетно ломал голову, каким образом приступить к самому главному.
— Вы меня очень смущаете, сэр Арчибальд…
— Правда? И однако я, кажется, нисколько не мешал вам, когда вы решили поухаживать за моей женой.
— В таком случае я просто не знаю, как вам объяснить…
— Что именно?
— …какие чувства связывают нас с Рут… то есть с леди Лаудер…
Баронет вставил в глаз монокль и недоуменно воззрился на собеседника.
— Простите за банальность, но нахальства вам не занимать, мистер Лаудхэм! И вы смеете говорить о своих чувствах мне? Согласитесь, что подобные речи по меньшей мере удивительны и могут шокировать кого угодно… Рут, дорогая, вы только представьте себе выражение лица мамы, если бы она нас сейчас увидела!
Лаудхэм лишь руками развел от бессилия:
— Ничего не понимаю!
Зато Рут поняла, что настал ее черед ринуться в бой.
— Не знаю, что за игру вы затеяли, Арчибальд, но раз вы не даете Терри объясниться, я сама расставлю точки над i! Мы с вами друг друга не любим. Наш брак был ошибкой. Последние испытания окончательно открыли мне глаза: вы не соответствуете моим представлениям о мужчине как надежном спутнике жизни, готовом в любую минуту биться насмерть за то, во что верит! Вы же и пальцем не способны шевельнуть, не узнав предварительно мнения своей мамочки! Поэтому я прошу вас отпустить меня и дать слово, что сразу по возвращении в Лондон мы разведемся и я получу возможность, выйдя замуж за Терри Лаудхэма, уехать в Дорсет.
Рут говорила с таким пылом, что, когда она умолкла, тишина показалась особенно гнетущей.
— Во-первых, дорогая, позвольте мне исправить вашу излюбленную ошибку, — спокойно отозвался баронет. — Вы, несомненно, меня не любите, но о себе я бы этого никак не сказал. Что же касается развода, то я категорически говорю «нет»!
— Вы не имеете права так поступать! — в бешенстве закричала молодая женщина. — Но почему? Почему?
— Просто я полагаю, что мистер Лаудхэм недостоин вас.
Терри угрожающе надвинулся на Лаудера:
— Думайте, что говорите, сэр Арчибальд!
— Я и так все тщательно обдумал, можете не сомневаться. Зачем вы придумали, будто ферму «Три березы» оставил вам в наследство дядя, хотя сами же купили в начале этого года, обратившись за посредничеством к дорсетскому нотариусу Эдварду Грэму?
— Кто вам позволил совать нос в мои дела, а?
— Мне хотелось лучше узнать будущего мужа моей супруги. Разве это не естественно?
— Какая разница, купил Терри эту ферму или получил в наследство? — возмутилась Рут.
— Мне всегда любопытно выяснить, зачем человек лжет, не имея на то видимых причин.
Только сейчас леди Лаудер вдруг заметила, как сильно изменились и тон, и поведение ее мужа. Молодая женщина смутилась и даже слегка струхнула, а в ее душу закралось подозрение, что происходит нечто непонятное, но очень и очень важное. Баронет вынул монокль и, аккуратно протерев платочком, вернул на место. Рут и Терри как завороженные следили за каждым его движением.
— И вот, дорогая, я пришел к выводу, что ваш донжуан секретных служб сочинил эту басню не просто так, а с очевидным намерением скрыть какие-то махинации. Поэтому я позволил себе обратиться в Лондон, к достаточно высокопоставленным друзьям, которые, хоть и не служат в МИ-пять, все же располагают собственными источниками информации. Простите, Рут, если я обманул вас, сказав, что хочу позвонить маме.
Подобные хитрость и двуличие со стороны наивного, не приспособленного к жизни баронета настолько потрясли Рут, что она предпочла промолчать.
— У вас солидный счет в «Маркет Дерхэм бэнк», в Эксетере, мистер Лаудхэм. Год назад там лежали крохи — всего двести пятьдесят семь фунтов, зато теперь — больше двадцати тысяч!
Лоб Терри покрылся испариной.
— Мерзавец! — прорычал он.
А сэр Арчибальд, словно не заметив оскорбления, продолжал:
— Дорогая моя, вашему милому надо бы последить за своим лексиконом… Итак, мистер Лаудхэм, мы остановились на том, что ваш счет в банке начал разбухать как раз в тот момент, когда на наших венгерских агентов обрушились всевозможные беды…
— Да замолчите вы или нет, черт бы вас побрал?
У Рут закружилась голова.
— Что означают эти фокусы с банковскими счетами, Арчибальд? — вдруг охрипшим голосом спросила она.
— Только то, что перед вами убийца Эннабель Вулер, Малькольма Райхоупа, вашего друга Лукана и, косвенно, сапожника Крукеля — короче говоря, всех агентов, погибших за последний год.
— Неправда! — в отчаянии закричала молодая женщина. — Терри, ну скажите же ему сами, что это нелепость!
— Разумеется, нелепость!
При всем своем смятении Рут почувствовала, что в голосе Лаудхэма не хватает уверенности, и все ее существо сжалось от страшного предчувствия. Меж тем сэр Арчибальд по-прежнему спокойно продолжал:
— Напрасно вы так серьезно восприняли мнение леди Лаудер насчет моих умственных способностей. Уже в Граце, когда вы изо всех сил старались привлечь мое внимание к своему маскарадному костюму, я заподозрил неладное. Вам, право же, не стоило так откровенно паясничать.
К Терри Лаудхэму постепенно возвращалось хладнокровие.
— Да вы совсем рехнулись! Какого черта я стал бы нарочно валять дурака?
— Просто вы хотели показать, что вынуждены срочно бежать переодеваться и, следовательно, не замешаны в убийстве Крукеля, а заодно и моей жены. Между прочим, полагаю, что мало-мальски стоящий агент МИ-пять не стал бы устраивать такой глупый маскарад. Честное слово, вы, кажется, принимали нас с леди Лаудер за полных идиотов.
— Ага, после дурацких обвинений вы еще вздумали давать мне уроки?
— Он хотел меня убить… — как потерянная, пробормотала Рут.
— О да! Большая любовь родилась несколько позже, дорогая.
— А что, если я расквашу вам морду? — буркнул Лаудхэм.
— Не советую. Даже пытаться было бы крайне неосторожно с вашей стороны… Но вернемся к основной теме. Потом вы настроили соответствующим образом несчастную дурочку Эннабель Вулер и с ее помощью пытались вызвать подозрения против Райхоупа. Вы никак не рассчитывали, что преувеличенная забота о безопасности моей супруги насторожит Малькольма и он решит проверить на месте, какую игру вы затеяли. Правда, он следил за вами, не догадываясь, что всю грязную работу возьмут на себя ваши сообщники. Да и Фернс, послушавшись уговоров Эннабель, взял Райхоупа под наблюдение. Только поэтому он тоже оказался в Граце. Короче говоря, вы следили за нами, Малькольм — за вами, а Фернс — за ним. Самая настоящая фарандола! Да-да, фарандола по-венски!
— Ну и богатое же у вас воображение! — фыркнул Терри.
— Убедившись, что так не может продолжаться до бесконечности, поскольку венские события очень тревожат Лондон, вы решили выйти из игры, — как ни в чем не бывало продолжал баронет. — Но вам нужен был правдоподобный предлог, чтобы вернуться в Англию, ни у кого не вызвав подозрений. Тут вас и осенила блестящая мысль вскружить голову чужой супруге, тем более что ее успел разочаровать никчемный муж… Любовь все извиняет, особенно в Вене. Отлично разыграно, и, если бы не мое вмешательство, вы могли бы спокойно дожить до глубокой старости у себя на ферме в Дорсете. Не думаю, впрочем, что вы стали бы обременять себя женой-бесприданницей…
Рут беззвучно плакала. Какой позор! Попалась на лживые комплименты красивого парня, как какая-нибудь продавщица!
— Мы с вашей женой любим друг друга, и какие бы гнусности вы ни придумывали, надеясь отвратить ее от меня, это лишь еще больше нас сблизит! Рут доверяет мне!
— Как Эннабель Вулер?
— А кстати, мне было бы очень любопытно узнать, для чего я, по-вашему, ее убил!
— По двум причинам: во-первых, Эннабель мешала вашим заигрываниям с леди Рут, а во-вторых, вы хотели так напугать Райхоупа, чтобы он бросился в бега. Распрощавшись со мной в «Казанове», мисс Вулер побежала к вам. Вы же, очевидно, послали ее к Малькольму, а сами пошли следом. При этом вы имели неосторожность позвонить в квартиру Райхоупа из своего рабочего кабинета. Благодаря этому вы убедились, что Малькольма нет дома, но зато и звонок был зафиксирован. Потом, задушив мисс Вулер, вы спокойно вернулись в консульство.
— Что за бред!
— У вас царапины на руках. Вероятно, их нанесла жертва, пытаясь разжать смертельную хватку. Кстати, в заключении эксперта, присланном Фернсу, я прочитал, что под ногтями Эннабель обнаружены фрагменты кожи и кровь. И меня бы очень удивило, окажись у вас другая группа крови.
— Умоляю вас, Рут, не слушайте его! Он просто не знает, что бы еще придумать!
Но леди Лаудер лишь с горечью наблюдала сцену, казавшуюся ей нескончаемым кошмаром. Все это не укладывалось в голове. По мере того как Рут открывалось истинное — страшное и безжалостное — лицо Терри Лаудхэма, Арчибальд тоже преображался. Ну кто бы мог заподозрить, что баронет способен говорить так спокойно и властно и так блестяще расследовать преступление? А Лаудер словно бы и не замечал, какое впечатление производят на жену его доводы.
— Рут… — продолжал он, — после убийства Райхоупа я спросил вас, кому вы говорили о нашем с ним свидании, и вы признались, что разговаривали об этом с Фернсом. Очевидно, в тот момент вы постеснялись добавить, что, как только я уехал в Пратер, позвонили Лаудхэму. Но я все равно узнал об этом у телефонистки. Хотите знать, зачем я это сделал? Да просто Фернс никак не мог расправиться с Малькольмом, меж тем я точно знал, что убийцу оповестила моя жена, а вы, Лаудхэм, — ее единственный близкий знакомый в Вене. Впрочем, вам, Рут, конечно, ни на секунду и в голову не пришло, что ваш возлюбленный может оказаться преступником.
Леди Лаудер печально опустила голову. Недавнее ослепление пугало и жгло невыносимым стыдом, и несчастная женщина думала, что до самой смерти не сможет избавиться от этого ощущения.
— После гибели Малькольма Райхоупа… я не посмела сказать вам, что звонила Лаудхэму… мне это казалось… неприличным. К тому же я не видела никакой связи между разговором с ним и… и… О боже, Арчибальд, это я убила Малькольма!
Рут снова беззвучно заплакала, а баронет повернулся к Терри.
— Вы боялись, как бы Райхоуп не поделился со мной подозрениями на ваш счет, и поспешили скорее избавиться от него, а потом пытались сбить меня машиной. Ведь это вы сидели тогда за рулем, правда?
Терри выхватил револьвер, и все происходящее тут же утратило ирреальность. Тайное стало явным.
— Ладно, ваша взяла, Лаудер. Да, это я уничтожил всю венгерскую агентурную сеть, потому что уже довольно давно работаю отнюдь не на вашу разведку. Много лет я всех вас просто водил за нос. А насчет ваших предположений… Что ж, все они верны… Крукеля я приказал убрать, поскольку он первым учуял правду. Эннабель придушил, чтобы не путалась под ногами. А Малькольм поплатился за то, что все понял, хотя и не смог бы доказать.
— Спасибо за признание, Лаудхэм, — вкрадчиво заметил баронет, — тем более что у меня, представьте, тоже не было бесспорных улик против вас.
— Мои признания вам не помогут. Венгерская граница — в двух шагах отсюда. Я прихвачу с собой вашу супругу, эту тетерю, набитую мелкобуржуазными глупостями, и, если вы только попытаетесь мне навредить, тут же ее пристрелю. Зато обещаю, что, благополучно миновав границу, перешлю вам жену в целости и сохранности.
Лаудхэм схватил Рут за руку и притянул к себе.
— Согласны, Лаудер?
— Нет.
Баронет аккуратно положил в кармашек монокль и встал.
— Вы работаете на людей, которых я ненавижу, на представителей совершенно чуждой мне цивилизации. Вероятно, вы меня не поймете, но у нас не принято бросать женщин в опасности. Так что вам удастся забрать отсюда леди Рут только через мой труп.
— Ну, за этим дело не станет!
Лежавший на курке палец Терри напрягся, и лишь пронзительный вопль Рут помешал ему выстрелить сразу.
— Он обозвал меня тетерей!
И, вне себя от ярости, не обращая внимания на револьвер, леди Лаудер отвесила бывшему возлюбленному пару таких увесистых оплеух, что тот потерял равновесие и чуть не упал. Сэр Арчибальд бросился было на противника, но тот не выпустил оружия, и под его дулом англичанину пришлось отступить. Терри приказал леди Лаудер встать рядом с мужем.
— Так вы посмели меня ударить, маленькая дрянь? Хорошо же! Теперь вы умрете вместе с супругом. Никто и не подумает искать вас здесь, а к тому времени, когда трупы все-таки найдут, я сто раз успею перебраться в Венгрию.
Лаудхэм достал из кармана глушитель и, не отводя глаз от будущих жертв, начал привинчивать к стволу.
— Никакой Венгрии вам больше не видать, Лаудхэм!
Терри резко обернулся. На пороге с револьвером в руке стоял Фернс. Лаудхэм выстрелил первым, но плохо пригнанный глушитель помешал ему как следует прицелиться, и пуля попала в потолок, зато консул вдребезги разнес предателю голову.
Фернс тяжело вздохнул.
— Простите за опоздание, сэр, но меня срочно вызвали в уголовную полицию. До медицинского эксперта все-таки дошло, что Малькольм и не думал кончать с собой. Вас хотели немедленно арестовать, сэр Арчибальд, и во избежание лишних осложнений мне пришлось заодно пообещать, что я сам назову им убийцу. Придется потолковать с моим венским коллегой… Никогда не прощу себе, что так слепо доверял Терри…
Баронет дружески хлопнул консула по плечу.
— Не терзайте себя понапрасну, Джим, все мы порой ошибаемся. В Лондоне знали, что предателя нужно искать здесь. Вас, по вполне понятным причинам, сразу исключили из числа подозреваемых, Райхоуп тоже не внушал особых опасений, и, честно говоря, мы начали сразу подумывать о Лаудхэме — такие любители приключений способны на все, и биография свидетельствовала отнюдь не в его пользу. Трудно поверить, что, начав работать в МИ-пять, человек мог полностью измениться… Правда, много лет Лаудхэм не подавал повода усомниться в его лояльности. В конце концов, зная о его слабостях, решили отправить в Вену Рут Трексмор. Но Рут недоставало опыта, и на самом высшем уровне долго ломали голову, кого бы дать ей в сопровождающие. К счастью, я давно любил мисс Трексмор, и, когда она согласилась стать моей женой, проблема была решена. Как муж я получил блестящую возможность не спускать с нее глаз. К несчастью, чтобы не вспугнуть противника, мне пришлось строить из себя глупого и упрямого сноба…
— Арчибальд, простите меня!
Рут подошла к мужу.
— Так вы больше не хотите подавать на развод?
— О, Арчибальд, у меня пропало всякое желание расстаться с вами…
И она упала в объятия баронета.
Рут собирала чемоданы. Какое счастье, что она наконец обрела мужа, о котором мечтала всю жизнь!
— Не понимаю, как у меня хватило дурости поверить, будто вы и вправду тот клоун, каким прикидывались! — вдруг заметила молодая женщина.
— Не вы одна попались на эту удочку.
— Представляю, как сурово вы взирали на мое поведение!..
— Нет, но я чувствовал себя ужасающе несчастным… И мне понадобилось бог знает сколько мужества, чтобы продолжать играть роль… особенно когда…
— Да?
— …когда вы сказали, что хотите уехать с Лаудхэмом.
— Так вы… действительно меня любите, Арчи?
— Да, Рут.
Они снова обнялись, но молодая женщина, слегка отстранившись, снова потребовала объяснений.
— А леди Элизабет обо всем знает?
— Мама всегда рада мне помочь.
— Вы, естественно, работаете в МИ-пять?
— Ну конечно!
— И Теренс Вулвертон был в курсе?
— В Лондоне он обеспечивает мне такую же «крышу», как и вам.
— Теперь я понимаю, почему Теренс так улыбался, уверяя меня, что моя принадлежность к контрразведке вас нисколько не шокирует… Представляю, как забавляли его мои опасения… Но, Арчи, почему я ни разу не слышала о вас в МИ-пять?
— О, слышали, и не раз, Рут! Я даже сказал бы, что как начальника вы слушались меня куда лучше, чем как мужа.
— Что?
— Дело в том, что я полковник Стокдейл, дорогая.
СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА, ТОНИ!
Мэтру Антуану Дэлуму в знак дружбы.
Ш. Э.
Пролог
Мне нравится Куршвель. Там, наверху, возникает ощущение, будто я больше не принадлежу к тому миру людей, где обычно вынужден вести довольно странный образ жизни. Под предлогом служения отчизне мне пришлось совершить немало поступков, хоть и необходимых, но такого свойства, что гордиться особенно нечем, во всяком случае, когда, как говаривали во времена монархии, я возвращаюсь к «партикулярной» жизни. Единственным оправданием того, что к тридцати четырем годам я успел прикончить полдюжины ближних, может служить лишь их собственное откровенное стремление отправить меня туда, где оказались сами. Причина проста — последние восемь лет я работаю в секретных службах, а при таком ремесле не рекомендуется ни воротить нос от грязи, ни щепетильничать.
Да, мне нравится Куршвель, но особенно — до начала сезона, пока на этот модный горный курорт не понаехали наслаждаться дорогостоящими удовольствиями зимнего спорта многочисленные семейные пары. Не очень-то я люблю смотреть на чужие семьи. Возможно потому, что моя собственная давным-давно развалилась, а создать новую не хватало ни желания, ни упорства. Меж тем с возрастом невольно начинаешь об этом жалеть. В то же время за годы работы я навидался таких дряней и стерв, что определенная недоверчивость вполне оправданна. Короче, я еще не встречал женщины, которая внушила бы мне достаточно сильные чувства, чтобы навсегда оторвать от ненавистной, но уже въевшейся в плоть и кровь работы. Да и кем бы я тогда стал? Нужных бумаг у меня нет, а взглянув на мои, ни один хозяин явно не пришел бы в восторг.
В тот раз я против обыкновения оказался в Куршвеле незадолго до Рождества, но лишь потому, что слишком долго меня удерживало вдали от него одно дело более чем деликатного свойства. По правде говоря, я вообще чуть не отказался от отпуска, несмотря на настоятельную потребность проветрить легкие и подышать чистым воздухом после всех тех мерзостей, с которыми мне пришлось возиться почти три месяца. Однако шеф моего отдела отлично все понял и чуть ли не силой затолкал меня в поезд. Он относится ко мне с большой симпатией, особенно после удачно выполненного задания.
Итак, я приехал около недели назад. Днем я старался держаться подальше от шумных снобов и от тех мест, где избалованные девицы, с трудом ковыляя на роскошных лыжах, демонстрируют последние творения парижских законодателей спортивной моды. Но по вечерам, закрыв за собой дверь комнаты, я чувствовал, как на меня наплывает куда более тяжкое, глубокое и неизбывное одиночество, чем в любом большом городе. Нет ничего тоскливее мертвой тишины безликого гостиничного номера. Хочешь не хочешь, но стоит сесть в кресло — и в голове начинают прокручиваться одни и те же невеселые мысли. Тишина волей-неволей заставляет ворошить прошлое, а возвращаюсь я из его глубин усталый, расстроенный и совсем упавший духом. Ох уж все эти «если бы», которыми неудачники ежевечерне растравляют старые раны или пытаются тешить себя надеждами, в глубине души уже ни во что не веря! Наконец, сообразив, что окончательно тону в бесцельных сожалениях, я встаю, встряхиваюсь, как угодившая в лужу собака, и бегу в бар или ресторан «Шале де Луз» — туда, где собираются люди. Пусть я их не выношу, но одиночество еще нестерпимее.
В баре-то я и познакомился с Даниэль. По правде говоря, в нашей встрече трудно было бы усмотреть волю свыше или хотя бы начало романтического приключения, но каждый из нас сидел за столиком один, и этого вполне хватило, чтобы перекинуться парой слов. На высоте более полутора тысяч метров условности стираются. Мы с первого взгляда понравились друг другу. Даниэль рассказала, что работает секретаршей в крупной парижской фирме стекловолокна. А я представился сотрудником страховой компании, для пущей важности назвав Ллойда. Потом девушка познакомила меня с братом. Смазливый Жан-Клод смахивал на одного из тех многочисленных альфонсов, которых богатые и слегка чокнутые пожилые дамы вечно таскали с собой в период между двумя мировыми войнами. Очень скоро парень начал действовать мне на нервы. Очевидно почувствовав это, он не стал навязываться. А мы с Даниэль поужинали вместе, немного потанцевали, выпили по рюмочке и договорились утром встретиться и побродить пешком (как и я, Даниэль не испытывала особого пристрастия к лыжному спорту).
Даже странно, насколько мы с первой минуты настроились на одну волну. Общие вкусы, симпатии и антипатии, почти одинаковые надежды и мечты… И я начал всерьез думать, что наконец обрел ту, кого, не решаясь себе в том признаться, уже давным-давно искал. Однако продвигался я очень осторожно, тщательно прощупывая почву. Я так боялся нового разочарования… Но все, казалось, идет как нельзя лучше. Даниэль было двадцать девять лет, родители ее умерли много лет назад, и девушке пришлось самой воспитывать Жан-Клода — брат на четыре года младше. Теперь же она устала от этой опеки. Жизнь далеко не всегда баловала Даниэль, но она и не пыталась строить из себя образец добродетели. Однако сейчас, ближе к тридцати годам, достигнув определенного благополучия, ей вдруг захотелось устроить свою судьбу, короче, бросить якорь. Что до меня, то я тоже далеко не лауреат премии Монтиона[318], да и вообще с некоторой подозрительностью отношусь к непорочным голубкам. Не говоря уж о том, что подобные барышни сами не жалуют ребят вроде меня. Единственное, что меня беспокоило, так это необходимость рано или поздно признаться Даниэль, чем я занимаюсь на самом деле. Само собой, я мог бы сделать вид, будто служу в министерстве, к которому приписана наша контора, но Даниэль не дурочка и очень скоро заметила бы, что у меня довольно-таки своеобразный режим работы. К тому же я вообще не любитель наводить тень на плетень, по крайней мере в тех случаях, когда этого вполне можно не делать, а Даниэль я достаточно доверял и успокаивал себя, думая, что она воспримет известие с полной невозмутимостью.
Между прочим, события развивались совсем не так быстро, как получается на бумаге. И, если поразмыслить, это даже удивительно, поскольку я вовсе не из тех, кто робеет с девушками. Мое существование настолько неопределенно, что я просто не могу позволить себе роскошь долго бродить вокруг да около. Бесконечные ухаживания, ахи да охи и прочая чушь хороши для людей, прочно стоящих на земле и уверенных в будущем. Зато мне и приходилось иметь дело в основном с не слишком взыскательными подружками, не привыкшими ломать голову над чем бы то ни было. Такие в перерыве между двумя свиданиями отнюдь не задумываются над доказательствами божьего милосердия или взаимоотношениями человеческого существа и бесконечности. И все же, насколько я помню, двух или трех женщин, с которыми я бы, наверное, смог довольно долго жить в полном согласии, мне встретить довелось. К несчастью, все они занимались тем же ремеслом, что и я, и их уже нет на свете. Мы служили под разными флагами.
На следующий же день после знакомства Даниэль предупредила меня:
— Если вы ищете приключений, Тони, давайте лучше сразу расстанемся добрыми друзьями. В Куршвеле вы без труда найдете то, что вам нужно. Я же хочу и ожидаю совсем другого.
Выяснив этот вопрос, мы провели три восхитительных дня, я говорю восхитительных, потому что именно в это время зародилась сначала зыбкая, но с каждым часом крепнущая нежность. По правде сказать, в подобных случаях на спутницу сначала толком не обращаешь внимания, по-настоящему интерес возникает в ту минуту, когда вдруг начинаешь тяготиться ее отсутствием. Нечто похожее я испытал уже во второй вечер, когда Даниэль под каким-то предлогом ушла, оставив меня одного. И я лег спать, мечтая поскорее дождаться утра и снова ее увидеть. Значит, попался. Чувства Даниэль, по-моему, развивались в том же направлении. Во всяком случае, мы не раз подолгу молчали, радуясь, что мы вместе и не надо ничего говорить, а такие вещи не обманывают. И я даже стал поглядывать на детей с гораздо меньшим отвращением, чем обычно. В голове невольно мелькало, что, быть может, в один прекрасный день я все-таки покатаю на санках маленького Тони… О, стоит только дать волю воображению — и попробуй потом его угомонить! Однажды, когда мы с Даниэль стояли на краю площадки, нависающей над долиной, я взял девушку за руку.
— Я счастлив, искренне счастлив, Даниэль, что мы сможем вместе отпраздновать наше первое Рождество!
Она пристально посмотрела мне в глаза, словно желая убедиться в моей искренности.
— Я тоже, Тони.
Мы не поцеловались, как это принято в романах, просто я чуть крепче сжал ее пальцы, и, по-моему, это было нашей первой лаской, первым признанием. Мы стояли и улыбались холодному ветру, как будто омывавшему, очищавшему нас от прошлого, чтобы мы почувствовали себя совершенно новыми людьми, готовыми начать все сначала. Пожалуй, никогда в жизни я не испытывал такой радости. Мне казалось, с Даниэль любые испытания станут легче и проще. В гостиницу, где жили моя невеста (мысленно я уже называл Даниэль именно так) и ее брат, мы спустились под руку. В камине горел огонь, на столике дымился чай, и мы, не сговариваясь, начали вслух мечтать о будущем. Я парил в облаках, и Даниэль, поставив чашку на стол, вдруг рассмеялась.
— Представляю выражение лица Жан-Клода, когда он узнает о наших планах!
Про себя я от души пожелал, чтобы это выражение было по крайней мере любезным. А девушка, вероятно угадав мои мысли, добавила:
— Надеюсь, вы с ним поладите, иначе я буду глубоко несчастна!
У меня не хватило духу возражать, и я поклялся, что Жан-Клод обретет во мне самого преданного старшего брата. Стыдновато, конечно, но, во-первых, я вовсе не желал создавать Даниэль лишние трудности, а во-вторых, надеялся, что, возможно, со временем и вправду начну лучше относиться к парню. Мы провели удивительно приятный час, представляя череду ожидающих нас безоблачных дней и все дальше и дальше уносясь в будущее. Потом Даниэль на минутку вышла, и я подозвал проходившего мимо торговца газетами. Купив «Франс суар», я стал машинально листать страницы, пока не наткнулся на крупный заголовок в разделе хроники: «Убийство в Кэнконс». Сначала заметка не вызвала у меня особого интереса, и лишь когда я увидел фамилию жертвы, все поплыло перед глазами. Я даже не заметил, как снова подошла Даниэль.
— В чем дело, Тони? Что с вами?
Я стряхнул оцепенение и молча ткнул пальцем в статью. Девушка села напротив и вполголоса прочитала, что сегодня утром на набережной, в двух шагах от бордоской площади Кэнконс, нашли застреленным некоего Бертрана Тривье. Даниэль удивленно посмотрела на меня.
— Ну и что? Вы знали этого типа?
— Да…
Она с отвращением скривила губы.
— Я вижу, впредь мне придется внимательно следить за кругом ваших знакомств!
— Почему?
— Так ведь этот тип, судя по тому, что здесь написано, был чем-то вроде фараона!
— А вы… не любите полицию?
— Да я просто ненавижу этих мерзких ищеек!
Жаль, она мне и вправду очень нравилась…
— Это более чем досадно, Даниэль…
На сей раз пришла ее очередь спрашивать почему.
— Просто я тоже, как вы говорите, «ищейка».
Девушка смерила меня недоверчивым взглядом, и, когда наконец удостоверилась, что я не вру, лицо ее окаменело, внезапно утратив всякую привлекательность.
— Мерзавец! — процедила Даниэль.
Я смотрел на нее в полном недоумении. Возможно ли, что это та самая женщина, чью руку я сжимал всего несколько минут назад?
— Фараон! И вы посмели?.. Подонок! Да от таких типов, как вы, Тони-легавый, меня с души воротит! Слышите? Меня от вас тошнит!
Да, я отлично слышал, но отвечать не хотелось. Зачем? А Даниэль продолжала в том же духе:
— И вы вообразили, будто я стану женой фараона? Это я-то? Да за кого ж вы меня принимали? Вам неймется из-за того, что пристрелили вашего дружка. Ну а я, представьте, очень рада! И надеюсь, он чертовски помучился, прежде чем сдохнуть!
Тут уж она хватила через край. Не знаю, что за неприятности были у Даниэль с полицией, но говорить в таком тоне о Бертране Тривье она не имела права. И даже не успев сообразить, что я делаю, я отвесил красотке пару самых крепких оплеух, какие мне только приходилось раздавать с тех пор, как я появился на свет.
Даниэль так и застыла, открыв рот и вытаращив глаза. Я думал, сейчас поднимется крик, но она не проронила ни слова. Лицо ее мертвенно побледнело, и лишь на щеках горели багровые полосы. Я встал, чувствуя, что на меня смотрят все сидящие за соседними столиками. Вот бы кому-нибудь из этих красавчиков взбрело в голову рыцарски вступиться за честь публично оскорбленной дамы! Это принесло бы мне немалое облегчение… Но никто не двинулся с места, кроме наблюдавшего эту сцену с порога Жан-Клода. Парень бросился на меня в тот момент, когда я уже выходил из зала, ухватил за плечо и слегка развернул. Жан-Клод — крепкий малый, но ему недостает моего опыта, а потому не прошло и нескольких секунд, как он уже корчился на ковре, жадно хватая ртом воздух.
А я вернулся к себе в гостиницу, потребовал счет и, собрав чемодан, распрощался с Куршвелем. Мне не терпелось поскорее добраться до Брида и сесть на скорый парижский поезд.
В купе, пока попутчики спали, я так и не смог забыться хотя бы на минуту. Я ни о чем не жалел: ни о погибшей любви, ни об испорченном отпуске, нет, меня терзало одно-единственное желание: как можно скорее снова взяться за работу, разыскать убийцу Бертрана Тривье и отправить его следом.
Ведь Бертран был моим самым давним, самым близким другом.
Глава 1
Кристиан с каменным лицом, плотно сжав губы, наблюдала, как я путаюсь в словах и бормочу нечто невразумительное. Обычно-то я могу без запинки болтать о чем угодно, но на сей раз, видно оттого, что я говорил чистую правду, язык прилипал к гортани. Гибель Бертрана нанесла мне тягчайший удар. Теперь, без него, я чувствовал, что остался один на свете. Это-то я и пытался объяснить Кристиан, вдове моего друга, но мучительно путался, с трудом связывая слова. Правда, честно говоря, поведение Кристиан не только не помогало мне, а, напротив, совсем обескураживало. Когда дверь открылась и вход преградила суровая и отчужденная женщина в черном, я неожиданно оробел. А ведь мы знали друг друга много лет. Кажется, они и с Бертраном познакомились не без моей помощи. Но сейчас Кристиан сверлила меня холодным взглядом и даже не предлагала войти, поэтому я невольно растерялся. В конце концов, я же нисколько не виноват в смерти ее мужа!
— Можно мне зайти, Кристиан?
Она молча, но с явным неудовольствием впустила меня в дом. Услышав мой голос, маленький Марк, сын Бертрана и Кристиан, выскочил в прихожую и прильнул ко мне так крепко, как только может семилетний человек, но мать почти сразу одернула его.
— Иди к себе в комнату, Марк, — сухо приказала она, — и не возвращайся, пока я сама тебя не позову!
— Но, мама, это же… крестный! — растерянно пробормотал малыш.
— Не заставляй меня повторять еще раз, Марк!
Малыш, захлебываясь слезами, покорно ушел. А Кристиан, как только мы остались в гостиной вдвоем, осведомилась:
— Что вам угодно?
На мгновение я испугался, не повредило ли горе ее рассудок.
— Но, Кристиан… Разве не естественно, что, прочитав в газете о смерти Бертрана, я тут же примчался из Куршвеля?
Она, словно смирившись с неизбежным, вздохнула.
— Ладно, валяйте начинайте… Скажите мне про достоинства Бертрана… про мужество Бертрана… про вашу братскую привязанность к Бертрану… и что мы с Марком всегда можем рассчитывать на вас в трудную минуту… Давайте же, Тони, вперед! Прошу на сцену! Выкладывайте соболезнования и убирайтесь!
Совершенно сбитый с толку, я долго не мог выдавить из себя ни звука. Неужели горе настолько изменило Кристиан, что она готова отвергнуть такую испытанную дружбу, как моя? Но потихоньку растерянность уступала место раздражению, и это в какой-то мере помогло вернуть утраченное самообладание. Как и предлагала Кристиан, я заговорил, пытаясь передать, какую боль причинила мне гибель Бертрана, как одиноко стало после его исчезновения и мне тоже, и закончил именно тем, чем она и предсказывала: уверениями, что вдова и сирота всегда могут положиться на мою дружескую поддержку. Все это я промямлил запинаясь и спотыкаясь, а суровое лицо Кристиан отнюдь не помогало справиться с волнением. Жалкое зрелище… Когда же я, запыхавшись и не в силах подобрать нужные слова, умолк, она холодно бросила:
— Все?
Я кивнул.
— Я, вероятно, должна поблагодарить вас. Стало быть, считайте, что это уже сделано. А теперь будьте любезны оставить меня…
— Но, Кристиан… есть ведь еще Марк и…
— Марк не только ваш крестник, но в первую очередь мой сын, а я не желаю, чтобы он поддерживал с вами какие бы то ни было отношения!
— Но ведь Бертран избрал меня…
— Нет, Бертран всегда поступал по-своему, и вот к чему это привело! Его и мой сын никогда не пойдет по стопам отца! Я не желаю видеть у себя в доме ни вас, ни других людей вашей профессии! Не хочу, чтобы они отравили душу малыша, с которым мне надо заново учиться жить! Только из-за таких, как вы, Марк стал сиротой! Уходите! Неужели вы не понимаете, что я ненавижу вас и вам подобных?
Идя к вдове друга, я знал, что меня ждет мучительная сцена, но никак не ожидал такой вспышки ненависти. Кристиан отлично знала, что я никоим образом не влиял на Бертрана в выборе профессии, к тому же он был на два-три года старше. И то, что казавшаяся такой прочной давняя привязанность могла рухнуть в одночасье, повергло меня в полную растерянность. Возможно, Кристиан угадала, что творится в моей душе, а может, нервы не выдержали, но, так или иначе, она вдруг упала ко мне на грудь и разрыдалась.
— Тони… О, Тони…
И я, несмотря на все ее отчаяние, подумал, что так-то оно лучше.
Марк получил разрешение вернуться к крестному. И хотя к тому времени, как я собрался уходить, они, конечно, не утешились, зато по крайней мере твердо знали, что смерть Бертрана не оставила их одних на свете: в нужный момент я всегда буду рядом. Я попрощался с Кристиан и ее сыном и, после того как малыш исчез в своей комнате, тихо добавил:
— Я еще не знаю, какое дело расследовал Бертран, но сейчас же иду к патрону просить, чтобы он разрешил мне довести работу до конца, потому что теперь у нас с убийцей личные счеты. Даю вам слово, Кристиан, я до него доберусь.
Спускаясь по лестнице, я вдруг услышал, что из-за приоткрытой двери квартиры этажом ниже доносится мотив очень популярной после Освобождения песенки «Толстяк Билл». Я так и замер на ступеньке, задыхаясь от волнения. Любимая мелодия Бертрана… Старина Тривье насвистывал ее с утра до ночи. И в голову сама собой явилась странная мысль, что таким образом Бертран дает мне понять, что вполне одобряет и мой разговор с Кристиан, и дальнейшие планы.
Шеф нашего отдела, которого мы называем просто Патрон, внешне нисколько не отвечает расхожим представлениям о такого рода людях. Скорее вы приняли бы его за коммерческого директора какой-нибудь крупной фирмы. В общем, этот высокий и худощавый седой господин в неизменно строгом темном костюме — из тех, кто всегда внушает доверие мелким вкладчикам и приходскому священнику. Помимо прочих достоинств шеф отличается безукоризненной вежливостью, никогда без толку не впадает в гнев и терпеть не может никаких разговоров на повышенных тонах. Однако на совести этого благообразного респектабельного господина больше покойников, чем у самых известных убийц в криминальной истории человечества. В тиши уютного кабинета Патрон безжалостно приговаривает к смерти людей, которых и в глаза не видел. Несомненно, именно это, честно говоря, довольно зловещее занятие и придает ему такой отрешенный, почти нечеловеческий вид. Да он и вправду живет в несколько ином мире, нежели обычные смертные. Патрон — холостяк, и никто из служащих ровно ничего не знает о его личной жизни (если таковая у него есть). Трудно даже представить, что шеф существует и вне своего кабинета, что он ест, пьет и спит, как все прочие. Пожалуй, сама мысль об этом способна поставить в тупик любого из его подчиненных.
Патрон принял меня сразу и предложил сесть в кресло напротив своего стола.
— Я вижу, вы прервали отпуск, Тони?
— Да.
— Из-за Бертрана?
— Да.
Шеф вздохнул.
— Скверная история… — Он немного помолчал. — Я очень ценил Бертрана Тривье, — добавил он.
Вот и вся надгробная речь, какой удостоился мой товарищ, но, невзирая на ее краткость, я почувствовал, что Патрон искренне скорбит о Бертране.
— И вы, естественно, хотите продолжить его дело?
— Само собой.
— А как себя чувствует вдова?
Я пожал плечами. Что тут ответишь?
— Я выясню у министра, что мы можем сделать и для нее, и для мальчика… вашего крестника, если не ошибаюсь?
— Совершенно верно.
Он устало пригладил волосы.
— Тривье — не первый из моих агентов, кто так внезапно покинул наш мир, но с этим тяжко, очень тяжко свыкнуться. Вы что-нибудь знаете о его задании?
— Нет.
— Тогда слушайте. В Бордо, точнее, в его пригороде Бегле, есть завод Министерства-национальной безопасности. Возглавляет его некий господин Турнон. Там ведутся разнообразные исследования, связанные с созданием сверхточных приборов. Но чем занимаются тамошние инженеры на самом деле, мало кто знает, и официально завод выпускает бытовую технику. В последние несколько лет группа Турнона бьется над проблемой миниатюризации. Успех в этой области позволил бы значительно сократить расходы на производство ракет-перехватчиков и несколько поколебать, казалось бы окончательное и бесповоротное превосходство русских. До сих пор наверху относились к такой возможности довольно скептически, но чуть больше месяца назад один из инженеров Турнона, Марк Гажан, добился очень интересного, с точки зрения специалистов, решения. Дабы не возбудить любопытства иностранных агентов, мы решили еще на некоторое время оставить Гажана в Бегле, сделав вид, будто он продолжает работу. Очевидно, это было ошибкой. Две недели назад инженер исчез.
— Вместе с планами?
— Разумеется.
— И не оставил следов?
— В том-то и дело. В прошлые выходные они с женой ездили отдыхать. В воскресенье соседи видели, как подъехала их машина, мадам Гажан передала супругу ключ от гаража, который находится в нескольких сотнях метров от их виллы, и с тех пор об инженере ни слуху ни духу. Можно подумать, он просто испарился.
— Вместе с машиной?
— Да. Мы обследовали всю границу с Испанией, но и это не дало никаких результатов. Наши агенты по ту сторону Пиренеев даже не слышали ничего, что имело бы хоть косвенное отношение к Гажану или его исследованиям.
— А жена?
— По-прежнему в Бордо. Похоже, она действительно волнуется и сама первой сообщила об исчезновении мужа.
— А как выглядит ее счет в банке?
— Очень скромный, и за последние полгода — никаких изменений. Ни значительных трат, ни новых вкладов.
— Планы, вы сказали,
тоже исчезли?
— Да, вместе с Гажаном. Он ни на минуту с ними не расставался, якобы опасаясь утечки.
— А что вы думаете о Турноне?
— По всей видимости, он вне подозрений.
— Так что же тогда?..
— К несчастью, я знаю не больше вашего. В Бордо у нас есть свой агент, Антуан Сальваньяк. Время от времени мы пользуемся его услугами, хотя он и не в штате. Но и Сальваньяк в таком же недоумении. Этот Гажан, казалось, вел самую образцовую жизнь. Никаких пороков или страстей за ним не замечали. На окружающих он производил впечатление ученого, помешанного на своих вычислениях. По общему мнению, обожал жену. Короче говоря, никому бы и в голову не пришло, что такой человек способен кинуться в бега.
— А как насчет политических взглядов?
— Да вроде бы политика его не особенно интересовала. Гажан почти никогда не разговаривал на такие темы. По свидетельству жены и друзей, не похоже, чтобы он питал какие бы то ни было пристрастия к восточному лагерю, хотя, будь это так, он, разумеется, тщательно скрывал бы свои симпатии.
— А что он читал?
— В основном научную литературу и детективы.
— Кто его друзья?
— Это скорее знакомые. Коллеги с завода и еще некий Фред Сужаль, преданный воздыхатель Эвелин Гажан, своего рода рыцарь, утративший всякую надежду на взаимность и смирившийся с существующим положением.
— А могу я узнать, каково ваше личное мнение?
— По правде говоря, у меня его нет. Однако я склонен думать, что Гажан давно готовился к побегу и просто удрал.
— На Восток?
— Конечно.
— И бросил жену?
— А почему бы и нет? Стоит человеку вообразить, будто он выполняет особую миссию, и все остальное уже не имеет для него никакого значения. А кроме того, не исключено, что супруга Гажана морочит нам голову и спокойно выжидает удобного момента присоединиться к мужу. Мы ведь не сможем следить за ней до бесконечности!
— А зачем ей бежать за мужем? Из любви?
— Может, и так. Но не забывайте, что исследования Гажана стоят многих миллионов. Вне всякого сомнения, найдется немало желающих купить его изобретение очень и очень дорого. Мадам Гажан около тридцати лет, говорят, она на редкость хороша собой и к тому же любит одеваться. По-моему, мысль о весьма обеспеченной жизни под чужими небесами не должна ее испугать. Скорее наоборот. Но, повторяю, это лишь более или менее недоброжелательное предположение, и пока у нас нет никаких оснований считать его оправданным.
— А какова роль Бертрана во всей этой истории?
— Я отправил парня в Бордо разобраться, что там произошло. Сама его гибель доказывает, что он вышел на очень любопытный след. К несчастью, Тони, у вашего друга был один крупный недостаток: он любил удивлять и обожал театральные эффекты. В результате Тривье ни словом не обмолвился Сальваньяку о возникших у него подозрениях, и мы не смогли предупредить удар. Но и своей смертью он оказал нам последнюю услугу. Теперь мы точно знаем, что Гажан не исчез бесследно — в Бордо остались какие-то зацепки. Сам я думаю (хотя и не могу утверждать наверняка), что, возможно, Бертран вышел на тех, кто помогал инженеру скрыться.
— Хорошо. И что я должен делать дальше?
— Садитесь на бордоский скорый. Он уходит в половине седьмого. В Бордо вы остановитесь в отеле «Сплендид», спокойно переночуете, а утром отправитесь к Сальваньяку — у него свой гараж. Там попросите внаем машину, но не какую-нибудь, а непременно зеленый «воксхолл». Машина эта скоро начнет барахлить (не волнуйтесь, я говорю о воображаемых неполадках), и вы получите прекрасную возможность поддерживать постоянную связь с коллегой.
— Значит, в Бордо мне надо искать Гажана?
Патрон пристально посмотрел мне в глаза.
— На Гажана мне чихать, Тони. Я хочу получить обратно чертежи.
Я ничуть не устал, и спать мне не хотелось. Поэтому я оставил чемодан на попечение грума, а сам пошел прогуляться по ночному Бордо. Я давно питаю слабость к этому городу и, поднявшись вверх по бульвару Интенданс, стал с удовольствием бродить наугад по старинным улочкам. Никакой определенной цели у меня не было. Просто я надеялся таким образом восстановить прежнее знакомство со столицей департамента Жиронда. Хоть и приближалось Рождество, ночь стояла довольно теплая, и мне нравилось идти быстрым шагом, сунув руки в карманы и подняв воротник пальто. Время от времени я вспугивал влюбленные парочки, явно недовольные вторжением незнакомца на их территорию. Ничего, пройдет совсем немного времени, и они в свою очередь станут досадной помехой для влюбленных, которым сейчас еще только предстоит родиться на свет. Машинально скользнув глазами по написанному на одной из витрин имени владельца магазина, я снова подумал о своем друге Бертране. Быть может, приехав в Бордо, Тривье гулял по тем же улочкам и с улыбкой раздумывал, что подарить на Рождество Кристиан и Марку? Этого хватило, чтобы приподнятое настроение вмиг улетучилось, и, словно напоминая, что я приехал в эти края вовсе не отдыхать, задул пронизывающий ветер. Где-то в этом городе спит человек, убивший моего друга Бертрана Тривье, и я его тоже убью.
Гараж Сальваньяка находился неподалеку от площади Люз, на улице, перпендикулярной одноименной аллее. Встретивший меня механик слегка удивился, узнав, что на все время пребывания в Бордо я хочу нанять именно «воксхолл».
— Вы и впрямь настаиваете на этой марке? — переспросил он, растерянно почесав затылок.
— В Париже у меня точно такая же, и я к ней привык.
— Да, конечно… Но, знаете, лучше б вам потолковать об этом с хозяином, потому как, хоть у нас и есть один «воксхолл», я даже не представляю, в состоянии он двинуться с места или нет.
Именно этого я и хотел: теперь меня отведут к Сальваньяку без всяких просьб с моей стороны.
— Вы не подождете минутку?
Да сколько угодно, милейший! Я стал болтаться по гаражу, от машины к машине, наблюдая, как один механик копается в моторе, другой моет кузов, третий лежит под стареньким «ситроеном», и всеми силами стараясь привлечь внимание к собственной персоне. Мне хотелось произвести впечатление обычного клиента, которому незачем оставаться незамеченным, — этакого доброго малого из тех, кому охотно прощают докучливую болтовню.
— Вот этот господин, шеф…
Я медленно повернулся.
— Это наш хозяин, месье, он вам все и расскажет насчет «воксхолла»…
И механик удалился с сознанием добросовестно выполненного долга.
— Так вы хотите нанять «воксхолл», месье?
Сальваньяк оказался добродушным великаном и, не будь в его волосах нескольких серебристых нитей, вполне сошел бы за нападающего бордоской команды регби.
— Да, я привык к этой марке, в Париже у меня такая же машина зеленого цвета.
— Правда? Занятно… Как ни странно, та, что я могу вам предложить, тоже зеленая.
— Тем лучше!
— Но это обойдется довольно дорого…
— Довольно или… слишком?
— Пойдемте ко мне в кабинет и все обсудим.
Едва за нами закрылась дверь, Сальваньяк неожиданно бросил:
— Вы знали Тривье?
— Он был моим лучшим другом.
— Ага… и вы приехали сюда…
— …встретиться с тем, кто его застрелил.
— О'кей!
Хозяин гаража протянул мне огромную лапищу.
— Желаю вам удачи, тем более что за время нашего недолгого знакомства Тривье произвел на меня очень приятное впечатление. Разумеется, я в вашем полном распоряжении, чем могу — помогу!
— Откровенно говоря, помимо всего прочего я должен еще разыскать чертежи некоего Гажана, а если удастся — и его самого.
Сальваньяк кивнул:
— Боюсь, это уже задачка потруднее.
— Почему?
— Да потому что сейчас он уже наверняка успел удрать на другой край света!
— У вас есть доказательства?
— Да нет, просто я так думаю.
— Но если бы Гажан так далеко бежал, зачем понадобилось убивать Тривье?
Хозяин гаража немного подумал.
— Сдается мне, ваш друг обнаружил цепочку, по которой Гажан улизнул на Восток. Боясь разоблачений, эти люди предпочли разделаться с Тривье.
— Вы знали Гажана?
— До тех пор, пока не получил приказ им заняться, — нет.
— Не понимаю…
— Как только в Париже стало известно, что работы Гажана близятся к завершению, там, вероятно, сочли необходимым позаботиться о его безопасности. Тогда меня и подключили к делу, но приказали вести себя крайне осторожно и наблюдать в основном за окружением инженера, а если среди его знакомых неожиданно появится новое лицо, сразу сообщить в Париж. Однако я ничего подозрительного не заметил и, честно говоря, должен признаться, что ума не приложу, как он все это обстряпал.
— Но должно же у вас быть какое-то свое мнение?
— Не мне вам говорить, что в нашем ремесле ценятся только факты… Но, коли вас интересуют мои личные впечатления, могу сказать, что, по-моему, Гажан удрал вместе с бумагами, собираясь или уже продав их за хорошую цену.
— Кому?
— Ну… вы не хуже меня знаете, что покупатель не станет трезвонить об удачной сделке.
— В Париже мне говорили, что инженер нисколько не интересовался политикой. Это верно?
— Я убежден, что в этой истории политические соображения следует искать только со стороны покупателя. Гажан заключил обыкновенную сделку: продал нечто такое, что мог в какой-то мере считать своей собственностью. Должно быть, парня ослепили такой суммой, о какой он никогда и мечтать не смел.
— И этот скромный, увлеченный работой ученый, прекрасный муж и добропорядочный гражданин в мгновение ока бросает жену, работу и родину?
— Ну, на сей счет у меня есть кое-какие соображения, — понизив голос, проговорил Сальваньяк, — но лучше не говорить об этом здесь. Может, пообедаем вместе?
Люди часто воображают, что агенты секретных служб, на какую бы страну они ни работали, — этакие авантюристы, не расстающиеся с пистолетом и в любую минуту готовые открыть пальбу по коллегам и противникам. Какое ребяческое заблуждение! По большей части мы ведем долгие и кропотливые расследования, благодаря которым нередко удается выйти на человека, готового помочь нам обезвредить целую шпионскую сеть, и все это — без малейшего кровопролития. Бывают, разумеется, и несчастные случаи, как это произошло с Бертраном. Но случайности возникают главным образом из-за того, что в дело вмешиваются не специалисты, а самые вульгарные убийцы, или же обычное нарушение государственного права выливается в резкое столкновение разведки и контрразведки двух враждебных сторон. Если, паче чаяния, Бертран Тривье обнаружил убежище Гажана, не исключено, что тот, оберегая будущие дивиденды, избавился от опасного врага, способного обратить все его надежды во прах. В таком случае я переверну небо и землю, чтобы разыскать инженера, а уж когда я его найду…
Сальваньяк назначил мне свидание в портовом ресторанчике на набережной Сент-Круа, где нас точно никто не заметит. Прежде чем уехать из Парижа, я навел кое-какие справки о будущем помощнике и таким образом узнал, что Сальваньяк всегда был на хорошем счету, а потом, получив на задании тяжелую рану, до срока ушел в отставку, точнее, в «полуотставку», поскольку окончательно с работой так и не порвал. На такого парня можно положиться, как на скалу, а я чувствовал, что мне очень понадобится помощь, — дело выглядело более чем туманным, и я даже не знал, с чего начать. Само собой, я повидаю директора завода, где работал Гажан, его жену и коллег, но особых иллюзий насчет того, что они могут рассказать мне что-то интересное, питать не следовало. Поиски, бесконечные вопросы, ответы и проверка разных предположений — вот чем в основном мы вынуждены заниматься с утра до ночи, и, не стану скрывать, мне это уже начинало чертовски действовать на нервы. Если хотите знать, в тот грустный, ничем не примечательный день я совсем пал духом. И мне вконец обрыдли все секретные службы на свете! Ну мне-то какое дело до Национальной безопасности? В моем возрасте куда разумнее поскорее жениться, иначе даже детей вырастить не успеешь. К несчастью, чтобы осуществить этот замечательный проект, надо быть как минимум вдвоем… И, думая о том, что в это же самое время куча ребят свинчивает себе мозги, читая о воображаемых приключениях людей, якобы похожих на нас, мне хотелось выть от омерзения! Виски, девочки, драки… что за чушь! Что до виски, то денег не всегда хватает даже на бутылку, а красотки ищут более состоятельных кавалеров. На нашу долю остаются только драки и больше ничего.
Продолжая играть роль беспечного туриста, я пошел на набережную Сент-Круа пешком, через Кэнконс, по улицам Сент-Катрин и Виктора Гюго, а потом по берегу Гаронны. В таких кабачках, как тот, что выбрал мой помощник, собираются в основном рабочие порта; моряков — и тех гораздо меньше. Я сказал темноволосой толстухе официантке, что пришел от господина Сальваньяка, и меня проводили за столик в нише у самой кухни. Там мы, бесспорно, могли не опасаться нескромных ушей, зато имели немало шансов помереть от удушья. В ожидании хозяина гаража я заказал анисовку, прибывшую, очевидно, прямиком из Испании и, подозреваю, без санкции таможни и таможенников.
Сальваньяк, продолжая игру, с порога громогласно объявил, что выполнил мое поручение и зеленый «воксхолл» с полным баком уже стоит у двери кабачка. Мы обменялись рукопожатием, и владелец гаража пустился в восторженное и стопроцентно лживое описание достоинств машины, которую якобы надеялся мне продать. Поток дифирамбов «воксхоллу» прекратился лишь на минуту — пока Сальваньяк заказывал миноги и антрекоты. Рабочие за соседними столиками, сначала с интересом смотревшие на нового компаньона, быстро перестали обращать на нас внимание. Сальваньяк, несомненно, знал свое дело, и меня это порадовало. С таким помощником у меня, возможно, оставался хотя бы шанс выбраться из осиного гнезда, в которое я сунулся не рассуждая, очертя голову, из одной братской привязанности к Бертрану.
После того как официантка принесла нам антрекоты, Сальваньяк, не меняя тона, заметил:
— Во всей этой истории больше всего меня сбивает с толку жена.
— Жена?
— Мадам Гажан… Эвелин…
— Почему?
— Да просто-напросто у меня не укладывается в голове, что, раз уж парню повезло жениться на такой красотке, он мог за здорово живешь ее бросить.
И Сальваньяк нарисовал такой портрет покинутой супруги, что мне чертовски захотелось познакомиться с ней как можно скорее.
— Ну и что же?
— Эвелин Гажан — на редкость элегантная дама, явно любит роскошь и красивую жизнь… Она из тех женщин, что мечтают сорить деньгами и бесятся от несбыточности своих надежд, если положение мужа обрекает их на более скромное существование.
— А заодно и готовы на что угодно, лишь бы удовлетворить свои аппетиты?
— Думаю, да.
— Вывод: узнав от супруга (что совершенно естественно) о ценности его открытия, мадам Гажан понимает, что есть возможность заработать целое состояние, и в конце концов уговаривает Гажана позаботиться не о будущем страны, а об их собственном счастье. Так?
— Возможно.
— Значит, по-вашему, ради жены инженер мог забыть о долге?
— Познакомившись с Эвелин Гажан, вы быстро убедитесь, что парень, не слишком избалованный вниманием женщин, вряд ли сможет долго противиться ее желаниям!
— Ого!.. Вы меня так заинтересовали, что и вправду хочется поскорее взглянуть на эту даму.
— Я полагаю, вы так или иначе собирались ее допросить?
— Естественно…
— Ну так будьте осторожны!
— Не беспокойтесь, у меня хороший иммунитет. Но вернемся лучше к вашим предположениям… Итак, заручившись согласием мужа, Эвелин Гажан связала его с иностранным агентом? Но каким образом? Вряд ли она просто-напросто отправилась в какое-нибудь посольство, верно?
— Разумеется, нет. Но у мадам Гажан есть верный поклонник Фред Сужаль… Красивый малый, владелец процветающего кабаре «Кольцо Сатурна» и почти друг детства…
— А больше ничего интересного о нем не известно?
— Не знаю, но кто тут может сказать наверняка? У Сужаля бывает куча народу, и от посетителей не требуется ничего, кроме туго набитого кошелька, а в Бордо, сами понимаете, съезжаются люди со всех концов света. «Кольцо Сатурна» — идеальное место, где можно найти покупателя на любой товар.
— Тогда, вы думаете, Сужаль — сообщник?
— Не обязательно, хотя исчезновение Гажана в какой-то мере благоприятствует его ухаживаниям… Возможно, он надеется, что, коли месье Гажан больше не даст о себе знать, Эвелин наконец согласится выйти за него замуж. Впрочем, мадам Гажан часто бывает в «Кольце Сатурна» и могла сама без ведома Сужаля выйти на возможного покупателя мужниных разработок, подготовить бегство и все прочее…
— Но тогда при чем тут Бертран?
Сальваньяк отхлебнул глоток бордо. Выглядел он немного смущенным.
— Послушайте… Я бы не хотел причинять вам боль, но у вашего друга были довольно странные представления… вернее, своя собственная теория насчет того, как ему следует выполнять задание.
— Что вы имеете в виду?
— Не вздумай Тривье действовать в одиночку, наверняка и сейчас был бы жив-здоров. Когда мы виделись в последний раз, он сказал, что, кажется, вышел на очень серьезный след, но отказался объяснить, какой именно. А через несколько часов его нашли мертвым, и теперь придется все начинать заново.
На это я ничего не мог возразить, потому что и сам знал о несчастной слабости Бертрана к театральным эффектам. Он любил расследовать дело самостоятельно и до глубины души радовался, сообщая уже готовое решение. Вот только на сей раз бедняга либо не рассчитал собственные силы, либо недооценил противника…
— Бертран не говорил вам, с кем успел повидаться?
— С месье Турноном, мадам Гажан и, несомненно, Сужалем… А насчет прочих я не в курсе.
Месье Турнон, директор завода, где работал Гажан, маленький, нервный и явно встревоженный человечек, откровенно не желал ввязываться в наши дела. Встретил он меня довольно прохладно. И, даже не дав рассказать о цели моего визита, сухо прервал объяснения.
— Это излишне, месье Тони Лиссей… Мне звонили из Парижа. Я, конечно, весьма сожалею о том, что произошло с вашим коллегой, но, полагаю, таков профессиональный риск… Что до Гажана, то вот его досье, и вряд ли я сумею сказать о нем что-либо еще. Так что берите досье, если угодно — можете унести его с собой, но тогда попрошу вас оставить секретарше расписку.
Похоже, ему просто не терпелось меня спровадить.
— По правде говоря, месье Турнон, меня очень мало заботят служебные характеристики Гажана. Что меня действительно интересует — так это чисто человеческая сторона дела…
— Не понимаю…
— Ну, если не касаться работы, что он за человек?
— Вообще-то мы очень мало сталкивались вне службы… Но почему бы вам не поговорить об этом с супругой Гажана?
— Вы с ней знакомы?
Директор завода удивленно вытаращил глаза.
— Знаком ли я с ней? Естественно! Впрочем, это очаровательная женщина.
Последнюю фразу он проговорил таким тоном, будто речь шла о погоде: скажем, «дождь начинается» или «дождь кончился».
— Жена — плохой свидетель.
— В самом деле?
Мое замечание, по-видимому, крайне удивило Турнона.
— Мы не так уж много знаем о тех, с кем живем бок о бок долгие годы… — пояснил я.
— Так-так…
Директор завода как будто погрузился в бездну размышлений, но я заставил его снова выплыть на поверхность, задав очередной вопрос:
— А о чем вы разговаривали с Гажаном?
— О чисто научных проблемах.
— И никогда ни о чем другом?
— Не помню… У нас здесь очень сложная работа, месье Лиссей, и требует предельной сосредоточенности. На светскую болтовню почти не остается времени. Я всегда считал Марка блестящим инженером. Что до его личной жизни, то, согласитесь, она ни в коей мере меня не касается, не говоря уж о том, что просто не интересует…
— Но… вас не удивило бегство Гажана?
— Да, конечно, хотя я бы не сказал, что потрясен. Такое ведь случалось и раньше, не так ли?
— Быть может, Гажан дружил с кем-нибудь из коллег и держался с ним откровеннее, чем с другими?
— Не думаю… Он был весьма замкнутым человеком… К тому же ваш предшественник уже расспрашивал всех инженеров и, по-моему, не добился никаких результатов. Все случившееся, конечно, прискорбно, но какой смысл пережевывать бесцельные сожаления? Нам остается лишь попробовать смягчить последствия предательства и надеяться, что в следующий раз те, кому поручено охранять ученых, выполнят свою задачу более добросовестно. А теперь прошу прощения, месье Лиссей, но у меня масса работы…
Короче, милейший директор выставлял меня за дверь.
В крошечном предбаннике, где сидела личная секретарша Турнона, тихая женщина лет сорока, во-видимому ничуть не опечаленная тем, что уже успела изрядно обрасти жирком, я подмахнул расписку, как того требовал директор, и, разумеется, не упустил случая поговорить.
— Ваш шеф всегда такой?
— Какой?
— Неужели он и вправду так безразличен ко всему на свете и относится к посетителям, как к назойливым мухам?
Женщина улыбнулась:
— Месье Лиссей, я зарабатываю тут восемьсот франков в месяц, а потому не имею права на особое мнение о начальстве или по крайней мере не должна высказывать его вслух.
Неглупая у Турнона секретарша!
— А вы мне нравитесь, — невольно вырвалось у меня.
— Жаль, что вы не пришли сказать мне об этом лет двадцать назад… — И она без малейшего перехода добавила: — Меня зовут Сюзанна.
Это сообщение погрузило меня в некоторую растерянность, и, признаюсь, я довольно глупо брякнул в ответ:
— Очень красивое имя…
Банальность ответа явно удивила секретаршу.
— Вы находите?
— Вне всяких сомнений.
Я прикусил губу, потому как едва не ляпнул, что так звали мою маму. А секретарша, полуприкрыв глаза, пробормотала себе под нос:
— Мне нравится имя Тони… очень оригинально…
Что это, попытка вскружить мне голову? Какая нелепость! И я, поблагодарив Сюзанну (раз уж ее так зовут) за любезность, начал тихонько пятиться, но не успел переступить порог, как секретарша подала новую реплику:
— Надеюсь, мы еще увидимся? Вы мне куда больше нравитесь, чем ваш коллега!
Может, она все-таки дура или хочет намекнуть, будто знает нечто такое, о чем на работе сказать нельзя? Любопытно… И я снова подошел к ее столу.
— Так вы видели Тривье?
— Разумеется… Он, как и вы, приходил к месье Турнону.
— Сюзанна… Бертран Тривье был моим лучшим другом… вот уже десять лет… до сих пор не могу поверить, что его больше нет… Я должен поймать того, кто убил Бертрана!.. Вы можете мне помочь?
Прежде чем ответить, секретарша долго смотрела на меня своими большими и печальными, как у коровы, глазами.
— Вы… вы, должно быть, умеете любить… — проникновенно заметила она. — А ваш друг вообще не обратил на меня внимания. Мне показалось, что он воспринимает меня как часть обстановки этой комнаты… И в этом он был глубоко неправ, месье Лиссей… Секретарша, много лет проработавшая в одной фирме, волей-неволей узнает немало интересного…
— Например, о Марке Гажане?
— В частности, и о нем…
Я, от волнения вцепившись в столешницу, нагнулся к самому лицу Сюзанны.
— Послушайте… Я думаю, нам имеет смысл обсудить все это подробнее…
— Возможно.
— И где я могу найти вас после работы?
— Я живу на улице Траверсан, у самой площади Мокайю на… четвертом этаже, слева. Жду вас после восьми вечера… Может, вы отведете меня куда-нибудь поужинать?
Я не успел ответить, поскольку месье Турнон, выскочив из кабинета, бесцеремонно вмешался в наш разговор. Похоже, его так и трясло от ярости.
— Сюзанна! Это… это постыдно!.. Отвратительно! Так бросаться на шею первому встречному! И в следующий раз, когда вам вздумается разыгрывать столь смехотворные сцены соблазнения, будьте любезны хотя бы выключить интерфон! Не заставляйте меня слушать ваши глупости!
Я расстроился, что стал невольной причиной этой грубой выволочки, однако Сюзанна, судя по всему, отнеслась к упрекам шефа с невозмутимым хладнокровием. Когда Турнон, окончательно выдохшись, наконец умолк, секретарша вскинула на него глаза.
— Ты чертовски действуешь мне на нервы, Эрнест, — спокойно заметила она. — Надеюсь, ты отдаешь себе в этом отчет?
Месье Турнон, по всей видимости, хотел разразиться новой гневной речью, но запнулся, искоса поглядел на меня и, покраснев до ушей, исчез в кабинете.
— Ревнует, — все так же спокойно пояснила секретарша.
— Так я и подумал. И все-таки в следующий раз вам лучше бы и в самом деле выключить интерфон.
Она пожала плечами:
— Если б вы только знали, до какой степени мне на это наплевать!
По дороге в Кодран, к мадам Гажан, я раздумывал, что собирается рассказать мне Сюзанна. А вдруг это просто-напросто ребяческая уловка? Ведь не исключено же, что секретарше только хотелось провести вечерок в моем обществе, — Турнон-то наверняка не самый веселый компаньон… А кстати, означенный Турнон начинал меня всерьез интересовать — уж очень не схожи те два лица, что он показал мне всего за несколько минут. Ревнивец, устроивший любовнице сцену, несмотря на присутствие постороннего, нисколько не походил на отрешенного от земных дел и озабоченного исключительно научными проблемами директора завода. Так когда же он лгал? Мне казалось совершенно невероятным, чтобы человек, так страстно влюбленный в свою секретаршу, мог ничего не знать ни о чувствах, ни о личной жизни подчиненных. И чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что Турнон нарочно устроил спектакль. Вот только зачем? Настроение у меня поднималось — я чувствовал, что вышел на след. Возможно, он никуда не приведет, но чем черт не шутит… В окружавшем меня густом тумане загадка Турнона казалась неким огоньком, и даже если она не имеет особого отношения к делу, разобраться в ней все же очень любопытно.
От Сальваньяка я знал, что мадам Гажан живет в Кодране — западном пригороде Бордо, на улице Лоншан. Отправляясь туда, я понятия не имел, дома она или нет, но предпочитал проездить впустую, чем предупреждать о своем появлении особу, которую намеревался подвергнуть самому серьезному допросу. Мне хотелось застать ее врасплох. Кроме того, даже в случае неудачи я все же получу некоторое представление о психологии этой Эвелин, взглянув на дом и на квартал, где она живет. Я очень верю во влияние окружающей обстановки на духовный склад человека и не сомневаюсь, что у обитателей нынешних крупных агломераций в конечном счете сложился совершенно особый менталитет.
Эвелин Гажан оказалась дома. Услышав звонок, она почти тотчас открыла дверь, а я с первого взгляда влюбился без памяти. Да, знаю, подобные слова кажутся ужасно глупыми, но тут уж ничего не поделаешь, и не стоит даже пытаться утопить истину в потоке фраз, все равно никакие увертки не могут изменить того очевидного факта, что, как только дверь открылась и на пороге возникла Эвелин, я замер, не в силах издать ни звука. Для того чтобы вы меня поняли, могу напомнить, что каждый мужчина всю жизнь носит в душе более или менее смутный образ идеальной женщины, той, что и внешне, и внутренне соответствует его мечтам. Вполне естественно, он никогда не встречает такой женщины по той простой причине, что сие порождение грез не имеет ничего общего с действительностью. Более того, столкнись он случайно со своим идеалом, чаще всего просто его не узнает. Так вот, приехав в Кодран, я внезапно попал в число редких счастливчиков, которым довелось увидеть, что их мечта воплотилась в живом существе. И с первой же минуты я понял, что никогда не буду счастлив в полном смысле слова, если Эвелин в конце концов не станет моей подругой.
Какой смысл описывать ту, кого я уже любил всем своим существом? Да, конечно, она была очень красива и, по-видимому, на редкость ладно скроена, насколько я мог судить по изящным линиям стройной фигуры, облаченной в строгое черное платье. Светлые волосы, бархатная, свежая кожа… но, наверное, больше всего потрясали ее глаза: не то чтоб невероятно большие, но такие ласковые и сияющие, что, стоило Эвелин поглядеть на вас — и сразу теплело на сердце.
То, что агент спецслужбы может вести себя или, точнее, чувствовать как подросток, ошалевший от первой любви, наверняка покажется странным, но мы — такие же люди, как и прочие, и нам свойственны те же слабости, иллюзии и желания. Должно быть угадав мое смятение, Эвелин улыбнулась, словно хотела меня приободрить.
— Что вам угодно?
— Мадам Гажан?
— Да, месье…
— …Лиссей… Тони Лиссей. Я хотел бы поговорить с вами о вашем муже…
Выражение лица мадам Гажан сразу изменилось, и прекрасные глаза заволокло слезами.
— Прошу вас, входите!
Закрыв дверь, она проводила меня в небольшую гостиную, обставленную добротно, но без претензии на оригинальность. На комоде в стиле Людовика XV стояла фотография молодого мужчины с довольно вялым, невыразительным лицом, и я подумал, что оно как нельзя более соответствует банальной обстановке гостиной. Я повернулся к хозяйке дома и указал на фотографию.
— Это месье Гажан?
Она кивнула.
— Может быть, вы расскажете мне о нем?
— Но… с какой стати? Кто вы такой?
— Допустим, я принадлежу к некоей государственной организации, которую особенно интересуют научные открытия… настолько интересуют, что она страшно не любит, когда последние уплывают в чужие края…
— Так вы коллега того несчастного молодого человека…
— Вот именно.
Эвелин предложила мне сесть.
— Я бы предпочла, чтобы вы сами задавали вопросы.
— Ладно… Но я заранее прошу прощения, если некоторые из них покажутся вам неприятными.
— Полагаю, вы не станете грубить мне ради собственного удовольствия?
— Разумеется, нет. Вы любили своего мужа, мадам?
Она вздрогнула.
— Но… естественно. Мы с Марком прожили вместе шесть лет и ни разу не поссорились… Вне работы Марк — сущее дитя… Рядом со мной он чувствовал себя в полной безопасности от жизненных треволнений. Говорят, многие ученые таковы.
— И тем не менее он вас покинул?
— Я в это не верю! — возмутилась мадам Гажан.
— И однако…
— Да, однако его здесь нет… он исчез… Но я по-прежнему доверяю Марку и уверена, что в один прекрасный день все объяснится.
— Позвольте выразить вам свое восхищение, мадам, но, согласитесь, мы никак не можем разделить вашу слепую веру.
— Это только пока… просто вы его не знаете.
— Короче, по-вашему, надо лишь терпеливо ждать возвращения месье Гажана?
— Ничего другого мне не остается, да я бы и не хотела думать и чувствовать иначе.
— Надеюсь, вы понимаете, что в отличие от вас я не могу довольствоваться пассивным ожиданием? Но перейдем к фактам. Итак, у вас нет никаких известий о Марке Гажане с позапрошлого воскресенья? Я буду очень признателен, если вы подробно расскажете, что произошло в тот день.
— Как всегда в выходные, мы с Марком поехали отдыхать на дачу к нашему другу Сужалю — это небольшой загородный домик на берегу Аркашона. Марк ловил рыбу, для него это единственное настоящее увлечение, помимо работы… В воскресенье около шести вечера мы вернулись домой. Я вышла из машины и забежала в дом за ключом от гаража — он у нас на улице Серей. Ключ этот настолько массивен, что мы никогда не таскаем его с собой. Потом я отдала ключ Марку, он уехал, и больше мы не виделись…
Эвелин с трудом сдерживала слезы, но в конце концов все-таки разрыдалась.
— Поймите, мадам, я вынужден бередить эти тяжкие для вас воспоминания — такая уж у меня работа.
Она вытерла глаза и грустно улыбнулась.
— Простите меня, но, несмотря на то что я уверена в скором возвращении Марка, бывают минуты, когда…
— …когда вы все же сомневаетесь?
Я скорее угадал, чем услышал ее «да».
— У вас есть состояние, мадам Гажан?
— Нет… мы жили на то, что зарабатывал Марк.
— А вы думали, как быть дальше, если ваш супруг все-таки не вернется?
— Нет… Наверное, пойду работать… Я ведь раньше была секретаршей…
— И где же?
— На заводе Турнона.
— Вот как?
— Да, там-то мы с Марком и познакомились.
Решительно, этот Турнон во многом мне солгал, вернее, не счел нужным выкладывать все, что ему известно.
— Так вы знакомы с Сюзанной?
— С Сюзанной Краст, секретаршей Турнона?
— Кажется, она не только секретарша?
— О, это очень давняя история…
— И тем не менее она продолжается до сих пор?
— По-видимому, да.
— Сегодня я должен встретиться с Сюзанной у нее дома… по-моему, она не так молчалива, как ее шеф.
— И о чем же вы собираетесь говорить?
— О вашем муже, о его привычках, о том, с кем из коллег он поддерживал более тесные отношения. Во всяком случае, надеюсь…
— Ну, не думаю, чтобы Сюзанна могла вам рассказать нечто такое, о чем бы я не знала. Марк всегда держался очень замкнуто.
— В конце концов, возможно, секретарша Турнона просто хочет поужинать в хорошем ресторане?
Эвелин улыбнулась.
— Не исключено. Сюзанна любит поесть, а Турнон ее не особенно балует.
— А он женат?
— Вдовец.
— Тогда почему не женится на любовнице?
— Ну, уж об этом вам лучше спросить самого Турнона.
Настойчивый звонок в дверь прервал наш разговор. Эвелин встала.
— Прошу прощения…
Мадам Гажан отсутствовала всего несколько секунд и вернулась в гостиную уже не одна. Ее не в меру красивый спутник мгновенно вызвал у меня живейшую антипатию. Впрочем, судя по тому, как он на меня поглядел, я произвел не более приятное впечатление.
— Месье Лиссей… позвольте представить вам Фреда Сужаля, моего старинного друга… В эти тяжкие для меня дни его помощь просто неоценима… Фред, месье Лиссей приехал на смену тому несчастному молодому человеку, который расследовал обстоятельства исчезновения Марка.
Сужаль чуть заметно поклонился. Я ответил тем же, и он немедленно перешел в наступление:
— Ну, я вижу, вы упорно не хотите оставить Эвелин в покое?
— Позволю себе напомнить вам, что нас интересует не сама мадам Гажан, а ее супруг.
— Тем не менее все неприятности сыплются на нее.
На правах друга дома Сужаль подошел к буфету, достал бутылку виски, налил себе бокал и залпом выпил, нарочно не предложив мне разделить удовольствие. Столь откровенная грубость, по-видимому, смутила мадам Гажан.
— Может быть, вы тоже выпьете чего-нибудь, месье Лиссей? — спросила она.
— Благодарю вас, мадам, но мне пора. Я должен еще со многими сегодня поговорить, но, с вашего позволения, еще вернусь.
— И даже без позволения, не так ли?
— Да, вы правы.
— Не понимаю, почему вы подняли такой переполох из-за сбежавшего мужа? — грубо влез в разговор Сужаль.
— Да просто потому, что в таких случаях мужья, как правило, не прихватывают с собой документы, интересующие Министерство национальной безопасности, месье Сужаль.
— Вы, вероятно, читаете слишком много детективных историй, месье Лиссей?
— Да нет, мне их вполне хватает наяву, месье Сужаль.
— Ну а я уверен, что Гажан решил малость поразвлечься и очень скоро прибежит к Эвелин с повинной! А все мы будем иметь самый дурацкий вид!
— В том числе и мой убитый коллега Бертран Тривье? Неужто вы думаете, месье Сужаль, что бегство шалого мужа, которому ударил бес в ребро, непременно требует кровопролития?
— Разумеется, нет… но ведь ничто не доказывает, что это преступление связано с исчезновением Марка, правда?
— Напротив, мы в этом убеждены, и не без оснований. Вы, кажется, содержите кабаре, месье Сужаль?
— Да, «Кольцо Сатурна» на улице Кастийон, и что с того?
— Я с удовольствием к вам загляну.
— Но я вас, кажется, не приглашал?
— Не важно, я имею обыкновение сам платить по счетам.
Возвращаясь в центр Бордо, я пытался подвести итоги первых часов расследования, но такая норовистая машина, как старый «воксхолл», требовала предельного внимания, и спокойно поразмыслить не удалось. Поэтому, добравшись до площади Комеди, я зашел в кафе.
Поведение месье Турнона казалось все более странным. Вне всяких сомнений, он принял меня очень скверно — как обычного надоедливого посетителя, от которого нужно поскорее избавиться. Почему? Он отлично знал Эвелин, но и не подумал сообщить мне, что раньше она тоже работала на его заводе. Занятно… А эта вспышка ревности? Действительно ли Турнон кипел от бешенства или притворялся? И еще Сюзанна… Она-то что за игру затеяла? Что до Сужаля, то, по всей видимости, мое появление ему ужасно не понравилось. Парень безусловно любит мадам Гажан. Это вполне понятно, но не мог же он сразу догадаться, что и мне она небезразлична? Тогда откуда вдруг такая неприкрытая враждебность? Раз личных мотивов тут нет, значит, Сужаль испытывает крайнюю неприязнь не столько ко мне лично, сколько к моей профессии… С чего бы это? Да и с мадам Гажан не все ясно. Слепая преданность красивой молодой женщины мужу конечно очень трогательна и все такое, но отнюдь не снимает с Эвелин подозрений, тем более что Сальваньяк откровенно предостерегал меня против ее чар. Короче говоря, полная неразбериха… И Бертран, бедняга, воображал, будто сумеет во всем этом разобраться один? Само собой, я и мысли не допускал, что Марк Гажан просто решил гульнуть. Никто не стал бы убивать человека только для того, чтобы сохранить в тайне любовное гнездышко. Не говоря уж о том, что Гажан не мог не понимать, какая на нем лежит ответственность, а стало быть, ему и в голову не пришло бы пускаться во все тяжкие, имея при себе досье, за которым охотятся люди, готовые на все, лишь бы его раздобыть! По-моему, тут возможны лишь два варианта: либо инженер сбежал на Восток, намереваясь продолжать любимые исследования там и пожертвовав ради этого женой (если, конечно, они не сговорились воссоединиться в ближайшее время), либо Гажана убили, чтобы похитить его бумаги.
Как бы то ни было, пока оставалось только одно: терпеливо собирать сведения. Возможно, не пройдет и нескольких часов, как флегматичная толстуха Сюзанна наконец-то даст мне первую стоящую зацепку и я смогу двигаться в нужном направлении…
Без нескольких минут восемь мне удалось кое-как пристроить машину на площади Мокайю, и в уже сгустившихся зимних сумерках я направился к дому номер один на улице Траверсан. В подъезде на почтовом ящике значилось имя Сюзанны Краст, значит, я не ошибся адресом. Я вскарабкался на четвертый этаж и постучал в дверь слева. Она слегка подалась под пальцами. Может, хозяйка, решив принять меня как можно гостеприимнее, на минутку выскочила в магазин?
— Мадемуазель Краст! — крикнул я.
Никто не отозвался. Странно, что я тут же не почуял неладное, но самые простые ловушки всегда срабатывают наилучшим образом…
— Сюзанна, вы дома? — спросил я чуть громче.
По-прежнему — тишина. Я решительно толкнул дверь и вошел в квартиру, но не успел сделать и двух шагов, как получил по голове чуть выше уха и растянулся на полу.
Глава 2
Сначала мне показалось, что я раскачиваюсь на маятнике, и к горлу подступила тошнота, потом затылок пронзила резкая боль, настолько невыносимая, что я не мог сдержать стон. И тут же, как эхо, отозвался незнакомый голос:
— Глядите-ка, а этот подонок живехонек…
И кто-то далеко, бесконечно далеко добавил:
— Жаль…
Меня настолько возмутили несправедливость и нахальство выпада, что я окончательно пришел в себя. С невероятным трудом разлепив веки, я выпрямился, сел и окинул комнату туманным взглядом. Сперва мне подумалось, что это церковь, иначе с чего бы прямо перед носом торчали две колонны? Но очень скоро до меня дошло, что это ноги. Сдерживая тошноту и гримасничая от боли (затылок ломило немилосердно), я кое-как поднял голову и узрел маячившую где-то в заоблачных высях крайне несимпатичную физиономию.
— Ну, проснулись? — пророкотало сверху.
Скорее следовало бы сказать, что я вернулся из небытия. Во всяком случае, так казалось мне самому. Я протянул этому типу руку.
— Вы не поможете мне встать?
Он хмыкнул:
— Месье так ослабел?
Но прежде чем я успел в отборных выражениях высказать все, что думаю о его поведении, меня ухватили под мышки и рывком поставили на ноги. Перед глазами опять все завертелось, и, не подхвати меня вовремя пара крепких рук, я бы снова упал. Потом я не без удовольствия оказался в кресле и залпом осушил протянутый бокал. И в ту же секунду подошел еще один незнакомец.
— Вам лучше? — вежливо осведомился он.
— Да… вроде бы полегчало…
— Вы получили страшный удар по затылку… Работа специалиста… Странно, что он вас не прикончил, но, очевидно, это и не входило в его намерения. Вероятно, парень, зная пословицу, что «на падаль всегда слетаются грифы», рассчитывал на наше скорое появление.
— Весьма утешительная мысль, благодарю вас… Так это один из ваших людей обработал меня таким образом?
Мой собеседник — невысокий, но широкоплечий молодой человек с грустным лицом — выразительно пожал плечами.
— Что бы там ни болтали, но такого рода подвиги — вовсе не в наших правилах… Я инспектор Лафрамбуаз из сыскной полиции.
— Не может быть!
— Да, меня зовут Иеремия Лафрамбуаз, и не вздумайте смеяться[319], иначе я расквашу вам физиономию.
Инспектор сказал это совершенно спокойно и как бы между прочим, но даже самое неискушенное ухо уловило бы в его голосе непреклонную решимость. Лучше было вести себя поосторожнее. Впрочем, я так и эдак не испытывал ни малейшего желания смеяться.
— Так вы из полиции?
— Вас это пугает?
— Нет, просто удивило… Но почему вы оказались здесь, у Сюзанны Краст?
Вместо ответа Лафрамбуаз сделал знак двум другим полицейским, и те, подхватив меня под руки, отвели в соседнюю комнату. Увидев распростертую на полу Сюзанну, я медленно повернулся к инспектору.
— Она мертва?
— Да, голову разбили вот этой мраморной статуэткой. Это вы?
— Что — я?
— Вы ее убили?
— Вы что, с ума сошли?
— Не думаю. Просто выполняю свои обязанности. А кстати, как насчет ваших?
— Что вы имеете в виду?
— Кем вы работаете?
— Я полагаю, вы уже заглянули в мои бумаги?
— Разумеется, но, между нами говоря, бумаги в наше время…
— Я представитель торговой фирмы.
— И что же вы продаете?
— Электронику.
— Так вы надеялись, что мадемуазель Краст сделает крупный заказ?
— По-вашему, это очень остроумно?
— Это не ответ на мой вопрос, месье Лиссей.
— Знаете, инспектор, я не торгую все двадцать четыре часа в сутки!
— Так вы знали мадемуазель Краст?
— Я не хожу в гости к незнакомым людям.
— Значит, вы с ней дружили?
— Нет, подружиться мы так и не успели.
— Вы пришли сюда впервые?
— Да.
— Когда вы приехали в Бордо?
— Вчера вечером.
— А вы были знакомы с мадемуазель Краст, скажем… вчера утром?
— Нет.
— Странно… Вы не находите?
— Тем, кто привык все осложнять, и самые простые вещи кажутся замысловатыми.
— Спасибо. Вы не особенно любите полицию, а?
— Да, пожалуй.
— А могу я узнать почему?
— По-моему, это достаточно красноречиво иллюстрирует наш разговор.
Лафрамбуаз приказал снова отвести меня в кресло, но я быстро восстанавливаю силы и уже не нуждался в посторонней помощи. Как только я удобно устроился, Лафрамбуаз сел рядом.
— Вы, надеюсь, понимаете, месье Лиссей, что я обязан прояснить ситуацию, которая кажется мне более чем туманной? Полчаса назад какой-то неизвестный предупреждает нас по телефону, что мадемуазель Краст убита. Мы мчимся на место преступления и обнаруживаем тут вас. По всей видимости, вас хотели поставить в очень скверное положение. Конечно, в крайнем случае вы могли разыграть обморок, но быстрый осмотр убедил меня в том, что вы действительно ранены и никак не могли нанести удар сами…
— И однако я слышал, как ваши люди обменивались замечаниями на мой счет…
Лафрамбуаз, слегка смутившись, велел подчиненным оставить нас вдвоем.
— Бедняги и в самом деле простоваты — из тех, для кого всегда открыто Царствие Небесное… — признался инспектор, как только за его помощниками закрылась дверь. — Вас нашли в таком месте, где, теоретически, вам было совершенно нечего делать, а в соседней комнате лежал труп… Вполне естественно, что ребята сразу ухватились за самое примитивное решение… Постарайтесь на них не обижаться и вернемся-ка лучше к нашей проблеме… Может, у вас есть какие-нибудь предположения, почему убили мадемуазель Краст?
— Да.
— Вот как?
— Кто-то знал, что она собирается передать мне крайне важные сведения.
— О том, как лучше пристроить вашу электронику?
— По правде говоря, я в жизни ничем не торговал.
Инспектор улыбнулся:
— Представьте себе, я об этом догадывался… Так о чем же вы хотели побеседовать с мадемуазель Краст?
— Я думаю, она что-то знала об убийстве Бертрана Тривье.
Лафрамбуаз, не скрывая любопытства, присвистнул сквозь зубы.
— А почему его смерть вас интересует?
— Бертран Тривье был моим лучшим другом.
— И, вероятно, еще и коллегой?
— Вы попали в самую точку, инспектор.
— И вы можете это доказать?
Я назвал номер телефона в Париже, и очень скоро полицейский получил желаемое подтверждение.
— Дело об убийстве Бертрана Тривье у нас забрали, месье Лиссей. По-видимому, сочли, что это нас не касается. Однако я на дух не выношу, когда в моем любимом городе убивают людей, и поэтому готов неофициально помогать вам по мере сил и возможностей, а заодно сохранить все в строжайшей тайне. Можете располагать мною.
— Большое спасибо, но я все-таки не забуду о теплом приеме ваших земляков! — проворчал я, легонько потирая затылок.
— А помните, что писал святой Лука? — елейным голосом спросил Лафрамбуаз. — «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его. Но Он, пройдя посреди них, удалился».[320]
Я так обалдел, что даже не нашелся с ответом, а инспектор спокойно добавил:
— Я отвезу вас в гостиницу.
Почему меня не убили, как Бертрана Тривье? Я принял очень горячую ванну и вызвал врача. Тот долго ощупывал мой череп и наконец заявил, что серьезных повреждений нет и дело обойдется мигренью. Когда он ушел, я лег, надеясь обрести благодатный покой. Не тут-то было. Мрачные мысли о смерти бедняжки Сюзанны и о моем собственном приключении никак не давали уснуть. Кроме того, меня терзали своего рода угрызения совести. Не вмешайся я, Сюзанна Краст осталась бы жива. Я отчетливо представлял, как она, спокойно улыбаясь, сидит у себя за столом, с одинаковой флегмой делая мне недвусмысленные намеки и ставя на место шефа. Да, Сюзанна бесспорно была яркой индивидуальностью! И если она позволила кому-то достаточно близко подойти с ее же собственной тяжелой статуэткой в руках — значит, хорошо знала этого человека и не имела оснований его опасаться. Первым, разумеется, на ум приходил Турнон с его безумной ревностью, но он не произвел на меня впечатления человека, способного на физическую расправу. Нет, Сюзанну явно убили, стараясь помешать нашему разговору. Меня же не стали добивать только потому, что мертвая мадемуазель Краст уже ничего не могла рассказать, а просто так, за здорово живешь, никто не станет убивать агента спецслужб — известно ведь, что такие вещи даром не проходят… И если Бертрана все-таки решились прикончить, то, стало быть, он сумел найти зацепку, которую я безуспешно ищу.
Лишь одно не вызывало у меня сомнений: раз убийца пошел на новое преступление — значит, боится, что я до него доберусь. Но тем самым он доказал мне, что убийцу Бертрана Тривье, а возможно, и Марка Гажана, следует искать здесь, в Бордо. Если только не сам инженер, охраняя свое убежище, вышел на тропу войны… За годы службы я такого навидался, что уже ничему не удивляюсь.
Но каким образом убийца узнал о моем свидании с Сюзанной? Не исключено, конечно, что секретарша сама сказала об этом кому-то из знакомых, но это маловероятно, поскольку мадемуазель Краст, считая предстоящий разговор тайным или, во всяком случае, конфиденциальным, вряд ли стала бы болтать лишнее. Так кто, кроме нас двоих, был в курсе? Директор, слышавший весь разговор, поскольку его секретарша так и не нашла нужным выключить интерфон, и, возможно, Сужаль, которому Эвелин могла сказать об этом после моего ухода. Я почти не сомневался, что, едва за мной захлопнулась дверь, милейший Фред потребовал от хозяйки дома подробного отчета о нашем разговоре. Следовательно, он мог выяснить, что вечером я собираюсь к Сюзанне.
Я наглотался аспирину и выпил полбутылки рома, который предпочитаю всем другим крепким напиткам. Эта микстура после мучительных интеллектуальных усилий и тщетных попыток хоть что-нибудь понять в кошмарной головоломке внезапно погрузила меня в полное отупение, и я забылся тяжелым сном. Проснулся я с ощущением, что на голову надет тяжеленный шлем. Вдобавок я был зол как собака, да еще из самых свирепых. И больше всего мне хотелось поскорее добраться до господ Турнона и Сужаля. Пусть оба дадут исчерпывающие объяснения, если не хотят получить хорошую трепку! Но для начала я позвонил Сальваньяку и попросил приехать как можно скорее. Очевидно почувствовав по моему тону, что это не пустой каприз, он не стал спорить.
Романтики, люди с болезненным воображением и верные поклонники кино воображают, будто агенты спецслужб сплошняком крутые ребята, которые появляются в городе, куда их призывает долг, с грозным видом, плотно стиснутыми челюстями и пистолетом на поясе, под мышкой или просто в кармане. Они думают, мы с утра до ночи либо защищаем собственную шкуру от вражеских пуль, либо пытаемся отправить в лучший мир коллег из противного лагеря. Действительность куда прозаичнее. Мы не больше других спешим расстаться с радостями бытия, а потому, зная о законе действия и противодействия, стараемся поменьше лить кровь — в конце концов, и противникам стоит поберечь друг друга. Но в истории с Гажаном у меня складывалось стойкое ощущение, что это не обычная стычка агентов спецслужб, а чистая уголовщина с участием иностранных наемников. Предательство, осложненное двумя убийствами… Честно говоря, не будь тут замешано изобретение Гажана, все это следовало бы передать полиции.
— Что, неприятности? — прямо с порога спросил Сальваньяк.
— Да еще такие, что чуть не стали мне поперек глотки!
— Стало быть, крупные?
— Для меня — да.
Он уселся у моего изголовья, и я начал рассказывать о последних событиях в том порядке, в каком они происходили, с тех пор как мы расстались накануне после обеда.
— Либо Турнон, либо Сужаль убили или приказали убить Сюзанну Краст, — мрачно подытожил я. — Отсюда до вывода, что Тривье прикончил тоже кто-то из двоих, — всего один шаг, и я с легкостью готов его сделать.
— А мадам Гажан?
— Что — мадам Гажан?
— Вы, кажется, запамятовали, дорогой мой… А ведь именно ей первой вы сказали о свидании с Сюзанной Краст.
— И вы можете представить ее в роли убийцы?
— Почему бы и нет? Кого, как не прежнюю коллегу, Сюзанна стала бы меньше всего опасаться?
Сальваньяк был, несомненно, прав, но подозревать такую очаровательную женщину в убийстве казалось мне настолько кощунственным, что все мое существо восставало против такого предположения.
— Впрочем, если вас шокирует мысль, что прекрасная Эвелин собственноручно стукнула по голове свою подружку Сюзанну, почему бы не допустить несколько иной вариант?.. Разве она не могла поручить это дело сообщнику?
— Сужалю?
— Или, например, самому Гажану?
Я недоверчиво уставился на собеседника.
— Вы это серьезно?
— Еще бы! Послушайте, дружище, я постарше вас, а вы сами прекрасно знаете, что в нашем ремесле каждый год имеет немалый вес, правда? Так вот, до того дня, как меня вывели из игры, я каждый день видел, что мы сплошь и рядом упускаем почти готовый результат только потому, что упорно отказываемся от наиболее простых решений. Возьмем дело, которым мы заняты сейчас. Инженер делает открытие, за которое многие правительства готовы отвалить изрядную сумму, в то время как на родине его отнюдь не собираются осыпать золотом… Наш инженер говорит о своем изобретении молодой и красивой жене. Оба они производят элементарный математический расчет… В конце концов, это ведь плод его исследований… Но Гажан — человек слабый, поэтому в первую очередь думает о бегстве и подыскивает надежное укрытие… Больше всего он хочет спрятаться, пока страсти не поутихнут. А потом, когда о нем почти позабудут, Гажан спокойно уедет вместе с верной супругой, все это время изображавшей соломенную вдову… Вот только в Бордо неожиданно приезжает ваш друг и портит им всю картину. В том-то и ошибка Бертрана Тривье! Вместо того чтобы попытаться успокоить парочку, войти в доверие и полюбовно сторговаться либо с обоими, либо с одним Гажаном, он, видно, начал угрожать и привел инженера в такую панику, что тот его убил или поручил это сообщнику. После этого появляетесь вы и покоряете сердце Сюзанны Краст. Возможно, она знает, где прячется муж ее приятельницы. Но и вы, в свою очередь, делаете неверный шаг (уж простите меня за прямоту, Лиссей!), рассказав о предстоящем свидании Эвелин Гажан. Сюзанну убивают. Вас, уж не знаю почему, решили пощадить, но, впрочем, надо думать, еще не все потеряно.
— Не очень-то вы любите Эвелин, как я погляжу!
— А вы?
Этот прямой выпад привел меня в полное замешательство.
— Понимаете… э-э-э… короче, она мне показалась… Я хочу сказать, мадам Гажан — очень милая женщина, разве нет? — пробормотал я.
— Только потому что красива?
По правде говоря, этот Сальваньяк начинал здорово действовать мне на нервы. И от него, конечно, не укрылось мое смятение.
— Окститесь, Лиссей! Неужели я должен напоминать вам, что в нашем деле красотки — самые опасные противники? Сколько хороших ребят полегло только из-за того, что имели слабость поддаться на улыбку!
Больше всего меня раздражало, что он был абсолютно прав, собака!
— Ладно, Сальваньяк, ваша взяла. Обещаю вам исправиться. Тем более что теперь мне надо отомстить уже за двух покойников.
— Ну так постарайтесь хотя бы сами не увеличить счет, а то вряд ли вы сумеете довести дело до конца.
После его ухода я решил еще немного вздремнуть. На душе кошки скребли, и я с раскаянием думал, что независимо от возраста мы иногда ведем себя как полные идиоты.
Около пяти часов вечера, стряхнув лихорадочный сон, я, как ни странно, вдруг почувствовал себя в отличной форме. Голова почти не болела. Очевидно, желание поскорее взять реванш придавало сил, иначе я бы вряд ли так легко оправился от вчерашнего угощения. Да поможет мне Небо в ближайшее время встретиться лицом к лицу с тем, кто убил или приказал убить Бертрана и Сюзанну Краст! Можно великолепно отдавать себе отчет, что покушения и раны — элементарный профессиональный риск, и тем не менее мы, как и все прочие граждане, ужасно не любим, когда кто-то поднимает руку на нас самих. Так что, улыбнись мне удача встретить того, кто съездил мне дубинкой по голове, я бы с удовольствием вернул ему должок.
Любой француз — раб обычаев и традиций, поэтому, когда я вызвал официанта и попросил принести обед, тот наотрез отказался, ссылаясь на неурочное время. «Ведь не воображает же месье, что плита работает с утра до вечера? — оправдывался он. — Да и вечерняя смена еще не пришла…» Короче, после долгих переговоров мне удалось убедить парня, что цивилизованный человек имеет полное право проголодаться когда угодно, а не только в часы, раз и навсегда установленные общественными условностями. В конце концов я уговорил его заглянуть на кухню и выяснить, не найдется ли там человека, способного сделать яичницу, отрезать ломтик-другой бекона, отыскать кусочек сыра и бутылку вина. И официант ушел с таким видом, какой, должно быть, был у Вильгельма Телля, когда Гесслер положил яблоко на голову его сына.
Выходя из гостиницы, я чувствовал себя готовым к любым сражениям. С неба сыпались хлопья снега, но такие легкие и прозрачные, что, казалось, даже не долетают до земли, а продолжают парить в густом вечернем сумраке. До Рождества оставалось всего несколько дней, и я поклялся себе непременно провести этот семейный праздник вместе с вдовой и сыном Бертрана. Может, внешне это и не заметно, но в душе я очень сентиментален. Пожалуй, мне не мешало бы последить за собой и не давать волю чувствам, а то они уже не раз играли со мной довольно скверные шутки. Достаточно вспомнить хотя бы крошку Уллу из Гамбурга… Но, как говаривал Киплинг, это уже совсем другая история…
Такси доставило меня в Бегль, чуть ли не к самому крыльцу завода Турнона. Я не слишком рассчитывал застать кого-нибудь на месте (в таких лавочках никто не работает круглые сутки), но швейцар, окинув меня подозрительным взглядом, неохотно признался, что господин директор все еще у себя в кабинете. По моей просьбе он позвонил Турнону и предупредил, что я здесь, внизу, и хотел бы его повидать. К нашему общему удивлению, Турнон тут же согласился на встречу.
В маленькой приемной, где обычно сидела Сюзанна Краст, у меня сжалось сердце. Я, словно наяву, увидел перед собой пухленькую, флегматичную молодую женщину и услышал ее спокойный голос. Плохо дело… очень плохо. Людям вроде меня не гоже предаваться такому нездоровому умилению. Я постучал в дверь Турнона, и он сразу предложил мне войти, но таким странным тоном, что я немного удивился и решил на всякий случай благоразумно принять кое-какие меры предосторожности. За дверью ощущалась смутная угроза, да и, честно говоря, настораживало уже одно то, что директор решился принять меня в столь поздний час, хотя после смерти своей секретарши не мог не питать ко мне самые недобрые чувства. Я колебался, не зная, как быть дальше, а из-за двери снова послышался голос Турнона:
— Ну же, месье Лиссей?
Почему он не вышел взглянуть, отчего я медлю? Теперь я больше не сомневался, что любовник Сюзанны надумал сделать ужасную глупость, а мне придется расхлебывать ее последствия. Я медленно повернул ручку и, резко толкнув дверь, мгновенно прижался к стене. Это было очень мудрым решением, ибо, как только дверь открылась, загремели выстрелы. Останься я на пороге — Турнон превратил бы меня в решето.
— А ну, покажитесь, несчастный трус! — стреляя, ревел директор. — Покажитесь, подлый убийца!
Странная у людей мания обзывать вас трусом только за то, что вы не желаете служить им мишенью… С лестницы послышался топот — очевидно, швейцар вообразил, что я убиваю его хозяина.
— Вы что, непременно хотите прикончить собственного швейцара, Турнон? — спокойно осведомился я, подсчитав выстрелы и придя к выводу, что он уже израсходовал весь магазин.
Вопрос, очевидно, вернул его на землю, нервы не выдержали, и я услышал сдавленный стон. Осторожно заглянув в кабинет (с этими любителями никогда толком не знаешь, чего ждать!), я увидел что Турнон сидит за столом, закрыв лицо руками. Похоже, он плакал. И в ту же секунду у меня за спиной раздался повелительный окрик:
— Руки вверх, живо! Или я стреляю!
Я выполнил приказ и, медленно обернувшись, обнаружил, что швейцар вооружился огромным старинным револьвером — таких монстров не делают уже добрых лет шестьдесят.
— Вы ошиблись, старина, это не я стрелял, — проговорил я с необычайной кротостью.
— Не вы? А кто же тогда?
Я кивнул в сторону все еще не опомнившегося Турнона.
— Ваш шеф.
Судя по выражению лица, утверждение показалось ему чудовищным.
— Он?.. Да быть такого не может!
— Отсюда вам должен быть виден пистолет у него на столе. Если вы возьмете его в руки, то почувствуете, что он еще не остыл.
Скажи я, что его выбрали мэром Бордо, честный малый и то не удивился бы сильнее.
— Но… Почему? Почему?
— Ну, это уж вы у него самого спросите!
Швейцар приказал мне идти в кабинет, а сам, не выпуская из рук револьвера, двинулся следом. Я молил бога, чтобы в пистолете Турнона не осталось больше ни одной пули.
— Господин директор! — окликнул хозяина швейцар, когда мы остановились у его стола.
Тот опустил руки, и мы увидели искаженное отчаянием лицо.
— В чем дело, Ламблуа?
— Господин директор… эти выстрелы…
— Ах да!.. Произошла ошибка… Я потерял голову… Сам не знаю, что на меня нашло. Можете возвращаться к себе, Ламблуа.
Швейцар указал на меня.
— А как насчет него? Прихватить с собой и выставить за дверь?
— Нет, пускай остается.
Милейший Ламблуа все еще не мог побороть сомнения.
— Так вы и вправду не хотите, чтобы я остался тут, господин директор?
— Нет. Спокойной ночи, Ламблуа.
— Спокойной ночи, господин директор.
Избавившись от швейцара и его артиллерии, я облегченно перевел дух и повернулся к Турнону.
— И часто у вас бывают такие приступы?
— За что вы убили Сюзанну?
— А что, по-вашему, я смахиваю на убийцу?
Он пожал плечами:
— Только что я лишь по чистой случайности не отправил вас на тот свет, и однако не думаю, чтобы я походил на преступника.
— Но зачем же мне было убивать мадемуазель Краст?
— Именно об этом я вас и спрашиваю!
— Когда я пришел к вашей секретарше, ее уже не было в живых и на меня самого напал прятавшийся в квартире убийца. Если хотите, инспектор Лафрамбуаз из сыскной полиции охотно подтвердит правдивость моих слов.
Турнон посмотрел на меня.
— Прошу вас, простите мне эту минуту безумия! — с бесконечной усталостью в голосе сказал он.
— Для ученого вы маловато размышляете, прежде чем действовать, а?
— В несчастье голова отказывается работать…
— Жаль… Для кого-нибудь еще это могло кончиться очень плохо. Вы любили Сюзанну, верно?
Турнон молча кивнул.
— И она была вашей любовницей?
— Да, уже пять лет… Я один как перст. Теперь, после ее смерти, у меня совсем никого не осталось… Не понимаю, почему ее убили…
— Потому что Сюзанна собиралась сделать то, о чем я тщетно просил вас.
— Не понимаю.
— Потолковать со мной о Марке Гажане и о многом другом. Например, о том, что когда-то вы питали более чем дружеские чувства к будущей супруге Гажана. Впрочем, тогда она еще не вышла замуж…
Я говорил наобум — просто хотелось взглянуть на его реакцию. Турнон не стал отнекиваться.
— Временное увлечение… Эвелин всегда была честолюбива. Она первой из нас по достоинству оценила Гажана и поверила, что он добьется успеха.
— Значит, она в определенном смысле карьеристка?
— Вне всяких сомнений.
Меня словно полоснуло по сердцу. От одной мысли, что этот тип мог обнимать Эвелин, просто тошнило.
— Насколько я понимаю, месье Турнон, вы настоящий донжуан?
— Повторяю вам, история с Эвелин закончилась очень быстро. Мы совершенно не подходили друг другу и прельстило ее лишь мое директорское положение. Зато Сюзанна…
— …которую вы отчаянно ревновали, судя по уморительной сцене, которую вы вчера устроили нам с мадемуазель Краст?
— Я не хотел потерять Сюзанну…
Какой смысл возражать? Влюбленные всегда видят предмет своей страсти совсем иначе, нежели другие смертные. И тем не менее надо обладать очень богатым воображением, чтобы представить стареющую толстуху Сюзанну в роли вамп!
— Как видите, не я отнял ее у вас, месье Турнон.
Он всхлипнул и сжал кулаки.
— Ох, если б я только знал, кто это…
— Могу напомнить, что я приехал сюда как раз для того, чтобы разоблачить этого человека, поскольку он же убил моего друга Бертрана Тривье. У нас с вами общая цель, месье Турнон, — отомстить за наших мертвых.
Директор завода встрепенулся, охваченный каким-то лихорадочным возбуждением.
— Вы правы! Нам надо действовать сообща! Но, к несчастью, я вряд ли смогу вам существенно помочь…
— Почему вчера вы отказались отвечать на мои вопросы?
Турнон опустил голову:
— Я боялся…
— Кого?
— Сам не знаю… Исчезновение Гажана, и в особенности гибель вашего коллеги меня глубоко потрясли… Я заподозрил, что на моем заводе творится нечто ужасное, совершенно мне непонятное… Я не боец по натуре, месье Лиссей…
— Правда? А Гажан?
— Тоже… во всяком случае, мне всегда так казалось…
Турнон немного помолчал.
— И то, что кто-то счел нужным убить мою бедную Сюзанну, доказывает, как я был прав, — угроза вполне реальна…
— А вы не знаете, что хотела мне рассказать мадемуазель Краст? Может быть, у вас есть какие-нибудь предположения?
— Ни малейших.
— Сюзанна дружила с мадам Гажан?
— Не думаю. Во всяком случае, после свадьбы Эвелин ни разу сюда не приходила.
— А Гажан знал о вашем романе с его будущей женой?
— Понятия не имею. Сами понимаете, я никак не мог задавать ему подобные вопросы.
— И все-таки даже самый закоренелый преступник, если, конечно, он не маньяк, никого не убивает просто так, месье Турнон. По-моему, Тривье и Сюзанну убили либо ради собственной безопасности, либо оберегая кого-то…
— Кого?
— Если бы я мог вам на это ответить, то считал бы свою миссию почти законченной. Но пока, месье Турнон, могу лишь еще раз повторить тот же вопрос, на который вчера так и не получил ответа: хорошо ли вы знали Марка Гажана?
— Нет. Теперь, когда вам известно о моих прежних отношениях с Эвелин, я думаю, вы без труда поймете, что я не пытался сблизиться с ее мужем. Мы никогда не общались больше, чем необходимо начальнику и подчиненному… И наши разговоры касались исключительно научных проблем… Если можно так выразиться, носили безличностный характер.
— Вы, конечно, знали о его исследованиях?
— Разумеется, но весьма поверхностно… Проблема миниатюризации меня никогда особенно не увлекала.
— А вы верили, что его поиски увенчаются успехом?
— Нет. Гажан казался таким сереньким и заурядным… В глубине души я не сомневался, что, выйдя за него замуж, Эвелин здорово промахнулась.
— Но если даже вы, по вашим собственным словам, имели самое поверхностное представление об исследованиях Гажана, то каким же образом Эвелин могла узнать о них больше и оценить перспективы?
— О, она необычайно умная женщина! Эвелин всегда живо интересовалась тем, что здесь происходит. А мои инженеры, разумеется, весьма охотно разговаривали с такой красивой, элегантной и обаятельной женщиной. Кроме того, Эвелин часто куда-нибудь приглашали после работы, а она великолепно умела слушать.
— Если верить вашему описанию Гажана, для того чтобы поверить в его блестящее будущее, потребовалась немалая проницательность…
— Эвелин и в самом деле уникальная женщина.
— Наверное, ваши служащие страшно завидовали Гажану, узнав, что она выходит за него замуж?
— Не знаю. Я стараюсь как можно меньше вмешиваться в такие… дела. От них — одни неприятности…
Есть с чего прийти в отчаяние… Этот, при всех своих познаниях, бесцветный человечек казался мне удручающей посредственностью. Однако это не помешало и Эвелин, и Сюзанне… Я начинал его просто ненавидеть (само собой, в основном из-за мадам Гажан) и, хотя прекрасно отдавал себе отчет, насколько это несправедливо, ничего не мог поделать.
— Короче, насколько я понимаю, мне нечего рассчитывать на вашу помощь? — спросил я напоследок гораздо холоднее, чем следовало бы.
Турнон удивленно посмотрел на меня.
— Но… разве я не сказал вам, что готов сделать все от меня зависящее?
Я пожал плечами и, даже не удостоив его ответом, вышел из кабинета. Внизу навстречу мне выскочил швейцар.
— Как он себя чувствует, месье?
— Малость пришиблен, но, не сомневаюсь, быстро излечится.
Старик тихонько покачал головой:
— Вряд ли, месье. Господин директор очень дорожил мадемуазель Краст.
Сам о том не подозревая, он дал мне хороший урок.
Оказавшись на улице, я с раздражением признал, что Турнона никак не заподозришь в убийстве Сюзанны. Попытка разделаться со мной гораздо красноречивее, чем любые уверения и клятвы, свидетельствовала и о его горе, и о… полной невиновности. Но что же тогда получается? Не нужно быть великим детективом, чтобы сделать один-единственный возможный вывод: Эвелин могла рассказать о моих планах лишь Турнону или Сужалю. Ведь не стала бы она предупреждать первого встречного-поперечного, даже не подозревающего о моем существовании, что я собираюсь нанести визит мадемуазель Краст?
Тайный агент должен всегда держаться начеку — это первое, чему учат в контрразведке. Сколько людей погибло только потому, что позволили себе на секунду расслабиться! Мы не имеем права спокойно размышлять, отключившись от всего происходящего вокруг, иначе как в надежном, хорошо защищенном убежище. Но Эвелин Гажан настолько занимала мои мысли, что я чуть не закончил свою карьеру на этой пустынной улочке в Бегле, неподалеку от Малого порта, так и не успев свернуть на набережную Президента Вильсона, где осталась моя машина. Я спокойно шел посередине улицы, и вдруг, на мгновение ослепнув от света фар, замер в полном оцепенении. Так летом на шоссе обмирают от страха несчастные кролики, и слишком торопливые автомобилисты давят их сотнями. Одновременно послышался рокот мощного мотора. Прямо на меня мчалась машина. Я совсем растерялся от неожиданности и, вместо того чтобы отскочить, выхватил револьвер. Когда башка не работает, тебя и самому бестолковому новичку-убийце пара пустяков отправить в мир иной. Однако за долю секунды до рокового мгновения мощный толчок отшвырнул меня на противоположную сторону улицы. Как ни странно, револьвера я так и не выпустил, зато от встряски немного очухался и сразу сообразил, что машина меня не коснулась. Увы, она уже успела развернуться и опять приближалась с угрожающей скоростью. Мой спаситель вырвал у меня из рук револьвер, с поразительным хладнокровием выскочил на середину улицы и тщательно, словно на учении, прицелившись, четырежды выстрелил в машину убийцы. Четыре почти одновременных выстрела погасили фары, и водитель, растерявшись в неожиданно наступившей темноте, невольно притормозил. Мой неизвестный помощник все так же невозмутимо разрядил в автомобиль последние две пули, и по тому, как тот поехал дальше, я понял, что шофер серьезно ранен. У самой стены завода машина замерла. Стрелок подбежал, распахнул левую дверцу, и на асфальт вывалилось тело. Незнакомец сел на корточки, быстро обыскал карманы покойника и тут же встал.
— Пусто… как и следовало ожидать. Обычный наемник на ворованной машине. И все-таки нам лучше поскорее отсюда убраться.
Только теперь я наконец узнал инспектора Лафрамбуаза.
— Право слово, я, кажется, обязан вам жизнью! Быстро же вы подкрепили делом наш уговор!
— Помните, месье Лиссей, «тот, кто предан в малом, и в великом не подведет»…
Он взял меня под руку.
— Вы едва не погибли, а я только что убил человека. Есть с чего разволноваться. Пойдемте-ка опрокинем по стаканчику.
Мы сели в машины и, вернувшись в центр Бордо, без труда нашли почти пустое кафе. Я был не слишком доволен собой и честно сказал об этом Лафрамбуазу — полицейский невольно вызывал у меня все большее почтение.
— Вы замечательный стрелок, инспектор.
— Не моя заслуга — просто мне нравится стрелять.
— Неужто вы принадлежите к числу тех, кто идет служить в полицию только для того, чтобы на законном основании удовлетворять собственную страсть к насилию? А я-то думал, такие полицейские встречаются только в романах и в кино, — с улыбкой заметил я.
Лафрамбуаз вскинул на меня непроницаемые бледно-голубые глаза.
— Боюсь, так оно и есть, — просто сказал он.
— Удивительно, правда?
— Да… и даже больше, чем вы думаете… Я ведь собирался стать пастором и уже начал учиться. К счастью, мои наставники быстро сообразили, что я стану истинным бичом для прихожан, ибо куда более склонен служить суровому и непреклонному Богу Авраама, никогда не шутившему с дисциплиной, нежели евангельскому Агнцу. И мне посоветовали подыскать иное поприще. Думаю, они поступили правильно. Я бы пинками загонял паству в храм, а это далеко не лучший метод…
— Инспектор, ваше имя…
— Мой отец жил в Канаде и любой другой литературе предпочитал Библию. Это объяснит вам и почему мне дали имя пророка, и откуда взялось мое мнимое призвание служить церкви. Но в двадцать один год я решил навсегда перебраться во Францию.
Честное слово, парень нравился мне все больше. Его хладнокровие, поразительная меткость, мужество и своеобразный юмор не могли не вызвать восхищения, но тем мучительнее я раскаивался в собственной глупости. И как я мог угодить в такую детскую ловушку? А ведь не вмешайся вовремя Лафрамбуаз, она бы наверняка сработала!
— Но каким образом вы так своевременно оказались на месте и сумели вызволить меня из дьявольски скверного положения?
— Да просто с тех пор как мы познакомились, я либо слежу за вами сам, либо посылаю кого-нибудь из своих людей, — не моргнув ответил полицейский.
— Вы все еще подозреваете меня в убийстве Сюзанны Краст?
— Нет, но очень рассчитываю, что вы выведете меня на след убийцы — у вас куда большие возможности и полномочия, и вы можете использовать не дозволенные для меня методы.
— Извините, конечно, но… откуда у вас такой интерес к самой, в сущности, банальной истории?
— Мы с Сюзанной вместе росли и очень дружили, да и потом сохранили самые добрые отношения. Поэтому я своими руками прикончу ее убийцу, месье Лиссей.
— Если я не успею вас опередить. Не забывайте, что этот тип застрелил и моего друга Бертрана Тривье.
Лафрамбуаз покачал головой:
— Прошу прощения, месье Лиссей, но вы же сами признали, что обязаны мне жизнью, верно?
— Согласен! И что с того?
— Ну так вот, в обмен на вашу я хочу получить жизнь убийцы Сюзанны!
— Боюсь, в такой ситуации мне было бы трудно отказать вам, инспектор.
Мы обменялись крепким рукопожатием, еще не зная, что положили таким образом начало долгой дружбе. Но чем большей симпатией я проникался к исключительным достоинствам Лафрамбуаза, тем с большим стыдом представлял, что он может подумать обо мне после недавнего конфуза.
— Сам не знаю, что за муха меня укусила… Впервые в жизни я вел себя так по-дурацки… Как-никак следовало догадаться, что, раз убийца Сюзанны знал о нашей с ней предполагаемой встрече, наверняка он не спускает с меня глаз… А я попался, как молокосос… Просто невероятно!
— Зато вполне объяснимо, если ваши помыслы заняты чем-то другим.
К своему величайшему смущению, я покраснел. Иеремия никак не мог знать о моей слабости к Эвелин Гажан, и все-таки сразу нащупал болевую точку. Давно пора взять себя в руки! Я поглядел на часы.
— Еще есть время нанести пару визитов. Вы опять поедете следом?
— Нет. Во-первых, вы дали слово оставить убийцу Сюзанны мне, а во-вторых, я знаю, где вас искать. До свидания, месье Лиссей, и позвольте мне дать вам добрый совет: думайте только о том или о тех, кто собирается отправить вас следом за вашим другом и моей подругой. До скорого.
Провожая взглядом Иеремию Лафрамбуаза, я невольно подумал, что такого человека лучше иметь союзником, чем врагом. Под его внешней отрешенностью угадывались несгибаемая воля и полное отсутствие жалости к кому и чему бы то ни было. Если бы Лафрамбуаз не служил закону и, возможно, не сохранил остатки былой религиозности, из него получился бы идеальный тип хладнокровного и методичного убийцы, «человека без нервов» — достаточно заглянуть в его ледяные, не выражающие никаких человеческих чувств глаза. Перебрав в памяти последние часы, я пришел к выводу, что инспектор не совершил ни одной ошибки. Вся мизансцена, устроенная убийцей Сюзанны, пропала даром. Я подумал о безжалостной, хоть и молчаливой ненависти, которой с той минуты проникся к преступнику Иеремия. Пожалуй, можно поспорить, что тот заранее обречен. И все-таки разоблачить его я обязан сам, хотя бы для того, чтобы оправдаться в глазах инспектора, а заодно и в своих собственных.
Мне бы радоваться поддержке такого человека, как Лафрамбуаз, но кое-что ужасно мешало видеть будущее в розовом свете: Иеремия, как и Сальваньяк, явно предостерегал меня против Эвелин, а уж этого я никак не мог стерпеть. И я упрямо повторял себе, что оба они ошибаются. Лафрамбуаз — потому что, видимо, презирает женщин и любовь, а Сальваньяк верит и настаивает на виновности мадам Гажан, поскольку это самое простое решение. При этом я отлично знал, что рассуждаю несправедливо, недаром в Париже Сальваньяка считали прекрасным агентом с безукоризненным прошлым. Что до Лафрамбуаза, то со свойственным всем влюбленным отсутствием логики я видел в нем первоклассного полицейского и одновременно обвинял в самой неразумной необъективности. Я встал из-за столика, очень недовольный собой. Прелестная вдова и впрямь не в меру занимала все мои помыслы. Впервые за время службы я дал явную слабину. Стыдновато, конечно, но мне никак не удавалось вызвать в душе настоящее раскаяние. Так или иначе, я уже довольно давно подумывал жениться и подыскать другую работу. Так почему бы не попробовать начать новую жизнь с Эвелин Гажан, чья хрупкая красота всколыхнула все самое лучшее, что во мне есть? И, подобно древнему рыцарю без страха и упрека, я готовился защищать честь Прекрасной Дамы. И потом, доказав Сальваньяку и Лафрамбуазу ее невиновность, я наверняка вплотную подберусь к преступнику.
Эвелин не сразу открыла дверь. Но когда она в халате и с заспанным личиком наконец появилась на пороге, сердце у меня совсем растаяло. Как бы твердо я ни решил сохранять полное беспристрастие, справиться с волной нежности, буквально захлестывавшей меня при виде молодой женщины, не удавалось.
— Вы? В такой час?
— Можно мне войти?
— А это… очень нужно?
— Необходимо!
— Что ж, в таком случае…
Она пропустила меня в дом и заперла дверь.
— Я думаю, вы не вполне отдаете себе отчет, до какой степени ваше ночное появление у еще не очень старой женщины может… удивить моих соседей? — заметила Эвелин, проводив меня в гостиную.
— Но, наверное, не больше, чем исчезновение вашего супруга?
Она закусила губу.
— Это вовсе не одно и то же!
— А по-моему, да! — так же сухо бросил я.
Мадам Гажан оскорбленно выпрямилась и напустила на себя самый официальный вид.
— Что ж, я вас слушаю.
— Сюзанна Краст умерла.
В глазах Эвелин мелькнуло крайнее изумление.
— Сюзанна… умерла? — недоверчиво переспросила она. — Не может быть! Но ей еще и сорока нет!
— Возраст тут ни при чем. Что молодой, что старый, если ему разбить голову, умирают совершенно одинаково.
Мадам Гажан быстро поднесла руку к губам, словно сдерживая крик. Нет, конечно же, она не могла с таким совершенством ломать комедию!
— Вы хотите сказать, она… ее…
— Да, убили, так же, как и моего друга Тривье.
— Но почему? Почему?
— Потому что убийца опасался, как бы она не рассказала мне нечто такое, что могло бы навести на след вашего мужа.
Эвелин сложила руки на коленях и, уставившись на рисунок ковра, в полной растерянности повторяла:
— Неправда… неправда… неправда…
Я ухватил ее за плечи и хорошенько встряхнул.
— Послушайте меня, мадам Гажан! Никто не знал, что я собираюсь к Сюзанне Краст, кроме вас и Турнона… Но Турнон искренне любил Сюзанну и только что чуть не прикончил меня, решив, будто в убийстве его секретарши повинен я… Но и вы тоже не убивали Сюзанну, не так ли, мадам Гажан?
Она изумленно воззрилась на меня.
— Я?.. Бедняжку Сюзанну?.. Это… это просто чудовищно!
Я взял ее за руки и осторожно притянул поближе.
— Но если это сделали не вы и не Турнон — значит, кто-то из тех, кому вы или он рассказали, что я поеду к мадемуазель Краст. Иного не дано. И вряд ли о намечающемся свидании стал бы распространяться Турнон — он слишком страдал от ревности, хоть это и было ужасно глупо…
Я немного помолчал, давая ей время обдумать мои слова, а потом отчеканил, нарочно выделяя каждый слог:
— Мадам Гажан, кому вы говорили, что вечером я увижусь с Сюзанной Краст у нее дома?
— Да никому! С тех пор как мы с вами расстались, я ни на минуту не выходила из дому!
— Да, но после меня здесь остался месье Сужаль.
— Но ведь не думаете же вы, что Фред…
— Однако вы упоминали при нем о моей предполагаемой встрече с мадемуазель Краст?
Эвелин замялась.
— Возможно… не помню… но, вероятно, да… я привыкла рассказывать Фреду обо всем… После того как Марк… уехал, он моя единственная поддержка и опора…
— И он вас любит!
Она посмотрела мне в глаза.
— Думаю, да. Но вам-то какое дело?
— Никакого… просто мне это не нравится.
— Вот как? И по каким же таким причинам?
— По личным. А вы?
— Что — я?
— Вы его любите?
— А вы не думаете, что вмешиваетесь в чужие дела, которые вас нисколько не касаются?
— Меня все касается, мадам, когда нужно во что бы то ни стало докопаться до истины.
— Но какое отношение мои чувства к Фреду…
— Так вы отказываетесь мне ответить?
Эвелин явно начинала сердиться.
— Ладно! В конце концов, мне все равно! Нет, я не люблю Фреда в том смысле, в каком вы это понимаете… Для меня он друг, брат…
Меня вдруг охватило такое счастье, что, не удержавшись, я воскликнул:
— Спасибо!
И, не понимая толком, что делаю, я расцеловал Эвелин в обе щеки. Этот поцелуй вернул меня к действительности, и, сообразив, что натворил, я смущенно пробормотал:
— Извините!
Мадам Гажан ошарашенно поглядела на меня.
— Ну, знаете!
— Прошу прощения, но я так обрадовался, узнав, что вы не любите Сужаля…
— Хотела бы я знать почему?
— Послушайте, мадам Гажан, я уже попросил у вас прощения за свой необдуманный поступок… И давайте больше не будем о нем говорить… Хорошо?
— Пусть так… Хотите чего-нибудь выпить?
— Нет, спасибо.
— Тогда, может, вы хотя бы сядете?
— Охотно.
Мы оба опустились в кресла.
— Давайте еще раз вспомним все факты, мадам Гажан… Итак, ваш муж исчезает, прихватив досье очень дорогостоящего изобретения, которое интересует Министерство национальной безопасности. Моего коллегу Тривье, направленного сюда расследовать дело на месте, убивают. Его сменяю я, и, как только Сюзанна Краст предлагает сообщить мне интересные сведения, она в свою очередь гибнет. Только что в Бегле меня тоже пытались убить, и, не подоспей вовремя инспектор Лафрамбуаз, я бы уже пополнил список жертв. Вывод напрашивается сам собой: либо ваш муж по-прежнему прячется в Бордо и убивает каждого, кто пытается напасть на его след, либо его кто-то надежно охраняет.
— Боюсь, у вас чересчур разыгралось воображение. Марк меня искренне любит и не мог бросить. Кроме того, он прямая противоположность убийце. Наконец, чтобы так последовательно устранять всех, кто его ищет, надо все время поддерживать связь с преданным другом, способным ради него даже на преступление…
— Инспектор Лафрамбуаз, решивший во что бы то ни стало мне помогать, полагает, что, возможно, такой человек у Гажана есть, и это вы.
— Вы тоже так думаете?
— Нет.
— Почему?
— Не знаю…
Она тихонько накрыла мою руку ладонью.
— По той же причине, которая заставила вас меня поцеловать, когда я сказала, что не люблю Фреда Сужаля?
— Представляю, как я сейчас смешон…
— Нет, напротив… Я думала, вы наглухо закрыты для любых человеческих чувств, и, уверяю вас, мне очень приятно знать, что вы нормальный мужчина… Тони… Я ненавижу несправедливость, кровь, насилие и жестокость, и, если бы вдруг поверила, что Марк так невероятно изменился… и стал убийцей, он бы навсегда для меня умер!
Настал мой черед взять ее за руку, а Эвелин меж тем продолжала:
— И все же куда вероятнее, что моего мужа похитили и держат где-то под замком… но уж никак не Фред! Он, бедняга, слишком импульсивен, слишком много кричит… Вдобавок у Фреда есть подружка, к которой, невзирая на все уверения в обратном, он очень привязан.
— И кто же это?
— Певичка из его кабаре, Линда Дил.
— И все-таки Сужаль ухаживает за вами?
Эвелин пожала плечами.
— Фред неисправимый юбочник.
По дороге в «Кольцо Сатурна», кабаре Фреда Сужаля, мне хотелось петь от радости. Я не привык лгать себе самому и честно признаю, что радовался согласию Эвелин принять мою дружбу. Само собой, в глубине души я надеялся на нечто большее, но — терпение. Лиха беда начало. Кроме того, я убедился, что Эвелин и вправду не любит Сужаля, а следовательно, я мог действовать против него, не оскорбляя ее чувств. Обычно я не позволяю себе руководствоваться личными симпатиями и антипатиями, но среди знакомых Гажана Фред Сужаль и вправду выглядел наиболее подозрительной личностью, и я полагал, что он спрятал инженера, либо надеясь со временем занять его место подле Эвелин, либо
рассчитывая воспользоваться знаменитым досье. И в ту же секунду супруг моей возлюбленной, которого я всего несколько часов назад считал безжалостным убийцей и предателем, превратился в жертву.
В раздевалке «Кольца Сатурна», как, впрочем, и всех кабаре мира, гостей встречала пухленькая блондинка с невероятно глубоким декольте.
— Месье Сужаль сейчас у себя? — спросил я, отдавая ей пальто.
— Как всегда, месье.
Положив номерок в карман, я осторожно вошел в зал — на крошечной сцене как раз пела женщина, а поскольку считается, что артисту для пущего вдохновения необходим полумрак, можно было запросто на кого-нибудь наткнуться или задеть столик. Во избежание неприятностей я направился прямо к стойке и шепотом заказал виски. Физиономия бармена выражала полное равнодушие ко всем и ко всему на свете. Но вообще-то за долгие годы ночных скитаний я давно подметил, что точно такой же вид у большинства его коллег.
— Я хотел бы поговорить с месье Сужалем.
— И как о вас доложить?
— Тони Лиссей.
Бармен слегка поклонился и пошел в уголок бара звонить хозяину. А я, больше не обращая на него внимания, стал слушать певицу. Очень красивая девочка — такая запросто может позволить себе петь как угодно и что угодно. Прелестное дитя меж тем исполняло очередной «шедевр» реалистического жанра и горько жаловалось на матросов, которые вечно смываются куда-то, оставляя возлюбленную то на песке, то на мостовой. Я так увлекся, что даже не заметил появления Сужаля.
— Решили-таки меня навестить?
— Нет, мне надо поговорить с вами.
— О чем?
— О смерти Сюзанны Краст.
— Прошу прощения… а кто это?
— Знаете, Сужаль, я, конечно, терпелив по натуре…
— Очень рад за вас!
— …но все же злоупотреблять этим не стоит, а то я могу рассердиться.
— Замолчите, вы меня пугаете!
Парень откровенно нарывался на драку.
— Вам и без того страшно, Сужаль, иначе вы не стали бы поднимать шум, вместо того чтобы спокойно ответить на мои вопросы.
— Вы так думаете, да? Ну, тогда пошли!
Он повел меня за маленький столик, стоявший поодаль от прочих. Как только мы сели, подбежал официант и услужливо осведомился, что мы будем пить.
— Ничего! — сердито буркнул Сужаль.
Я насмешливо поклонился.
— Спасибо, вы очень любезны!
— Вы мне в высшей степени неприятны, Лиссей. То, как вы вели себя у мадам Гажан сегодня вечером, просто невыносимо. Не говоря уж о том, что я вообще недолюбливаю легавых, как бы они ни назывались.
— О, я прекрасно вас понимаю! У каждого из нас на кого-нибудь аллергия… Люди вашего типа терпеть не могут полицейских, а я, например, скорее бандитов.
— Это вы на меня намекаете?
— Помилуйте, вы не больше бандит, чем я полицейский, не так ли?
Интересно, сколько еще мы выдержим, пока дело не дойдет до рукопашной? Подумав, я решил, что очень недолго. В это время послышались аплодисменты — певица закончила номер. Когда она подошла к нашему столику, я вежливо встал:
— Добрый вечер, мисс Дил.
Девушка широко открыла глаза (между прочим, очень красивые).
— Вы знаете, как меня зовут?
— Да, от мадам Гажан.
Но хозяин кабаре грубо оборвал разговор.
— Убирайся отсюда! — зарычал он на певицу.
На глазах у Линды выступили слезы, и она, немного поколебавшись, убежала.
— Да вы еще и джентльмен, как я погляжу! — кротко заметил я, снова опускаясь на стул.
— Вы еще раз виделись с Эвелин?
— А вам-то какое дело?
— И она рассказала вам о Линде?
— Да, но, похоже, ошиблась. Мадам Гажан уверяла, что вы любите мисс Дил… а у меня сложилось совершенно иное впечатление… разве что в Бордо влюбленные ведут себя не так, как в других уголках нашей страны.
— Мне чертовски хочется набить вам морду, Лиссей!
— Поверьте, дорогой мой, я испытываю к вам точно такие же теплые чувства!
Честно говоря, наши вызывающие реплики, скрытые и откровенные угрозы выглядели немного комично. Ни дать ни взять дурно воспитанные дети! Сужаль первым решил положить конец нелепой сцене.
— Довольно! Чем скорее вы отсюда уйдете, тем раньше я снова обрету вкус к жизни. Что вам от меня нужно?
— Хочу рассказать вам одну историю.
— Я уже вышел из такого возраста!
— Это не сказка.
Он вздохнул, решив, очевидно, что все равно от меня не отделается.
— Ладно, валяйте… но только так, чтобы я не уснул со скуки!
— Ну, это вряд ли… И к тому же, если перед уходом из вашей забегаловки мне вздумается уложить вас отдохнуть, уж наверное я найду более эффективный способ.
И я добросовестно повторил ему все, что меньше часу назад говорил Эвелин, а потом поставил перед тем же незамысловатым выбором: либо он, либо мадам Гажан. Должен честно признаться, что такая альтернатива ничуть не испугала хозяина кабаре. Более того, он весело расхохотался и тем довел меня до полного исступления.
— Кроме шуток, Лиссей? Неужели в вашей лавочке держат таких ослов? Скажите честно, вы можете представить, чтобы Эвелин ударила по голове эту несчастную женщину, к тому же бывшую коллегу? Или подыскала наемного убийцу и за умеренную мзду велела вас задавить? Может, вы плохо себя чувствуете?
— Да нет, спасибо за заботу, прекрасно. Но позвольте заметить, что, по-моему, как раз вы-то могли бы гораздо лучше справиться с этой ролью, чем мадам Гажан.
— А вам ужасно хотелось бы схватить меня за шиворот, да?
— Вы и представить себе не можете, как!
— Чертовски жаль огорчать вас, месье Лиссей, но не смогу доставить вам такое удовольствие. К несчастью для вас, мы с Марком Гажаном всегда поддерживали самые дружеские отношения. Я люблю Эвелин, ну и что? При всей своей любви я не стал бы убивать Марка в надежде унаследовать его жену, даже если допустить бредовую мысль, что она согласилась бы на такое преступление. По-моему, у вас довольно причудливый склад ума. Или это чисто профессиональная болезнь?
— Ну нет, в этом плане нам далеко до тех, кого мы обычно преследуем.
— Повторяю вам, я люблю Эвелин и, если Марк так и не вернется, несомненно предложу ей руку и сердце…
— А как же Линда Дил?
— Оставьте Линду в покое и, прошу вас, не вмешивайтесь в мою личную жизнь! Тем не менее я не настолько ослеплен страстью, чтобы пойти на убийство ради более чем проблематичной возможности стать супругом Эвелин. А уж насчет того, чтобы прикончить Марка из-за каких-то бумажек, в которых я ровно ничего не смыслю, так это вообще полный идиотизм. Возможно, в какой-то мере я и авантюрист, месье Лиссей, но в чисто буржуазном понимании этого слова. Уверяю вас, у меня нет ни малейшей тяги к измене и шпионажу. В этом отношении мне более чем достаточно романов.
— Но мой коллега Тривье погиб…
— И я о нем очень сожалею, он показался мне славным малым.
— А где вы познакомились?
— Да здесь же! И, если хотите знать, по-моему, ваш приятель всерьез положил глаз на Линду.
Я постарался не показать, как меня заинтересовало это известие. Если Тривье хотелось поближе познакомиться с мисс Дил, то уж никак не по тем причинам, которые предполагал Сужаль.
— Но погибла еще и мадемуазель Краст…
— Ну и что?
— Значит, обоих кто-то убил.
— Бесспорно, и, если это единственный плод ваших напряженных размышлений — значит, вам напрасно платят жалованье.
— Возможно, вы удивитесь, месье Сужаль, но я твердо намерен заслужить эти деньги, отыскав Марка Гажана и поймав убийцу.
— Браво! Надеюсь, вам дадут медаль?
Неожиданно я увидел, как за спиной сидевшего задом к двери Сужаля появился Сальваньяк, в пальто и со шляпой в руке. Он кого-то искал глазами и явно не собирался здесь задерживаться. Наконец мы встретились взглядом, и я понял, что он хочет сказать мне что-то важное. И в самом деле, как только я встал, Сальваньяк выскользнул из зала.
— Я вполне удовлетворен нашим разговором, Сужаль.
— А я — нет.
— Неважно. И, думаю, мы еще встретимся.
— Надеюсь, нет.
— Ну а я совершенно уверен, что так и будет.
Я медленно побрел к раздевалке. Хозяин кабаре — следом, и, когда мы поравнялись с переполненным баром, он вдруг громко сказал:
— Жак, последите, чтобы этот господин уплатил за выпивку, прежде чем удрать.
Все сразу уставились на меня. Я подошел к бару, протянул бармену десятифранковую банкноту и, получив сдачу, тут же подвинул ее обратно.
— Это вам, Жак.
— Большое спасибо, месье.
— А это вам, Сужаль!
И, неожиданно развернувшись, я изо всех сил стукнул хозяина заведения в челюсть, вложив в этот удар все раздражение, накопившееся за время разговора. Сужаль попятился, налетел на ближайший столик и рухнул без сознания. Сидевшие за столиком с воплями вскочили. Я заметил, как бармен начал шарить под стойкой, видимо ища оружие, и быстро сунул руку за пазуху.
— На вашем месте, Жак, я бы воздержался от глупостей, — вкрадчиво посоветовал я.
Он послушно замер, и я беспрепятственно вышел в холл, где меня дожидался Сальваньяк.
— Тяжелая у вас рука… — лаконично заметил он. — Завтра утром у Сужаля будет хорошенький вид! На вашем месте я бы следил за ним в оба.
Некоторое время мы молча шли рядом — моя машина стояла довольно далеко от кабаре.
— Подвезти вас? — наконец спросил я Сальваньяка.
— Нет, я сам поеду сзади и провожу вас до гостиницы, а то как бы чего не вышло…
— Очень любезно с вашей стороны. Но как вы догадались, что я в «Кольце Сатурна»?
— Лафрамбуаз не мог приехать сам и распорядился, чтобы мне позвонили.
— А почему не мог?
— Он в больнице.
— Не может быть! Несчастный случай?
— Ну, если можно так назвать то, что он заработал две пули в левую руку и одну — в бедро…
Глава 3
Известие настолько вышибло меня из колеи, что в первую минуту я даже не нашел слов. Иеремию пытались убить?.. Но почему? Почему? Даже понимая, что Сальваньяк внимательно следит за моей реакцией, я все-таки долго не мог опомниться. Представляю, что он думал в эти минуты о моем самообладании…
— Я просто потрясен, — с виноватым видом признался я.
— Вижу.
— В какой он больнице?
— Бесполезно, старина, вас все равно не пустят. Лафрамбуаз сейчас наверняка лежит на операционном столе, так что ему, честное слово, не до вас… Возвращайтесь в гостиницу и попробуйте уснуть, тем более что, по-моему, наше дело все больше осложняется, а думать лучше на свежую голову.
— Иеремия Лафрамбуаз — потрясающий тип.
— Не сомневаюсь. Ведь даже на носилках он позаботился о том, чтобы мне позвонили и попросили отыскать вас в «Кольце Сатурна», где, по его мнению, вам могла грозить опасность.
На прощание я все же задал Сальваньяку еще один вопрос:
— Как по-вашему, что все это означает?
— Честно говоря, понятия не имею, но, сдается мне, вы сами, не отдавая себе в том отчета, расшевелили осиное гнездо, и кому-то это страшно не понравилось, что вам и пытаются показать всеми возможными способами…
— Но при чем тут Лафрамбуаз?
— Возможно, кто-то узнал, что он вам помогает?
В голове сразу мелькнула мысль об Эвелин. Мне стало больно.
— Но тогда и вам грозит… — пробормотал я, стараясь, чтобы Сальваньяк не уловил дрожи в голосе и не понял истинных причин моего беспокойства.
Но он тихонько рассмеялся.
— За меня вам нечего волноваться. Я умею за себя постоять. То, что случилось с Ламфрамбуазом, для нас — очень полезное предупреждение. В случае чего я постараюсь опередить противника и выстрелить первым. Отправляйтесь отдыхать, старина… А серьезные дела отложим на завтра.
Машина Сальваньяка обогнала меня у подъезда гостиницы. Он дружески помахал рукой и умчался к себе в гараж, на площадь Люз.
Вопреки ожиданиям, я довольно быстро уснул и открыл глаза только в девять часов утра. Мне стало немножко совестно, но в нашем деле возможность хорошенько отдохнуть упускать не следует, ибо никогда не знаешь наверняка, скоро ли представится новый случай вздремнуть без помех.
Но с пробуждением немедленно вернулись вчерашние заботы — так утром надеваешь оставленную у постели одежду. Позвонив в больницу, я узнал, что операция прошла очень удачно и в виде личного одолжения мне разрешат до полудня на несколько минут заглянуть к больному. Покушение на Лафрамбуаза, последовавшее сразу за убийством Сюзанны Краст и попыткой размазать меня по мостовой, ясно указывало, что меня считают не в меру предприимчивым и хотят лишить возможных союзников. Если Марк Гажан действительно удрал за границу, зачем понадобились все эти убийства, как удачные, так и провалившиеся? Нет, кровавая фантасмагория убеждала в том, что муж Эвелин действовал не в одиночку, что в Бордо у него остались сообщники и эти сообщники опасаются, как бы я не узнал, каким образом инженер покинул страну. Очевидно по достоинству оценив профессиональные качества Лафрамбуаза и его знание города и местных жителей, инспектора решили поскорее убрать. И мне давно пора избавиться от пассивности, впрочем, совершенно не свойственной моему характеру и вызванной, как я прекрасно понимал, исключительно тем обстоятельством, что вместо напряженных размышлений о Гажане, и только о нем, я позволил себе чересчур увлечься мыслями о его супруге.
По дороге в больницу я все-таки успел заглянуть в гараж Сальваньяка и сообщить ему, что Лафрамбуаз — вне опасности.
— Тем лучше! Во-первых, потому что он хороший парень, а потом, он нам еще пригодится.
— Послушайте… я бы хотел воспользоваться вынужденным отсутствием Лафрамбуаза и попросить вас заново провести полицейское расследование. Раз инспектор сейчас не у дел, он на нас не обидится.
— Что вы имеете в виду?
— К примеру, вы сегодня же могли бы еще раз допросить соседей Гажанов в Кодране. Эвелин вас не знает, стало быть, даже если бы вы столкнулись с ней нос к носу, волноваться не о чем. Главное — проверить, действительно ли, как написано в полицейских рапортах, в тот знаменитый воскресный вечер кто-то видел, что инженер вернулся домой, взял у жены ключ от гаража и снова уехал. Если не возражаете, встретимся в пять часов вечера в «Бордо».
— Договорились, в пять так в пять.
Как это обычно бывает в больницах, прежде чем пустить меня в комнату больного, сиделка разразилась целым потоком нудных напутствий. Можно подумать, я впервые в жизни навещал раненого товарища! Агенты спецслужб куда чаще отдыхают на больничной койке, чем с удочкой на берегу реки.
Иеремия встретил меня цитатой из Писания, которое, похоже, выучил наизусть:
— «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».[321]
— Это точно, но попытайтесь все-таки еще немного побыть здесь, с нами, Лафрамбуаз!
— Еще бы! Я вовсе не жажду обрести обещанное Царство, пока сторицей не отплачу тому или той, кто собирался отправить меня туда раньше срока!
— То есть, говоря простым и ясным французским языком, это означает, что вы понятия не имеете, кто именно решил подарить вам на Рождество две-три пули?
— Да, пока я этого не знаю, Тони, но, не беспокойтесь, рано или поздно непременно выясню.
Мы говорили вполголоса, почти шепотом, чтобы тот, кто, возможно, подслушивает под дверью (разумеется, из самых благородных побуждений), не подумал, будто я утомляю больного.
— А теперь, Иеремия, может, расскажете, как было дело?
— Да самым классическим и банальным образом. Естественно, мне бы следовало держаться настороже, но мы, простые полицейские, как-то не привыкли к подобному обращению.
— Слушайте, старина, вы, конечно, самый потрясающий малый на свете, и, хотя мы познакомились совсем недавно, я вас чертовски уважаю и все такое, но, между нами говоря, мне жутко действует на нервы, когда собеседник не желает прямо отвечать на вопрос! Ну, так будете вы по-человечески рассказывать мне, что произошло, или нет?
Моя гневная вспышка, похоже, не произвела на раненого ни малейшего впечатления.
— Сказано же: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня»[322], — насмешливо изрек он.
— Надеюсь, вы не собираетесь пересказывать мне весь Ветхий Завет?
— Это из Евангелия от святого Матфея, язычник! — хмыкнул Лафрамбуаз. — Просто я не обратил внимания, что за мной уже довольно долго едет какая-то машина и что, когда я собирался войти в дом, мотор заглох. К счастью, у меня пока еще неплохая реакция, но несколько пуль все же попали в цель.
— А что было потом?
— Как — что? Больница… Я был почти в отключке, но не настолько, чтобы не вспомнить, что вы, вероятно, сидите в «Кольце Сатурна» и можете схлопотать такое же угощение. Поэтому я и попросил немедленно позвонить Сальваньяку…
— А почему не мне самому?
— Потому что, если преступники связаны с кабаре, не стоило поднимать там тревогу… иначе они могли бы несколько изменить планы и прикончить вас каким-нибудь иным способом.
— Я, кажется, должен вас поблагодарить?
— Не стоит.
Мы улыбнулись друг другу.
— Когда вас отсюда выпустят, Иеремия?
— Выпустят? Дня через два-три.
— И вы вернетесь домой?
— Черт побери! Надо думать, мне еще очень не скоро разрешат выйти на работу… Как ни жаль, Тони, а, боюсь, теперь вам от меня мало проку.
— Меня гораздо больше заботит ваше намерение торчать дома. Если вас во что бы то ни стало хотят укокошить, вы не сумеете защищаться. Перебирайтесь-ка ко мне в гостиницу, я вас приглашаю.
— Нет, ибо сказано: «Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия».
— О нет! Оставьте меня, наконец, в покое со своим Евангелием!
— Опять мимо, Тони, на сей раз я цитировал Ветхий Завет, псалом восемьдесят третий!
— Иеремия… А вы случайно не знаете, за что вас хотели убить?
Он посмотрел мне в глаза, и я, несмотря на всю незамутненную прозрачность его взгляда, смутился. Ну и странный тип этот неудавшийся пастор!
— Просто-напросто убийца выяснил, что я вам помогаю… Вернее, теперь уже помогал.
— Но, черт возьми, откуда он мог об этом пронюхать?
— От того, кому вы сами сказали о нашем договоре, Тони…
— Но я не…
Я замер на полуслове, вдруг вспомнив, что и впрямь кое с кем поделился радостью, что обрел такого бесценного помощника, как Лафрамбуаз. А раненый не сводил с меня глаз. Поскольку я молчал, не в силах выдавить из себя ни звука, он сам мягко спросил:
— Вы говорили обо мне ей, верно?
От необходимости отвечать меня избавила сиделка — с решительным видом войдя в палату, она мигом вывела меня из затруднительного положения.
— Свидание слишком затянулось, месье.
Я встал.
— Что же, ладно, ухожу…
Я положил руку на здоровое плечо Лафрамбуаза.
— Не мечите икру, Иеремия… Хоть вы и ранены, но все равно сможете оказать мне огромную помощь, особенно если согласитесь еще раз обдумать события и сообщить мне результаты своих размышлений.
— Для этого надо еще, чтобы вы приняли их в расчет…
— Постараюсь.
Неторопливо катя к центру города, я мысленно возвращался к разговору с Лафрамбуазом. В конце концов мне пришлось-таки признать, что о моем альянсе с инспектором, как и о том, что я хочу тайно повидаться с Сюзанной Краст, знала одна Эвелин. В обоих случаях она могла вольно или невольно передать это Сужалю. То, что покушение на полицейского сорвалось, как пить дать, вызвало в лагере противника легкую панику. И, если Эвелин виновна (то есть действовала сознательно), скорее всего, она ожидает бурной реакции с моей стороны и готовится к новому визиту. Поэтому я решил дать ей возможность подольше поломать голову над странностями моего поведения, а потом, свалившись как снег на голову, потребовать отчета. Внезапность нападения поможет мне вывести Эвелин на чистую воду. Решился я на это скрепя сердце, ибо в глубине души никак не мог уверовать в ее двуличие. Вне всякого сомнения, я по-настоящему влюбился, а для любого нормального человека, сколь бы жизненный опыт ни призывал к осторожности, любимый всегда невиновен.
Я остановил машину на набережной, так, чтобы не мешать движению, и закурил. Хотелось еще раз спокойно разложить все по полочкам. Уже слишком давно я вел себя как последний дурак и понимал, что с этим пора кончать. Мимо ехали набитые елками грузовики — до Рождества осталось всего шесть дней. И я с горечью подумал, что, окажись Эвелин ни в чем не повинной, сумей я найти и обезвредить ее недостойного супруга, мы могли бы провести вместе восхитительный праздник… «Восхитительный»! Я невесело усмехнулся. Взбредет же такое в голову! Как и все влюбленные, я не мог выражать свои чувства иначе как в самых глупых и напыщенных словах… А когда агент секретных служб позволяет себе дойти до подобных слабостей, это почти всегда конец. Но, по зрелом размышлении, так ли уж я дорожу своей работой? Смерть Бертрана Тривье, горе Кристиан, внезапно вспыхнувшая моя любовь к Эвелин — все вместе убеждало, что жизнь, во всяком случае настоящая, протекает в иной плоскости и несовместима с этим нечеловеческим ремеслом. А может, на такой лад меня настроило приближение Рождества? Вид закутанных людей, нагруженных всевозможными свертками и спешащих к домашнему очагу, где их ждут жены и детишки? Короче, во мне больше не было священного огня. Я всегда старался оставаться честным хотя бы с самим собой и признавать собственные ошибки, но сейчас вдруг впервые задумался, уж не составляют ли они, часом, истинную радость жизни? Иными словам, если уж говорить всю правду, Эвелин, будь она сто раз виновна, продолжала мне нравиться и в глубине души я хотел не преследовать ее, а защищать от преследований.
Но — к делу. Итак, инженер работает над изобретением, интересующим Министерство национальной безопасности и тем самым правительства других держав — как союзных, так и враждебных нашей стране. В один прекрасный день означенный господин ни с того ни с сего проваливается сквозь землю с практически готовой работой, бросив при этом жену, в которой, по общему мнению, души не чает. Направился ли он в государство, готовое заплатить за его работу гораздо дороже нас? Или его похитили? И какова роль супруги в том или ином случае? Жертва она или сообщница? Ясно только одно: Тривье убили, потому что он расследовал дело об исчезновении Гажана. Сюзанну Краст — за то, что она собиралась рассказать мне все, что знала сама. Лафрамбуаз пострадал за помощь мне. И это — не говоря о том, что я сам чуть не расстался с жизнью. Следовательно, либо Гажан все еще прячется в Бордо и располагает достаточно сильными помощниками, готовыми на что угодно, лишь бы помешать нам найти беглеца, либо он попал в руки людей, способных ради наживы пролить моря крови. Возможен, наконец, и еще один вариант: перед нами классическая история о том, как жена и ее любовник (в данном случае Эвелин и Сужаль) убивают докучливого мужа, а заодно проворачивают выгодное дельце, намереваясь продать изобретение жертвы.
По правде говоря, в свете последних происшествий третья гипотеза выглядит самой убедительной, а это, вполне естественно, отнюдь не внушает мне безумной радости. Странно, вместо того чтобы подумать, каким образом припереть Эвелин к стенке, если, конечно, ее вина будет доказана, я, боясь себе в том признаться, уже подсознательно искал способ спасти ее от расплаты.
Уже докуривая, я вдруг подумал, что, по сути дела, сражаюсь с призраком. Мне надо разыскать Гажана, а что я о нем знаю? Да ровно ничего! Видел только фотографию. Но что за человеком он был на самом деле? Мне казалось, что, сумей я составить хоть мало-мальски достоверный психологический портрет — и расследование сразу сильно продвинется. Ведь очень важно угадать, на что человек способен или не способен, узнать его вкусы и привычки, от которых не так-то легко избавиться. Короче, мне следовало познакомиться с Гажаном поближе.
Я снова завел мотор, решив ничего не предпринимать, пока не пойму до конца, кто такой Марк Гажан, а для этого в первую очередь следовало поговорить со всеми, кто его окружал.
Не стану лгать, будто при виде меня Турнон безумно обрадовался, ничего подобного.
— Думаю, после сегодняшнего ночного происшествия лишь вашему хладнокровию я обязан тем, что не стал убийцей… И самое меньшее, что я обязан сделать в знак если не симпатии, то по крайней мере благодарности, — это принять вас по первому требованию.
— Что ж, вы правы, Турнон. А что до вашей симпатии, честно говоря, мне на нее плевать. Если бы я хотел всем нравиться, уж наверное выбрал бы другую профессию.
— Не сомневаюсь.
— Вот и отлично. А теперь, когда мы разобрались с этим вопросом, ничто не мешает перейти к главному. Я полагаю, вы достаточно любите свою страну, чтобы не пойти на предательство?
— Безусловно.
— Стало быть, у вас есть все основания помочь мне справиться с Гажаном, задумавшим продать свои планы на сторону, иностранной державе. Кроме того, не забывайте, что, охраняя инженера и его бумаги, кто-то убил дорогого для вас человека.
Я видел, что губы у него дрогнули, как у готового расплакаться ребенка, и поспешил развить мысль:
— Я думаю, вы очень не прочь узнать имя мерзавца, прикончившего Сюзанну Краст?
Турнон сжал кулаки.
— Да, мне хотелось бы узнать его имя, месье Лиссей, — проговорил он со всей энергией, на какую только был способен. — Даже чертовски хотелось бы… И боюсь, да простит меня Бог, что в тот день все-таки совершу убийство!
— Этот же преступник убил и моего лучшего друга, Турнон, друга, у которого остались жена и маленький ребенок. А потому, хоть мы с вами и не принадлежим к одному кругу, обоими движет одно и то же чувство. Так почему бы нам не объединить усилия, раз успех одного автоматически принесет победу другому?
Директор немного поколебался, потом, видимо решив, что предложение разумно, протянул руку.
— Хорошо, я согласен, Лиссей. С этой минуты вы можете полностью рассчитывать на меня, а я буду полагаться на вас.
Я объяснил, как мне важно получше узнать Марка Гажана, но Турнон с сомнением покачал головой.
— Это очень непросто… Гажан относился к той категории людей, рядом с которыми хоть сто лет проживи — все равно почти не заметишь их исчезновения… Пожалуй, если вдуматься, в том, что человек способен годами жить настолько незаметно, есть что-то поистине пугающее.
— Вы только что набросали портрет идеального шпиона, Турнон. Во всяком случае, оставаться невидимкой — мечта любого агента спецслужб.
Он посмотрел на меня с искренним удивлением.
— Надеюсь, вы не хотели намекнуть, что Гажан…
— Пока трудно сказать об этом что-либо определенное. Просто я рассматриваю все возможные варианты. Инженер исчез вместе со своими бумагами, следовательно, либо он мертв, либо кинулся в бега, никакого третьего решения я не вижу. Поэтому, если бы мне удалось составить о Гажане точное представление, в конце концов я разобрался бы, какая из двух версий верна — смерть или измена. Расскажите мне о нем, Турнон, но только с большей искренностью, чем в прошлый раз, когда мы с вами говорили на эту тему.
— Марк Гажан пришел к нам семь или восемь лет назад. До этого работал где-то на севере Франции. Насколько я помню, его не особенно устраивал тамошний климат. Разумеется, Гажан представил нам свои дипломы и характеристики. Прежнее начальство не скупилось на похвалы, отмечая его компетентность, добросовестность, искреннее увлечение работой, и так далее, и тому подобное. Однако мой завод практически не приносит прибылей в том, что касается реализации, а потому я не могу платить служащим такого жалованья, как на многих других, более крупных производствах. Поэтому меня несколько смутило, что Гажан решился оставить гигантский индустриальный комплекс на севере и просить места на моем скромном заводе. Марк вовсе не страдал никаким серьезным заболеванием, и ссылки на климат выглядели не слишком убедительно. Во всяком случае, вряд ли это могло послужить основной причиной его переезда. Я не стал скрывать удивления, и Гажан наконец признался, что хочет целиком погрузиться в особенно интересное для него исследование и, зная, что я всячески приветствую разработку такого рода проблем, предпочитает перейти под мое начало. Внимательно изучив его досье, я пришел к выводу, что разработки Гажана могут оказаться весьма перспективными. Это меня и соблазнило. Мы довольно быстро сговорились об условиях и о том, что, если его исследования увенчаются успехом, я получу определенный процент. Короче, по условиям договора Гажану надлежало добросовестно работать, а мне — предоставить ему необходимые на это средства. По сути дела, все основывалось на доверии.
Судя по всему, Турнон говорил правду.
— Но почему вы не рассказали об этом при нашей первой встрече?
— Да просто я терпеть не могу, когда посторонние суют нос в мои дела.
— Если только вы не опасались, как бы я не заподозрил вас в убийстве Гажана.
— Меня?
— Давайте вообразим, что инженер и в самом деле довел работу до конца… и честно предупредил вас об этом… Мы с вами прекрасно знаем, что его изобретение стоит бешеных денег, особенно если обратиться к иностранным покупателям… Возможно, в сравнении процент показался вам мизерным, а искушение присвоить всю сумму было слишком велико? Ну, что вы об этом скажете?
Турнон прикрыл глаза, и, глядя, как он нервно стиснул челюсти, я понял, насколько предположение его потрясло.
— Что бы вы ни подумали вчера вечером, месье Лиссей, я вовсе не склонен к насилию… и все же за такие слова с удовольствием разбил бы вам физиономию! По-моему, вы так привыкли иметь дело со всякого рода подонками, что напрочь разучились отличать их от порядочных людей.
— Что делать, они так похожи!
— Тем не менее, хотите верьте, хотите нет, я честный человек и имею обыкновение соблюдать взятые на себя обязательства. Так что если Гажан удрал, то в первую очередь обвел вокруг пальца меня!
— И вы намерены жаловаться в полицию?
— В такого рода делах, хотя бы из-за их крайней секретности, мы не имеем права прибегать к защите закона.
— А кроме того, существует еще и Эвелин Гажан!
— Что вы имеете в виду?
— А то, что в память о более чем дружеских отношениях с этой особой вам, вероятно, не хотелось бы причинять ей боль, преследуя человека, ставшего вашим преемником?
— В моей работе, месье Лиссей, романтизм совершенно неуместен. Мои прежние отношения с мадам Гажан не имеют ничего общего с изысканиями ее мужа. Наш роман, к тому же довольно непродолжительный, закончился давным-давно и, я бы сказал, окончательно канул в забвение, после того как Эвелин вышла замуж. Как я вам уже говорил, мы были не созданы друг для друга. Я вовсе не любитель искать приключений на свою голову, месье Лиссей!
— Но и Гажан, судя по вашему описанию, — тоже!
— Несомненно.
— Тогда почему Эвелин выбрала именно его?
— Спросите у нее!
— Но разве у вас нет никаких соображений на сей счет?
— Нет, но, даже будь у меня кое-какие догадки, я бы вам о них не сказал. Я не испытываю ни малейшего желания создавать какие бы то ни было осложнения мадам Гажан. Может, вам это и неизвестно, но на свете еще существует такое понятие, как деликатность.
— Благодарю за урок. А теперь я попросил бы вас отказаться от роли преподавателя хороших манер и добросовестно припомнить все, что вам известно о Гажане.
Турнон снова прикрыл глаза. Похоже, у него это что-то вроде нервного тика. Во всяком случае, именно так милейший директор поступал каждый раз, когда его что-нибудь раздражало.
— Марк Гажан значительно выше среднего роста… Волосы — светло-каштановые. Он никогда не улыбался и приходил в крайнее замешательство, как только разговор преступал рамки математических вычислений и его экспериментов. Насколько я знаю, за ним не замечено никаких, даже самых невинных, пороков или особых увлечений. Гажан ни с кем не откровенничал и вообще говорил очень мало. Коллеги не испытывали к нему особой симпатии, но весьма ценили его глубокие познания. Тем не менее после женитьбы на Эвелин Марк, похоже, оттаял. В то время в нем как будто появилось что-то человеческое. Гажану хотелось элегантно выглядеть, и не раз он, оставив в покое науку, снисходил до обычных разговоров, более того, начал ходить в театры. А потом мало-помалу огонь угас. Гажан опять стал тем человеком, которого мы знали. По нашему общему мнению, работа взяла верх над любовью к жене. В понедельник утром, когда Гажан вдруг не явился на завод, никто этого сначала не заметил — коллеги слишком редко заглядывали к нему в лабораторию.
— Насколько я помню, в прошлый раз вы уверяли, что Гажан практически не общался ни с кем из коллег, верно?
— С тех пор я навел кое-какие справки… О дружбе говорить было бы преувеличением, но все-таки с двумя инженерами он держался не так замкнуто, как с прочими. Это химик Варанже и специалист по электронике Ордэн. Вероятно, вам стоило бы побеседовать с обоими.
— Можете не сомневаться — не премину.
— Если не хотите разговаривать с ними здесь, то вот домашние адреса… Да так оно и лучше — нечего возбуждать излишнее любопытство у прочих коллег.
Я сунул бумажку в карман и распрощался с Турноном, поблагодарив за то, что на сей раз он проявил большую готовность к сотрудничеству.
До встречи с Сальваньяком оставался еще час. Не без труда отыскав свободное место на площади Кэнконс и оставив там «воксхолл», я поднял воротник пальто, сунул руки в карманы и быстрым шагом пошел вперед, надеясь хоть ненадолго избавиться от навязчивых мыслей и влиться в поток сограждан, — приятно чувствовать себя таким же обывателем, как и все прочие честные бордосцы.
Миновав мост Людовика XVIII, несмотря на то что холодный ветер пощипывал уши, я по-прежнему пешком добрался до площади Жана Жореса, свернул вправо на аллею Шапо-Руж и спортивным шагом вышел на площадь Комеди. Какое наслаждение смешаться с толпой прохожих, деловито снующих по обе стороны аллеи Интепанданс, и от души полюбоваться витринами! Чисто инстинктивно я охотнее останавливался у магазинов игрушек и с удовольствием смотрел на восторженные мордочки малышей, а заодно и на их мам, словно помолодевших от радости за своих детишек. Казалось, они вновь переживают счастливые минуты прошлого, когда сами получали от родителей рождественские подарки. Глядя на чудесные куклы и многообразные машины, все, независимо от возраста, чувствовали себя мальчишками и девчонками. Мне бы тоже хотелось взять за руку сына или дочь и войти с ними в какой-нибудь ярко освещенный магазин, но для начала следовало непременно пройти через мэрию, а я много лет старательно избегал подобных испытаний. Однако в моей душе уже произошли настолько сильные изменения, что теперь возможность навсегда потерять свободу почти не пугала. Даже без особого копания в причинах подобной метаморфозы я прекрасно понимал, что новый взгляд на будущее несомненно связан с Эвелин Гажан. Из-за нее же я остановился и у мебельного магазина. Я выбирал кресло, в котором так удобно, сунув ноги в домашние туфли, наблюдать, как Эвелин готовит нам ужин… Увлекшись подобными материями, я уже не мог остановиться и чувствовал, что готов простить мадам Гажан продажу драгоценного досье за границу, лишь бы она согласилась бросить супруга. Любовь толкает нас к странным решениям и чрезмерному благодушию. Почти каждый рано или поздно открывает для себя этот закон.
Полностью погрузившись в мечты, нелепость, а пожалуй, и чудовищность которых сглаживало предрождественское сказочное время, я дошел до площади Гамбетты и, как истинный бордосец, перебрался на правый тротуар, чтобы вернуться на площадь Комеди, — коренные жители этого прекрасного города повторяют этот маневр тысячи раз в году.
Ровно в пять часов я вошел в «Бордо» — одно из самых элегантных кафе столицы Жиронды. Сальваньяк уже ждал, и я сел за его столик.
— Ну?
— Похоже, бордоские полицейские великолепно провели расследование. Супруги Банон, соседи из дома напротив Гажанов, уверяют, что в то воскресенье отлично видели, как они возвращались. Мадам Гажан, как обычно, вышла из машины, принесла мужу ключ от гаража — переделанной старой кузницы, и попросила не задерживаться, сказав, что сейчас поставит на плиту чайник и все приготовит к чаю. Супруги Банон даже сочли нужным уточнить, что на Гажане была куртка в черную с белым клетку. Другие соседи тоже заметили возвращение Гажанов, но, поскольку все они живут намного дальше, не смогли сообщить таких точных подробностей. Так или иначе, все они хорошо знали клетчатую куртку инженера. Я думаю, в свое время этот пестрый наряд несколько шокировал обитателей Кодрана.
— А как Гажан возвращался обратно из гаража, никто не видел?
— Нет, но зато многие помнят, что мадам Гажан несколько раз выходила на улицу, по-видимому ожидая мужа, а в последний раз появилась уже в пальто и наброшенном на голову шарфе и быстро побежала к гаражу, расположенному в пяти-шести сотнях метров от их дома. Минут через пятнадцать мадам Гажан вернулась с самым озабоченным видом.
— Неужели эти Баноны вечно сидят у окна?
— Хозяин дома инвалид. По воскресеньям они с женой играют в шашки у окна, так, чтобы можно было наблюдать за прохожими, и далеко не всегда с благородными намерениями. А что у вас, Лиссей?
Я рассказал, как побывал в больнице у Иеремии Лафрамбуаза и о разговоре с Турноном.
— Вам бы следовало прислушаться к словам Лафрамбуаза, Лиссей. По-моему, он человек думающий.
Сальваньяк мог не продолжать — я и так понял, что он намекает на доказательства против Эвелин и хочет лишний раз привлечь к ним мое внимание. Поэтому я довольно сухо с ним попрощался, сказав, что завтра позвоню и расскажу, чем кончились мои сегодняшние поиски, а в случае неприятностей — позову на помощь.
Ожесточение обоих моих помощников против Эвелин раздражало меня тем больше, что в глубине души я признавал их правоту.
Инженер-химик Антуан Варанже жил неподалеку от больницы, где мой приятель Лафрамбуаз вновь обретал вкус к жизни, а именно на улице А. Надеясь немного развеяться и снять нервное возбуждение, я решил отправиться туда пешком. Пешая прогулка вообще полезна, а кроме того, я все равно не нашел бы где поставить свой «воксхолл». Улицу Сент-Катрин запрудила такая толпа, что каждый шаг давался с величайшим трудом. Машины почти не двигались с места, то и дело возникали пробки. Вскоре я свернул направо, в сторону Аира, миновал перекресток, где кончается улица Пастера, и оказался на улице А. На заводе Турнона не слишком строгая дисциплина, и я надеялся, что в этот предрождественский день инженер Варанже постарался прийти домой пораньше.
Дверь открыла женщина. Не красавица, не дурнушка, а вполне заурядная особа. Впечатление смягчали лишь особая хрупкость и изящество фигуры. Откуда-то из недр квартиры доносились крики детей, особенно пронзительно заявляла о своем присутствии девочка.
— Что вам угодно, месье?
— Я бы хотел поговорить с месье Варанже. Меня послал месье Турнон.
Лицо молодой женщины сразу нахмурилось.
— Что-нибудь случилось на заводе?
— Да нет же, нет, не беспокойтесь! Я пришел вовсе не затем, чтобы испортить вам настроение. Просто мне нужны кое-какие сведения, а месье Турнон сказал, что лучше всего обратиться за ними к месье Варанже.
Успокоенная хозяйка дома проводила меня в типично провинциальную гостиную, сохранившую дух прежних времен. Громоздкая мебель из темного дерева, конечно, не поражала красотой, зато передавалась из поколения в поколение и свидетельствовала о не слишком взыскательных вкусах предков. В этом чувствовалось что-то глубоко трогательное. Обстановка вполне подходила хозяйке дома: такая же надежная и крепкая. Мадам Варанже вполголоса приказала детям уйти, и вскоре в гостиной появился тихий, меланхоличный толстяк. Я поднялся ему навстречу.
— Месье Варанже?
— Он самый. Прошу прощения, что заставил вас ждать, но вы ведь знаете, что дома не очень-то следишь за внешностью, — вот и пришлось надеть пиджак, галстук и ботинки.
Я уверил инженера, что напрасно он устроил себе столько лишних хлопот, но Варанже, очевидно, не понял моих возражений. Люди его круга испокон веков привыкли принимать гостей исключительно в гостиной и в самом безукоризненном облачении. После того как я представился и отклонил предложение хозяина выпить рюмочку домашнего ликера, мы сразу перешли к делу и я изложил Варанже причины, побудившие меня побеспокоить его дома. Химик внимательно слушал, время от времени поглаживая подбородок, — видимо, это означало, что рассказ его всерьез заинтересовал. Судя по всему, Варанже не любил пустой болтовни и принадлежал к тем людям, для которых каждое слово должно иметь значение. Если какая-либо деталь ускользала от его понимания, химик просил повторить. Когда я умолк, он окинул меня сдержанным взглядом.
— Короче, вам бы хотелось узнать, что я думаю о своем коллеге Марке Гажане?
— Совершенно, верно.
— Это очень серьезный вопрос.
После этого началась бесконечная и совершенно бесплодная дискуссия о возможных последствиях подобного разговора и о том, насколько он, Антуан Варанже, имеет право высказать свое субъективное мнение. Мне пришлось затратить немало усилий, дабы успокоить его щепетильность, и я уже начинал всерьез нервничать, но тут химик наконец сдался.
— Ладно… вы меня убедили, и я больше не стану уклоняться от ответа.
— Наконец-то! И что же вы думаете о Гажане?
— Ничего.
В первую минуту я настолько опешил, что не мог издать ни звука. А потом меня охватило дикое бешенство, и я уже собирался высказать Варанже все, что думаю о его дурацкой шутке, как вдруг, поглядев на химика, сообразил, что он совершенно искренен.
— Послушайте, дорогой мой, ваш директор уверял меня, что вы очень дружили с Гажаном. Или это не так?
— Дело в том, что мы оба занимались химией у одного преподавателя, а потому и рассуждали примерно одинаково. Толковый малый этот Гажан, очень толковый… Во всяком случае, в области химии.
— И он никогда не говорил вам о своей личной жизни?
— Никогда! А впрочем, с чего бы ему вдруг вздумалось рассуждать на эту тему?
— И долго вы проработали вместе?
— Много лет.
— Мне трудно поверить, что за все это время вам не удалось составить никакого представления о его характере!
— Марк вообще молчун… крайне редко давал волю чувствам… и, по-моему, вечно сомневался в себе. По правде говоря, такой человек способен обескуражить кого угодно, по крайней мере если позволишь себе поддаться его
пессимизму…
— А как насчет амбиций? Гажан тщеславен?
— Меня бы это удивило!
— Но, в конце-то концов, был же у него какой-то идеал?
— Продолжать лабораторные исследования. Все остальное не имело значения.
— И однако, у него были жена, семейный очаг?
Варанже явно смутился.
— Мне бы не хотелось злословить, но… что касается жены… Ходили слухи, будто ее гораздо больше интересует не муж, а кое-кто другой…
— Кто?
— Ну… это не так просто… Вы же знаете, как это бывает… Всякие россказни, намеки и более-менее злопыхательские шепотки… Короче, болтали об одном типе, содержателе то ли дансинга, то ли казино или чего-то в этом духе… о некоем Фреде Сужале…
— Значит, по-вашему, если Гажан столько времени проводил в лаборатории, то, очевидно, дома чувствовал себя не особенно уютно?
— Возможно… Утверждать я бы не решился, но это все же какое-то объяснение, верно?
— Благодарю вас.
Я предоставил химика его простым радостям жизни, надежной супруге, размеренному домашнему быту и гомонящим детишкам, а сам отправился на площадь Родесс к инженеру-электрику Жоржу Ордэну. Около десяти вечера я уже звонил в его квартиру. Здесь все выглядело совсем по-другому. Дверь открыла улыбчивая девчушка.
— Могу я видеть месье Ордэна?
Девочка окинула меня смущенным взглядом.
— Понимаете, папа сейчас занят… очень занят…
— Правда?
— Он играет со своим поездом.
— С поездом? Вероятно, электрическим?
— Конечно.
— А вы думаете, ваш папа очень рассердится, если я увижу, как он играет?
— Не знаю…
— Может, вы спросите у него разрешения?
Девчушка посмотрела на меня с нескрываемым восторгом. Должно быть, она сочла меня ужасно умным.
— Входите, месье.
Воспользовавшись приглашением, я перебрался в прихожую. По коридору прошла молодая женщина в купальном халате.
— Кто это, Дани?
— Месье хочет поиграть с папой в железную дорогу!
Я хотел объяснить истинную причину своего вторжения, но не успел — мадам Ордэн снова заговорила с дочерью:
— Отведи его к отцу, Дани, но посоветуй не поднимать слишком много шума, иначе у меня разболится голова!
Супруга инженера тут же скрылась из глаз, а девочка взяла меня за руку, так что мне не пришлось долго размышлять над странным отношением хозяйки дома к незнакомцам, входящим в ее квартиру. Дани распахнула передо мной дверь, и я оказался в небольшой комнате, значительную часть которой занимал огромный стол. Почти всю его поверхность покрывало хитроумное сплетение рельсов. Крошечные поезда, ускользая из всевозможных ловушек по воле множества стрелок, то пересекались, то ехали навстречу друг другу и, к великой радости хозяина дома и двух мальчуганов, каждую секунду избегали аварии. Судя по всему, оба мальчика чувствовали несомненное призвание к трудной работе железнодорожника.
— Папа! — окликнула отца девочка.
— Чего ты хочешь? — не оборачиваясь, осведомился инженер.
— Я привела к тебе гостя!
— И где же ты его выловила, моя птичка?
Сообразив, что мне пора взять дело в свои руки, и как можно быстрее, я поспешил опередить Дани с ответом:
— Просто-напросто на лестничной клетке, месье Ордэн. А за наживку сошел самый обычный звонок у вашей двери.
Только теперь месье Ордэн соблаговолил наконец обратить на меня внимание.
— Но… я вас не знаю!
— Наше знакомство зависит только от вас.
— Но почему я должен с вами знакомиться?
— Например, чтобы доставить удовольствие месье Турнону.
— Он-то тут при чем?
— Именно он направил меня к вам.
Инженер немного подумал.
— Вряд ли здесь самое подходящее место для разговора, а? — наконец решился он.
— Да, пожалуй.
Он с явным огорчением вздохнул.
— Ну что ж… прошу вас, идите за мной.
В кабинете инженера царил невообразимый хаос, и продвигаться приходилось с величайшей осторожностью, переступая через стопки книг. После множества сложных манипуляций мы кое-как убрали с кресел листы бумаги и смогли-таки сесть. Но беспорядок, по-видимому, нисколько не смущал Ордэна.
— Я вас слушаю, месье…
— Лиссей, Тони Лиссей.
И я в очередной раз объяснил причины своего визита.
— По словам месье Турнона, — закончил я, — вы были одним из немногих близких друзей Марка Гажана, поэтому-то я и счел необходимым…
— Чепуха, никто не дружил с Гажаном, — перебил меня Ордэн. — Он использовал наши знания и вообще интересовался коллегами лишь в той мере, в какой они могли принести ему пользу. Даже не знаю, как бы вам объяснить поточнее… Гажан ни к кому не питал бескорыстной привязанности. Вы понимаете, что я имею в виду?
— Вполне. А как по-вашему, он был человеком тщеславным? Имел какие-нибудь амбиции?
— Только одну: разбогатеть, и как можно быстрее.
— Почему? Гажан очень нуждался в деньгах?
— Если не он сам, то по крайней мере его жена.
И снова у меня екнуло сердце. Но, странное дело, чем больше обвинений накапливалось против Эвелин, тем упорнее я выискивал смутные основания защитить и оправдать молодую женщину.
Ордэн, вероятно, что-то почувствовал в моем голосе, ибо кинул на меня довольно странный взгляд.
— Вы знакомы с мадам Гажан? — спросил я.
— Раньше, когда она еще работала на заводе, мы нередко виделись.
Я подумал, что сейчас он начнет рассказывать о прежних отношениях Эвелин с Турноном, — в провинции обожают судачить на подобные темы, но Ордэн оказался человеком благородным и не позволил себе ни малейших намеков на прошлое женщины, все более занимавшей мои помыслы.
— Эвелин очень красива, — продолжал он, — и мало кто у нас понял, почему ей вздумалось выйти за Гажана. Во всяком случае, удивились те, кто не догадывался о страстном желании нашего коллеги добиться успеха и о его готовности отказаться от любых радостей бытия ради скорейшего завершения работы.
— А как вы думаете, откуда у него эта страсть во что бы то ни стало достигнуть цели?
— Я думаю, Гажан хотел показать жене, что чего-то стоит, а кроме того…
Ордэн слегка замялся, но я продолжал настаивать:
— А кроме того?
— Возможно, для него это был единственный способ удержать супругу?
Вернувшись на площадь Родесс, я мог поразмыслить на досуге о том, как по-разному люди судят о ближних. И это привело меня к довольно своеобразным выводам насчет суда присяжных. Итак, два человека, обладающие высочайшими интеллектуальными способностями и многие годы проработавшие бок о бок со своим коллегой, придерживались о нем диаметрально противоположных мнений. Варанже, как, впрочем, и Турнон, считал инженера ничем не примечательной личностью, человеком слабым, лишенным индивидуальности и женатым на презиравшей его женщине. Зато с точки зрения Ордэна разыскиваемый мной инженер под заурядной внешностью скрывал несгибаемую волю, а заодно и, по-видимому, полную беспринципность. Оба моих недавних собеседника сходились лишь в одном: Марк безумно любил жену.
И однако это тройное расследование не продвинуло меня ни на шаг: я по-прежнему не мог составить ни малейшего представления о беглом инженере Марке Гажане, равно как о его привычках и склонностях. Но я ужасно упрям. И неудача, вместо того чтобы привести в уныние, заставляла еще более напряженно шевелить мозгами. Я вошел в первое попавшееся кафе и отыскал в справочнике телефон «Кольца Сатурна». К телефону подошел сам хозяин кабаре (я сразу узнал его голос).
— Алло?
— Здравствуйте, Сужаль. Вы все еще сердитесь на меня за вчерашний вечер?
— А, это вы?.. Какое вам дело, сержусь я или нет, чертов вы подонок?
— Просто я хочу попросить вас об одной услуге.
— Ну, знаете, в таком случае нахальства вам не занимать! А что за услуга?
— Она касается мадам Гажан.
Я чуть не назвал ее по имени, но вовремя прикусил язык.
— Неужели вам так трудно оставить ее в покое?
— Это зависит только от вас.
— Каким же образом?
— Именно это я и собираюсь вам объяснить.
Сужаль ответил не сразу, видимо обдумывая мои слова.
— Ладно… Заходите когда вздумается.
— А сейчас вас устроит?
— Милости прошу. Толкните дверь сбоку от входа, и лестница приведет вас прямо ко мне в кабинет.
— Считайте, что я уже выехал.
Мне посчастливилось сразу поймать свободное такси и без проволочек примчаться на свидание. Следуя рекомендациям Сужаля, я нашел боковую дверь рядом с главным входом и начал карабкаться по узкой и темной лестнице. Если там и был выключатель, то мне так и не удалось его обнаружить. Все же в конце концов я добрался до лестничной площадки и, чиркнув спичкой, разглядел на двери имя хозяина кабаре. Я постучал и, услышав приглашение войти, доверчиво открыл дверь. И совершенно напрасно, потому что не успел сделать и шагу, как на голову мне обрушилось что-то ужасно тяжелое и я рухнул, уткнувшись носом в ковер.
Не знаю, сколько времени я пролежал в полной прострации. Помню лишь, что в чувство меня привела какая-то обжигающая жидкость. Я чуть-чуть приоткрыл глаз: Сужаль, нагнувшись и приподняв мою голову, вливал мне в глотку виски. Я слишком ослаб и, не в силах отомстить за коварство, послушно глотал угощение. Как ни странно, виски оказалось превосходным. Сужаль остановился первым.
— Слушайте, приятель, уж не думаете ли вы, что я собираюсь извести на вас целую бутылку «Джонни Уокера»?
Я хмыкнул.
— Да вы еще и скряга, помимо всего прочего?
Он помог мне подняться и усадил в кресло.
— Вы что, пытались меня прикончить?
Сужаль рассмеялся:
— Я еще никого не убивал, но, надо думать, в подобном случае избрал бы более действенное средство, чем виски. Нет, приятель, мне просто хотелось расплатиться с вами за вчерашнее той же монетой. Вчера вы застали меня врасплох, а сегодня настал мой черед. Ну и теперь, если не возражаете, мы квиты. Согласны?
— Ладно.
По правде говоря, я слегка лицемерил, но, как известно, не всегда удается сделать хорошую мину при плохой игре.
— А сейчас, господин фараон, не угодно ли объяснить, что вам от меня понадобилось?
— Меня интересует ваше мнение о Марке Гажане.
— Что за бредовая мысль! А с какой точки зрения?
— Раз уж я не могу встретиться с самим инженером, мне бы хотелось с вашей помощью хотя бы составить о нем некоторое представление.
— Понимаю…
Он поудобнее устроился в кресле.
— Марк примерно моего роста, но гораздо худее и уже в плечах… На вид — типичный интеллектуал… Из тех, кто сам извиняется, когда ему наступят на ногу… Короче, безобидный малый! По крайней мере производил такое впечатление…
— Что вы имеете в виду?
— Мне всегда казалось, что Марк ведет двойную игру… И для меня, и для всех прочих Гажан был человеком не от мира сего, неудачником, совершенно неспособным действовать самостоятельно… и довольно жалким… Вы и представить себе не можете, сколько неловкостей он совершал, когда мы вместе ездили на рыбалку! Порой казалось, Марк нарочно, с потрясающим упорством старался выставить себя на посмешище…
— И даже в присутствии жены?
— Да, и при ней — тоже! А это тем более странно, что Гажан привязан к Эвелин куда больше, чем она к нему.
— Мадам Гажан сама вам в этом призналась?
— Не то чтобы открыто, но я дружу с их семьей уже много лет. Есть признаки, которые никогда не обманывают.
— И тем не менее у вас сложилось впечатление, что Гажан с умыслом играет роль человека слабого и крайне неловкого?
— Да.
— И на чем основываются ваши подозрения?
— Трудно объяснить… На том, как менялось выражение лица Марка, когда он думал, что на него никто не обращает внимания. Наедине с собой он всегда выглядел куда мужественнее. Короче, Марк, по-моему, давным-давно замышлял какую-то пакость, так что его исчезновение меня не особенно удивило.
— Вас не было с Гажанами в то воскресенье, когда инженер сбежал?
— Нет… У меня есть загородный домик по ту сторону Аркашона, неподалеку от Гран Пикей. Там все устроено так, чтобы со всеми удобствами проводить выходные, особенно в погожие дни… Но Гажан — человек со странностями и, не довольствуясь летом, он таскал туда Эвелин то осенью, то зимой… ему, видите ли, хотелось покоя. У меня же в скверную погоду нет ни малейшего желания корчить из себя Робинзона. Хотите еще виски?
— С удовольствием.
Мы еще немного выпили.
— Послушайте, Сужаль, — сказал я, ставя на столик пустой бокал, — меня ничуть не интересует ваша личная жизнь, но, поскольку я веду полицейское расследование, иногда волей-неволей приходится задавать бестактные вопросы…
— Ну так валяйте.
— Вы любовник мадам Гажан?
— Нет.
— Но вы ее любите?
— Да… и все же, повторяю, не до такой степени, чтобы прикончить супруга Эвелин в надежде занять его место.
— А она вас любит, Сужаль?
— Мне бы очень хотелось ответить вам «да», но, по правде сказать, понятия не имею. А уж я ли ее об этом не спрашивал? Но Эвелин вечно уклоняется от прямого ответа… Поэтому в конце концов, как ни грустно, я пришел к выводу, что она искренне привязана к мужу… что весьма досадно…
— Вы находите?
— Марк не заслуживает такой жены, как Эвелин! Впрочем, если он и в самом деле смылся вместе со своим изобретением (на что, между нами говоря, я от души надеюсь), возможно, Эвелин наконец поверит, что ее драгоценный супруг — всего-навсего подонок!
— И давно вы любите мадам Гажан?
— С незапамятных времен.
— А точнее?
— С тех пор как мы познакомились лет пять назад.
— И как же это случилось?
— Время от времени Эвелин заходила в мое кабаре.
— Одна?
Сужаль немного смутился.
— Наверное, ее сопровождал Турнон? — вкрадчиво предположил я.
— Так вы уже в курсе?
— Это моя работа.
— Да, Турнон был ошибкой в жизни Эвелин. К счастью, она заблуждалась недолго.
— Однако, связавшись с Гажаном, она совершила еще более крупную, не так ли?
— Не совсем… Марк ведь все-таки женился на ней.
Мы немного помолчали.
— Слушайте, Сужаль… А вам никогда не приходило в голову, что, возможно, Эвелин Гажан тоже ведет двойную игру?
Скажи я вдруг, что запросто бываю в Елисейском дворце, он и то не удивился бы больше.
— Не понимаю…
— Эвелин прежде многих других оценила возможности Марка и его честолюбивые устремления… Долгое время она не мешала ему продолжать работу, а как только он достиг результата — гоп! — Эвелин принимается за дело. Она уговаривает мужа совершить предательство и заработать на этом кучу денег. Потом супруги вместе разыгрывают комедию с бегством Гажана, но дело оборачивается куда хуже, чем они рассчитывали. Сначала появляется мой друг и, разгадав замысел Гажанов, гибнет, затем настает очередь Сюзанны Краст. Секретарша Турнона настолько возмущена поведением бывшей коллеги, что решается открыть мне всю правду, за это ее тоже убивают. Потом пытаются раздавить меня, а далее следует покушение на инспектора Лафрамбуаза, хотя о его дружбе с Сюзанной Краст никто не знал. Очевидно, преступникам хватило того, что полицейский решил отомстить за ее смерть и помочь мне по мере возможностей. Ну, так что вы об этом думаете, Сужаль?
Он утомленно пожал плечами:
— У вас богатое воображение… Знай вы Эвелин, как я ее знаю, ни за что бы не поверили, что она способна на убийство… Это полная чушь!
— Я и не утверждаю, что она убивала сама, скорее какой-нибудь сообщник действовал по ее указке.
— Сообщник в таком деле? Да где ж, черт возьми, она могла бы его разыскать?
— Возможно, ей согласился помочь человек, достаточно влюбленный, чтобы исполнить любые требования? Вы, например…
Ожидая бурной реакции, я внимательно наблюдал за Сужалем, но он только хмыкнул.
— Да, согласен, я и впрямь люблю Эвелин, но, как я вам уже не раз говорил, отнюдь не до такой степени! Я вовсе не собираюсь мечтать о ней до конца своих дней на каторге! Придется вам подыскать для своей истории другой эпилог! Возможно, я не так романтичен, как вы полагаете…
— Или не так безумно любите мадам Гажан, как вам кажется?
— Только потому, что ради ее прекрасных глаз не желаю превратиться в убийцу?
— А может, по другой причине? Ведь у вас уже есть подруга, Линда Дил, и, по слухам, она весьма дорожит вашей привязанностью…
На сей раз Сужаль от души расхохотался.
— Я вижу, у вас совсем плохо с головой, а? Линда? Да между нами никогда ничего не было! Слышите? Ни-ког-да! Она — моя служащая, и ничего больше… И если я обращаюсь с мисс Дил вежливее, чем с гардеробщицей, то лишь потому, что у нее есть своего рода шик, а кроме того, она — звезда моего кабаре. Вот и все. Ясно?
На улице, закрыв за собой дверь, я столкнулся с Линдой Дил.
— Я вас узнала, месье Лиссей… Ведь это вы на днях заходили к Фреду? И все — из-за той истории с Гажаном? Умоляю вас, поверьте, вы ошибаетесь. Фред не имеет ни малейшего отношения к этому грязному делу!
— Но кто же тогда?
— Я… я не знаю… Но только не Фред, клянусь вам!
Я поймал ее за руку.
— Вы его любите, не так ли?
— Да!
И, неожиданно вырвавшись, девушка убежала в «Кольцо Сатурна». По дороге к Кэнконс, где осталась моя машина, я думал, что Фред Сужаль разыграл передо мной целый спектакль. Я нисколько не сомневался, что он действительно любит Эвелин Гажан, но и Линда Дил, несомненно, его любовница. Вероятно, милейший Фред успел предупредить ее, но Линда уже одним своим пылом выдала тайну.
Сев за руль «воксхолла», я еще раз обдумал все сведения, которые мне удалось собрать о Марке Гажане. В настоящий момент он представлялся мне ловким и расчетливым пройдохой. Однако заключительный штрих к портрету могла бы добавить лишь Эвелин, и я направился в сторону Кодрана.
Глава 4
Эвелин встретила меня очень холодно и сразу без обиняков заявила:
— Имейте в виду, я страшно недовольна вами!
— Не может быть!
— Что вы сделали с Сужалем вчера вечером?
— Мне этого безумно хотелось с той минуты, как вы нас познакомили!
— Но почему?
— Потому что я не могу спокойно слушать, как он распространяется о своей любви к вам!
— Уж не ревнуете ли вы, часом?
— А если и так?
— Месье Лиссей… вы?
— Но успокойтесь: ваш драгоценный Фред уже успел отыграться, хорошенько дав мне по голове, как только я вошел к нему в кабинет!
— Вы оба совсем спятили! Или вы забыли, что я замужем?
— Именно о вашем супруге я и хотел бы с вами побеседовать.
Эвелин изучающе поглядела на меня, видимо гадая, уж не смеюсь ли я над ней, но быстро убедилась в моей полной серьезности.
— Вы, я вижу, любите удивлять, правда, месье Лиссей?
Я устроился в гостиной и наблюдал, как Эвелин готовит коктейли. В голове снова замелькали те же фантазии, что и утром, и я опять сказал себе, как приятно было бы жить в таком удобном доме с женщиной, которой я пока не решался четко и ясно сказать о своих чувствах. А кроме того, как мне только что напомнила Эвелин, она уже замужем. Впрочем, я не сомневался, что этому браку скоро настанет конец.
Я объяснил, что хотел бы получше узнать Марка Гажана и таким образом попытаться угадать, что же с ним могло произойти. Эвелин принесла еще одну фотографию мужа, крупнее той, что стояла на комоде. Но и на ней застыло все то же не красивое, не уродливое, а самое что ни на есть банальное лицо. Подобных людей просто не замечаешь в толпе, и это может быть как слабостью, так и преимуществом. Как ни странно, мне показалось, что Гажан слегка смахивает на Сужаля. Немного поколебавшись, хозяйка дома признала, что я, пожалуй, прав.
— А теперь, мадам Гажан, я попрошу вас как можно откровеннее нарисовать мне моральный портрет своего мужа.
Она попыталась уклониться от прямого ответа:
— А что мы вообще знаем о тех, с кем годами живем рядом?
— Я приехал сюда отнюдь не ради досужих философствований, а с вполне определенной миссией, и без вашей помощи, мадам, мне не довести ее до успешного конца.
— Мы с Марком познакомились на заводе Турнона…
Мне вовсе не хотелось выслушивать признания о ее прежней связи с директором завода.
— Знаю-знаю… Если не возражаете, давайте сразу перейдем к тому, что привлекло вас в Гажане, хорошо?
— Сначала — любопытство… Этот робкий, почти безмолвный и ни с кем не общавшийся молодой человек казался мне загадкой. Гажан упорно избегал меня, а уже одно это по естественному закону вызывало дух противоречия, и я, напротив, старалась сблизиться с ним. Как-то в воскресенье мы случайно столкнулись на улице, и я, признаюсь, довольно бесцеремонно предложила угостить меня чаем. В первую минуту Марк смутился, но отказать в таком пустяке, конечно, не мог, и мы вместе зашли в кафе. Там он, вероятно, почувствовал себя раскованнее, и я увидела совсем другого человека, а вовсе не того Марка Гажана, каким мне его описывали коллеги. Человек замкнутый, он, несомненно, страдал от своего одиночества и жаждал хоть кому-нибудь открыться. Тогда-то я и узнала, что Гажан обладает железной волей и сторонится коллег не от чрезмерной застенчивости, как все думали, а просто не желая тратить время на пустые разговоры. Этот внешне слабый и безвольный молодой человек мечтал о могуществе, о богатстве… И внезапно я поверила в него, почувствовала, что Марк своего добьется.
— Так вы полюбили Гажана, понадеявшись на его блестящее будущее?
— О, легко вам презирать людей, месье Лиссей… Но я пережила далеко не самую счастливую молодость. Как и все на свете, я люблю красивые вещи и всегда мечтала о достатке… а тут вдруг поняла, что в один прекрасный день Марк сможет подарить мне все это… и сделала ставку на его удачу.
— А вы любили его?
— Скажем, я всегда относилась, да и продолжаю относиться к мужу с большой нежностью… В какой-то мере это похоже на любовь старшей сестры к нуждающемуся в опеке брату…
— А он?
— Думаю, Марк любит меня, насколько он вообще способен любить кого бы то ни было, но, честно говоря, пожалуй, я занимаю в его сердце второе место — на первом стоит работа.
— Стало быть, вы считаете маловероятным, что Гажан мог покинуть вас и начать в чужих краях новую жизнь?
— Теперь я уже не знаю, что и думать, месье Лиссей… Еще три-четыре дня назад я ответила бы вам отрицательно, но время идет, и это глухое молчание… Теперь, по правде сказать, я уже начинаю сомневаться…
— А что вы думаете о двух убийствах и двух неудачных покушениях?
— Тут уж я вообще ничего не понимаю. Я не вижу абсолютно никакой связи между этими преступлениями и натурой Марка, тем более что ни разу не замечала в нем ни малейшей склонности к насилию.
— Все это почти ничего не дает для моего расследования, мадам. Я думаю, что тут возможно лишь одно из двух: либо вы совершенно не знаете своего мужа, либо частично виновны в его исчезновении.
— Да как вы смеете говорить мне такие вещи?
— Возможно, вам нет дела до того, что Сюзанну Краст убили и что меня самого, равно как и инспектора Лафрамбуаза, тоже пытались отправить на тот свет, но я должен отомстить за смерть своего друга, слышите? А потому заявляю, что ваш муж — мерзавец и я сниму с него шкуру, даже если для этого мне придется побывать на краю света! Или же, если Марк Гажан невиновен, — значит, вы последняя стерва, из любви к содержателю ночного кабака решившаяся на убийство или по крайней мере на пособничество!
Я нарочно говорил вызывающе грубо, надеясь вывести Эвелин из себя и сорвать наконец маску вежливого равнодушия, так надежно скрывавшую ее лицо. Мадам Гажан, мертвенно побледнев, встала.
— Не знаю, вправе ли я так поступать с человеком вашей профессии, но если да, то прошу вас немедленно выйти вон и больше никогда не переступать моего порога! А коли у вас возникнут еще какие-нибудь вопросы, вызовите меня официально. Наконец, в завершение этого неприятного разговора, еще раз повторяю вам, что не имею никакого отношения к исчезновению своего мужа, и, каким бы странным это вам ни казалось, продолжаю верить, что Марк вернется. Ну а месье Сужаль лишь преданный друг, и в эти тяжкие дни он изо всех сил старается меня поддержать, и, между прочим, уж Фред-то никогда не позволил бы себе таких оскорблений!
Я укладывался спать, очень довольный тем, как провел день. Теперь я точно знал, что все, принимавшие Гажана за безвольного слабака, жестоко заблуждались. Отныне версия о его бегстве, как и о предательстве, становилась вполне оправданной. Серия убийств и покушений невольно наводила на мысль, что в Бордо действует банда, а Марк Гажан — либо ее шеф, либо заложник, либо подручный. И заснул я с улыбкой: ведь если бы Эвелин Гажан любила Сужаля, в приступе бешенства она не преминула бы кинуть мне это в лицо.
На следующий день, ближе к полудню, я заехал в больницу. Иеремия выздоравливал с поразительной быстротой. Крепкий организм не желал долго мириться с бездействием. Мое появление явно обрадовало полицейского. А я все больше проникался мыслью, что мы, если представится случай, очень неплохо поработаем на пару.
— Тони, я видел потрясающий сон! — едва увидев меня, начал Лафрамбуаз. — Ваш шеф пригласил меня в гости, а потом договорился с моим начальством, чтобы меня перевели из сыскной полиции к вам, в контрразведку. И вот мы с вами вдвоем разъезжаем по всему свету. Вы и представить себе не можете, сколько побед я одержал нынче ночью над шпионами самых разнообразных стран и народов!
— Полегче, Иеремия, полегче! Не стоит все же путать секретные службы с агентством Кука[323], а?
— Вы не романтик, Тони, это-то мне в вас и не нравится.
— Не вы ли совсем недавно утверждали прямо противоположное?
— Это свидетельствует лишь о гибкости моего ума и о том, что я не склонен зацикливаться на какой-нибудь навязчивой мысли… А теперь усаживайтесь и поведайте мне о своих последних подвигах!
Я рассказал ему о результатах вчерашнего расследования, упирая главным образом на то, что теперь, благодаря Эвелин и Сужалю, у меня наконец сложилось вполне определенное мнение о Гажане как об умном, хладнокровном и решительном авантюристе, способном к тому же долго скрывать свои планы и намерения. А такой психологический портрет плохо вяжется с представлением о нем как о невинной жертве…
— Да… При условии, что Ордэн не ошибся… и что Сужаль и мадам Гажан говорили с вами совершенно искренне…
— Что вы имеете в виду?
— А то, что уже давным-давно нас предупреждали, Тони: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, ибо разве можно собрать с терновника виноград или с репейника смоквы?»[324]
— Прошу вас, переведите это, пожалуйста, на общедоступный язык!
— Возможно, Сужаль и мадам Гажан сказали вам правду, но не исключено также, что они лгали.
— Позвольте заметить вам, у меня есть некоторый опыт в таких делах!
— Самый богатый опыт обращается в ничто, Тони, когда вы влюблены.
Мои симпатии к Лафрамбуазу улетучивались с каждой минутой. Ожесточение инспектора против Эвелин приводило меня в бешенство. Но разговор так и не успел принять неприятный оборот — в палату вошел дежурный полицейский и передал больному записку. Иеремия прочитал ее и, отпустив подчиненного, повернулся ко мне.
— В конце концов, возможно, вы и правы, Тони. Только что обнаружили машину Гажана.
— Где?
— В Сент-Иняс.
— А что это за место?
— Деревушка в нескольких километрах от Сара, а значит, и от испанской границы.
— В Саре я — как у себя дома и знаю там нескольких ребят, которые так досконально изучили каждый сантиметр границы, что могут беспрепятственно бродить туда-сюда под носом у жандармов и карабинеров. Если Марк Гажан воспользовался услугами кого-то из них, я это тут же выясню.
— Значит, вы едете в Сар?
— Как только заправлю машину. До завтра.
— До завтра. И — удачи вам!
— Никаких следов самого Гажана, естественно, не нашли?
— Само собой, нет.
В Сар я приехал ближе к вечеру, уже в сумерках. Всю дорогу я опасался снежных заносов, но, к счастью, дело обошлось без бурь. Я снял комнату в гостинице «Аррайя», и отличный домашний паштет и цыпленок с грибным соусом окончательно настроили меня на самый оптимистичный лад. Рано утром я отправился повидать своего друга Испура — преклонный возраст не позволяет ему по-прежнему бродить по горам, и тем не менее он знает обо всем, что творится в округе. Испур встретил меня весьма сердечно — мы уже не раз вместе работали.
Для начала старик достал бутылку мадиранского вина, мы сели за стол и погрузились в воспоминания. Испур знает всех местных контрабандистов, и это он улаживает порой вспыхивающие между ними ссоры. Старик и сейчас выглядит крепыш крепышом, хоть лицо его и потемнело от горных ветров, в волосах прибавилось седины, да и плечи сгорбились чуть больше прежнего. Зато в глазах старого баска посверкивает все тот же молодой огонек — несомненный признак живого ума. Наконец, покончив с принятым между давними друзьями ритуалом, мы перешли к более серьезным материям.
— Ну, Тони, что вас привело сюда в такое время года?
— Надо разыскать парня, который помог перебраться через границу одному типу… я за ним охочусь…
— А что этот тип натворил?
— Убил моего лучшего друга, сделал его жену вдовой и осиротил малыша…
— Зачем?
— Чтобы не мешал ему предать собственную страну.
Испур немного помолчал.
— Такие люди не имеют права жить, Тони, — наконец твердо сказал он, — надеюсь, вам удастся поймать негодяя.
— Для этого мне понадобится ваша помощь… В первую очередь необходимо выяснить, кто его переправил на ту сторону.
— Вы приблизительно знаете, сколько дней назад это было?
Я назвал промежуток времени, когда Гажан мог оказаться в окрестностях Сара. Старик встал.
— Вы остановились в «Аррайе»?
— Да.
— Возвращайтесь туда, выпейте стаканчик за мое здоровье и ждите, пока я позову.
Около двух часов пополудни Испур передал, что приглашает меня на чашку кофе. Я немедленно бросился к нему. Старик познакомил меня с молодым и красивым парнем. Казался он слишком худощавым, но внешность обманчива, и этот поджарый, стройный юноша наверняка обладал стальными мускулами.
— Это Вэнсан Изочес… по-моему, он-то вам и нужен.
Я в нескольких словах объяснил Вэнсану, зачем ищу беглого инженера.
— Коли Испур говорит «надо помочь», так и я не стану перечить, месье Лиссей. Тот тип приехал сюда утром. Ко мне его послал Байгорри. Клиент объяснил, что на дороге сломалась машина, а ему до зарезу надо попасть в Испанию. Мы, как вы знаете, не задаем лишних вопросов. Кстати, он и оделся точь-в-точь так, как требуется для подобной прогулки.
— А не могли бы вы мне его описать?
— О, я его хорошо запомнил!
И Вэнсан Изочес набросал портрет, по моим понятиям вполне отвечавший описанию Марка Гажана. С этой минуты я уже не сомневался, что инженер удрал за границу, собираясь продать досье иностранным агентам.
Вернувшись в Бордо, я первым делом заехал в гараж к Сальваньяку и рассказал ему, что полиция нашла машину Гажана, а сам инженер несомненно сбежал в Испанию.
— Короче, наше дело глухо? — буркнул мой коллега.
— Ну, это решать не мне.
— Сегодня едете в Париж?
— Сегодня же вечером. Ребята из спецбригады попытаются выяснить, существует ли тут какая-нибудь шпионская сеть и не она ли помогла Гажану смыться, а расследование убийств Тривье и Сюзанны Краст передадут сыскной полиции.
— Так мы с вами больше не увидимся?
— Что ж… в ближайшее время — вряд ли… Я был чертовски рад с вами познакомиться, старина.
— Я тоже. Это напомнило мне старые добрые деньки.
Мы обменялись крепким рукопожатием, и я, оставив «воксхолл» хозяину, уже на такси поехал в больницу к Лафрамбуазу.
Инспектор выглядел как нельзя лучше. Ему я тщательнейшим образом описал все подробности расследования в Саре.
— Если когда-нибудь у вас в тех краях возникнут неприятности, не забудьте передать от меня привет Испуру. Старик наверняка сделает для вас все, что сможет, — закончил я, считая, что моя миссия уже завершена и остается лишь сказать «до свидания». Но Иеремия покачал головой.
— Екклесиаст учит нас: «…чужая жена — тесный колодезь; она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников… глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит, развратное, и ты будешь как спящий среди моря и как спящий на верху мачты»[325], — спокойно заметил он.
— Превосходно! И что же вы хотели этим сказать, любезный Иеремия?
— Да только то, что вы не желаете копнуть поглубже, поскольку версия о бегстве Гажана снимает подозрения с его супруги.
— Лафрамбуаз, дружище, боюсь, вы начинаете здорово давить мне на психику!
— Представьте себе, догадываюсь!
— Но откуда у вас такое озлобление против Эвелин Гажан?
— Во-первых, я вообще не доверяю женщинам, а во-вторых, хоть вы и уверены в обратном, по-моему, она по шею увязла в этой истории.
— Но у вас же нет никаких оснований…
— Есть! Два убийства и парочка покушений!
— Неужели вы думаете, будто она могла…
— Понятия не имею, как, впрочем, и о том, насколько мадам Гажан не виновна в преступлениях, которые стали возможными только из-за ее длинного языка. Откуда мне знать, Тони, нарочно она наболтала лишнего или случайно?
— И что дальше?
— Мне казалось, Тривье — ваш лучший друг?
— Оставьте меня в покое! В любом случае я обязан вернуться в Париж с отчетом, а оттуда меня, возможно, пошлют разыскивать Гажана в Испанию. Прощайте!
— Вы не хотите пожать мне руку?
— Да, конечно…
Однако я невольно сказал это так холодно, что Иеремия с грустной улыбкой заметил:
— Сдается мне, мы еще не завтра начнем работать в одной упряжке под началом вашего босса, а?
У меня не хватило мужества возразить.
Узнав меня, Эвелин попыталась немедленно захлопнуть дверь перед моим носом. И не сумей я доходчиво объяснить, что пришел сообщить очень важные сведения о ее муже, она ни за что не впустила бы меня в дом.
— Ну, чего вы еще хотите?
— Попросить у вас прощения.
— Прощения?
— За то, что я вас подозревал.
— Вот уж поистине странная метаморфоза!
— Она стала возможной только потому, что отыскался след вашего супруга.
Эвелин, тихонько вскрикнув, прижала руку к груди.
— Вы… вы нашли Марка?..
— Во всяком случае, его машину… Ваш муж оставил ее неподалеку от Сара.
— И что это значит?
— Что он бросил машину, собираясь перейти границу. Впрочем, я разговаривал с проводником — он высказался на сей счет совершенно недвусмысленно. Так что вам придется смириться с мыслью, что муж покинул вас и сбежал за кордон, мадам.
Эвелин посмотрела на меня с любопытством.
— У меня такое ощущение… что вас это радует…
— Совершенно верно.
— Но почему? Чего ради?
Неожиданно для самого себя я решил разом сжечь корабли.
— Потому что я люблю вас!
Мадам Гажан нервно рассмеялась.
— Странная любовь… для начала вы оскорбляете предмет своей страсти самыми дикими… чудовищными подозрениями…
Одним прыжком я оказался рядом с Эвелин на диване и схватил ее руки в свои.
— Неужто вы не поняли, что не для себя я искал доказательств вашей невиновности? Сам я в ней никогда не сомневался, но мне нужно было убедить других! Всякий раз, предъявляя вам очередное обвинение, я чувствовал, что у меня разрывается сердце. Ведь я люблю вас, Эвелин, люблю с той минуты, когда впервые увидел… Люблю до такой степени, что готов наплевать на работу… С тех пор как мы познакомились, я уже ни о ком и ни о чем не могу думать… У меня руки опускались, потому что вы принадлежали другому… Правда, я и мысли не допускал, что ваш муж снова появится здесь или позовет к себе… Нет, я опасался Сужаля… Но он сам сказал, что вы его не любите!.. А теперь вам не составит труда получить развод… И, если хотите, обещаю сделать все возможное, чтобы вы наконец стали счастливы!..
На глазах у Эвелин выступили слезы.
— Мне… так хотелось бы вам поверить, — глухо пробормотала она, — я боюсь завтрашнего дня… боюсь одиночества… Такой человек, как Сужаль, не сумел бы спасти меня от него… А увидев вас, Тони, я тоже пожалела, что не свободна…
Я обнял Эвелин, и она прильнула к моей груди. Вот уж никогда бы не подумал, что тепло красивого, молодого тела может взволновать меня до такой степени…
— Благодаря вам, Эвелин, я сейчас самый счастливый человек на свете… Сегодня вечером я поеду в Париж, доложу шефу о результатах расследования, а потом подам в отставку и сразу вернусь к вам… Вы будете меня ждать, правда?
— Теперь уже ничто не помешает мне ждать вас, Тони… Но постарайтесь управиться к Рождеству — тогда мы вместе отметим свой первый праздник!
— Даю слово!
В скором парижском поезде мне не удалось получить место в спальном вагоне — накануне Рождества наслаждаться комфортом могли лишь те, кто забронировал место заранее. Однако я все же разыскал свободный уголок в вагоне первого класса и втиснулся между толстой теткой, все время принимавшей меня за подушку, и каким-то беспокойным господином. В результате за всю ночь я ни на секунду не сомкнул глаз. Впрочем, я бы все равно не смог уснуть от восторга, смешанного с легкими угрызениями совести. В конце концов, что бы я там ни болтал в свое оправдание, но из-за любви к Эвелин нарушил обещание, данное себе самому, отрекся от мести за Тривье, предал его память, оставил на свободе убийцу Сюзанны Краст, простил негодяя, который пытался сбить меня на машине и ранил Лафрамбуаза… Я отказался от дружбы Иеремии и проявил черную неблагодарность… Да, надо честно признать, итог преотвратный. И я стал искать оправдания. Допустим, я продолжал бы преследовать убийцу Бертрана. Разве этим я сумел бы его воскресить? Кроме того, вместо меня наверняка пошлют кого-нибудь другого, а совесть рано или поздно замолчит. И потом, я люблю Эвелин, она любит меня, а все остальное не имеет никакого значения!
Патрон принял меня всего через несколько часов после того, как я вернулся в столицу, и выслушал доклад без единого замечания. Лишь когда я наконец замолчал, он подвел итог:
— Короче, по-вашему, Марк Гажан удрал в Испанию вместе с досье и бросил дома жену, которую, по общему мнению, обожал, — а сделал он это, надеясь повыгоднее продать изобретение иностранной державе и начать новую карьеру в лучших условиях?
— Да.
Патрон долго сверлил меня испытующим взглядом.
— Что с вами случилось, Тони?
— Не понимаю…
— Это слишком не похоже на вас. До сих пор вас никогда не удовлетворяли пустые, ничего не объясняющие решения.
— Однако, мне кажется…
— Вы неискренни, Тони. Вам не хуже моего известно, что, будь все так, как вы пытаетесь себя убедить, убийство Тривье выглядело бы совершенно абсурдным, равно как и гибель Сюзанны Краст, да и попытки устранить или хотя бы оставить без помощника вас самого. Кстати, этот инспектор, судя по всему, очень дельный малый.
— Раз уж пришлось к слову, Патрон, Лафрамбуаз хотел бы перейти сюда и работать у вас под началом.
— Вместо вас?
— Вместо меня?
— Разве вы не собирались подать в отставку?
— Не понимаю, с чего вы вдруг решили…
— Тони, если агент вашего класса и достоинств ведет себя как новичок, значит, он больше не любит свою работу, а у нас, как, впрочем, и везде, человек бросает нелюбимое дело.
Мне было так стыдно, что отнекиваться не хватило пороху, и Патрон все понял.
— Возвращайтесь домой, Тони… Подумайте несколько дней, а потом зайдите ко мне. Тогда мы и решим, что делать дальше. А тем временем я прикажу мадридским агентам поискать следы Гажана в Испании.
Ближайшие сутки я провел в таком убийственном настроении, что практически не выходил из дому. А потом позвонил в Бордо и долго разговаривал с Эвелин, пытаясь выразить словами, как страшно без нее скучаю. Эвелин спросила, подал ли я уже в отставку, и мой отрицательный ответ, похоже, ее успокоил. Она не хотела, чтобы я действовал сгоряча под влиянием минуты, но я ответил, что, кроме нас двоих, для меня больше ничего на свете не существует. А потом мы, как и полагается влюбленным, до бесконечности бормотали всякие нежные и бестолковые слова. После этого разговора я малость расслабился. Подумаешь, Патрон мной недоволен, так пусть поищет другого!
Наутро после разговора с Эвелин я получил письмо из Бордо, и на меня вновь нахлынули зловещие предчувствия. Лихорадочно вскрыв конверт, я вытащил листок бумаги и прочитал несколько отпечатанных на машинке строчек:
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».[326]
Лафрамбуаз!.. Только он один мог отправить мне подобное послание! И долго еще этот тип собирается отравлять мне жизнь? Я позвонил в бордоскую больницу и выяснил, что инспектор Лафрамбуаз уже не нуждается в строгом постельном режиме и навсегда покинул палату. Я перезвонил в полицию. Оказалось, Иеремия пока на работу не вышел. Зато дома я его сразу поймал.
— Алло? Иеремия?
— Это вы, Тони? Как поживаете?
— А как, по-вашему, я, черт возьми, могу поживать, если какой-то неудавшийся пастор ни с того ни с сего посылает мне цитаты из Ветхого Завета?
— Из Нового, Тони, из Нового…
— Ну и что? Я-то тут при чем?
— Вам бы следовало поразмыслить над мудрым советом.
— Да нет у меня времени «размышлять», как вы изволили выразиться!
— Жаль…
— Возможно, Иеремия, но, знаете, я буду очень вам обязан, если вы наконец оставите меня в покое. Дело Гажана меня больше не интересует!
— Правда?
— Чистейшая!
— Даже если бы вы узнали, что границу в Саре переходил вовсе не Марк Гажан?
— Вы что, рехнулись?
— Не хотелось бы вас сердить, но, по-моему, это скорее вам любовь совсем помутила рассудок и затмила глаза.
— Я не позволю вам!..
— Спокойно, Тони, спокойно! Гнев — дурной советчик. Повторяю вам, это не Гажан удрал в Испанию.
— Но кто, в таком случае?
— Вне всяких сомнений, убийца Тривье и Сюзанны Краст.
Наступило недолгое молчание.
— Я думаю, вам имеет смысл поскорее вернуться сюда, Тони, — вкрадчиво заметил Лафрамбуаз.
И он, не дожидаясь ответа, повесил трубку, чем окончательно довел меня до белого каления. Вне себя от ярости, я поклялся всеми чертями ада, что
не дам какому-то проклятому упрямцу навязывать мне свою волю! До Рождества — считанные дни. Но, поразмыслив, я решил, что, в конце концов, день-два ровно ничего не меняют и я могу приехать в Бордо чуть-чуть пораньше. Я позвонил Патрону, предупредил, что немедленно возвращаюсь на место расследования и, если узнаю что-нибудь новое, сразу же сообщу, однако в любом случае утром двадцать седьмого числа я приду к нему с окончательным докладом.
— Тони… Что вас опять потянуло туда? Любовь или… самолюбие?
— Возможно, и то, и другое.
— Тогда еще не все потеряно.
В Бордо, на вокзале Сен-Жан, меня охватило странное чувство — нежность с легкой примесью вины. То, что Эвелин сейчас мирно спит в этом городе, и до рассвета, когда все оживет и зашевелится, — еще несколько часов, рождало смутное ощущение обмана. Я как будто предал доверие Эвелин. В то же время из-за того, что она здесь, все становилось удивительно родным и знакомым. Короче, ступив на землю Бордо, я чувствовал себя как этакий повеса-муж, после капитальной попойки на цыпочках крадущийся в дом, чтобы не разбудить жену. Стояла холодная декабрьская ночь, но меня согревала любовь. Мне не терпелось поскорее снова увидеть Эвелин и попросить прощения неизвестно за что. Мои попутчики побежали кто к такси, кто — к друзьям и родным, и очень скоро я остался один. Сперва я чуть было не отправился в одну из ближайших к вокзалу гостиниц, но, заметив медленно едущее такси, решил, что лучше всего сейчас же наведаться к Лафрамбуазу. Раз по его милости я оказался на улице в такой поздний час, так пусть сам и расхлебывает последствия!
Я думал, что мне придется долго трезвонить в дверь и ждать, пока Иеремия вылезет из постели и стряхнет остатки сна, но, к моему величайшему удивлению, не успел я коснуться кнопки, как передо мной предстал улыбающийся и совершенно одетый Лафрамбуаз.
— Добрый вечер, Тони.
— Вы что же, еще не ложились?
— Я вас ждал.
— Но откуда вы могли знать?..
— Просто вы, несмотря ни на что, прежде всего отличный агент.
И я вошел, полусмущенно-полусердито пробормотав нечто невразумительное.
— Я приготовил пунш, Тони… Знаете, у нас, в Бордо, первоклассный ром…
Поведение добряка Лафрамбуаза меня почти растрогало, однако я не желал так быстро сдавать позиции. Но по крайней мере насчет рома Иеремия не соврал: он и впрямь оказался превосходным.
— А теперь растолкуйте мне, каким образом вы сделали последнее открытие.
— Да очень просто. Съездил в Сар, повидался с Испуром, а потом с Вэнсаном Изочесом.
— И что же?
— Ну и показал парню фотографию Марка Гажана. Изочес отродясь его не видел.
Я невольно выругался сквозь зубы: как же меня-то угораздило свалять такого дурака? А Лафрамбуаз без тени иронии пояснил:
— Подсознательно вам настолько хотелось, чтобы клиентом Изочеса оказался наш инженер, что описание проводника не могло не совпасть со сложившимся у вас представлением о Гажане.
— С чего вы взяли, будто мне этого хотелось?
— Так ведь бегство Гажана дает полную свободу его жене, верно?
— Вы действуете мне на нервы, Иеремия!
— Очень жаль, но тут уж ничего не попишешь.
— Ерунда! На самом деле сыскному полицейскому ужасно нравится, что он так здорово обскакал агента спецслужбы!
Лафрамбуаз мигом посерьезнел.
— Если бы я хоть на секунду мог принять это обвинение всерьез, Тони, немедленно попросил бы вас уйти и забросил расследование. Нет, дорогой мой, я продолжаю ковыряться в истории Гажана только из дружеской симпатии к вам и еще потому, что всерьез опасаюсь, как бы вам не пришлось пережить несколько очень неприятных часов…
— Я сказал Эвелин Гажан, что люблю ее.
— Да?
— И она тоже меня любит.
— Этого-то я и опасался.
— А чтобы уж быть откровенным до конца, могу добавить: я женюсь на ней и ухожу в отставку, чтобы иметь наконец возможность жить по-человечески.
Полицейский долго молчал, видимо обдумывая мои слова.
— Это случилось с вами впервые в жизни, не так ли? — наконец спросил он.
— Да.
— Так я и думал. В вашем возрасте это фатально.
Я опять начал сердиться:
— Ну давайте же, старина, начинайте! Расскажите мне, что это Эвелин убила Тривье, прикончила Сюзанну, приказала наемнику превратить меня в лепешку, а вас нафаршировала свинцом!
— И не подумаю!
— Ах, вы все-таки признаете, что это чушь?
— Да, и все-таки мадам Гажан косвенно виновата во всех этих преступлениях, поскольку именно она предупреждала об опасности человека, для которого убрать тех, кого вы только что перечислили, было вопросом жизни и смерти.
— Вы имеете в виду Марка Гажана?
— Не уверен. Скорее того, кто сбежал в Испанию, прихватив досье.
— По-вашему, это любовник Эвелин?
— Возможно…
— Вам чертовски повезло, Иеремия, что вы ранены, иначе я съездил бы вам по морде!
Лафрамбуаз посмотрел на меня с нескрываемым удивлением.
— Поразительно: то, что мадам Гажан, быть может, преступница, вас как будто не особенно волнует, но от одного предположения, что в ее жизни есть кто-то другой, вы готовы лезть на стенку! А ведь это куда менее тяжкая вина, правда?
— В общечеловеческом плане — да, но для меня — нет, поскольку это доказывало бы, что Эвелин мне лгала!
— Или не посмела сказать правду.
Я прекрасно отдавал себе отчет, что смешон.
— Ладно. Покончим с этим делом. Выкладывайте уж до конца!
— Теперь, когда нам известно, что в Испанию ездил не Гажан, придется признать, что это либо его сообщник (иначе откуда бы у него машина?), либо убийца…
— Убийца Гажана?
— А вам разве не приходило в голову, что, очень может быть, Марк Гажан — только жертва? Что инженер и в мыслях не держал предавать свою страну, но его убили и обокрали?
— С ведома жены? Какая гнусность!
Лафрамбуаз вздохнул.
— Опять вы все сводите к ней! Да я понятия не имею, участвовала мадам Гажан в предполагаемом убийстве или нет! Могли отлично обойтись и без ее помощи. Представьте, например, что Гажана прикончили, когда он загонял машину в гараж, и сразу спрятали тело? Тогда ваша Эвелин имела все основания думать, что муж ее действительно бросил, особенно если преступление совершил кто-то из близких друзей, хорошо знавших привычки Гажанов, и даже не обязательно любовник. Действуя таким образом, молодчик мог продать изобретение Марка за огромные деньги, а заодно освободил от брачных уз его жену. Возможно, он надеялся, что когда-нибудь Эвелин, устав от одиночества, уступит его домогательствам?
— Вы пытаетесь меня успокоить или действительно так думаете?
— Действительно думаю.
— Ох, до чего же мне хочется вас расцеловать, Иеремия!
Полицейский улыбнулся.
— Быстро же вы кидаетесь из крайности в крайность!
Теперь, когда я наконец и сам поверил, что Эвелин не замешана в этой грязной истории, ко мне быстро возвращалась надежда на будущее.
— Как по-вашему, Иеремия, кому подошло бы описание Изочеса?
Инспектор долго колебался.
— Боюсь торопить события… но, может, это и Сужаль…
У меня — будто камень с души свалился.
— Но если Сужаль убил и ограбил Гажана, почему никто до сих пор не нашел тело?
— Тут у меня тоже есть кое-какие предположения… Но они вполне потерпят до утра. А пока, если угодно, можете переночевать здесь. Лучше, чтобы о вашем возвращении пока не знала ни одна живая душа.
Я попытался было возразить, что ничуть не устал, но Лафрамбуаз, торжественно воздев перст, изрек:
— «Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду»…[327] Надеюсь, вы не собираетесь перечить Псалмопевцу, Тони?
Как только я открыл глаза, в комнату вошел Лафрамбуаз. В руках он нес так плотно уставленный снедью поднос, что мог бы накормить и самого изголодавшегося гостя.
— Не надо обращаться со мной, как с каким-нибудь анемичным молокососом, Иеремия! Я вовсе не нуждаюсь в усиленном питании… — возмутился я.
— Вы провели в поезде большую часть ночи, а нас ждет нелегкий денек.
— А который час?
— Восемь.
— Фу, какой стыд!
— Ну так, может, утопите его в кофе?
Пока я завтракал с преотменным аппетитом, Лафрамбуаз, не желая тратить времени даром, продолжал прерванный накануне разговор.
— Если вы способны сделать над собой небольшое усилие, Тони, попытайтесь на сегодня совершенно выбросить из головы мадам Гажан — я хочу, чтобы никакие посторонние мысли не отвлекали нас от дела. Давайте пока оставим в стороне вопрос, играла она во всем этом какую-либо роль или нет, согласны? Сейчас нам важно одно: это не Эвелин ездила в Испанию. Стало быть, займемся исключительно путешественником, добравшимся до Сара на машине Гажана, а заодно поищем тело.
Я чуть не опрокинул чашку.
— Тело?
— На сиденьях машины обнаружены пятна. Мне только что сообщили о результатах экспертизы, и лаборатория подтверждает, что это, несомненно, кровь. Теперь я окончательно убедился, что мы с вами должны восстановить добрую память убитого инженера.
— Убитого? Но тогда Эвелин…
— Молчок, Тони! Вспомните, мы договорились не упоминать о мадам Гажан. Может, она ни о чем не догадывается, а может, знает куда больше нашего, но об этом мы подумаем потом. Что до меня, то я все больше склоняюсь к версии, о которой говорил вам ночью: кто-то подкараулил инженера в гараже, убил его, а потом увез труп с собой.
— Куда?
— Надеюсь, еще до вечера мы это выясним. Вы сыты?
Я отодвинул поднос:
— Не то слово!
— Тогда даю вам пятнадцать минут на бритье и все прочее, а потом — за дело.
— И куда мы поедем?
— В Кап-Фэррэ…
— На дачу к Сужалю?
— Отрадно видеть, что шарики у вас вертятся в нужном направлении, — иронически заметил Лафрамбуаз. — Так я вас жду.
В половине девятого мы выехали из дома инспектора. Стояло ясное, морозное утро. До Рождества оставалось всего два дня, и сердце у меня сжималось от тревоги. Удастся ли мне отпраздновать его вместе с Эвелин или ее посадят в тюрьму?.. Моя любимая в наручниках… Представляя себе эту картину, я уже не мог спокойно любоваться улицами Бордо — мешал комок в горле. Все мое существо противилось страшному видению. Эвелин? Нет, невозможно! Дичь и бред!
В Фактюре мы свернули направо — к Андерно-ле-Бэн, миновали Арес и меньше чем в трех километрах от этой деревушки поехали на сей раз налево — в таинственную глубину и безмолвие зимнего леса. Проехав Пикей, мы слегка отклонились от берега моря и наконец увидели стоящий среди высоких сосен домик.
— Мы на месте, — лаконично оповестил меня Лафрамбуаз.
В самом коттедже мы не нашли ничего интересного — там было всего две комнаты, причем одна — совсем крошечная, и такая кухня, где и повернуться-то негде, да еще крытая веранда. Короче, самый заурядный загородный домишко. Мы быстро вышли на воздух.
— Если тело Марка Гажана зарыто где-то здесь, то наверняка не у моря — оттуда кто-нибудь мог бы заметить, как убийца делает свое черное дело, — проворчал Иеремия. — Пойдемте-ка лучше за дом.
Мы медленно двинулись в сторону сосен, и по дороге мой спутник рассказывал, на чем основаны его надежды:
— Со дня преступления сюда, очевидно, никто не приезжал. Эвелин Гажан вряд ли пришло бы в голову томиться тут в полном одиночестве. Виновна она или нет, но ехать в этот уединенный уголок было совершенно незачем. Как печаль, так и угрызения совести в равной мере сделали бы поездку невыносимой. Если убийца — Фред Сужаль, то я тоже плохо представляю, зачем ему бродить на месте преступления. В общем, Тони, я очень рассчитываю отыскать какие-нибудь следы — во-первых, воздух здесь слишком влажный и земля почти не затвердела, а во-вторых, волоча на себе тело, человек не мог ступать, как кошка, и должен был оставить довольно глубокие отпечатки подошв. Согласны?
— Вполне… Вы, вероятно, были отличным бой-скаутом, Иеремия?
— И по-прежнему им остался, Тони. А теперь — за работу.
Честно говоря, я не особенно гожусь для игры в индейцев, и все-таки мне доставляло истинное наслаждение наблюдать, как Лафрамбуаз идет, пригибаясь к земле, словно принюхиваясь, и то наклоняется над какой-нибудь сломанной веточкой, то вдруг поднимает комочек земли и разминает в пальцах. Едва зарубцевавшиеся раны, видать, нисколько не стесняли движений Иеремии, разве что он еще чуть заметно прихрамывал. Я тоже старался изо всех сил, но для меня лес всегда есть лес и одно дерево похоже на другое. К полудню мы (во всяком случае, я) совершенно вымотались, но так ничего и не обнаружили. И, по правде говоря, успели исследовать лишь крошечную часть леса. Я прикинул, что в таком темпе мы и за месяц вряд ли прочешем хоть один гектар, и честно признался Лафрамбуазу, что следопыт из меня никуда не годный, а потому не вижу особого смысла в его затее, но мой пастор-недоучка лишь в очередной раз сослался на Писание:
— «…истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас».[328]
Немного помолчав, он уже обычным тоном добавил:
— Этот Сужаль куда крепче, чем я предполагал. Вероятно, он уволок тело подальше. А я не желаю верить, будто агенты спецслужб знают, что такое усталость. Давайте-ка перекусим и — опять за дело!
Иеремия достал из багажника корзинку, и мы быстро утолили как голод, так и жажду. Не будь на дворе зима, такой пикник, пожалуй, доставил бы мне удовольствие, но сейчас, даже кое-как разведя огонь в печурке, мы дрожали от холода.
Наконец, когда уже начали сгущаться сумерки, где-то справа от меня послышался ликующий вопль Лафрамбуаза. Мы уже успели отойти от хижины Сужаля метров на пятьсот к северу. Я бросился к инспектору, и тот показал мне глубоко отпечатавшийся в земле след каблука. А уж идти дальше по этому следу было для Лафрамбуаза детской игрой. Еще около сотни метров — и мы оказались у груды хвороста. Я принялся энергично расшвыривать ветки и когда наконец добрался до земли, то и не обладая особым полицейским чутьем, можно было сообразить, что тело Марка Гажана покоится именно здесь.
— Из-за этих чертовых ран мне придется взвалить всю работу на вас, Тони, — сказал Иеремия. — Для начала сбегайте к машине за лопатой. На всякий случай я прихватил с собой все необходимое. Не можем же мы вернуться в Бордо, не убедившись, что он тут?..
Меньше чем через пятнадцать минут я снова стоял рядом с Лафрамбуазом и свинчивал саперную лопату, а он держал в руке мощный фонарь. Нервное возбуждение удесятеряло мои силы, и не прошло даже получаса, как я извлек на свет — или, точнее, в полутьму зимнего вечера — бренные останки Марка Гажана. Холод сохранил тело, и запах не слишком отравлял наше существование. Иеремия без малейшего отвращения преклонил колени, кисточкой очистил от земли лицо покойника и негромко проговорил:
— «И это — суета и зло великое! Ибо что будет иметь человек от суеты? И какое же воздаяние всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем?»[329]
Лафрамбуаз осторожно повернул голову убитого и попросил меня посветить. И мы увидели рану на затылке.
— Вы не ошиблись, Иеремия.
— Парня ударили сзади, и сделал это либо кто-то из своих, от кого он никак не ждал нападения, либо убийца подкрался незаметно… Та же история, что и с Сюзанной… Да, скорее всего мое предположение насчет гаража — верно.
Такая версия меня вполне устраивала, поскольку она обеляла Эвелин, по крайней мере в том, что касалось активной части преступления. Для очистки совести мы проверили карманы покойного, но, конечно, ничего не нашли. Я сказал Лафрамбуазу, что мстить за смерть Марка Гажана — не мое дело, я должен в первую очередь разыскать драгоценное досье, а трупы охотно уступлю другим.
— Верно, Тони, но раз мы теперь можем вычеркнуть беднягу Гажана из списка подозреваемых, круг значительно сужается. Если, как на то указывают обстоятельства, убийца — Сужаль, ему, хочешь не хочешь, придется заодно рассказать, куда он девал интересующие вас бумаги.
— Вы собираетесь сразу сообщить о находке к себе в управление?
— Торопиться некуда… Несчастный инженер вполне может еще денек-другой полежать в одиночестве. Убийца не должен знать, что мы нашли его жертву.
Глава 5
Все эти жуткие поиски и раскопки взволновали нас с Лафрамбуазом куда больше, чем нам хотелось показать. Поэтому на обратном пути оба мы угрюмо молчали. Только на подступах к Бордо Иеремия впервые за все это время открыл рот:
— Вы честно заработали награду, Тони, так что можете навести марафет и, если угодно, повидаться со своей возлюбленной. А заодно сообщите ей и о смерти мужа…
— И вы еще называете это наградой?
— По-моему, для вас главное — побыть рядом с ней, а уж тема разговора имеет второстепенное значение, разве нет?
— Но вы ведь, насколько я помню, хотели пока сохранить известие в тайне?
— С тех пор я успел подумать. Если мадам Гажан замешана в убийстве, она поспешит предупредить Сужаля, а тот бросится в Кап-Фэррэ и попробует заново спрятать тело, на сей раз — понадежнее. Там мои люди и застукают его с поличным. Но коли Фред Сужаль не двинется с места — ваша Эвелин ни при чем.
— А вам не кажется, что вы предлагаете мне сделать хорошенькую подлость, Иеремия?
— Да нет же, это самый обычный тест, старина. И вам он нужен не меньше моего. Вы что, боитесь?
— Да.
— А ведь куда лучше узнать правду до того, чем после, верно?
— Вы несомненно правы…
— Вот и прекрасно. А потом сошлитесь на срочную работу и приезжайте ко мне часов в десять. Я позвоню Сальваньяку, и мы втроем обсудим, каким образом лучше провести последний (хоть в этом можно не сомневаться!) бой. Да, и еще одно: намекните, будто я собираюсь послать за телом Гажана завтра на рассвете. Таким образом, Сужаль проведет на редкость приятную ночку!
Я сам себя не узнавал. До сих пор, хоть я и не считал себя «крутым» парнем, по крайней мере старался поддерживать репутацию человека, которому лучше не наступать на ногу без извинений, неплохого агента, весьма увлеченного работой и довольно равнодушного ко всему остальному. И вдруг в тот вечер накануне Сочельника я размяк, как тряпка. Не кривя душой, могу признаться, что забыл о Тривье, о его вдове и малыше, а заодно и о Сюзанне Краст, и что досье Марка Гажана заботило меня не больше, чем прошлогодний снег. По-настоящему меня волновало только одно: любит ли меня Эвелин и удастся ли нам вместе начать новую жизнь. И этой-то женщине, которой я дорожил как зеницей ока, я должен был расставить ловушку, рискуя погубить и ее, и себя? Больше всего меня пугало даже не то, что Эвелин могла оказаться замешанной в убийстве мужа, а последствия разоблачения. И мне же еще доказывать ее вину?
Я позвонил Эвелин из квартиры Лафрамбуаза. По-моему, она искренне обрадовалась, услышав мой голос, и боялась лишь, как бы я не отменил наше первое совместное торжество — Эвелин уже начала к нему готовиться! Я кое-как постарался успокоить ее на сей счет и, сказав, что позже у меня важные дела, предложил увидеться немедленно. Чувствовалось, что мой странный тон удивил молодую женщину, но она и не подумала спорить, а, напротив, сказала, что я могу приехать когда вздумается.
Собираясь ехать в Кордан, на пороге комнаты я столкнулся с Лафрамбуазом. Здоровой рукой он похлопал меня по плечу.
— Наберитесь мужества, Тони, и помните слова, сказанные Им в час смертной муки: «Отче Мой, если не может чаша сия миновать, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя».[330]
— Ладно-ладно, Иеремия… Можно мне взять вашу машину?
— Разумеется… Мы с Сальваньяком ждем вас к десяти часам, ну а попозже сходим выпить по рюмочке в «Кольцо Сатурна».
От улыбки Эвелин мне стало больно. А она, видимо, сразу почувствовала неладное.
— У вас дурные новости, Тони?
— Одна — хорошая, другая — плохая.
— Тогда, если можно, начните с хорошей, ладно?
— Мы напрасно подозревали Марка Гажана — он не бросал вас и не изменял родине.
Эвелин просияла от счастья.
— Это правда? — воскликнула она.
Я кивнул, моя любимая от радости, наверное, плохо соображая, что делает, бросилась мне на шею и расцеловала в обе щеки. В другой ситуации я бы прижал ее к груди и долго не отпускал, но сейчас даже не шевельнулся, и Эвелин, словно поняв, что творится у меня на душе, резко отстранилась.
— А теперь скажите мне плохую новость, Тони…
— Она… связана с тем, каким образом мы… убедились в невиновности вашего мужа…
— Ну?.. Так как же?
— Мы нашли его тело…
Эвелин отшатнулась, будто я ее ударил.
— Его те… ло?
— Да, Марка Гажана убили.
— Уби…
— Так же, как моего коллегу Бертрана Тривье, так же, как Сюзанну Краст…
Эвелин беззвучно заплакала, и ее тихая скорбь растрогала меня больше, чем самые бурные проявления горя. На сей раз я подошел и тихонько обнял ее за плечи.
— А разве вы никогда не думали о такой возможности? — чуть слышно спросил я.
— Я… я старалась не думать об этом… Бедный Марк… так много работать… так надеяться на блестящее будущее… Где он сейчас, Тони?
— Там, где мы его нашли, — в лесу за хижиной, где вы проводили выходные.
— У Фреда?
— Да, у Фреда.
— Но… почему он так поступил?
— Мы как раз собираемся об этом спросить, точнее, Лафрамбуаз, потому что меня, строго говоря, касаются только чертежи и вычисления вашего мужа.
— А вы их… не нашли? — пробормотала Эвелин.
— Нет.
— Значит, Марка убили из-за его изобретения?
— По-моему, так.
— Но как мог Фред… Должно быть, он с ума сошел! Иначе это просто необъяснимо! Да, конечно, бедняга повредился в рассудке…
— Психиатры, безусловно, осмотрят Сужаля, но, между нами говоря, вряд ли они сочтут его больным. Скорее это законченный мерзавец.
Что тут еще скажешь? Эвелин достала бутылку виски — обоим нам очень не мешало взбодриться.
— Тони… вы не привезли Марка сюда?
Грудь мне сдавило, как стальным обручем. Эвелин сама включила дьявольский механизм ловушки, которая, возможно, прихлопнет и ее, и меня.
— Нет, мы оставили его там… Завтра на рассвете Лафрамбуаз прихватит с собой специалистов и…
— Бедный Марк… — печально прошептала Эвелин. — Еще целая ночь… и никого рядом…
Она посмотрела на меня.
— Тони, а как его…
— Так же, как Сюзанну Краст, — ударили сзади по голове.
— Боже мой… Боже мой…
Ее всхлипывания и трогали меня, и невольно будили ревность, так что я неожиданно для себя рассердился. Если мадам Гажан не любила мужа, то к чему слезы? Или она все-таки притворяется? Может, Сальваньяк и Лафрамбуаз, с самого начала подозревавшие Эвелин по меньшей мере в соучастии, не так уж неправы? Но она, должно быть, снова угадала, о чем я думаю.
— Я оплакиваю не любимого мужа, Тони, а друга… рядом с которым прожила много лет… Марк не заслуживал такой страшной смерти…
Мы еще долго говорили обо всем и ни о чем, а потом мне настало время прощаться и ехать к Лафрамбуазу.
— Вам и в самом деле нужно идти, Тони? Это так необходимо?
— Да…
— Я боюсь оставаться одна… Но уже завтра вечером вы обязательно придете, правда?
— Обещаю вам.
— Невеселое получится Рождество…
— Пускай! Для меня главное — провести его с вами!
— Спасибо, Тони… От всего сердца благодарю вас.
Первым заговорил Лафрамбуаз.
— Очень трудно пришлось, Тони?
Я молча пожал плечами, а Сальваньяк встал и дружески хлопнул меня по спине.
— Инспектор мне уже все рассказал… Да, как ни кинь, а мерзко выходит… Надеюсь, однако, вы не забыли, что я вас предостерегал?
— Знаю-знаю! Все меня дружно предостерегали! Все наперебой говорили о ней гадости! И, очень может быть, с полным на то основанием… Только что это меняет, а?
— Ничего… — буркнул Иеремия. — А теперь нам пора заглянуть в «Кольцо Сатурна» и попробовать тамошнее виски.
Мне так же хотелось туда ехать, как повеситься.
Девица в гардеробе, очевидно по нашим лицам поняв, что мы пришли сюда отнюдь не развлекаться, не стала ни любезничать, ни задерживать нас дольше обычного. Метрдотель, судя по всему, пришел к точно такому же выводу, поэтому он выбрал самый неудобный столик и сразу исчез, не поинтересовавшись заказом.
— Мы, видать, не самые желанные гости в этом заведении, как по-вашему? — заметил Лафрамбуаз.
Сальваньяк улыбнулся:
— Боюсь, что так оно и есть.
— Что ж, как-нибудь переживем!
В конце концов какой-то официант все-таки снизошел до переговоров и даже принес заказанное виски. Пригласивший нас Лафрамбуаз, услыхав, во что это ему обойдется, невольно вздрогнул и, по обыкновению, процитировал Библию:
— «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья!»[331] — так говорил пророк Аввакум…
— Надо полагать, ваш приятель?
Шутка Сальваньяка немного разморозила атмосферу. Потом на сцену вышла Линда Дил, и мы на время отвлеклись от разговоров. Слушая певицу, я вспоминал о нашей короткой встрече возле кабаре и о мелькнувшем в ее глазах страхе. Вот уж с кем мне непременно надо потолковать по душам!
Как только Линда покинула сцену, я проскользнул следом, за кулисы. Увидев в зеркало, кто стоит на пороге, девушка не могла скрыть исказившего ее черты ужаса.
— Чего вы от меня хотите? — резко обернувшись, бросила мисс Дил. — Видела я в зале вашу троицу! Какую гадость вы опять замышляете против Фреда?
— Всего-навсего пытаемся узнать правду об исчезновении Марка Гажана.
— Не там ищете!
— Не уверен, красавица, тем более что, представьте себе, мы его уже нашли!
— Ну да?
— Да!
— И где же он?
— В лесу, спит себе там, где убийца вырыл могилу.
— Убийца?
— Да, поскольку, если уж вас интересуют подробности, сначала несчастному инженеру позаботились разнести голову.
Мисс Дил бессильно упала на стул.
— Это не Фред!
— Откуда вы знаете?
— Знаю, и все тут!
— Не очень-то убедительное доказательство, а?
Казалось, Линда готова броситься на меня с кулаками.
— Ну скажите наконец, за что вы так упорно преследуете Фреда?
— Только за то, что тело Марка Гажана обнаружено на его участке в Кап-Фэррэ.
— Умоляю вас, поверьте, вы ошиблись! — немного поколебавшись, быстро проговорила мисс Дил.
— Так докажите это!
— Не здесь… лучше приходите завтра в одиннадцать утра ко мне домой… Адрес — улица Монсле, дом сто тридцать семь, четвертый этаж…
— Прекрасно, ничего не имею против.
Внезапно глаза певицы округлились от страха. Я обернулся: в дверях стоял Сужаль. Слышал ли он наш разговор? Я был почти уверен, что да.
— Вот как, месье Лиссей, вы тоже интересуетесь моей «звездой»?
— Ты ошибаешься, Фред! — воскликнула мисс Дил.
— Помолчи! Лучше б петь научилась, чем заигрывать с фараонами!
Я решил, что пора и мне вставить слово.
— Как бы фараону не пришлось поучить вас вежливому обращению с дамами, Сужаль!
Он шагнул навстречу:
— Когда-нибудь я по-настоящему изукрашу вам физиономию!
— Тогда советую поторопиться, ибо я всерьез опасаюсь, что скоро вы навсегда лишитесь подобного удовольствия!
Как ни странно, он умудрился взять себя в руки.
— Послушайте, Лиссей, можете сколько угодно волочиться за Линдой — мне плевать, но я не потерплю, чтобы вы с утра до ночи таскались за мной с единственной целью позлить!
— Вовсе не за этим, Сужаль!
— Тогда чего ради?
— Я все еще не теряю надежды услышать от вас чистосердечное признание.
И я вышел из артистической уборной, прежде чем хозяин кабаре нашелся с ответом.
На лицах моих спутников читалось неприкрытое любопытство, наверное, оба немало поломали голову, раздумывая, куда и зачем я столь стремительно исчез. Я рассказал о разговоре с Линдой и объяснил, чего от него жду. Девушка, по-видимому, искренне убеждена, что своими признаниями может полностью обелить возлюбленного, а стало быть, постарается выложить все, что о нем знает, — уж в этом-то я не сомневался. Беспокоило меня одно — слышал ли Сужаль конец нашего разговора? Понял ли он, что Линда назначила мне свидание? К несчастью, я совершенно не представлял, каким образом это можно выяснить. Но Сальваньяк возразил, что существует вполне надежный способ проверить реакцию Сужаля. Раз мы договорились на одиннадцать, они с Лафрамбуазом могли бы подежурить на улице Монсле с десяти и понаблюдать, кто входит в дом. Если Сужаль в курсе, то, как пить дать, прибежит туда пораньше, понимая, что при нем девушка ничего не скажет, да и впредь воздержится от каких бы то ни было откровений.
— А что мешает Сужалю зайти к мисс Дил еще раньше, а то и прямо сейчас запретить любые упоминания о его особе? — буркнул Лафрамбуаз.
— В любом случае мы можем рассчитывать только на психологию этого типа. Вряд ли он доверяет Линде, а раз так — во что бы то ни стало захочет присутствовать при ее разговоре с Лиссеем. Возможно, Тони, для него это еще и шанс отплатить вам за публичное унижение… Если я вас правильно понял, Сужаль тщеславен как павлин и больше всего печется о своем самолюбии.
В конце концов мы решили рискнуть и договорились, что Сальваньяк заедет к Лафрамбуазу около девяти и отвезет нас обоих на улицу Монсле.
В ту ночь я спал очень плохо. Казалось, часы нарочно тянутся невыносимо долго. Мне не терпелось дождаться утра и узнать, замешана ли Эвелин в убийстве мужа и предупредила ли она Сужаля после моего ухода. Около шести я услышал, как Лафрамбуаз на цыпочках вышел из дому, собираясь вместе со своей бригадой ехать за телом Марка Гажана… если, конечно, труп все еще там… Тут я наконец погрузился в какое-то отупение и потерял счет минутам, а очнулся лишь когда Иеремия влетел в комнату и, широко распахнув ставни, весело крикнул:
— Подъем, лентяй! Через пятнадцать минут приедет Сальваньяк!
Жизнерадостный настрой инспектора мигом привел меня в чувство. Я вскочил.
— Ну?
— Можете спокойно пировать со своей очаровательной вдовушкой, Тони. Тело Марка Гажана мы отправили в морг. Никто к нему не прикасался, и моя версия убийства в гараже подтверждается. Я ужасно рад за вас.
А я испытывал такое облегчение, что просто онемел от счастья. Не будь свидания на улице Монсле и нашей мышеловки, я бы с удовольствием снова залез под одеяло и до полудня промечтал о будущей жизни с Эвелин.
Как и предполагалось, мы приехали на место около десяти. Каждый выбрал себе надежное укрытие. Иеремия устроился в крохотной лавчонке, словно нарочно расположенной напротив дома 137; Сальваньяк притаился за углом дома 139, а я — в подъезде дома 135. Не в меру любопытной консьержке пришлось сунуть под нос удостоверение. Старуха благоразумно отстала, и началось тоскливое ожидание.
Без четверти одиннадцать я вдруг заметил Сужаля. Уже то, что он шел пешком, выглядело подозрительно — похоже, Фред на всякий случай решил не привлекать внимания к своей пижонской машине. Я по уговору бросил на тротуар напротив крыльца маленький бумажный шарик, нисколько не сомневаясь, что мои коллеги настороже и готовы выскочить в любую минуту.
При всей закоренелой враждебности к Сужалю не могу сказать, чтобы он казался испуганным. В дом Линды он вошел, даже не взглянув по сторонам, поэтому, следуя заранее подготовленному плану, никто из нас не двинулся с места. Мы решили, что в подобном случае я ровно в одиннадцать позвоню в дверь певицы, а Лафрамбуаз и Сальваньяк подождут на лестнице, пока я их не позову… например, чтобы познакомить со знаменитой артисткой или задать пару неприятных вопросов ее приятелю Фреду. Но все наши планы неожиданно полетели в тартарары. Без пяти одиннадцать Сужаль как ошпаренный выскочил из подъезда дома мисс Дил, на мгновение замер, словно не зная, на что решиться, потом, очевидно взяв себя в руки, размашистым шагом двинулся в ту же сторону, откуда пришел. Но едва Фред поравнялся с моим подъездом, как я преградил ему дорогу. Хозяин кабаре, с ужасом посмотрев на меня, отскочил, но тут же наткнулся на Иеремию, а замаячивший в ту же секунду чуть поодаль силуэт Сальваньяка лишил его последней надежды на отступление. И парень не выдержал:
— Это… н… не я… клянусь вам…
Мы с Сальваньяком и Лафрамбуазом переглянулись и, подхватив Сужаля под руки, вместе вскарабкались на четвертый этаж.
Иеремия позвонил, предварительно напомнив, что никто не должен прикасаться к дверной ручке. Обалделый вид Фреда вызвал у каждого из нас самые худшие опасения. Мы немного подождали, но никто не отозвался, и Лафрамбуаз сам открыл дверь отмычкой. Сальваньяка он попросил подождать на лестнице с Сужалем, а мне знаком предложил идти вместе.
Линда Дил лежала ничком у самого входа. Умерла она точно так же, как Сюзанна Краст и Марк Гажан. Да и орудие убийства — бронзовая ваза — так и лежало рядом с телом. Бедная Линда! Я посмотрел на инспектора.
— По-моему, на сей раз ему конец, Иеремия.
— Я тоже так думаю. Ведь предсказывал же Софония: «И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа…»[332] А пророчества всегда сбываются, Тони, и Сужаль очень скоро убедится в этом на собственной шкуре.
В квартире мы не заметили никакого беспорядка. Все указывало на то, что Линду, как и остальных, убил человек, не внушавший ей опасений. И все же одна мелочь привлекла мое внимание: на пианино стояла рамка без фотографии. Иеремия взял ее в руки, осмотрел и покачал головой:
— Фото слишком торопились убрать и поэтому действовали грубовато: запор сломан, а на картоне — свежие царапины. Пожалуй, самое время задать несколько вопросов месье Сужалю.
Проходя мимо тела Линды, Фред невольно всхлипнул. Лафрамбуаз позволил ему сесть, а потом, как и положено полицейскому, начал допрос:
— Скверная история, а?
— Это не я, клянусь вам!
— Вы знали, что Линда назначила здесь свидание месье Лиссею?
— Нет.
— Так-так… стало быть, вы заглянули совершенно случайно?
— Линда сама меня позвала!
— Вот как?
— Да, позвонила часов в девять утра… сказала, что ей надо поговорить со мной о чем-то очень важном… что она может довериться только мне одному и просит прийти чуть раньше одиннадцати… Так я и сделал.
— А потом?
— Дверь в квартиру была неплотно притворена. Я вошел и чуть не споткнулся о тело Линды. Сначала я подумал, что ей внезапно стало плохо, и, нагнувшись, попытался поднять. Вероятно, при этом я испачкался в крови…
— И что дальше?
— Я остолбенел от ужаса, боясь шевельнуться… Ну а придя в себя, думал только об одном: как бы поскорее унести ноги.
— Почему?
— Я испугался… — Сужаль ткнул пальцем в мою сторону. — Этот тип так и ходит за мной по пятам… И я подумал, что для него это идеальный случай взвалить на меня убийство! Поэтому я потерял голову и удрал, захлопнув за собой дверь…
— Вы, конечно, не имеете ни малейшего представления, чего от вас могла хотеть Линда Дил?
— Нет… более того, сейчас я даже не очень уверен, что звонила именно она…
— Вам что, голос плохо знаком?
— Разумеется, я прекрасно знаю ее голос! Но звонок меня разбудил, и поскольку она назвалась, я не стал вслушиваться… а вот теперь думаю, что тембр вроде бы и похожий, но не совсем…
— Сужаль… Линда была вашей любовницей?
— Никогда в жизни!
— Покажите карманы!
— Но…
— Покажите карманы!
Не смея спорить, Фред дрожащими руками выложил перед нами на стол клочки разорванной фотографии. Как мы быстро убедились, своей собственной…
— Значит, у вас все-таки хватило времени вытащить ее из рамки?
— Да.
— Выходит, любовницей вашей мисс Дил не была, но карточку на пианино держала?
— Я ничего об этом не знал! Я тут вообще в первый раз!
— А зачем же вам понадобилось рвать фото?
— Как раз в надежде избежать того, что происходит сейчас!
— Сужаль, — вклинился в разговор я, — вы хоть не станете уверять, будто понятия не имели, что Линда вас любит!
— Нет, но сам я оставался к ней равнодушен, и вам, Лиссей, должно быть лучше других известно, что все мои помыслы устремлены в другую сторону!
— Ну, старина, не вы первый, не вы последний могли запросто кормиться в двух стойлах разом!
Не ухвати Сальваньяк Фреда за плечи, тот точно бы на меня бросился. А Иеремия по-прежнему невозмутимо подвел итог:
— Фред Сужаль, вы признаете себя виновным в убийстве Линды Дил?
— Нет.
Полицейский не стал настаивать. Он молча снял трубку и вызвал бригаду.
Мы втроем обедали в «Лагайярд». Против всех ожиданий, особого удовлетворения никто не испытывал. Общее недоумение наконец высказал Лафрамбуаз:
— Все как будто указывает, что Сужаль и есть убийца Марка Гажана, Тривье, Сюзанны Краст и Линды… Но если первое и последнее убийства можно объяснить сердечными делами — прикончив инженера, Фред освободил его жену, а влюбленная в него Линда, возможно, мешала осуществить давнюю мечту, угрожая разоблачениями… то при чем тут Сюзанна Краст и Тривье?
Не он один мучился подобными вопросами.
— А вдруг на самом деле Сужаль только симулировал безумную страсть к Эвелин Гажан? — предположил Сальваньяк. — Волей-неволей подумаешь, что парень всех обвел вокруг пальца. Он убил инженера только из-за досье, которое так интересует нас с Лиссеем.
— Значит, по-вашему, он отвез бумаги в Испанию?
— Честно говоря… не вижу другого объяснения.
Иеремия недоверчиво покачал головой:
— Странно… Может, я питаю кое-какие иллюзии и придерживаюсь слишком высокого мнения и о вас, агентах спецслужб, и о ваших противниках… но, положа руку на сердце, никак не могу поверить, что Сужаль — ловкий преступник международного класса, совершивший все эти преступления… Как бы это выразить поточнее?.. Ну, короче, по-моему, калибр не тот…
Я чувствовал примерно то же самое и возразил лишь для порядка:
— Знаете, Иеремия, вам все-таки не стоит давать волю фантазии! Самых ценных разведчиков вербуют среди горничных, домохозяек, мелких клерков да гостиничных служащих… Правда, Сальваньяк?
— Вне всяких сомнений… Впрочем, разве Изочес не описывал вам парня, которого он водил в Испанию через сарские Громы? Помнится, вы говорили, он смахивает на Сужаля…
— Это верно… Что ж, ладно! Оставим-ка Сужаля размышлять о превратностях судьбы в тюремной камере… по меньшей мере до утра. А уж потом идите и расспрашивайте его о знаменитом досье. Потом, независимо от того, добьетесь ли вы результата, я займусь им сам. Так что постарайтесь не затягивать. А на сем я с вами прощаюсь, господа, и желаю обоим счастливого Рождества. Вам, Тони, я отдаю свой ключ. Уходя, оставьте его, пожалуйста, консьержке — у меня еще полно дел в управлении…
Я подвез Сальваньяка до гаража, а сам вернулся к Лафрамбуазу в таком же подавленном настроении, как и у моих коллег. Я не отличаюсь излишней чувствительностью — иначе наверняка выбрал бы работу поспокойнее, но такое нагромождение дурацких, бессмысленных убийств даже меня невольно вышибало из колеи. А больше всего злило ощущение, что с самого начала я был отнюдь не на высоте. Те, кто доверился мне — Сюзанна Краст и Линда Дил, — погибли, да и Иеремия лишь чудом спасся от смерти. И особенно унижало, что решительно все вокруг видели, как бездарно я веду расследование. В первую очередь, конечно, Лафрамбуаз… и Сальваньяк тоже поглядывал на меня с откровенной жалостью, словно говоря, что в его времена агентов спецслужб кроили на другую стать. И наконец, Патрон без лишних проволочек поставил диагноз…
Ночью я так плохо выспался, что решил немного полежать, но в голове продолжали прокручиваться последние события. В конце концов я пришел к выводу, что Иеремия опять, бесспорно, прав, и, невзирая на все мои личные симпатии и антипатии, Фред Сужаль даже отдаленно не напоминает тех людей, с которыми мне приходилось бороться в последние десять лет. Но тогда, быть может, мы изначально сделали ошибку, сведя в одно два совершенно разных дела? Вероятно, нас ввело в заблуждение то, что в обоих замешаны те же лица… Кто знает, не перепуталось ли наше с Сальваньяком расследование с самой обычной сентиментальной драмой?
Сужаль любил Эвелин, а та в свою очередь не питала особой привязанности к мужу, слишком занятому работой ученому. Тогда Фред мог убить Марка просто для того, чтобы избавиться от него. В таком случае можно предположить, что влюбленная в Сужаля Линда, узнав каким-то образом о преступлении, попыталась с помощью шантажа отбить его у прекрасной вдовы… Впрочем, возможно также, что, сообразив, как тщетны все ее усилия, певица задумала отомстить, выдав мне с головой убийцу Марка Гажана. Но так или этак, а подобные истории касаются исключительно Лафрамбуаза… Нас же, что самое паршивое, эта версия ни в коей мере не продвигает к заветному досье — судьба его по-прежнему туманна, не говоря уж о том, что убийства Тривье и Сюзанны остаются полной загадкой. Меж тем я нисколько не сомневался, что гибель обоих напрямую связана с изобретением Гажана. И внезапно в моей памяти всплыло еще одно имя: Турнон.
Я воображал, что маленький директор завода бесится от ревности, но на самом деле, возможно, он отчаянно боялся, как бы Сюзанна не рассказала мне о его роли в убийстве Тривье… А Бертрана Турнон мог застрелить, если тот нашел какую-то связь между ним и похищением досье… Кто лучше директора завода знал истинную цену бумагам инженера? Но тогда почему бы не допустить, что он же прикончил и Марка? В конце концов, Турнон наверняка слышал о загородных поездках Гажанов… Я помнил, с какой настойчивостью директор завода пытался внушить мне, что приличия ради перестал поддерживать с Гажанами дружеские отношения… Кроме того, от страха Турнон мог визжать фальцетом, и не исключено, что спросонок Сужаль действительно принял его голос за женский…
Само собой, в таком сценарии набиралось неправдоподобно много благоприятных для Турнона случайностей. И мне скрепя сердце пришлось признать, что выглядит куда убедительнее, если допустить, что Эвелин не разорвала связи с бывшим шефом, а вместе с ним подготовила убийство мужа, похищение досье и его продажу за кордон. Но кто же тогда ездил в Сар? Да кто угодно! Может, сюда приезжал тамошний агент, а может, они сами отправили посредника… От одной мысли, что Турнон ухитрился меня провести, а Эвелин бессовестно обманула, кровь застилала глаза. Ей я готов был простить решительно
все, кроме тайных шашней с противным коротышкой. И это само по себе красноречиво свидетельствовало, что я больше не имею права оставаться агентом спецслужбы, ибо предал общее дело, как и своего друга Бертрана. В какую же первостатейную сволочь я превратился! Угрызения совести заставили меня позвонить Иеремии, чтобы поделиться с ним последними умозаключениями, но мне ответили, что инспектор Лафрамбуаз улетел на вертолете в неизвестном направлении. На вертолете? Вот странная мысль! Что это ему взбрело в голову? Я чуть не перезвонил Сальваньяку, но, представив, чего он еще наговорит об Эвелин (в конце концов, не Сальваньяк ли с самого начала настраивал меня против нее?), малодушно оставил телефон в покое.
Около восьми вечера, хорошенько отлежавшись, я полностью восстановил если не душевное равновесие, то хотя бы спортивную форму, и еще раз попробовал связаться с Иеремией, но мне снова сказали, что не знают, где он. Я выяснил лишь, что около семи Лафрамбуаз забегал к себе в кабинет, но всего на несколько минут. Впрочем, у инспектора могли быть свои дела и он имел полное право на какое-то время забыть обо мне, тем более он прекрасно знал, что я собираюсь праздновать Рождество с Эвелин. И все-таки мне очень хотелось изложить ему с таким трудом вымученную новую версию… Что ж, справлюсь сам, как большой… Полчаса спустя я вышел на улицу. Резко похолодало, но на прояснившемся небе мерцали звезды. Вскоре я добрался до почти опустевшей Интендантской аллеи. Закутанные в шубы и пальто мужчины и женщины спешили с подарками к друзьям. Именно в такие праздники, как Рождество, одиночество ощущаешь особенно остро. Можно сколько душе угодно хохотать над прописными истинами, но рано или поздно всем нам приходится на себе проверить их справедливость.
Пешая прогулка меня здорово взбодрила. Похоже, физические усилия вообще помогают поставить нервы на место. И я уже без прежней горечи думал о безнадежности всех моих попыток найти себе место под солнцем. Да, конечно, с материальной точки зрения мне жаловаться не на что… Ну а завтра? У нас не накопишь денег на обеспеченную жизнь в отставке, меж тем ее срок обычно наступает рано, слишком рано… И при этом ты крайне редко способен на что-либо путное. Правда, идя на работу в спецслужбу, человек никогда не задумывается, чем все это кончится. Так оно лучше.
Я вышел на площадь Комеди, свернул в Аллеи Турни и двинулся по бесконечной улице Фондодеж. Счастье еще, что мне удалось поймать таксиста, возвращавшегося в Кодран и не утратившего надежды кого-нибудь подвезти по дороге.
Около десяти часов я уже звонил в дверь Эвелин. Молодая вдова встретила меня очень мило, и ее нежность так согрела мне сердце, что я устыдился черных мыслей, не дававших покоя весь день.
— Тони… как бы мне хотелось, чтобы мы праздновали этот день в других обстоятельствах…
— Но когда б не они, Эвелин, мы бы никогда не познакомились!
Она проводила меня в гостиную. Нас страшно тянуло друг к другу, но, словно сговорившись продлить удовольствие, мы долго наслаждались разговорами, вспоминая разные эпизоды прежней жизни. Разумеется, моя отличалась куда большей пикантностью, чем размеренное существование Эвелин. Но так или иначе, описывая то некогда любимые места, то погибшего друга, то делясь сокровенными мыслями, мы как будто возводили фундамент будущего счастья и почти не заметили, как стрелки подошли к полуночи.
С последним ударом часов Эвелин, повинуясь внезапному порыву, упала в мои объятия, и мы обменялись первым поцелуем.
— Тони… Узнай об этом кто-нибудь, меня бы, наверное, осудили… но Марк был только верным другом… братом… А я хочу жить!
Я еще крепче прижал ее к себе.
— И я тоже! Довольно с меня прежнего существования… и вечной неуверенности в завтрашнем дне… Надоело болтаться в чужих городах, которые так навсегда и остаются враждебными… И вечно — смерть, страдания, боль, насилие, преступления… Нет, любовь моя, я тоже мечтаю совсем о другом!
Мы сели друг напротив друга за маленький столик в стиле Второй империи. Эвелин составила весьма изысканное меню: паштет в желе, холодный цыпленок, вычищенный внутри и залитый ароматным соком с мякостью ананас и шампанское. Оба и без слов чувствовали себя упоительно счастливыми. Я так опьянел от восторга, что из головы напрочь вылетели все мрачные подозрения, вернее, они просто перестали меня волновать. На свете больше не существовало ничего, кроме нас двоих. Возможно, где-то далеко, очень далеко и существует «земля людей», но нас она нисколько не интересовала. Мы тихонько включили радио.
— Тони, время летит так быстро… ужасающе быстро… Как подумаю, что прошло только три недели с тех пор, как Марк покинул меня навсегда… а теперь и вся моя жизнь вот-вот совершенно изменится… Кажется, я так и вижу: Марк берет у меня ключ от гаража, потом издали машет рукой… Да, Тони, этот черный с белым рукав, наверное, в какой-то мере был символом, знаком судьбы… и указывал он полный поворот…
Ледяное покрывало внезапно опустилось мне на плечи, сдавило грудь, мешая дышать. Куртка Гажана… как я мог о ней забыть? Эвелин сразу почувствовала происшедшую во мне перемену.
— Что с вами, Тони?
— Пустяки, дорогая Эвелин, почти ничего… Просто вы дали мне неоспоримое доказательство того, что с первой встречи лгали мне!
— Вы с ума сошли?
Причудливая смесь печали и ярости, как ни странно, вернула мне утраченную ясность мысли.
— Не пытайтесь оправдываться, Эвелин… Избавьте меня от унизительного зрелища… Я сам нашел тело вашего мужа, дорогая, и на нем было что-то вроде блузона… Зачем убийца стал бы переодевать жертву?
— Я… я, наверное, ошиблась… Память подвела… Марк всегда надевал ту яркую куртку, когда мы уезжали на выходные… Теперь я действительно припоминаю, что в тот день на нем был блузон… Но я так привыкла к этой крупной черно-белой клетке, что она невольно застряла в памяти…
— Тогда… Принесите мне эту куртку, Эвелин!
Она тут же сникла. На красивом личике ясно читались страх и злоба. И все-таки она еще пробовала разыграть оскорбленную добродетель:
— Значит, вы мне не верите?
— Нет.
Эвелин попыталась пустить в ход другое оружие.
— Тони, неужели вы готовы все испортить из-за какой-то дурацкой истории с курткой?
— Не такой уж дурацкой, Эвелин, поскольку этот пустячок, мелочь запросто может обернуться для вас пожизненным тюремным заключением…
— Вы уже сами не знаете, что говорите!
— Да то-то и оно, что знаю… если угодно, могу объяснить, почему вы не в состоянии принести сюда черную с белым клетчатую куртку своего мужа. Просто ее еще в Кап-Фэррэ, совершив убийство, надел ваш сообщник, и это он привез вас домой. Соседи из дома напротив приняли его за Марка — вот их-то как раз ввела в заблуждение привычка видеть его в черно-белом, да и разглядели они только протянутую за ключом руку. И эти честные, порядочные люди, сами того не ведая, с первых минут повели следствие по ложному пути, без всякого злого умысла обманув Сальваньяка и Лафрамбуаза. Так ваш любовник убил мужа, чтобы украсть у него досье, верно?
Эвелин ответила не сразу. Стараясь оттянуть время, она нарочито медленно закуривала. На радио легкие песенки сменила литургия, а мы уже вернулись к повседневности. Конец празднику!
— Не любовник, Тони, а компаньон.
— Турнон?
Она на мгновение замялась.
— Вы намного проницательнее, чем я думала.
— Где досье?
— Здесь.
— Значит, в Испании вы только наводили мосты?
— Да.
— И кого же вы туда посылали?
— Какая разница?
Я встал.
— Вы правы… Я не служу в уголовной полиции. С трупами разберется Лафрамбуаз… Мне нужны только бумаги, на остальное — чихать.
Эвелин в свою очередь поднялась.
— Насколько я понимаю, у меня нет выбора?
— По-моему, тоже.
Она подошла к секретеру. Раздался щелчок, и деревянная панель соскользнула в сторону. Эвелин повернулась ко мне. В левой руке она держала объемистый пакет, в правой — револьвер. Я восхищенно присвистнул.
— Что, почувствовали вкус к кровопролитию?
— Я не хочу, чтобы все, уже совершенное, оказалось бесполезным… Эти бумаги стоят целое состояние! Сейчас на них есть три покупателя. Для меня это твердая гарантия приятной, хорошо обеспеченной жизни… Вы не такой, как другие, Тони, вы не из стада… И я уверена, что вы любите меня. Я тоже вас люблю. Зачем нам думать о других? Уедем вместе. Устроимся за границей и попробуем жить счастливо. Я не сомневаюсь, что у нас это получится. Но если вы своим упрямством вынудите меня убить вас, я уж точно никогда не смогу быть счастливой. Да и вы, сдав меня полиции, тоже не утешитесь до самой смерти.
Эвелин говорила чистую правду. Да, я любил ее и к тому же потерял всякий интерес к работе. Так зачем приносить себя в жертву какой-то заскорузлой морали? Я тоже (хоть, разумеется, и по совсем другим причинам) совершил несколько убийств. Да, Эвелин цинична, но разве я — нет? Взаимная любовь может изменить нас обоих. При этом я ничем не рискую. Признав, что задание провалено, я подожду несколько месяцев и действительно уйду в отставку. Кстати, очень удачно получилось, что об этом уже шла речь. А потом уеду к Эвелин, куда-нибудь в Америку, и мы заживем вместе.
— Ну, Тони, так что вы решили?
Я хотел раскрыть объятия и тем навсегда скрепить договор, но радио вдруг заиграло «Толстяка Билла», песенку, которую непрестанно насвистывал Тривье. Удивительная случайность… И меня охватило такое чувство, будто мой прежний товарищ нарочно вернулся из мира теней, чтобы напомнить о прежних обещаниях, о том, что я имею право сделать, что — нет. А за спиной Бертрана стояли несчастная Сюзанна и хрупкая Линда, погибшие по моей вине…
— Эвелин… кто убил Тривье?
— Мой компаньон.
— Зачем?
— Ваш коллега застал нас за разговором.
— А Сюзанна?
— Она ревновала… А от ревности порой умнеют, Тони. Сюзанна знала, что мы с Турноном часто видимся. Очевидно, она испугалась, как бы я снова не взяла его в оборот. А потом, вероятно, Марк поделился с ней своими терзаниями — он тоже, скорее всего, думал, что я ему изменяю… в прямом смысле слова.
— А Линду за что?
— Слепая любовь к Сужалю помогла ей сообразить, какая над ним нависла опасность. Меж тем нас вполне устраивало то, что ваши подозрения падали на Фреда.
— Так, значит, это Турнон в то утро…
— Да.
— А как же с фотографией?
— Турнон вставил ее в рамку уже после того, как убил Линду.
— И вы не испытывали ни малейшей жалости ни к несчастной молодой женщине, ни к человеку, который так преданно вас любил?
— Дураки меня не интересует.
— Тогда стреляйте, Эвелин, потому что я тоже дурак! Глупо было верить вам, полюбить вас… и еще глупее — что я по-прежнему вас люблю!
Она слегка приподняла дуло револьвера.
— Подумайте еще немного, Тони… Мы любим друг друга… Зачем же нам ссориться из-за каких-то покойников?
— Слишком поздно, Эвелин, я уже принял решение. Предпочитаю умереть дураком.
Но рука с револьвером вдруг бессильно опустилась.
— Я не могу в вас выстрелить, Тони, потому что и в самом деле люблю… Вот уж никогда бы не подумала, что со мной это может случиться!.. Послушайте… Отпустите меня… дайте себе время на раздумье… Может, когда-нибудь вы все-таки ко мне приедете? Я готова ждать сколько угодно…
— Нет… Могу вам предложить только одно: вы отдаете мне досье, а я жду несколько часов, чтобы вы успели сбежать в Испанию. Перебравшись через границу, вы мне позвоните, и тогда я отправлюсь в Париж с докладом.
— И потом приедете ко мне?
— Не думаю.
— Значит, мне надо либо убить вас, либо отказаться от всех надежд, ради которых я стала соучастницей стольких преступлений?
— Совершенно верно.
Эвелин пристально смотрела на меня. А мне хотелось умереть. Агент контрразведки, способный вести себя так, как я, не заслуживает ничего, кроме смерти. Она снова вскинула револьвер, и я чуть-чуть напрягся. Казалось, палец вот-вот нажмет на курок. В голове мелькнуло, что Лафрамбуаз с Сальваньяком, обнаружив завтра мой труп, наверное, скажут, что либо я напрасно не слушал их предупреждений, либо мою славу хорошего агента сильно преувеличили. Но Эвелин вновь опустила руку.
— Не могу! — жалобно простонала она. — Тони, у меня не хватает мужества убить единственного человека, которого я когда-либо любила!..
Я поймал на лету брошенное ею досье, а Эвелин сквозь слезы добавила:
— Хорошо, я уеду, Тони… и позвоню вам, когда перейду границу… но все же, несмотря ни на что, я до конца жизни буду надеяться, что когда-нибудь вы приедете… Дайте слово, что мы еще увидимся, Тони!
Все это настолько меня потрясло, что я не успел ответить, как вдруг сзади послышался еще один голос:
— Нет, Эвелин, он не приедет.
Я медленно повернулся. У двери, держа нас обоих под прицелом, стоял Сальваньяк. Я остолбенел. Сальваньяк! А он, видимо прочитав в моих глазах безмерное удивление, рассмеялся.
— Ну да, Тони, за всем этим стоял я.
— Сальваньяк… Не могу поверить!
— Почему же? Садитесь, Тони, и вы тоже, Эвелин… Только не дергайтесь, ясно? Иначе я сразу выстрелю… Эвелин, дорогая, вы собирались поступить со мной очень некрасиво… Продали меня с потрохами, а? И кто бы мог заподозрить, что у вас есть сердце и что это сердце воспылает к нашему Тони? Ведь она вас и вправду любит, Тони, тут не может быть ни малейшей ошибки… Кстати, если это еще способно вас порадовать, могу уверить, что между нами нет ничего, кроме нескольких убийств.
Эвелин словно окаменела на стуле. Казалось, взгляд Сальваньяка ее гипнотизирует. А я по-прежнему недоуменно таращил глаза.
— Ну вот, Тони, а теперь мне придется убить и вас. Правда, сделаю я это без особого удовольствия, потому что, честно говоря, вы мне нравитесь, но речь идет о моей безопасности, а вы достаточно долго варитесь в нашем котле и, следовательно, должны понимать, что в таких вопросах ни о каких личных симпатиях даже и думать нечего.
— Но почему? С какой стати? Вроде бы ваш гараж на полном ходу… Чего вам еще не хватало?
— Боюсь, вы подумаете, что у меня мания величия, но — тем хуже! Они вышвырнули меня в отставку, Тони, решив, что я заработал на их службе слишком много ран и уже никуда не годен! Вот мне и захотелось доказать обратное. Присутствующая здесь дама предоставила мне такую возможность, поэтому-то, отделавшись от вас, я заберу ее с собой и честно вручу половину денег. Этого вполне хватит, чтобы вести жизнь, о которой она всегда мечтала. Да, я готов забыть о чуть не совершенном предательстве и даже посочувствовать. Все мы знаем, что такое ослепление страсти…
Эвелин попыталась меня спасти.
— Антуан… я готова уступить вам свою долю, но, прошу вас, не трогайте Тони…
— Невозможно, дорогая моя… Что бы он сейчас ни говорил, но потом крепко сядет на хвост и не отцепится или, во всяком случае, изрядно осложнит жизнь. А я не хочу никаких неприятностей.
По правде сказать, я вовсе не думал о своем крайне ограниченном будущем. Все мои мысли занимало сейчас одно: я хотел понять, почему и каким образом Сальваньяку удалось обмануть нас с Иеремией. Но это не укладывалось в голове. А Сальваньяк все урезонивал Эвелин:
— Берите пример с него, дорогуша. Поглядите, как он спокоен. Не то чтоб смирился, но не рыпается. А почему? Потому что понимает: у меня нет другого выхода. Люди нашей профессии слишком хорошо знают, что против лома нет приема.
Она умоляла. Сальваньяк не желал ничего слушать.
— Вот что, дорогая, постарайтесь вести себя с таким же достоинством, как наш друг Тони. Его куда меньше занимает собственная судьба, чем то, что тут произошло на самом деле. Именно это он сейчас и надеется угадать.
Я посмотрел ему в глаза.
— Так оно и есть.
— Что ж, старина, поскольку сегодня Рождественская ночь и нам никто не помешает, я не прочь просветить вас на сей счет. Говоря по правде, мне и самому будет приятно услышать от вас, что я всех очень ловко обставил. На самом деле и эта история, как все гениальное, до смешного проста. Для начала талантливый ученый Марк Гажан женился на безумно тщеславной женщине, поставившей не на любовь, а на его будущие достижения. Истинная натура этой дамы известна, пожалуй, лишь ее прежнему любовнику, господину Турнону, человеку слабому и безвольному, а также одной из бывших коллег — ныне покойной Сюзанне Краст.
Эвелин опустила голову, и я не видел выражения ее лица.
— Вопреки его собственным уверениям, если Турнон и впрямь не поддерживал с Гажанами дружбы домами, то с Марком он остался в превосходных отношениях. Он первым узнал, что инженер добился результата. И почти сразу в дело вступил я. Поскольку влюбленный в Эвелин Фред Сужаль считался ближайшим другом семьи, мадам частенько бывала у него в «Кольце Сатурна», где работала моя подружка Линда Дил…
— Что? Линда Дил была…
— Ну да… Надеюсь, ваше изумление вызвано скорее обстоятельствами, нежели моими внешними данными… Впрочем, наша связь оставалась для всех тайной, и даже Сужаль о ней понятия не имел — во-первых, потому что не видел никого, кроме своей Эвелин, а во-вторых, Линда любила Фреда. Мы с мадам Гажан здоровались как завсегдатаи кабаре, а потом, когда я получил из Парижа приказ приглядывать за Марком, быстро сговорились. Как-то вечером Эвелин поделилась со мной жестоким разочарованием: муж закончил работу и как истинный патриот собирался даром отдать изобретение родине, в то время как весьма заинтересованные в подобных исследованиях правительства других стран с удовольствием отвалили бы за него миллионы. С этой минуты все шло как по маслу.
Эвелин подняла голову, и я увидел, что она плачет.
— Замолчите, Антуан… хотя бы из сострадания…
— Почему? Разве я не обязан по крайней мере все объяснить уважаемому коллеге? И потом, я не желаю лишать себя удовольствия доказать месье Лиссею, что при всей своей блестящей репутации он оказался куда слабее меня!
Я полагал, что лучше дать Сальваньяку выговориться до конца. Как только он умолкнет — мне конец. Так что стыдливость Эвелин Гажан меня не особенно тронула.
— Поскольку Марк не желал ничего слушать, оставалось только избавиться от него и забрать бумаги. Я убил его в машине, в Кап-Фэррэ, надел его куртку, и это мою руку видели соседи Гажанов. В тот же вечер я помчался к испанской границе и там оставил машину, чтобы создалось впечатление, будто инженер сбежал. Сам же, пользуясь случаем, встретился в Испании кое с кем из возможных покупателей. А когда я вернулся, тут уже подняли тревогу и из Парижа приехал Тривье.
— А вы его убили…
— Что ж мне еще оставалось делать, если мадам, нарушив строжайший запрет, явилась ко мне в гараж? Тривье видел нас вместе, и я сразу понял, что мое знакомство с женой внезапно растворившегося в воздухе инженера показалось ему более чем подозрительным. Этим ваш приятель и обрек себя на смерть. К несчастью, прежде чем идти к Турнону, он успел поболтать с Сюзанной Краст и рассказать ей о неожиданной встрече. После убийства Тривье Сюзанна сделала вывод, что его предположения были верны. Судя по тому, как Турнон обошелся с вами, Тони, ему секретарша не сказала ни слова. Зато, увидев вас и сразу поддавшись вашему обаянию, она решила все выложить. Но мне повезло — вы разоткровенничались с Эвелин, она меня предупредила, и я успел вовремя убрать Сюзанну Краст. Однако после этого дело осложнилось — теперь в него вмешался еще и Лафрамбуаз, и я, хорошо зная редкое чутье нашего Иеремии, стал опасаться неприятностей.
— И не без оснований, Сальваньяк, он не оставит вас в покое.
— Не сомневаюсь, потому-то нам с мадам Гажан и придется удрать чуть раньше, чем мы хотели. Не стану скрывать, Тони, после смерти Сюзанны Краст я попал в ужасно затруднительное положение, но судьба снова сыграла мне на руку — вы по уши влюбились в Эвелин. Потрясающее везение! С помощью своей сообщницы и одновременно то и дело предостерегая вас против нее (кстати, согласитесь, что это было тонко разыграно), я старался укрепить ваши подозрения против Сужаля. А вы от ревности очертя голову бросились прямиком в ловушку! Когда же вы откопали тело Гажана на участке Фреда, подозрения превратились в уверенность. Но на сей раз случай меня чуть не погубил, и опять из-за женщины! Только Линда Дил, обожавшая Фреда, угадала правду. И если она до сих пор не говорила вам ни слова, то лишь потому, что имела все основания меня бояться. Правда, я кое-что пообещал на случай возможного предательства, и у Линды было множество причин хорошенько подумать, прежде чем лезть на рожон. Однако любовь оказалась сильнее страха. Убедившись, что вы не шутите и действительно готовы обвинить Сужаля в убийстве, Линда решила все рассказать и назначила вам свидание. По доброте душевной вы меня и об этом любезно предупредили. Следовательно, настала очередь мадемуазель Дил перебраться в мир иной. И я придумал замечательный фокус, которым, уж простите за нескромность, Тони, и сейчас немало горжусь. Эвелин звонком разбудила Фреда и, подражая голосу Линды, сказала, что хочет сообщить нечто очень важное о смерти Марка, и попросила зайти к ней около одиннадцати. Поставив вас с Лафрамбуазом на улице Монсле, я разыграл вас как мальчишек. Дом сто тридцать девять, у которого я выбрал укрытие, граничит с маленьким двориком, куда выходит пожарная лестница дома сто тридцать семь. За несколько минут до появления Сужаля я поднялся к Линде, убил ее и, вынув из рамки свою фотографию, сунул туда карточку Фреда в полной уверенности, что страх толкнет его на очередную глупость и этот дурень порвет «компромат». У Сужаля куда больше мышц, чем мозгов. Все прошло великолепно, без сучка без задоринки, и я уже облегченно перевел дух, как вдруг с удивлением услышал из ваших уст, старина, что вы празднуете Рождество с Эвелин. Меня это до крайности изумило. Я позвонил мадам, и у нее не хватило ловкости обвести меня вокруг пальца. Я понял, что в очередной раз столкнулся с любовью и придется снова принять меры предосторожности. Поэтому в конечном счете именно ей вы и обязаны своей преждевременной смертью, Тони.
Эвелин тихонько вскрикнула:
— Нет! Нет! Хватит крови! Довольно преступлений!
— Успокойтесь, дорогая… Теперь мы просто вынуждены довести дело до конца. Между прочим, Тони, я уже давно стоял за этой дверью и слушал ваш разговор. Поздравляю, отличная работа. Вы блестяще использовали мою единственную ошибку. Да, я напрасно не переодел труп Гажана, после того как разыграл небольшую сценку для соседей. Но, по правде сказать, у меня не хватило решимости вернуться в Кап-Фэррэ, снова откопать тело, а потом еще раз зарыть. Согласитесь, однако, что вы и не догадывались о моей роли в этой истории, пока я не появился здесь собственной персоной?
— Верно, Сальваньяк, вы до последней минуты водили меня за нос.
— Спасибо. Поверьте, Тони, даже выслушав ваши разоблачения, я долго не решался закончить дело таким образом, но любовь к вам мадам Гажан не оставила мне выбора. Слушая ее влюбленный лепет, я понял, что не пройдет и нескольких минут… и Эвелин назовет вам мое имя, как уже отдала досье, ради которого я стал преступником… Мы оба — жертвы любви, Тони. Уж простите, старина.
Он поднял револьвер, но Эвелин выстрелила первой. На беду, она слишком нервничала и пуля, не причинив Сальваньяку никакого вреда, пробила дверной косяк. Зато Антуан, ни разу за все это время не утративший выдержки, не промахнулся. Эвелин умерла мгновенно, прежде чем ее тело коснулось пола. А стрелок, как ни странно, вовсе не обрадовался собственной меткости.
— Жаль… Я этого не хотел. Но, сами видите, она заставила меня защищаться, а стреляю я быстро и хорошо. Досадно, что так получилось… Эвелин по-настоящему вас любила, и сейчас представила лучшее тому доказательство.
Я не ответил. Зачем? А Сальваньяк меж тем колебался.
— Слушайте, Тони, чтобы жертва Эвелин не пропала даром, я готов сохранить вам жизнь, но при одном условии: вы возвращаете мне досье и даете честное слово не предпринимать ничего в течение суток. Согласны?
— Нет.
— Вы подписываете себе приговор.
— Тем хуже.
— Но это же настоящее самоубийство. Чего ради?
— Я вынужден поступить так по причинам, которых вы больше не в силах понять: из верности данному слову, ради памяти погибшего друга и, можете смеяться, из чувства долга.
— Ну, вы сами сделали выбор, Тони.
Он поднял руку, а я зажмурился. Прогремел выстрел, но я так ничего и не почувствовал. Неужели Сальваньяк нарочно промазал? Я открыл глаза. Сальваньяк, держась за грудь, со стонами корчился на полу. По пальцам его струилась кровь. А на пороге стоял старый добрый Иеремия.
— По-моему, я успел вовремя, — только и сказал он.
Сальваньяк, с трудом разогнувшись, сел на полу.
— Скорее позвоните в больницу! — взмолился он. — Или я сдохну от потери крови…
Я молча нагнулся и вынул из судорожно сжатых пальцев Эвелин револьвер. Сальваньяк сразу все понял.
— Вы… вы ведь не…
— Да!
— Не посмеете…
— Еще как! Хотя бы ради профессиональной чести, Сальваньяк… Никто из наших людей не может быть предателем.
Я выстрелил, не дав ему ответить ни слова, а потом обернулся к Лафрамбуазу.
— Прошу прощения, что нарушил слово, Иеремия… Но я любил Эвелин… Постарайтесь устроить так, чтобы вскрытия не делали или по крайней мере чтобы его результаты не создавали нам лишних трудностей. А если понадобится, я попрошу шефа вмешаться.
Иеремия кивнул и, прежде чем вызвать подкрепление, заметил:
— «…и Я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них: потому что Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах Моих и избирали то, что неугодно Мне» — так свидетельствует пророк Исайя.
Эпилог
Иеремия захотел непременно проводить меня на вокзал Сен-Жан — я возвращался в Париж на утреннем скором, увозя в чемодане досье Гажана. Время еще оставалось, и мы стали бродить по перрону.
— Короче, — объяснил Лафрамбуаз, — впервые у меня возникли кое-какие сомнения, когда мы втроем обедали в «Лакайярд». Помните, я говорил, что никак не могу представить Сужаля в роли международного преступника такого класса? Но если он невиновен, то где искать убийцу? Однако по-настоящему подхлестнуло меня то, что Сальваньяк назвал точное место, где Изочес якобы вел Фреда через границу. Ни вы, ни я не знали, какой маршрут тогда выбрал проводник. Так откуда это мог выяснить наш коллега? Поэтому, распрощавшись с вами, я сел в вертолет и помчался в Сар показывать Изочесу фотографию Сальваньяка. Тот сразу сказал, что это тот тип, которого он в ночь после первого убийства водил через границу. С этой минуты все стало ясным как божий день, и то, что нам казалось фантастикой и абсурдом, на самом деле было проще простого, поскольку вы ставили преступника в известность о каждом нашем шаге. Вернувшись из Сара, я, чередуясь кое с кем из своих инспекторов, начал следить за Сальваньяком, а когда узнал, что он отправился к мадам Гажан, где вы празднуете Рождество, тут же примчался.
Громкоговоритель оповестил пассажиров, что пора занимать места. Я пожал Лафрамбуазу руку.
— Завтра же я попрошу Патрона устроить ваш перевод к нам, Иеремия. По-моему, мы с вами многого добьемся вместе.
— Я тоже так думаю, Тони, — спокойно отозвался Лафрамбуаз, пристально поглядев мне в глаза.
НАША ИМОЖЕН
Посвящается Эвелин и Рене Гесслер
Ш.Э.
Глава 1
Злоключения любви
Они шли, взявшись за руки и не говоря ни слова, в печали и недоумении от того, что мир (в лице родителей Дженет) противится их страсти нежной.
Медленно влюбленные брели по берегу озера Веннахар, чьи прозрачные воды в то весеннее утро казались огромным световым пятном среди скал Троссакса — гордости маленького городка Каллендера.
Даром что шотландцы, Дженет и Ангус были романтиками, а потому верили, что не смогут жить друг без друга и даже смерть не так страшна, как вечная разлука. Они уселись на гниющий в траве ствол дерева и задумались о ближайшем будущем, которое явно не сулило ничего хорошего. Первой нарушила молчание девушка.
— Ангус, о, Ангус… что с нами будет?.. — простонала она.
У парня комок подступил к горлу. Он обхватил спутницу за плечи и нежно притянул к себе.
— Не знаю, Дженет… но в одном я уверен: я люблю вас и никому не позволю нас разлучить.
Дженет улыбнулась. Она была так молода, что еще верила в могущество слов и обещаний.
— Лучше мне вообще не выходить замуж, чем стать женой другого, Ангус…
Они помолчали — и каждый в эти минуты наслаждался утешительным сознанием того, что ему отвечают взаимностью.
Дженет Лидберн была отнюдь не красавицей, зато от всего ее облика веяло свежестью и здоровьем. Круглое, чуть тронутое веснушками и обрамленное светлыми волосами личико дышало искренностью и простодушием. Как единственная дочь Кита и Флоры Лидберн — владельцев крупнейшей в Каллендере мясной лавки — Дженет с полным основанием слыла одной из самых завидных невест городка. Ей недавно исполнилось девятнадцать.
Зато Ангус Кёмбре, высокий и сухощавый двадцатипятилетний парень с жестким и узким, как лезвие, лицом, понятия не имел, кто его родители. Вырос он в Перте, столице графства, в приюте для подкидышей, и там же освоил профессию механика, а закончив учебу, устроился к Ивену Стоу, державшему гараж и бензоколонку на окраине Каллендера, у дороги в Доун.
— Прежде чем мы примем окончательное решение, Дженет, я попрошу хозяина сходить к вашему отцу.
Девушка покачала головой.
— Папа не станет слушать мистера Стоу… и, боюсь, вполне способен выставить его за дверь!
— Ивен Стоу не позволит так с собой обращаться, не тот человек!
— А что он может поделать? У себя дома каждый волен принимать или не принимать кого захочет, разве нет?
Слова Дженет звучали настолько логично, что теперь и Кёмбре впал в ледяное отчаяние. Впереди замаячила тень смерти. Ангус лихорадочно сжал руку девушки.
— Ах, Дженет, неужто я и в самом деле вас потеряю?
Тяжкий вздох девушки мог бы смягчить и самое суровое отцовское сердце, но только не Кита Лидберна. Однако не прошло и нескольких минут, как Дженет вынырнула из пучины скорби.
— Возможно, кое-кто и смог бы замолвить за нас словечко, — задумчиво прошептала она, — но надо еще упросить ее нам помочь…
— Ее?
— Иможен Мак-Картри.
Имя знаменитой рыжеволосой воительницы словно выстрел прогремело в диких зарослях Троссакса.
— Вы и вправду думаете, что ваш отец…
— Мисс Мак-Картри — единственная, кого он боится!
— Почему?
— Не знаю, Ангус, как, впрочем, и того, почему половина Каллендера готова умереть за нее, а другая только и мечтает сжить со свету…
— Но ваш отец, очевидно, принадлежит ко второй категории?
— Врагам часто уступают там, где друзья получают отказ…
— А с чего бы вдруг мисс Мак-Картри стала нам помогать?
Девушка решительно выпрямилась.
— Потому что я попрошу ее об этом.
Розмери Элрой из окна кухни с умилением наблюдала, как трудится в саду ее великовозрастная малышка, и в пятьдесят с лишним лет сохранившая все тот же неукротимый нрав, который в детстве заставлял ее решительно отвергать то традиционную ежеутреннюю овсянку, то воскресный хагги [333]. И Розмери со слезами на глазах вспоминала маленького красноволосого демона, не боявшегося затевать драки с мальчишками-сверстниками и при этом нередко разбивавшего их в пух и прах. Увы! Жизнь нисколько не смягчила Иможен Мак-Картри, и даже, вернувшись на родину пенсионеркой, она все еще рвалась в бой. В Каллендере, к величайшему огорчению старой няни, Иможен и боготворили, и ненавидели. Одни называли мисс Мак-Картри славой Горной страны и пошли бы за ней на край света, но другие считали ее позором Шотландии.
Утомившись от садовых работ, мисс Мак-Картри вернулась в дом.
— Розмери, я пойду наверх немного освежиться, — предупредила она, заглядывая на кухню.
Миссис Элрой молча покачала головой, прекрасно зная, что ее протеже не только ополоснет холодной водой лицо, но и выпьет первый за день бокал виски, а до вечера за ним последует немало других. Розмери непрестанно беспокоилась, как бы Иможен не пошла по стопам отца, некогда занимавшего почетное место среди самых отпетых шотландских алкоголиков, и опасения старой няни, бесспорно, имели под собой почву, поскольку дочь капитана унаследовала-таки папины таланты.
Удобно устроившись в кресле-качалке и предусмотрительно закрыв дверь на ключ, мисс Мак-Картри потягивала виски, но не успела и нескольких минут понаслаждаться заслуженным покоем, как дом потряс оглушительный вопль миссис Элрой. От неожиданности Иможен так сильно вздрогнула, что чуть не выронила бокал и, во избежание подобного несчастья, осушила его единым духом. Потом она прикрыла глаза, отдышалась и вышла на лестничную площадку узнать, с чего вдруг Розмери так варварски нарушила ее отдых. С годами миссис Элрой стали отказывать ноги, но легкие оставались по-прежнему мощными, поэтому, когда кто-нибудь приходил навестить ее подопечную, старуха останавливалась у нижней ступеньки лестницы и, не поднимаясь наверх, звала Иможен. Любой, кто слышал этот вопль, вообразил бы, что в детстве Розмери пасла на холмах стада и научилась перекрикивать свирепый ветер Горной страны.
— В чем дело, Розмери? — в свою очередь рявкнула мисс Мак-Картри.
— Тут с вами хочет поговорить одна девушка!
— Девушка?
— Дженет Лидберн!
— У меня нет ничего общего с их семейкой!
— Дженет уверяет, что это очень важно!
— С Лидбернами не случается ничего интересного, и вообще сердце у мясника высохло, как какая-нибудь баранья кость, сто лет провалявшаяся на солнце!
Наступила недолгая тишина. Наконец миссис Элрой, снова набрав полные легкие, возобновила оглушительный диалог.
— А все-таки вам лучше бы спуститься, мисс!
— Ну да?
— Понимаете, малышка-то ведь плачет!
При всей своей вспыльчивости Иможен была незлой женщиной, и слезы Дженет ее тронули. Она вихрем промчалась вниз по лестнице.
— Что стряслось, Дженет? Вы потеряли кого-нибудь из близких?
— Пока нет… — сквозь рыдания прошептала несчастная дочь мясника.
И, не теряя времени даром, она с мольбой упала к ногам мисс Мак-Картри.
— Спасите нас! Спасите нас! Только вы одна можете нам помочь!
Романтическая скорбь гостьи слегка удивила Иможен, но она настолько привыкла чувствовать себя новым воплощением Марии Стюарт, что невольно проявила благородную сдержанность, восхитившую миссис Элрой и успокоившую просительницу.
— Я вас слушаю, дитя мое, — просто и величественно проговорила рыжая шотландка, опускаясь в кресло.
И Дженет без утайки рассказала об их с Ангусом Кёмбре несчастной любви, уверяя, что, по ее мнению, во всем Каллендере одна мисс Мак-Картри не побоится вступить в единоборство с ее устрашающим родителем. В ответ послышался знаменитый смех мисс Мак-Картри, грозный, как рокот боевых барабанов перед великими битвами древности и средневековья.
— Послушайте, Дженет, я с большой симпатией отношусь к Ангусу Кёмбре, и, если не могу сказать того же про вас, то лишь потому, что вы дочь своего отца, о чем я искренне сожалею. Однако было бы несправедливо упрекать вас за происхождение. Это никак не зависело от вашей воли… А значит, вы непременно выйдете замуж за Ангуса, я беру это на себя.
— Но… папа… — полунедоверчиво, полувосхищенно пробормотала Дженет.
Иможен встала, взяла гостью за руку и, подведя к комоду, указала на фотографию в кожаной с металлическими заклепками рамке, с которой им улыбался ничем не примечательный мужчина в форме.
— Это портрет моего отца, капитана Мак-Картри…
Шотландка перевела взгляд на фавюру, вставленную в такую же рамку.
— …а это — Роберт Брюс накануне битвы при Баннокберне. Так вот, при этих двух героях, ни разу не слышавших от меня ни слова лжи и до сих пор не ведавших разочарования (ибо я уверена, что никогда не обманывала их надежд), принимаю на себя обязательство соединить вас узами брака с Ангусом Кёмбре.
Дженет, ни жива ни мертва, прижалась к стене в холле, пытаясь угадать, что творится в гостиной. К несчастью, долетавшие из-за двери громовые раскаты не позволяли питать никаких иллюзий насчет приема, оказанного Лидбернами мисс Мак-Картри и Ивену Стоу.
Когда Дженет, открыв дверь на повелительный звонок Иможен, бросилась докладывать родителям, кто пришел к ним в гости, мясник чуть не выронил любимую пенковую трубку. Уже одно это привело его в бешенство.
— И чего же от нас хотят эти двое? — буркнул он.
— Я… я не знаю…
Кит смерил дочь подозрительным взглядом.
— Признайтесь-ка, Дженет, а это, случаем, не ваша очередная затея?
Девушка страшно перепугалась.
— Нет-нет!.. Уверяю вас, я не…
— Ладно, пускай идут сюда!
Кит повернулся к жене.
— А вас, Флора, я прошу молчать, пока я сам не поинтересуюсь вашим мнением, что, впрочем, весьма маловероятно…
— Хорошо, Кит, но, умоляю вас, не сердитесь!
— Я буду сердиться ровно столько, сколько захочу!
— Но подумайте о своем давлении!
— Оно вас не касается. И зарубите себе на носу: я никому не позволю распоряжаться в моем доме!
Обмен приветствиями между хозяевами дома и гостями, которым даже не предложили сесть, был предельно кратким. И Лидберн сразу расставил точки над i.
— Терпеть не могу, чтобы меня беспокоили вечером, когда я отдыхаю после дневных забот, поэтому буду вам премного обязан, если вы изложите дело в самой сжатой форме. Ну, чем могу служить?
Мисс Мак-Картри чуть не вскипела, но под суровым взглядом Стоу кое-как сдержала негодование, предоставив хозяину гаража спокойно рассказать о цели их визита.
— Мисс Мак-Картри лишь из дружеской симпатии к Ангусу Кёмбре и вашей дочери, мистер Лидберн, согласилась сопровождать меня и помочь в этом деликатнейшем деле, — закончил Стоу.
Кит с трудом верил собственным ушам. Неужели какой-то грязный механик и впрямь смеет официально просить у него руки Дженет? Мясника затрясло от ярости. Тем более, понимая, что при всей своей силе он рискует нарваться на очень крупные неприятности, если вздумает без околичностей выставить наглеца Стоу вон, Лидберн предпочел сорвать злобу на Иможен. Для начала он презрительно хмыкнул.
— Что за странная мысль брать с собой мисс Мак-Картри, когда речь идет о деликатных, как вы сказали, вопросах?!
Шотландка никак не могла молча стерпеть оскорбление. Решительно отодвинув спутника в сторону, она с угрожающим видом надвинулась на мясника.
— Да где вы, по-вашему, находитесь? В конюшне, в стойле или в свинарнике?
Пораженный по меньшей мере неожиданным вопросом, Кит уставился на гостью помутневшим взором.
— Я вынужден напомнить, что вы сейчас у меня в доме! — наконец взяв себя в руки, рявкнул он.
— Возможно, и так, мистер Лидберн, но прежде всего вы в Шотландии, где никто, кроме последних ублюдков, не ведет себя так, как вы!
Ивен попытался сгладить углы.
— Будьте благоразумны, мистер Лидберн!
— Убирайтесь отсюда и вы тоже, да поживее!
Флора, в свою очередь, попробовала урезонить супруга.
— Умоляю вас, Кит…
— Не лезьте не в свое дело, Флора!
— Но ведь то, что касается моей дочери, затрагивает и меня, правда?
— Ага, так вы, значит, принимаете их сторону?
— Честное слово, Кит, я вовсе не…
— Пока я жив, Дженет не выйдет замуж ни за кого, кроме человека, которого для нее выберу я сам!
— Так не стесняйтесь, мистер Лидберн, умрите, — медовым голосом посоветовала мисс Мак-Картри. — А мы постараемся не слишком громко смеяться на ваших похоронах.
Мясник бросил на нее убийственный взгляд, но почел за благо отыграться на хозяине гаража.
— И передайте от меня этому бандиту Ангусу Кёмбре, что если я еще хоть раз увижу, как он толчется возле моей дочери, шею сверну!
Стоу холодно поклонился.
— Я сообщу ваш ответ Ангусу Кёмбре, мистер Лидберн. Тем не менее позволю себе предупредить вас, что, если вы тронете Ангуса Кёмбре, я сам отправлю вас в мир иной и сделаю это с огромным удовольствием. Спокойной ночи. Вы идете, мисс?
Но дочь капитана не желала оставить поле боя, не сказав последнего слова.
— А от себя, мистер Лидберн, могу заверить, что, если по вашей милости эти двое молодых людей, так трогательно любящих друг друга, решатся на какую-нибудь прискорбную крайность, я публично расскажу о вашем злодеянии и не оставлю вас в покое до самой смерти, которая, надеюсь, не заставит себя ждать. До свидания, мистер Лидберн. Чудесный вечерок, не правда ли?
Как только гости вышли из комнаты, мясник поднес к губам бутылку виски и стал жадно пить прямо из горлышка. А в холле мисс Мак-Картри и Ивена Стоу поджидала Дженет. В ту минуту она больше всего напоминала только что выловленную из воды Офелию. Растроганная этим безмолвным отчаянием, Иможен попыталась утешить девушку, но та ее сразу остановила.
— Бесполезно, мисс Мак-Картри… Я все слышала… Благодарю вас за то, что вы хотели нам помочь… и вас тоже, мистер Стоу… Теперь я точно знаю, что папа никогда не даст согласия… и мне остается только умереть…
— Да ну, Дженет, не говорите глупостей!
— Вряд ли мы еще увидимся, мисс Мак-Картри, но я счастлива, что познакомилась с вами…
Решимость дочери мясника настолько испугала Иможен, что она заставила Дженет дать слово ничего не предпринимать, не повидавшись предварительно с Ангусом. Девушка обещала, но мисс Мак-Картри не очень-то поверила ее клятвам.
Ночью после неудачного разговора с Лидберном мисс Мак-Картри почти не спала. Несмотря на оптимистические уверения Стоу, что в глубине души Дженет не замышляет ничего страшного, шотландку терзали самые зловещие предчувствия. Перед глазами у нее все еще стояло искаженное страданием лицо девушки, и дочь капитана не сомневалась, что та наверняка попытается наложить на себя руки. Вот только каким образом?
Утром мисс Мак-Картри отправилась в гараж Ивена поговорить с Ангусом и нашла молодого человека очень подавленным. Шотландка попробовала хоть немного его взбодрить и потому ни словом не обмолвилась о собственных опасениях. Расспрашивая о свиданиях влюбленных, она узнала, что им было негде видеться, кроме как на берегу озера Веннахар, куда оба
прибегали, улучив свободный часок. Мисс Мак-Картри тут же вспомнила, что перед уходом Дженет напомнила ей Офелию, и с трудом скрыла от Ангуса охватившую ее тревогу. С этой минуты Иможен больше не сомневалась, что девушка, следуя примеру шекспировской героини, бросится в воду.
Сержант Арчибальд Мак-Клостоу у себя в кабинете с трудом отходил после вчерашней умопомрачительной попойки. Нерасчесанная огненно-рыжая борода торчала во все стороны, китель так и остался не застегнутым, а сам Арчи меланхолически потягивал виски с единственной целью проверить, не изменился ли за ночь вкус национального напитка Горной страны. И вдруг покой кабинета нарушил оглушительный рев:
— Ваше здоровье, Арчи!
Сержант настолько не ожидал ничего подобного, что подавился виски и едва не помер на месте. Бедняга мучительно закашлялся, глаза его вылезли из орбит, а на губах выступила пена.
— Вы что, не могли сначала постучать? — прокаркал он, немного отдышавшись.
— Нет времени! Надо спасать Дженет Лидберн, Арчи!
— От чего?
— От смерти!
— Да вы спятили!
— Повежливее, Арчи! Идите за мной!
— Куда?
— На озеро Веннахар.
— Всего-то? Еще в детстве мама советовала мне никогда не соглашаться, если женщина пригласит на загородную прогулку…
Иможен рассердилась.
— Вам крупно повезло, Арчибальд, что я не могу терять ни минуты! Иначе я бы вас научила должному обращению с истинной леди!
— Попробуйте только, сударыня, и я тут же усажу вас под замок!
— Так вы отказываетесь пойти со мной?
— Отказываюсь.
Иможен окинула полицейского ледяным взглядом.
— И это ничтожество еще смеет называться шотландцем? Да неужели вы думаете, что хоть один настоящий сын Гор поленился бы оторвать задницу от кресла, когда сама Смерть бродит по Каллендеру в поисках невиннейшей из жертв? Сержант Мак-Клостоу, молите Бога, чтобы с Дженет Лидберн не случилось несчастья, а то вам точно придет конец!
И, прежде чем Арчибальд опомнился от удивления, мисс Мак-Картри стремительно выбежала из кабинета.
На главной улице Каллендера Иможен столкнулась с констеблем Сэмюелем Тайлером, своим старым и испытанным другом.
— Пойдемте скорее, Сэм!
— Куда, мисс?
— На озеро Веннахар.
— Я бы с удовольствием, но вот дежурство…
— Чепуха!
— Ну, это по-вашему…
Шотландка, отступив на шаг, с ног до головы оглядела высокую фигуру полисмена.
— Сэм, неужели я почти полвека в вас ошибалась? Вы что же, способны позволить девушке умереть из-за ваших дурацких инструкций?
— Ни в коем случае, мисс. А о ком вы говорите?
— О Дженет Лидберн.
Иможен в нескольких словах рассказала Сэмюелю Тайлеру о своих подозрениях и говорила так убедительно, что констебль в конце концов пришел к единственно возможному выводу: не поспешив на помощь малышке Лидберн, он куда больше погрешит против долга полицейского, чем если оставит в покое редких автомобилистов, выезжающих на улицу в этот ранний час. Тайлер реквизировал машину бакалейщика Мак-Грю, равно как и ее хозяина, и они уже втроем помчались в сторону Троссакса.
После двух часов тщетных ожиданий Мак-Грю начал подумывать, что его жена Элизабет уже наверняка вообразила, будто он навсегда сбежал от домашнего очага, а Сэм прикидывал, не слишком ли опрометчиво он поступил, поддавшись уговорам Иможен. Но та продолжала спокойно болтать с констеблем, хотя в душу ее тоже потихоньку закрадывалось сомнение в верности пессимистических прогнозов. Неожиданно послышался легкий шум, и все трое выглянули из укрытия: мимо, изо всех сил вертя педали велосипеда, вероятно, считавшегося чудом техники в начале века, проехала Дженет. Мисс Мак-Картри хотела окликнуть девушку, но не успела и рта раскрыть, как та исчезла из виду, и вскоре до наших спасателей донесся громкий всплеск. В едином порыве Иможен и Сэм поспешили к озеру. Обнаружить мисс Лидберн не составило им труда — Дженет, как верно почувствовала ее новая покровительница, и впрямь решила утопиться. Несмотря на преклонный возраст, Тайлер скинул китель и без колебаний прыгнул в холодную воду. Но девушка изо всех сил противилась помощи.
— Оставьте меня! Я хочу умереть! — кричала она констеблю.
— Видите ли, мисс, досадно только, что в таком случае вам придется прихватить с собой и меня, — возразил Сэм.
Хладнокровие полицейского так поразило Дженет, что она перестала сопротивляться, и Тайлер уже без всяких осложнений доставил ее на берег, где их поджидала Иможен.
— Дженет! Вы же мне обещали!
— Я слишком несчастна! Лучше мне умереть, чем услышать, что Ангус навсегда покинул наши края! А он непременно уедет, слышите, мисс? Он уедет!
Мисс Мак-Картри стоило немалых усилий успокоить девушку, а потом с помощью совершенно продрогшего в мокрой одежде Тайлера доставить несостоявшуюся утопленницу на дорогу в Каллендер, к машине Мак-Грю, который уже слегка недоумевал, куда они все подевались.
В мясной лавке, где он царил подобно кровавому языческому божку, Кит Лидберн любезничал с тремя покупательницами, а те, в полном восторге от его болтовни, глупо хихикали. Мисс Мак-Картри велела Тайлеру отнести драгоценную ношу на квартиру к Лидбернам, а сама пошла предупредить отца Дженет.
Кит, артистически поигрывая ножом, отрезал кусочек филе для миссис Фрейзер, когда Иможен ворвалась в лавку и с порога возопила:
— Ну что, довольны теперь, убийца?
От неожиданности Лидберн подпрыгнул на месте и лишь чудом не отхватил ножом кончик пальца. Выражение лица мисс Мак-Картри окончательно повергло мясника в панику, и, прячась за спинами трех кумушек, он бросился к выходу, в то время как рыжая воительница шествовала к прилавку.
— Вспомните, что я вам обещала, Кит Лидберн, бесчеловечный вы отец!
Мясник ухитрился-таки выскользнуть из лавки, прежде чем до него добралась Иможен, и, не обращая внимания на густой поток машин, ринулся на проезжую часть. В результате ему пришлось проделать несколько весьма удивительных танцевальных па, то подпрыгивая на месте, то неожиданно отскакивая, то втягивая живот и филейную часть. Все эти прыжки, скачки и ужимки сопровождались яростной руганью и воплями водителей. Тренированное ухо несомненно уловило бы в лавине проклятий выговор уроженцев самых разных графств, но Лидберну было явно не до лингвистических изысканий. Вне себя от страха, он кое-как перебрался на противоположный тротуар и пулей влетел в обувной магазинчик Хэмиша Лохбуи. Лишь врезавшись в стойку для дамской обуви, Кит шлепнулся на пол и замер. Хэмиш Лохбуи, маленький аккуратненький старичок, всю жизнь неукоснительно следовавший жестким правилам старинного политеса, поправил на носу очки и с изумлением воззрился на странную картину.
— Дорогой мистер Лидберн, — проговорил он тонким и удивительно вежливым голоском, — по правде говоря, я плохо понимаю, что заставило вас исполнить столь поразительный акробатический номер. Признаюсь, никак не ожидал ничего подобного от человека вашего возраста и положения…
— Хэ… Хэмиш… Она… при… шла ко мне… в лавку… и об-б-бозвала у… бийцей… — заикаясь пробормотал мясник.
— И кто же позволил себе…
— Иможен Мак-Картри!
— Но почему?
— Она преследует меня!
— Вы меня все больше поражаете, дорогой Лидберн… А кстати, уж не заболела ли ваша дочь Дженет?
— Заболела? С чего вы взяли?
— Насколько мне известно, обычно мужчины не носят ее на руках по улице?
Мгновенно позабыв обо всех своих страхах, Лидберн вскочил.
— Думайте, что говорите, Лохбуи! — свирепо зарычал он.
— Дорогой мой, я собственными глазами только что видел, как Сэм Тайлер нес Дженет домой!
Не сказав ни слова в ответ, мясник снова выскочил на улицу, но на сей раз переходил ее гораздо осторожнее.
Пока Тайлер, сидя в ванной, согревался, то отхлебывая виски, то растираясь махровым полотенцем, миссис Лидберн уложила дочь в постель и стала массировать ей виски, умоляя Создателя спасти ее дитя, потом села у изголовья, взяла руки Дженет в свои и затянула бесконечную материнскую жалобу:
— Ведь это неправда, моя Дженет, что вы хотели умереть? Вы бы не решились покинуть свою маму, не так ли? И что бы со мной сталось без моей маленькой Дженет…
Иможен, никогда не знавшая радостей и огорчений материнства, растрогалась до слез.
Лидберн вошел в комнату, но при виде «ужасающей рыжей ведьмы» тревога его сразу сменилась бешенством.
— Флора! — заорал он. — Что делает в моем доме эта особа?
— «Эта особа», как вы изящно выразились, Кит, только что вместе с Тайлером спасла вашу дочь от смерти, когда бедная пыталась утопиться в озере Веннахар!
Мясник подошел к мученическому ложу.
— Вам что, нравится устраивать публичные представления? — сердито буркнул он. — Думаете, очень умно и достойно дочери человека, потратившего на ваше образование Бог знает сколько фунтов стерлингов, побежать топиться, как какая-нибудь нищенка?
Мужнина грубость исторгла из глаз миссис Лидберн новые потоки слез, но Кит приказал ей умолкнуть и, раз Дженет не умерла, не хныкать, а сам снова принялся пилить дочь.
— Что до вас, Дженет, попробуйте только еще раз…
— И попробую!
— Молчать, дерзкая!
— Хотите вы того или нет, а я все равно убью себя, если вы не позволите мне выйти за Ангуса!
— Никогда!
— Вы, вероятно, не отдаете себе отчета, мистер Лидберн, что девочка нуждается в отдыхе? — не вставая со стула, заметила Иможен.
В домашней обстановке Кит настолько привык чувствовать себя повелителем, что значительно меньше боялся мисс Мак-Картри, чем в лавке, на глазах у всего города, где острый язычок дочери капитана мог нанести его престижу огромный урон.
— Я не просил вас высказывать свое мнение, так что помолчите и не суйте нос в наши семейные дела!
— Хам!
Флора поддержала гостью.
— Как вам не стыдно, Кит?
— Оставьте меня в покое!
— На вашем месте, миссис Лидберн, я бы всыпала ему как следует, чтобы научить хорошим манерам, — посоветовала Иможен.
— Ох, если бы только я могла с ним справиться…
Кит Лидберн, чувствуя, что его сейчас хватит удар, бросился с кулаками на мисс Мак-Картри, но та отступила на шаг и мастерски подставила подножку. Мясник споткнулся и, полетев мимо Иможен, влепился головой в шкаф. Несколько секунд слышалось невнятное бормотание, однако крепкий, как бык, Лидберн очень быстро пришел в себя.
— Пускай меня потом повесят — плевать, но я все-таки должен ее придушить своими руками, и сейчас же, — хрипло проворчал он.
Кит и впрямь хотел вцепиться в горло слегка встревоженной мисс Мак-Картри. К счастью для нее из ванной неожиданно вышел Тайлер.
— Ну как, все уладилось? — весело спросил он.
Жизнерадостный тон констебля сразу разрядил атмосферу. Сэм помахал в воздухе пустой бутылкой.
— Отличное виски, мистер Лидберн, теперь я опять в полной норме. И, знаете, по-моему, отхлебни ваша барышня глоток-другой — мигом увидела бы все в другом свете.
Полицейский подошел к постели.
— До свидания, мисс Дженет, отдохните хорошенько, а главное, не прыгайте больше в озеро, потому как я не всегда окажусь рядом… И кто ж тогда вытащит вас из воды, а?
— Спасибо, мистер Тайлер, но в следующий раз я постараюсь избежать встречи с вами и довести дело до конца! — упрямо возразила девушка.
Сэм улыбнулся.
— С характером юная особа, ничего не скажешь. Пойдемте, мисс Иможен?
Констебль Сэм Тайлер доложил сержанту о происшествии на озере Веннахар. Смущенный его рассказом Мак-Клостоу долго молчал.
— Вот интересно, Сэм, каким образом эта рыжая чертовка заранее обо всем пронюхала?
— Наша Иможен знает все, что творится в городе!
— Наша? Благодарю покорно! Можете оставить ее себе! «Наша Иможен»! Очень подозрительная фамильярность, Тайлер, если хотите знать мое мнение!
— Не особенно, сержант.
— Так вы еще и грубите, Тайлер, в довершение всего прочего? А кстати, насколько я понимаю, вы позволили себе без разрешения оставить пост…
— Совершенно верно, сержант.
— И на каких же основаниях, позволю себе спросить, прежде чем уволю вас за дезертирство?
— Чтобы спасти дочь Кита Лидберна.
— У вас на все есть готовый ответ! Уж что-что, а подыскать хорошее оправдание вы всегда сумеете, а? Бессовестный лицемер, вот кто вы такой, Тайлер! Что до этой Дженет… Попытка самоубийства карается законом… но Лидберны — люди влиятельные, так что пока лучше помолчать. Тем не менее составьте мне рапорт, он может еще пригодиться.
Иможен, решив, что не повредит репутации Дженет, если расскажет ее возлюбленному о троссаксской драме, направилась к гаражу Ивена Стоу. Пусть Ангус — простой механик и беден, как церковная крыса, но что с того? У Кита Лидберна и на двоих денег хватит. Правда, сам мясник рассчитывал с помощью богатства и дочери добиться более высокого общественного положения, так ведь его глупость известна всему городу…
После того как Иможен завершила печальную повесть, Ангус наконец принял решение.
— Спасибо, мисс Мак-Картри, и, раз уж дело оборачивается так скверно, я увезу отсюда Дженет. Сегодня вечером мы должны встретиться, и я предложу ей свой план.
— Не сочтите за нескромность, но нельзя ли и нам узнать его хотя бы в общих чертах? — осведомился Ивен Стоу.
— Мы удерем и где-нибудь тихонько отсидимся, а потом повенчаемся в Гретна Грин и приедем обратно в Каллендер, только мужем и женой. Ну, что вы об этом думаете, мистер Стоу?
— Думаю, что на вашем месте, Ангус, поступил бы точно так же!
— А вы что скажете, мисс Иможен?
— По-моему, все выглядит очень романтично…
Старая дева тяжело вздохнула.
— Эта Дженет наверняка даже не догадывается, как ей повезло… Уж что-что, а такое приключение запомнится на всю жизнь!
Ивен Стоу дружески сжал руку мисс Мак-Картри в знак того, что вполне разделяет ее мнение.
Ближе к вечеру Дженет заявила, что чувствует себя намного лучше, а небольшая прогулка на свежем воздухе окончательно поставит ее на ноги. Мать предложила погулять вместе, но девушка отказалась, сославшись на то, что хочет побыть одна, обдумать ближайшее будущее и свою дальнейшую судьбу.
Вскоре после этого Дженет встретилась с Ангусом на их излюбленном месте свиданий, и молодой человек начал мягко упрекать подругу, уверяя, что ее попытка самоубийства доказывает, как мало она им дорожит, если не подумала о нем и о той боли, которую причинит ему своей смертью. А Дженет с таким же пылом клялась, что только ужасная мысль о вечной разлуке с любимым толкнула ее на такую крайность. Разумеется, все это закончилось объятиями и новыми клятвами в вечной любви.
Девушка без колебаний согласилась с планом похищения, и они вместе решили, что удобнее всего сбежать на следующей неделе, когда на семейный совет к родителям Дженет явятся ее дядя Рестон и крестный Гленрозес.
Глава 2
Форели Мак-Грю и преступление Ангуса
С тех пор как он достиг совершеннолетия, бакалейщик Уильям Мак-Грю завел обычай праздновать дни рождения у Теда Булита и всякий раз, собрав несколько испытанных друзей, угощал их форелью. Накануне знаменательного дня Мак-Грю заглянул в «Гордого Горца», и они с Тедом договорились отведать форели (которой бакалейщик не без удовольствия утром наловит в озере Веннахар, хоть это и запрещено законом) вместе с мисс Мак-Картри, доктором Элскоттом и еще парочкой самых близких. Обстоятельства вынудили заговорщиков посвятить в тайну и Маргарет Булит, поскольку именно ей предстояло готовить праздничный ужин. Случилось так, что во второй половине дня, забежав в очередной магазин, Маргарет столкнулась с миссис Фрейзер, и та полюбопытствовала, с чего вдруг такая спешка и не стряслось ли какой беды, раз миссис Булит бежит сломя голову, не замечая старых друзей. Маргарет ответила, что все ее мысли сейчас занимает подготовка к торжеству, которое завтра вечером ее супруг устраивает для нескольких таких же забулдыг да еще доктора Элскотта в честь дня рождения Уильяма Мак-Грю. С досады Маргарет рассказала миссис Фрейзер и о том, что на рассвете бакалейщик, грубо поправ закон, пойдет браконьерствовать на озеро Веннахар — им, видите ли, непременно надо полакомиться форелью! Миссис Фрейзер выслушала новость, трепеща от возбуждения. Сначала она заглянула в аптеку Рестона. Хьюг вежливо поклонился.
— Что вас привело ко мне на сей раз, миссис Фрейзер, болезнь или дружеская симпатия?
— И то и другое, мистер Рестон… Опять сердце… совершенно не могу спать. Только лягу — и оно колотится, как задумавший побег арестант…
— Не волнуйтесь, миссис Фрейзер, этого мы не допустим. Побег — прямое нарушение закона!
И Хьюг Рестон, очень довольный собственной шуткой, весело расхохотался. Глаза покупательницы лихорадочно сверкнули.
— Не только оно собирается нарушить закон, мистер Рестон! — шепнула она, перегнувшись через стойку.
Аптекарь тут же почуял приятный запашок скандала.
— Что вы хотите этим сказать, миссис Фрейзер?
Вдова не заставила себя упрашивать и с удовольствием пересказала все признания Маргарет Булит, не забыв упомянуть, что и доктор Элскотт намерен есть незаконную рыбу вместе с другими не обремененными совестью субъектами. Рестон углядел тут замечательную возможность скомпрометировать соперника, уличив его в контрабанде, и так обрадовался, что подарил миссис Фрейзер коробку ее любимых пилюль. Как только покупательница вышла из аптеки, он побежал к жене. Та дошивала очередное ненужное платье (кому какое дело до ее туалетов?).
— С этой минуты, Фиона, вы можете смело считать себя супругой Регионального советника!
Известие явно не произвело на миссис Рестон особого впечатления.
— Какую же гнусную махинацию вы задумали на сей раз, Хьюг? — только и спросила она.
— Право же, я бы очень удивился, не услышав от вас какой-нибудь колкости.
— Я так хорошо вас знаю…
Хьюг, кипя от раздражения, вернулся к себе в аптеку и, чтобы немного успокоить нервы, встал на пороге. Свежий воздух и уличная суета всегда оказывали на него самое благодетельное влияние. И вот, наблюдая за прохожими, аптекарь вдруг заметил медленно бредущего по тротуару Тайлера.
— Чудесный денек, не правда ли, Сэм?
— Да, истинно так, мистер Рестон.
— Не зайдете ли, Сэм? Мне бы хотелось сказать вам пару слов…
— К вашим услугам, мистер Рестон.
Аптекарь увел полицейского в лавку.
— Вам известно, Сэм, что я считаю себя хорошим гражданином и в качестве такового всегда стараюсь показывать другим пример…
Вступление немного удивило Тайлера, и он лишь кивнул в ответ.
— Так вот, чувство долга вынуждает меня поставить вас в известность…
— Я вас слушаю.
— Что ж… дело вот в чем… Завтра на рассвете Мак-Грю едет браконьерствовать на озеро Веннахар, чтобы вечером у Теда Булита потешить аппетит нескольких таких же жуликов крадеными у государства форелями…
Рестон почел за благо не упоминать о своем сопернике Элскотте, решив, что будет гораздо лучше, если полицейские сами застукают его за неблаговидным занятием.
— Надеюсь, я правильно поступил, предупредив вас заранее, чтобы вы успели принять соответствующие меры и не допустить нарушения закона, — добавил аптекарь.
— Благодарю вас, мистер Рестон. Я передам это сержанту Мак-Клостоу.
На самом деле добряк Тайлер вовсе не собирался ставить в известность своего шефа, поскольку Мак-Грю и компания были его лучшими друзьями. Напротив, он подумал, что надо посоветовать бакалейщику вести себя завтра с удвоенной осторожностью.
К несчастью, констебль не мог предвидеть, что Мак-Клостоу вздумается поразмять ноги и что, совершая ежевечерний моцион, он столкнется с аптекарем. Рестон издали заметил сверкающую в последних лучах предзакатного весеннего солнца огненно-рыжую бороду Мак-Клостоу.
— Добрый вечер, сержант!
— Здравствуйте, мистер Рестон!
Хьюг подошел поближе.
— Ну… довольны? — шепнул он.
— Чем, мистер Рестон?
— Да сведениями, которые я вам передал! Надеюсь, вы поймаете его с поличным, а?
— Кого?
— Как — кого? Мак-Грю, конечно!
— И на чем я должен его подловить?
Только тут до аптекаря внезапно дошло, что Тайлер его предал.
— Неужели Сэм ни слова вам не сказал?
— О чем?
— О намеченной на завтрашнее утро браконьерской экспедиции!
— Браконьерской?
Рестон воздел руки к небу.
— Господи! Да на кого же теперь можно положиться? Так, значит, и Тайлер тоже переметнулся в их лагерь?
— Не понимаю, о чем это вы, мистер Рестон…
Аптекарь объяснил сержанту, в чем дело, а Мак-Клостоу, ловя каждое слово, чувствовал, как у него с головокружительной быстротой подскакивает давление.
— На вашем месте, Мак-Клостоу, я бы подождал вечера и нагрянул в «Гордого Горца», когда все они усядутся за стол! Вас ждет потрясающий улов… — закончил Рестон.
— Боюсь, на это у меня не хватит терпения…
И, даже не поблагодарив добровольного осведомителя, сержант, словно разъяренный бык, помчался в полицейский участок.
В блаженной уверенности, что его шеф, по обыкновению, вернется не раньше чем через час, Сэм Тайлер устроился со всеми удобствами. Сняв китель, он развалился в кресле сержанта и даже позволил себе выпить капельку виски из запасов Мак-Клостоу. Именно в эту минуту в дверях возник Арчибальд. Как ни странно, сержант не разразился возмущенными воплями, а, уперев руки в боки, молча сверлил подчиненного взглядом.
Тайлер понял, что ему конец.
— Я… я только… э-э-э… шеф… — пробормотал он.
— Вы, Тайлер? — похоронным тоном простонал Мак-Клостоу.
Так, наверное, Цезарь упрекал Брута, получив от него смертельный удар.
— Мое кресло… мой кабинет… мое виски… Возможно, вам сказали, что я умер, мистер Тайлер?
— О нет, шеф! К счастью, нет…
— Встаньте, Тайлер, и верните мне мое законное место!
— Да, шеф! Сию минутку, шеф! Тысячу раз прошу прощения, шеф!
— Вряд ли этого достаточно.
Арчибальд прошел мимо Тайлера и занял привычное кресло, а констебль, торопливо застегивая китель, вытянулся перед ним по стойке смирно. Сержант с горечью посмотрел на виски.
— Прежде чем покинуть ряды полиции Ее Величества, будьте добры возместить нанесенный ущерб и заменить эту бутылку новой.
— Покинуть ряды?..
— Количество проступков и нарушений дисциплины, допущенных вами сегодня, более чем оправдывает ваше увольнение, бывший констебль Тайлер! — с жестокой иронией пояснил Арчибальд.
— Не может быть, шеф! Неужто вы сыграете со мной такую шутку?
— Еще как сыграю! И, честно говоря, не без удовольствия, Тайлер, потому что вы — мой тайный враг, и только сегодня я получил доказательство!
— Только потому, что я сел в ваше кресло?
— Это — во-первых!
Констебль тем временем успел оправиться от охватившего его в первую минуту смущения и вдруг тоже разозлился.
— Черт возьми, уж не принимаете ли вы себя, часом, за архиепископа Кентерберийского?
— Мне вовсе не нужно быть архиепископом, Тайлер, чтобы уличить вас в воровстве!
— А что, если я вам морду набью?
На сей раз совершенно обалдел Мак-Клостоу. Чудовищность угрозы и явный бунт подчиненного напрочь парализовали умственные способности сержанта. А Сэм, воспользовавшись временным преимуществом, продолжал:
— Обозвать меня вором только за то, что я глотнул из чужой бутылки немножко виски, — просто свинство! А если вы потребуете моей отставки из-за своего драгоценного кресла, над вами будет хохотать все пертское начальство!
— Ах, вот как? Может, когда я расскажу, как вы спелись с худшими злоумышленниками Каллендера, оно тоже посмеется?
— Хоть вы и наверняка пьяны, Мак-Клостоу, советую вам все-таки выбирать выражения!
— Потрясающе! Вы лакаете мое виски, а пьян, по-вашему, я, да? А то, что вы сознательно не передали мне полученные от Хьюга Рестона сведения о браконьерских замыслах Мак-Грю, вероятно, тоже пустячок?
— У меня хватает других обязанностей перед городом, кроме как слушать дурацкие сплетни врагов и завистников! И предупреждаю вас, Арчибальд: можете писать или болтать все, что вам взбредет в голову, никто все равно не поверит!
— Вот как?
— Да, и по двум причинам: во-первых, меня все знают и понимают, что я вовсе не тот человек, каким вы пытаетесь меня представить. Во-вторых, вы чужак, а у нас здесь ужасно не любят, когда посторонние притесняют местных! Так что, пожалуй, поступайте как заблагорассудится, сержант. Раз вам угодно поддерживать кандидатуру аптекаря на следующих выборах в Окружной совет, дело ваше. Но попробуйте только затеять что-нибудь против меня, и, клянусь, с помощью мисс Мак-Картри я устрою вам тут веселенькую жизнь! А теперь — с меня довольно, на сегодня я по горло сыт вашими бреднями! Я иду домой. Спокойной ночи!
— Тайлер! — рявкнул сержант.
Увы, передать здесь то, что сказал уходя констебль, было бы весьма затруднительно.
В отсутствие противника гнев Мак-Клостоу мало-помалу утих. А успокоившись, Арчибальд начал раздумывать, не совершил ли он страшной ошибки. Вдруг Рестон солгал? Правда, полицейский не представлял, зачем это могло понадобиться аптекарю, но в конце концов проклятые чокнутые горцы способны на что угодно… Может, его, Мак-Клостоу, решили поводить за нос и таким образом посмеяться над всей полицией Ее Величества?.. Короче, поразмыслив, Арчибальд пришел к выводу, что рапорт о недостойном поведении Сэма Тайлера, который он собирался отправить в Перт, выглядел бы не слишком убедительно. И, наконец, припомнив угрозы констебля, сержант почувствовал, как вдоль позвоночника забегали мурашки. А что, если и вправду весь Каллендер, и, главное, ужасающая Иможен, ополчатся против него? Да не пройдет и нескольких недель, как его либо отправят в больницу для умалишенных, либо посадят в тюрьму за убийство. Подобная перспектива заставила Мак-Клостоу капитулировать без боя, и, схватив листок бумаги, он начал писать:
«Тайлер, я думаю, мы оба напрасно погорячились, дав волю своей буйной шотландской крови. Забудем взаимные упреки и обвинения. Я прощаю вам выпитое виски и готов согласиться, что, возможно, Хьюг Рестон сыграл со мной злую шутку (хотя пока не вижу к тому никаких при чин). Как бы то ни было, долг повелевает нам проверить его утверждения. Жду вас завтра в участке не позднее пяти утра, и мы вместе прогуляемся к озеру Веннахар. Рассчитываю на вашу помощь.
Ваш начальник и все же друг
Арчибальд Мак-Клостоу (сержант).
P.S. Тем не менее я продолжаю считать, что во имя морали, которую нам с вами доверено защищать, вам следовало бы проявить благородство и восстановить мои запасы виски.»
Письмо отнес Тайлеру мальчик-посыльный. Однако сцена в полицейском участке так возмутила констебля, что он думал скорее о мести, чем о служении закону, а потому сразу отправился в «Гордого Горца» и, отведя Мак-Грю в сторонку, рассказал, какие против него затеваются козни. Бакалейщик поблагодарил, не понимая, правда, кто его предал, поскольку никто, кроме Булита, понятия не имел о завтрашнем походе на озеро.
Зато поздно ночью все, кто жил поблизости от «Гордого Горца», слышали вопли и мольбы о помощи. Впрочем, ни один из соседей и не подумал вмешаться, понимая, что это Тед в очередной раз воспитывает жену. Булит и в самом деле устроил Маргарет изрядную трепку, и в конце концов она нехотя призналась, что проболталась о коварных замыслах Мак-Грю против форели озера Веннахар.
На заре Мак-Клостоу и Тайлер выскользнули из полицейского участка и поехали к озеру Веннахар. Из машины они вышли довольно далеко от берега, не желая спугнуть предполагаемого браконьера, спрятались в зарослях деревьев и стали ждать, пока совсем не развиднеется. Наконец небо посветлело, и они перешли к решительным действиям. Короткими перебежками Мак-Клостоу и Тайлер подобрались к самому берегу, и вскоре до них донесся необычный шум.
— Слышали, Тайлер? — шепнул сержант.
— Да, шеф.
— Как, по-вашему, что это такое?
— Право же… вроде бы кто-то закинул сеть…
— Я тоже так думаю. По-моему, это вон там, в тростниках. Пойдемте, но только тихо!
Птицы озера Веннахар, оглушительно гомонившие, приветствуя новое чудесное утро, разом умолкли и стали с удивлением наблюдать поразительное зрелище, каковое являли собой два представителя шотландской полиции, ползущие на брюхе по мокрой от росы траве. Мак-Клостоу очень быстро устал, и с каждой секундой его охватывало все более страстное желание поймать с поличным того, кто заставил его заниматься такой неприличной и утомительной гимнастикой. Но едва полицейские добрались до зарослей тростника, перед ними выросла какая-то тень и насмешливый голос осведомился:
— Во что это вы играете, ребята?
Сначала полицейские замерли, потом не без труда, как люди, для которых время мальчишеских выходок давно миновало, поднялись на ноги. Только тогда они узнали инспектора рыбнадзора Фергуса Мак-Интайра.
— Мы выслеживаем браконьера.
— Ну и странным же способом вы его ловите!
— Это уж наше дело! Вы никого не видели?
— По правде говоря, нет. Сами знаете, те, кто охотится за дичью, меня не интересуют, не моя работа…
— Но то-то и оно, что этот тип собирался ловить форелей в озере Веннахар!
— Позвольте, ваша честь! Форели касаются только меня, и меня одного!
— Что вы имеете в виду, Фергус?
— Да то, что, пока я здешний сторож, вы не имеете права вмешиваться в мои дела, если я сам вас не позову! Я, кажется, и не думал вас звать, дорогие друзья!
— Иными словами, вы собираетесь помешать нам выполнить свой долг?
— Думайте, что говорите, сержант! Я, между прочим, тоже давал присягу!
— Не важно! Мы с Тайлером слышали, как кто-то совсем рядом забросил сеть!
— Ну да?
— И я приказываю вам пропустить нас, Фергус Мак-Интайр!
— Нет!
— Это еще почему?
— А просто у меня складывается явственное впечатление, что вы хотите меня оскорбить, сержант Мак-Клостоу, а уж этого, имейте в виду, я никак не потерплю!
Арчибальд заколебался. Мак-Интайр слыл самым упрямым из обитателей Каллендера и в то же время пользовался широчайшей популярностью. Поэтому Арчибальд, памятуя о вчерашней ссоре с Тайлером, не посмел настаивать. Кроме того, он полагал, что хитростью добьется гораздо большего, нежели силой.
— Ладно, Мак-Интайр, мы уступим — негоже заводить свару между людьми, защищающими одни и те же интересы… по крайней мере хотелось бы так думать… Пошли, Тайлер.
Полицейские, не таясь, зашагали в обратном направлении, но, как только они оказались под прикрытием деревьев, сержант свернул налево, решив обогнуть препятствие и атаковать браконьера с тылу. Тогда Фергусу волей-неволей придется объяснять, почему он так бессовестно покрывает преступника. Стратегический маневр занял примерно четверть часа. Наконец, вынырнув из перелеска по другую сторону тростниковых зарослей, полицейские увидели сидящего на берегу мужчину.
— Он у нас в руках, Сэм! — прошептал Мак-Клостоу.
Тайлер искренне огорчился за Мак-Грю, которому теперь, похоже, придется праздновать день рождения в самой неприятной обстановке.
И снова служители закона стали ползком пробираться к тростникам, и, если рыбак не слышал их приближения, то лишь потому, что, очевидно, слишком увлекся преступной ловлей форели. Когда их разделяло всего два-три метра, полицейские встали и сержант громовым голосом крикнул:
— Именем закона…
Мужчина обернулся.
— Опять вы, Мак-Клостоу? Да что за муха вас укусила сегодня утром?
Перед ними вновь стоял Фергус Мак-Интайр, и Тайлер, взглянув на ошарашенную физиономию своего начальника, с трудом удержался от смеха.
Как только Арчибальд привел себя в порядок, первой его заботой было сходить в аптеку и спросить у Хьюга Рестона, не входило ли в его намерения поглумиться над полицией Ее Величества, выставив в нелепом виде двух ее представителей в Каллендере, и, если да, то знает ли он, чем это чревато, помимо потери всех шансов на победу в окружных выборах.
— Я почти уверен, что мне не солгали, сержант. Просто Мак-Грю обвел вас вокруг пальца благодаря пособничеству Мак-Интайра. Но партия еще далеко не проиграна, и, послушай вы меня внимательнее вчера вечером, сегодня вам не пришлось бы без всякой пользы делу предпринимать столько мучительных усилий.
— Ну да?
— Загляните нынче вечерком в «Гордого Горца». Право, очень удивлюсь, если вы не застукаете там нескольких джентльменов, пирующих за счет государства!
Мак-Клостоу страшно хотел отомстить насмешникам и ради этого отважился бы на что угодно. Поэтому, дождавшись, когда из кабачка выйдет Маргарет Булит, сержант медленно побрел следом. Наконец, решив, что из окон «Гордого Горца» его маневры никто не заметит, Арчибальд догнал жену Теда.
— Добрый день, миссис Булит!
— О, здравствуйте, сержант!
— Бедняжка! Я вижу по вашему лицу, супруг опять обошелся с вами слишком жестоко?
— Ох, сержант, я, наверное, не вздохну спокойно, пока этого типа не вздернут высоко-высоко на хорошей, крепкой веревке!
— А знаете, я только и жду от вас жалобы, чтобы упечь его за решетку…
— Да… но как только вы его отпустите — мне конец!
— Зато тогда его наверняка повесят и ваше желание исполнится.
— Да, но я-то этого все равно не увижу!
— Верно… А почему он вас избил на сей раз?
— Можно подумать, это чудовище нуждается в каких-то причинах…
— А это, случайно, не связано с форелью?
— Так вы тоже в курсе?
— Не забывайте, что я полицейский, миссис Булит… И, по моим сведениям, Мак-Грю недавно принес вам около двух десятков рыбин…
— Две дюжины, сержант, и очень жирных!
— Вам, я думаю, известно, миссис Булит, что за браконьерство можно сесть в тюрьму и надолго, а?
— Это не касается таких типов, как Мак-Грю или мой муж!
— Ошибаетесь, миссис Булит… Вот, например, если бы вы согласились сделать так…
И они пошли рядом, оживленно переговариваясь. Но в Каллендере ничто не ускользает от пристального внимания сограждан, и миссис Мак-Грю, вернувшись из церкви, рассказала новость мужу:
— Я только что видела эту несчастную Маргарет Булит с сержантом Мак-Клостоу. А они так увлеклись разговором, что даже не заметили меня… Вот бы Маргарет сумела убедить Мак-Клостоу посадить ее бездельника за решетку!
Под внешней медлительностью Мак-Грю скрывался живой, если не сказать проницательный, ум. И он сразу сообразил, что Маргарет толковала с сержантом вовсе не о вчерашних побоях. Не ответив жене, бакалейщик натянул на голову каскетку и побежал в «Гордого Горца». Войдя с черного хода, он разыскал Теда в погребе и долго о чем-то с ним совещался, а оттуда направился в рыбную лавку Гэвина Диппена. Тот так никогда и не понял, зачем бакалейщику понадобилась свежая селедка, непременно с головой и хвостом.
Не доверяя Тайлеру, Мак-Клостоу отпустил его пораньше, сказав, что Сэм уже не молод и его наверняка измучила утренняя прогулка. А констебля так тронул этот знак внимания со стороны шефа, что он бросился в винный магазинчик, купил четвертинку виски и принес сержанту, умоляя простить вчерашнюю оплошность. Арчибальд взял бутылку, долго ее разглядывал и наконец кивнул:
— Спасибо, Сэм. Выходит, я не напрасно верил, что в глубине души вы остались порядочным человеком!
Около девяти вечера Арчибальд Мак-Клостоу потихоньку вышел из полицейского участка и, крадучись вдоль стен, направился в «Гордого Горца». Сейчас, ближе к закрытию, в кабачке уже не слышалось привычного шума. В зале сержант с первого взгляда заметил Хьюга Рестона, мясника Кита Лидберна и ветеринара Гленрозеса. То, что эти трое оказались в заведении Булита, хотя обычно никто из них даже не переступал его порога, ясно свидетельствовало, что аптекарь нарочно собрал друзей, желая в полной мере насладиться решительной победой над общими врагами. Когда официант Томас принес ему виски, Мак-Клостоу насмешливо поинтересовался:
— А почему я не вижу Теда? Он что, болен?
— Нет, сержант. Сегодня вечером он принимает друзей и просил не беспокоить.
Арчибальд слегка повернулся к трем собутыльникам и громко переспросил:
— Так Булит не хочет, чтобы его беспокоили?
— Совершенно верно, сержант.
— Ну что ж, очень жаль!
— Это еще почему, сержант?
— Потому что мне все-таки придется потревожить вашего хозяина!
Злорадный тон Арчибальда так воодушевил аптекаря, мясника и ветеринара, что они дружно вскочили и пошли за ним.
Мак-Клостоу, отшвырнув несчастного Томаса, неосторожно попытавшегося преградить ему дорогу, толкнул кухонную дверь. Присутствие враждебной Булиту троицы придавало ему решимости.
Вокруг стола сидели пять человек: Тед Булит, герой торжества, Мак-Грю, Мак-Интайр, доктор Элскотт, и, разумеется, Мак-Картри. Все они с удивлением поглядели на непрошеных гостей, а Мак-Клостоу при виде Иможен едва не кинулся бежать, но стоявшие сзади трое свидетелей отрезали путь к отступлению. Сержант сложил на груди руки.
— Жаль, что пришлось вас потревожить, джентльмены, — заявил он, — но, судя по запаху, стоящему в этой кухне, вы ели рыбу. Что вы скажете на это как специалист, Мак-Интайр?
— Верно, сержант.
— А это, случайно, не форель?
— О, сержант, и как вы могли подумать? Вы же сами отлично знаете, что в это время года ловить форель запрещено законом!
— Рад это слышать, Фергус Мак-Интайр, следовательно, вы не сможете отрицать злой умысел и соучастие в преступлении!
— А не могли бы вы хоть время от времени не валять дурака, Арчи? — подала голос Иможен.
— Положитесь на меня, мисс Мак-Картри, вы свое еще получите!
Сержант вытащил из кармана блокнот и начал переписывать фамилии всех присутствующих, но не успел закончить списка, как Тед Булит поднялся со стула.
— Можно мне задать вам вопрос, сержант?
— Пожалуйста, мистер Булит.
Хозяин «Гордого Горца» указал на столпившихся за спиной Мак-Клостоу аптекаря, ветеринара и мясника.
— Что делают в моем доме эти субъекты?
— Это мои свидетели.
— Да?.. И что же они должны засвидетельствовать?
— Что вы едите форель, в нарушение закона пойманную сегодня утром Мак-Грю при пособничестве инспектора рыбнадзора Фергуса Мак-Интайра! Боюсь, этот подвиг будет стоить вам места, мистер Мак-Интайр. А вы, доктор Элскотт, из-за участия в сей скандальной вечеринке можете оставить всякую надежду попасть в Окружной совет.
— Вы давно не принимали слабительного, Мак-Клостоу? — холодно спросил врач.
— Что?
— Если давно, то советую поторопиться — раз весна на вас так плохо действует, самое время прочистить желудок.
— И в самом деле, доктор, — подхватила Иможен, — я давно заметила, что в погожие дни бедняга Арчи еще глупее обычного.
— Не понимаю, сержант, как вы допускаете, чтобы с вами разговаривали подобным тоном, — зашипел Рестон на ухо полицейскому.
— Приказываю всем замолчать! — в бешенстве крикнул Мак-Клостоу.
Стоявшая немного в стороне миссис Булит с нетерпением ждала, когда сработает ловушка, подстроенная ею по указаниям сержанта, и готовилась торжественно предъявить завернутые в газету головы и хвосты убиенной форели.
Мак-Клостоу повелительно взмахнул рукой.
— Ваши грубые шутки меня ничуть не трогают, сейчас я составлю протокол на всю компанию!
Мак-Грю, в свою очередь, встал.
— Прошу прощения, сержант, но по какому поводу вы решили составить протокол?
— А по такому, что вы, наплевав на закон, пожираете украденную у Короны рыбу!
Бакалейщик, прикинувшись очень удивленным, повернулся к Иможен.
— Вы когда-нибудь слыхали, мисс, чтобы у нас в озере Веннахар водилась селедка?
— Речь идет не о селедке, а о форели! — заорал Мак-Клостоу.
— В таком случае вы, вероятно, ошибаетесь, сержант, потому что мы ели селедку, которую я сам купил сегодня у Гэвина Диппена.
— Ах, значит, селедку?
— Да, селедку! — в один голос отозвались сидевшие за столом.
Полисмен презрительно рассмеялся.
— Как интересно… они ели селедку… подумать только!
Арчибальд быстро схватил лежавший у раковины сверток.
— Доказательство номер один! Миссис Булит?
— Да, сержант!
— Вы признаете, что это ваш сверток?
— Да, сержант!
— Вы сами его сделали?
— Да, сержант.
— А можете вы мне сказать, что там, внутри?
— Головы и хвосты рыб, из которых я приготовила ужин своему супругу и его гостям.
— Когда они ели эту рыбу?
— Сейчас за ужином.
— И последний вопрос, миссис Булит: каким образом означенная рыба попала в ваш дом?
— Ее принес мистер Мак-Грю.
— Спасибо, миссис Булит. Надеюсь, вы все слышали?
— Да, мы вас прекрасно слышали, Арчи, — ответила за всех Иможен, — и это становится все забавнее…
— Не пройдет и нескольких минут, как у вас пропадет охота смеяться, — сухо пообещал Мак-Клостоу.
— Хотите, поспорим, что ничего подобного?
— А пока попрошу господ Рестона, Гленрозеса и Лидберна выступить свидетелями…
Полицейский, заранее предвкушая победу, развернул газету и разложил на столе бренные останки рыбы. В наступившей тишине голос Фергуса Мак-Интайра прозвучал особенно громко.
— Как эксперт могу заверить вас, что это действительно селедочные хвосты и головы, а я никогда в жизни не слыхал о законе, запрещающем шотландцам есть селедку. Вы со мной не согласны, Мак-Клостоу?
Униженный и взбешенный сержант повернулся к Маргарет.
— Что это значит, миссис Булит?
Несчастная женщина только руками развела в знак полного неведения. Зато мисс Мак-Картри не упустила случая кольнуть противника:
— Как видите, Арчи, я выиграла пари!
— Если хотите знать мое мнение, мисс Мак-Картри, — возмутился раздражительный мясник, — вы самая настоящая отрава и заслуживаете хорошей взбучки!
Тед Булит не выносил, когда кто-нибудь осмеливался непочтительно разговаривать с Иможен, а кроме того, у него руки чесались всыпать хорошенько Мак-Ююстоу и компании. Но бить полисмена — дело опасное и, учитывая это обстоятельство, Тед решил отыграться на Лидберне. Снова поднявшись со стула, он подошел к мяснику.
— Вы омерзительный тип, Лидберн, и самый настоящий подлец!
— А
вы жулик!
В ту же секунду правый кулак Булита врезался в переносицу врага, тот взвыл от боли, и, плюхнувшись на пол, быстро поднес руки к лицу в тщетной надежде унять хлынувшую из носа кровь. Довольная физиономия хозяина «Гордого Горца» окончательно вывела из себя верзилу-полицейского, и он нанес обидчику молниеносный удар слева. Булит без сознания рухнул к ногам жены. С этого все и началось. Фергус Мак-Интайр, по праву гордившийся недюжинной силой, налетел на сержанта, а Мак-Грю в это время без передышки колотил Гленрозеса. Что до аптекаря и доктора Элскотта, то они без лишнего шума пытались придушить друг друга в уголке.
Очень скоро победа стала клониться на сторону клана Мак-Грю, хотя миссис Булит, переметнувшись во вражеский стан, изо всех сил стукнула палкой от метлы мужа, едва тот попытался встать. Фергусу Мак-Интайру наверняка не удалось бы совладать с Мак-Клостоу, не потеряй тот в пылу сражения каску. Но Иможен, воспользовавшись этим обстоятельством, разбила о голову сержанта кувшин с водой. Арчибальд с идиотской улыбкой немного покачался на ногах, а потом во всю длину упал навзничь. Мак-Интайр, развернувшись, стал искать нового противника. На глаза ему попался вконец обалдевший Лидберн. Мясник все еще держался за нос и только что кое-как принял вертикальное положение. Не останавливаясь, Фергус провел великолепный апперкот, и, как только его кулак соприкоснулся с подбородком Лидберна, тот взмыл над землей и без чувств свалился рядом с Мак-Клостоу. Маргарет, давно мечтавшая утолить многолетнюю, упорную ненависть к мисс Мак-Картри, подкралась сзади и нанесла ей здоровенный удар палкой. Иможен в это время с легкой тревогой склонилась над Арчибальдом, дабы убедиться, что не прикончила его на месте. Нападение миссис Булит застало воительницу врасплох, и она без единого звука грохнулась прямо на по-прежнему недвижимое тело сержанта. Маргарет уже хотела издать победный клич, но в ту же секунду в грудь ей угодила бутылка виски, брошенная Гленрозесом в последней попытке спастись от натиска Мак-Грю (точнее, перед тем как упасть на колени и, наконец, спикировать носом на пол). Миссис Булит тихо икнула и упала в обморок. Тем временем более тренированный доктор Элскотт с наслаждением тузил своего соперника Хьюга Рестона.
Вошедший в эту минуту Сэм Тайлер, за которым успел сбегать перепуганный Томас, так и застыл на пороге, не веря собственным глазам. Среди неописуемого беспорядка возвышались лишь Мак-Грю и Мак-Интайр, да врач с аптекарем продолжали выяснять отношения на полу. Бакалейщик, утирая ребром ладони рассеченную губу, улыбнулся констеблю.
— Великолепная потасовка, Сэм!
— По-моему, мы дали им хороший урок, — добавил Фергус.
— Но… почему?
— Да так, поспорили из-за рыбы… Мак-Клостоу не понравилось, что мы ее едим.
— Честное слово, вы все просто взбесились! И растащите-ка поскорее этих двух старых идиотов, а то как бы они и вправду не прикончили друг друга!
Пока Рестона вытаскивали из цепких рук доктора Элскотта, Тайлер, вооружившись ведром воды и раздавая налево-направо пощечины, приводил в чувство тех, кто лежал на полу без сознания. Благодаря могучему телосложению первым пришел в себя Мак-Клостоу и, обведя затуманенным взглядом кухню, узрел смешавшуюся с его бородой огненную шевелюру. Голова отказывалась работать, и все же до сержанта почти мгновенно дошло, что в Каллендере есть только одна обладательница столь ослепительной гривы — мисс Мак-Картри. В полной панике бедняга полицейский рванулся и сел на пол, но это резкое движение встряхнуло Иможен, и та, еще плохо понимая, что делает, уцепилась за шею Арчибальда. Сержант тихо заскулил от ужаса, и его стоны окончательно вернули Иможен на землю.
— Я почти ничего не помню, — вздохнула она, — но, надеюсь, вы не позволили себе ничего лишнего, Арчи!
— На помощь, Тайлер!
Сэм подбежал и, подняв Иможен, дружески похлопал ее по плечу.
— С вами все в порядке, мисс?
— Даже не знаю, что со мной было… Сначала вроде бы что-то упало на голову, а очнулась я в объятиях Арчи.
— Это я звал вас на помощь, Тайлер! — сердито напомнил Мак-Клостоу.
Констебль поспешил помочь шефу подняться на ноги, и тот, окинув поле сражения восхищенным взглядом, присвистнул.
— Вот это да, Сэм! Если бы я еще мог выяснить, кто напал на меня сзади… Это, случаем, не ваша работа, мисс Мак-Картри?
— Моя? Ну что за гадкие подозрения, Арчи! И тем более сейчас, после того как вы меня так ужасно скомпрометировали…
Мак-Клостоу, распахнув дверь, мгновенно задал стрекача и, в рекордное время добравшись до полицейского участка, наглухо там забаррикадировался.
Истинный шотландец никогда не жалеет о хорошей драке, а потому на следующее утро никто не пошел жаловаться в полицию. Аптекарь и его друзья — из самолюбия, а их противники — поскольку победа осталась за ними. Арчибальд Мак-Клостоу не посмел составлять протокол — подтвердить свои подозрения ему так и не удалось, а снова лезть на рожон не имело смысла. В результате те из каллендерцев, кто не побывал накануне вечером в «Гордом Горце», долго недоумевали, почему у виднейших граждан их города такие помятые физиономии.
Сражение в «Гордом Горце» отошло в область легенды, жизнь Каллендера вернулась в нормальную колею, и семейный совет с участием Лидбернов, Рестонов и Гленрозесов состоялся в намеченное время. Принимавшая гостей Флора Лидберн чуть ли не целый день провела у плиты.
Когда все поужинали и поблагодарили хозяйку дома, женщины перешли в ее комнату, оставив мужчин пить и курить в гостиной. Дженет, добросовестно помогавшая матери с готовкой и со времени неудачного самоубийства удивительно молчаливая, попрощалась с дядей, крестным и отцом, расцеловала тетку и крестную, а потом с особенной нежностью — мать. Флора не привыкла к дочерним ласкам и чуть не расплакалась от радости. Бедняжке, естественно, и в голову не пришло, что таким образом Дженет просто хотела заранее извиниться за все огорчения, которые принесет матери ее бегство с Ангусом. Теперь наследница Лидбернов могла удалиться к себе в комнату и терпеливо ждать удобного момента понезаметнее присоединиться к возлюбленному, караулившему ее в подъезде соседнего дома.
Около одиннадцати часов жены Рестона и Гленрозеса откланялись. Жили они неподалеку друг от друга и вместе пошли домой, а миссис Лидберн наконец легла спать.
Оставшись одни, мужья откупорили принесенную Гленрозесом бутылку коньяка, и Кит с Дермотом, к величайшему негодованию Рестона, налили себе изрядные порции. Выпив и пощелкав в знак полного удовлетворения языком, Дермот Гленрозес спросил:
— Так вы думаете, Кит, Дженет в тот день всерьез пыталась покончить с собой?
— Боюсь, что да.
Рестон попросил уточнений.
— По-вашему, на нее кто-нибудь дурно влияет?
— Честно говоря, не представляю, кто бы мог на нее повлиять, кроме Ангуса Кёмбре.
— А вы не пробовали объясниться с этим типом?
— До сих пор не решался — вряд ли я сумел бы удержать себя в руках…
— Хотите, я возьму эту неприятную обязанность на себя?
— Был бы вам очень признателен, Хьюг…
— Само собой, вы и мысли не допускаете о возможности подобного союза? — вмешался Гленрозес.
— Чтобы неизвестно откуда взявшийся парень да еще без гроша в кармане стал моим зятем? Да никогда в жизни! Ишь, чего захотел: жениться на дочке, чтобы прибрать к рукам денежки ее отца! Нет уж, пускай поищет других дураков!
— И что вы собираетесь делать?
— Хьюг… а нельзя ли на какое-то время отправить Дженет к вашей сестре в Соединенные Штаты? Если бы Присцилла согласилась ее принять…
— По-моему, у нее нет никаких причин нам отказывать… Завтра же напишу.
— Спасибо. Надеюсь, новые впечатления и совершенно другая жизнь научат мою дочь более здраво смотреть на вещи.
К несчастью для Дженет, трое мужчин ненадолго умолкли, и в тишине они явственно услышали, как часы в холле бьют половину двенадцатого и кто-то крадучись спускается по лестнице. Друзья с недоумением переглянулись и одновременно выскочили из гостиной. Все трое оказались в холле в ту самую минуту, когда Дженет с чемоданом в руке открывала входную дверь. Они притащили девушку в гостиную, и Кит пригрозил избить дочь до полусмерти, если она немедленно не расскажет всю правду, а если эта правда окажется такой, как он подозревает, то ей грозит еще одна, не менее жестокая порка. Чувствуя, что дело может обернуться очень худо, Дермот Гленрозес поспешил вмешаться.
— Да ну же, Дженет, моя крошка… — примирительным тоном сказал он. — Неужто вы и в самом деле собирались бежать из дома родителей, из своего родного дома?
— Я здесь слишком несчастна!
Лидберн взмахнул карающей десницей, но Рестон поймал ее на лету.
— Из-за Ангуса Кёмбре?
— Да.
— И вы бежали к нему?
— Да.
— Куда же?
Дженет не могла в одиночку выдержать натиск троих следователей и в конце концов призналась, где ее ждет возлюбленный.
— Ага! — преисполнившись мстительной решимости, воскликнул ее отец. — Сейчас я устрою небольшой сюрприз этому вашему недоделанному Ромео! Положитесь на меня!
Но не успел кипящий от ярости мясник подскочить к двери, как его остановил Рестон.
— Нет, Кит! Вы слишком вспыльчивы. А в подобных делах требуется немалое хладнокровие. Я сам объяснюсь с парнем и попробую ему втолковать, насколько его план аморален.
— Он любит меня, дядя Хьюг! — простонала Дженет.
— Тем более, дитя мое! Если Кёмбре вас любит, значит, должен особенно уважать и не пытаться вовлечь в историю, равно позорную как для вас, так и для нас всех.
Лидберн проводил аптекаря в холл и, когда тот уже собирался повернуть ручку двери, достал из ящика подставки для шляп огромный револьвер, оставшийся у него со времен службы в ополчении.
— Возьмите-ка это, Хьюг… С нынешними юными психами никогда не знаешь, чего ожидать…
И вооруженный револьвером Рестон направил стопы туда, где Ангус прятался в ожидании девушки, не зная, что она уже не придет.
Кит вернулся в гостиную с твердым намерением прочитать дочке хорошую нотацию.
— Дженет, вы глубоко меня разочаровали. Ни я, ни, тем более, ваша мать никогда не ожидали…
Но Дженет, не желая слушать отцовских наставлений, убежала, глотая слезы. Мужчины на миг замерли, задыхаясь от удивления и негодования, потом Гленрозес заметил:
— Лучше оставить ее в покое. Сейчас девочка просто не в состоянии воспринимать что бы то ни было.
Мясник пожал плечами.
— Все женщины — тронутые!
Дермот предпочел сменить тему.
— Вот уж не предполагал в Хьюге такую прыть, обычно он предпочитает действовать тайком.
— Этого требует его профессия.
— А по-моему, с его стороны очень неосторожно броситься ночью, в темноте, на встречу с этим малым.
— Поэтому я дал ему свой старый револьвер.
— И правильно сделали! Кто знает, вдруг этот Ангус Кёмбре вооружен?
Дермот встал.
— А вы не думаете, Кит, что сейчас самое время?
— Для чего?
— Присоединиться к Хьюгу. У меня складывается впечатление, что он ушел уже очень давно…
— Только бы с ним не стряслось ничего дурного!
— Самое разумное — сейчас же это выяснить.
Они, в свою очередь, вышли в холл.
— У меня есть еще один пистолет, — сказал мясник. — Взять его с собой?
— Разумеется…
На улице они ненадолго замерли, прислушиваясь. Но тишину ночи не нарушил ни один подозрительный звук, и приятели осторожно двинулись вдоль стены. Вскоре они увидели идущего навстречу Рестона.
— Хьюг! — окликнул аптекаря Лидберн, как только на того упал свет фонаря.
Рестон остановился. И почти в ту же секунду прогремел выстрел. Они увидели, как Хьюг поднял руки к голове, повернулся вокруг собственной оси и, словно подкошенный, пыхтя и придерживая внушительное брюшко, опустился на колени, но почти тотчас упал.
— Мертв…
— Не может быть!
Однако, прежде чем Гленрозес успел ответить, невдалеке послышался громкий топот и из тени вынырнул Ангус Кёмбре.
— Что тут происходит?
Друзья налетели на него и схватили за руки.
— И вы еще смеете спрашивать, убийца? — заорал Лидберн.
Глава 3
Самоубийство Мак-Клостоу
Арчибальд Мак-Клостоу спал. И спал он мирным сном человека, не ведающего ни сложностей с пищеварением, ни тяжких забот. Внезапно этот блаженный сон нарушило страшное видение — бедняге сержанту приснилось, что его преследует бешеный бык с головой Иможен Мак-Картри. Арчибальд явственно слышал галоп ужасного зверя, и, судя по все более громкому топоту копыт, тот приближался с угрожающей скоростью. Спасаясь от страшных рогов, Мак-Клостоу отчаянно рванулся, напряг все мускулы и… скатился с постели. В первые несколько секунд, еще в полудреме, Арчибальд не соображал толком, ни где находится, ни — что звук, который он принял за топот копыт, на самом деле исходит от двери полицейского участка, в которую кто-то изо всех сил дубасит кулаками.
У сержанта окончательно испортилось настроение. Он терпеть не мог, когда кто-то осмеливался нарушать его покой. Само собой разумеется, долг повелевал полицейскому спешить на первый же зов, но это не мешало ему питать глубочайшее отвращение к вестникам несчастья. С трудом поднимаясь на ноги, Мак-Клостоу внезапно застыл, вне себя от страха, ибо теперь с улицы донесся крик:
— Пожар!
Сержант мигом вскочил и, сунув ноги в тапочки, кинулся вниз по лестнице (каску он водрузил на голову уже на бегу); Арчибальд подбежал к двери в полной панике — ничего на свете он не боялся так, как пожара.
— Где? — завопил он, едва открыв дверь.
Томас, официант из «Гордого Горца», улыбнулся Мак-Клостоу.
— Это неправда…
— Что?
— Я крикнул «Пожар!», только чтобы вас разбудить.
— А, так вы хотели малость поразвлечься, да?
— Не совсем так, сержант.
Не отвечая, Арчибальд сгреб официанта могучей лапищей, втащил в участок и отшвырнул в глубь своего кабинета, а на возмущенные крики парня ответил лишь градом угроз и оскорблений.
— Ах, так вы там у себя, в «Гордом Горце», вообразили, будто сможете безнаказанно издеваться над сержантом Мак-Клостоу до скончания веков? Думаете, вам позволено будить меня посреди ночи из-за несуществующего пожара и все сойдет с рук?
— Повторяю вам, я хотел лишь заставить вас подняться!
— А чего ради, хотел бы я знать?!
— Чтобы рассказать об убийстве.
Сержант тут же отпустил пленника.
— Убийство? А кого же…
— Мистера Хьюга Рестона.
— Аптекаря?
— Ну да! И, честно говоря, вид у него довольно жуткий — все лицо залито кровью…
— А известно, кто его прикончил?
— Да вроде бы молодой Ангус Кёмбре.
— И где же тело?
— Рядом с лавкой Лидберна, на тротуаре под самым фонарем.
— Пошли!
Но Томас остановил Мак-Клостоу.
— Не то чтоб я осмелился давать вам советы, сержант, но, может, все-таки разумнее сначала надеть штаны?
Арчибальд, оценив пикантность ситуации, энергично выругался.
— Ладно. Бегите к моему помощнику Тайлеру и скажите, что я жду его на месте преступления, а потом передайте то же самое доктору Элскотту.
Не ожидая ответа официанта-посыльного, сержант поспешил в соседнюю комнату одеваться. Через две минуты он, кое-как застегнув большинство пуговиц, снова выскочил в кабинет. Взгляд полицейского скользнул по бутылке виски, которую он, уходя спать, оставил на столе. Бутылка была пуста, хотя Мак-Клостоу точно помнил, что перед сном опорожнил ее только до половины.
— Проклятый Томас! — прохрипел он в благородном гневе и выскочил в темноту весенней ночи, поклявшись, что скоро в Каллендере произойдет еще одно убийство, ибо он непременно отомстит этому гнусному пьянице.
Кёмбре не сразу отреагировал на обвинение, но, оправившись от шока и сообразив, что к чему, стал яростно отбиваться и в конце концов вырвался из рук обоих противников. Однако вместо того чтобы спастись бегством, Ангус изо всех сил треснул Лидберна кулаком, и его будущий тесть без чувств распластался на тротуаре. Гленрозеса, несомненно, ожидала точно такая же судьба, но несколько запоздалых прохожих и соседей бросились на подмогу ветеринару. Совместными усилиями им не без труда удалось скрутить разбушевавшегося молодого человека. В это время мимо них, возвращаясь домой, в «Гордого Горца», проходил Томас, и его отправили будить сержанта.
Узрев два лежащих на тротуаре тела, Мак-Клостоу решил, что дурень официант рассказал ему лишь половину правды. Но Арчи быстро успокоили, объяснив, что Кит Лидберн просто в обмороке. Сержант с облегчением перевел дух и поспешил спросить у Гленрозеса, что тут произошло. Ветеринар поманил его в сторонку, поскольку то, что он хотел рассказать, никак не предназначалось для посторонних ушей. Сержант кивнул и, к великому разочарованию любопытных соседей, последовал за Гленрозесом. Когда они вернулись, убитого уже осматривал доктор Элскотт.
— Ну, доктор?
— Что — ну? Он мертв. А вы что, сами об этом не догадывались?
Мак-Клостоу, благоразумно промолчав, повернулся к констеблю.
— Позвоните в больницу, Сэм, и попросите прислать перевозку, а потом предупредите миссис Рестон, какое ее постигло несчастье.
— Но, шеф, в мои обязанности не входит извещать родственников о…
— Насколько я понимаю, вы публично отказываетесь выполнить приказ, Тайлер?
Гленрозес снова выступил вперед.
— С вашего позволения, сержант, я возьму на себя эту тяжкую миссию…
— Ладно, договорились.
Свалив с плеч печальную заботу, Мак-Клостоу наконец получил возможность допросить предполагаемого убийцу. Он подошел к Ангусу Кёмбре, которого доброхоты все еще держали за руки, и надел на него наручники.
— Вот так, теперь можете отпускать… Ну, мой мальчик, вам так не терпелось попасть на виселицу?
— Это не я!
— Понятно… Значит, рассчитывать хоть на какое бы то ни было сотрудничество с вашей стороны — бесполезно?
— Да говорю же вам: я его не…
— Ладно-ладно…
— У него в правом кармане пиджака все еще лежит пистолет, сержант! — предупредил кто-то из свидетелей.
— Отлично, главное — ничего не трогать!
Машина «скорой помощи» увезла тело покойного Хьюга Рестона. Доктор Элскотт уже направился к своей машине, но, проходя мимо Мак-Клостоу, услышал негромкое ворчание:
— Ну вот, теперь вы избавились от самого опасного соперника, доктор.
Элскотт смерил полицейского презрительным взглядом.
— Право, сержант, вы так же глупы, как высоки ростом! Еще раз предупреждаю: вам следовало бы хоть чуть-чуть поменьше пить.
И, отвернувшись, врач снова пошел к машине с таким видом, будто эпитеты, которыми вполголоса награждал его сержант, относились к кому-то другому. В результате гнев Арчибальда Мак-Клостоу излился на любопытных.
— А теперь немедленно расходитесь по домам, иначе я на каждого составлю протокол за ночной дебош в общественном месте!
Зеваки, недовольно ворча, разбрелись, и только уже очухавшийся Лидберн с угрожающим видом подскочил к Кёмбре.
— Я еще погляжу, как вы дергаетесь на веревке, подонок! — заорал он.
Ангус молча лягнул мясника в бедро, тот взвыл от боли и, прихрамывая, отошел на почтительное расстояние. Мак-Клостоу и не подумал его утешать.
— Как ни печально, но я вынужден сказать вам, мистер Лидберн, что вы сами нарывались на неприятности, — заметил он. — А теперь, Сэм, я думаю, мы должны оказать этому молодому человеку гостеприимство и запереть его в уютной камере, дабы он мог спокойно поразмыслить на досуге, как нехорошо убивать. Ну, вперед!
Когда они вошли в кабинет, сержант, снова увидев пустую бутылку, на мгновение впал в транс.
— Не забудьте напомнить мне, Сэм, что я должен сказать пару ласковых Томасу из «Гордого Горца». А сейчас снимите с арестованного наручники, усадите вот на этот стул и встаньте у двери на случай, если ему взбредет в голову фантазия нарушить мирное течение разговора и попытаться сбежать.
Усевшись за стол, Арчибальд снял чехол с древней пишущей машинки и заправил в нее лист бумаги.
— Ну, выкладывайте, мой мальчик.
— Клянусь вам, что…
— Это — потом, а пока отвечайте только на мои вопросы. Итак: имя, фамилия, возраст, адрес, профессия…
— Кёмбре Ангус, двадцать пять лет… Живу у мистера Стоу, владельца гаража и заправочной станции у дороги в Доун, работаю там же механиком…
— Отлично. Где вы родились?
— Понятия не имею.
— А?
— Я знаю только, что вырос в сиротском приюте Перта, а если у меня и есть мать и отец, то я о них ни разу не слышал.
— Так вот в чем причина… Вы страдаете комплексом обездоленности и потому выстрелили в Хьюга Рестона!
— Вот уж не улавливаю никакой связи между тем и другим!
— Это не имеет значения, довольно и того, что я ее вижу! Вы еще ни разу не сидели в тюрьме?
— Нет, никогда.
— Это потому, что вам повезло!
— Я не позволю вам…
— Молчать! Расскажите лучше, зачем вам вдруг понадобилось убивать Хьюга Рестона!
— Я его не убивал.
— Тогда что вы делали возле трупа?
— Там был не я один! Лидберн и Гленрозес тоже стояли рядом!
— Оба они живут поблизости, а кроме того, провели вечер у Лидбернов. Но вы-то зачем вертелись возле мясной лавки?
— Я ждал Дженет Лидберн.
— В такой поздний час?
— Дженет знала, что я ее жду.
— И куда же вы собрались среди ночи?
— Дженет решила уйти из дому, потому что ее родители упорно противятся нашему браку.
— Замечательный у вас склад ума! А когда вместо Дженет из дома вышел ее дядя Рестон, вы струхнули и принялись в него палить?
— Я вообще видел Рестона только мертвым!
— Пустая болтовня!
— Но, в конце-то концов, я вовсе не убийца!
— Почему я должен верить вам на слово?
Ангус сунул руку в карман и вытащил револьвер, который у него в суматохе так и не забрали. Арчибальд на несколько секунд перестал дышать.
— Будь я тем, за кого вы меня принимаете, давно воспользовался бы этим оружием и вернул себе свободу! Но у меня нет ни малейшего желания убивать кого бы то ни было!
Ангус бросил револьвер на стол перед Мак-Клостоу, и тот осторожно обернул его платком.
— Не понимаю, о чем вы только думаете, Тайлер! — сердито проворчал сержант. — Оставить подозреваемому в убийстве револьвер! Честное слово, вам пора в отставку! А что до вас, мой юный друг, то эта демонстрация ровно ничего не доказывает! Вы просто не могли в меня выстрелить.
— Это еще почему?
— Потому что я сержант Мак-Клостоу, и, застрелив меня, вы подписали бы себе смертный приговор.
— Когда б я и в самом деле убил Рестона, мне наверняка светила бы виселица, а раз туда невозможно попасть дважды, я бы ровно ничем не рисковал, продырявив шкуру и вам заодно.
Арчибальд довольно долго молчал, видимо с головой погрузившись в пучину размышлений. Наконец, вынырнув на поверхность, он снова завопил:
— Во-первых, не мое дело с вами препираться! А во-вторых, быстренько идите в камеру, где мы держим арестантов! Завтра я с удовольствием переправлю вас в Перт. Уж там вами займутся куда менее вежливые люди, чем я!
— А такие бывают?
— Уведите его, Тайлер!
Когда Сэм запирал камеру, молодой человек чуть слышно шепнул:
— Умоляю вас, Сэм, предупредите Стоу и мисс Мак-Картри. Только они одни могут вытащить меня из этого кошмара!
Назавтра, узнав о насильственной смерти кандидата в Окружной совет, Хьюга Рестона, весь Каллендер облачился в траур. Известие о том, что в убийстве подозревают такого симпатичного молодого человека, как Ангус Кёмбре, тоже никого не обрадовало. По городу расползались слухи. Многие поспешили выразить соболезнования миссис Рестон и пришли к единодушному выводу, что вдова явно выглядит помолодевшей, а черный цвет ей удивительно к лицу. Злые языки не преминули заметить, что миссис Рестон не слишком опечалена гибелью супруга, а миссис Шарп достаточно громко, чтобы слышали окружающие, сказала миссис Фрейзер:
— Впрочем, если бы бедняжка Фиона вздумала носить траур по всем, кого дарила особым вниманием, ей бы уже лет двадцать пришлось ходить только в черном…
Весть об убийстве очень скоро распространилась за пределы города. Местный корреспондент одной из пертских газет, позвонив к себе в редакцию, сообщил и о преступлении, и о том, что предварительное расследование завершено: благодаря расторопности сержанта Мак-Клостоу и мужеству двух граждан Каллендера — мистера Лидберна и мистера Гленрозеса — убийца уже сидит под замком.
Арчибальд буквально исходил потом над рапортом суперинтенданту (он сидел за машинкой с самого рассвета), и лишь телефонный звонок оторвал его от мучительных умственных усилий. Звонил из Перта суперинтендант Копланд.
— Алло, Мак-Клостоу?
— Так точно, сэр.
— Что это еще за история с убийством в Каллендере?
Стараясь говорить как можно яснее, сержант по мере сил и возможностей передал последовательность событий.
— Кто жертва?
— Хьюг Рестон, сэр, аптекарь, а также соперник доктора Элскотта на предстоящих выборах в Окружной совет.
— Скверная история, Мак-Клостоу…
— Да, сэр, но убийца уже за решеткой.
— Он сознался?
— Пока нет. Я жду результатов вскрытия, чтобы окончательно припереть парня к стенке.
— Это политическое убийство?
— Да нет, тут замешана, скорее, любовь, сэр.
— Вы уверены?
— Да, сэр, вполне.
— Когда вы к нам его отправите?
— После полудня, сэр, как только получу заключение эксперта.
— Что ж, я вас жду. До скорого, Мак-Клостоу, и — браво!
Широкая грудь Арчибальда еще больше раздулась от гордости. И сержант с удвоенным рвением принялся за работу.
Ближе к полудню в Каллендер примчались репортеры пертских газет и сразу поспешили в полицейский участок. Мак-Клостоу принял их с нескрываемой радостью и, разумеется, не заставил себя долго упрашивать, а тут же подробно рассказал и об убийстве, и о мотивах преступления, и о неизбежных его последствиях.
— А каким же образом получилось, сержант, что Кёмбре стрелял в дядю мисс Лидберн, а не, скажем, в ее отца? — спросил кто-то из журналистов.
— По-моему, он просто ошибся. Было уже темно, Кёмбре струсил и не успел толком разглядеть будущую жертву.
— Он уже признал вину?
— А вы хоть раз видели, чтобы преступник немедленно раскололся?
Мак-Клостоу сфотографировали во всех возможных и невозможных ракурсах и уже собирались идти в кабачок выпить во славу полиции Ее Величества, как вдруг в участок влетела Иможен. Многие ее сразу узнали, и поднялся страшный шум, так что какому-то темноволосому коротышке, вздумавшему отличиться, пришлось кричать, иначе воительница не расслышала бы его слов.
— На сей раз, мисс Мак-Картри, вам не придется расследовать убийство! Об этом уже позаботился сержант Мак-Клостоу!
Иможен не снизошла до ответа, а с прежней стремительностью подскочила к столу сержанта.
— Послушайте, Арчи, если вы сию секунду не отпустите ни в чем не повинного человека, вам придется иметь дело со мной!
Чувствуя за собой поддержку заинтересованной аудитории, Мак-Клостоу выставил грудь колесом.
— Присутствующим здесь джентльменам прекрасно известно, на какие эксцентрические выходки вы способны, мисс…
— Равно как и ваша ни с чем не сравнимая тупость!
— Мисс Мак-Картри, вы преступаете всякие границы дозволенного!
Иможен, обернувшись к журналистам, указала на Арчибальда.
— Этот самодовольный чужак вообразил, будто знает горцев лучше их самих! Никто не видел, чтобы Ангус Кёмбре стрелял в Хьюга Рестона! Зато сержант наверняка забыл вам рассказать (что, впрочем, естественно для этого примата в нашивках), что жертва держала в руке армейский пистолет!
Репортеры, не скрывая любопытства, заволновались.
— Это верно, сержант? А почему покойный мистер Рестон счел нужным вооружиться? Нет ли тут сведения счетов? Или вы пытаетесь что-то от нас скрыть?
Мак-Клостоу примирительным жестом вытянул руки.
— Минутку, джентльмены! Мистер Рестон по поручению мистера Лидберна собирался высказать Кёмбре все, что думает о его поведении. Мистер Лидберн, опасаясь буйного характера Кёмбре, сам посоветовал шурину взять с собой пистолет. Дальнейшее показало, насколько он был прав. Что до странного интереса мисс Мак-Картри к этому делу (о причинах которого, по-моему, приличия ради лучше не распространяться), то подобная забота о молодом человеке значительно младше…
В толпе журналистов послышались смешки, и щеки Иможен мгновенно окрасились в тот же поразительный огненный цвет, что и ее волосы.
— Арчи… — в бешенстве прохрипела она. — И вы смеете публично ставить под сомнение мою нравственность? Нравственность дочери капитана Мак-Картри?
— Признайте, что ваше поведение выглядит довольно необычно, мисс…
— А как насчет этого?
И, к великой радости фотографов, тут же защелкавших аппаратами и камерами, мисс Мак-Картри быстро сорвала с правой ноги туфлю и швырнула в физиономию Мак-Клостоу. Тот пошатнулся от удара.
— А теперь, дурно воспитанная горилла, я жду от вас извинений! — бросила Дева Гор.
Один из свидетелей громко заметил, что у Мак-Клостоу пустые, ничего не выражающие глаза человека, готового совершить убийство. И, словно в подтверждение этих слов, сержант, по-видимому, утратив всякую власть над собой, выхватил револьвер и прицелился в журналистов. Последним вмиг расхотелось смеяться. К счастью, в эту минуту вошел доктор Элскотт. С первого взгляда оценив положение, он весело заметил:
— Ну, Мак-Клостоу, опять вы забавляетесь, как мальчишка?
Атмосфера сразу разрядилась. Арчибальд, проведя по лбу дрожащей рукой, убрал револьвер.
— Покажите-ка мне пистолет Ангуса Кёмбре, сержант, — попросил врач.
Полисмен достал из ящика стола оружие Ангуса.
— Так я и думал, — проворчал Элскотт и, кинув на стол перед сержантом расплющенный кусочек свинца, добавил: — Вот пуля, которую я извлек из черепа Рестона, и, если она подходит к этому пистолету, готов съесть собственную шляпу!
Журналисты подошли поближе и воочию убедились, что Ангус Кёмбре никак не мог стрелять в Рестона, во всяком случае, из своего пистолета.
— Но в конце-то концов, что все это значит? — в полной растерянности воскликнул Мак-Клостоу.
— Всего-навсего — что аптекаря прикончил не Ангус, а кто-то другой.
— Но это невозможно!
— Не станете же вы спорить с очевидными фактами, а?
— Но я ведь уже сказал суперинтенданту…
— Догадываюсь, что вы успели ему наговорить… уж лучше б прикусили язык, и к тому же…
— Да?
— Что вам стоило по крайней мере вытащить магазин? Тогда вы увидели бы, что все пули на месте…
Небрежность сержанта возмутила даже тех, кто до сих пор поддерживал его версию. Мак-Клостоу на негнущихся ногах пошел открывать камеру, где томился Кёмбре.
— Можете идти… вы свободны.
Журналисты немедленно окружили Ангуса и увели из участка, умоляя поделиться впечатлениями, рассказать о романе с Дженет Лидберн и так далее и тому подобное. А бедняга сержант вернулся к себе в кабинет и, обхватив голову руками, стал раздумывать о постигшем его несчастье и о том, как бы половчее объяснить суперинтенданту, что он в очередной раз угодил пальцем в небо. И все — из-за дурня мясника и кретина ветеринара! Эта мысль преисполнила сержанта решимости. Арчибальд вскочил, нахлобучил на голову каску и бросился к двери, но его остановил насмешливый голос Иможен:
— Как мне ни жаль вас, Арчи, но я все-таки рада за Ангуса!
— А мне что за дело? И, кроме того, мы с вами еще далеко не в расчете! Не забывайте, что вы бросили мне в лицо туфлю!
— Так вы же меня публично оскорбили!
Они с неприкрытой враждебностью поглядели друг на друга.
— Ох, если б вы только могли видеть себя со стороны, наверняка сами не удержались бы от смеха! — фыркнул доктор Элскотт. — Ну что вам мешает наконец помириться?
Арчибальд разразился свирепым смехом.
— Я бы предпочел поухаживать за львицей, у которой только что отняли малышей!
— Продолжайте в том же духе, Арчи, и, пожалуй, схлопочете второй башмак!
— Хотел бы я на это взглянуть!
Иможен нагнулась, чтобы снять туфлю, а сержант, воспользовавшись тем, что противница не ожидает нападения, схватил ее за талию, быстро отнес в камеру, швырнул на кушетку и, поспешно выскочив, захлопнул за собой дверь. Мисс Мак-Картри, вцепившись в решетку, стала осыпать его проклятиями, ссылаясь на Великую хартию вольностей, права гражданина, неприкосновенность личности и прочие установления и законы, какие ей с ходу пришли в голову. Но Мак-Клостоу оставался глух ко всем ее крикам, а в ответ на вопрос доктора Элскотта, вежливо спросившего, хорошо ли он подумал, сердито огрызнулся:
— С этой минуты я твердо намерен сначала действовать, а уж потом раздумывать! А на сем — общий привет! Пойду разберусь с другим клоуном!
Как только Арчибальд ушел, врач приблизился к запертой в клетке Иможен.
— Мне ужасно досадно, дорогая, но сержант унес с собой ключ…
— Он мне еще заплатит!
— Как хороший игрок, мисс Мак-Картри, признайте, что нельзя всякий раз выигрывать, и смиритесь с неизбежным. Потерпите немного — через полчаса я вернусь и, если до тех пор Мак-Клостоу, паче чаяния, вас не выпустит, поставлю его на место!
В толпу женщин, внимавших рассказу мясника о преступлении, свершившемся чуть ли не у него на глазах, Мак-Клостоу врезался, как булыжник — в пруд, где резвятся довольные жизнью лягушки. А Лидберн, сочтя, что публичное одобрение представителя власти еще больше укрепит его авторитет, поспешил обратиться к нему за поддержкой.
— Правда ведь, сержант, что, когда вы пришли на место преступления, мы с Гленрозесом и еще несколько честных граждан нашего города держали преступника за руки?
Дамы Каллендера восхищенно заохали, и не одна грудь стеснилась от волнения. Но Арчибальд, уперев руки в боки, зычно рявкнул:
— Ах, преступника, да?
Лидберн почувствовал неладное, но, разумеется, никак не мог угадать, в чем загвоздка.
— Ну да, само собой, преступника… — неуверенно повторил он.
Мак-Клостоу проложил себе дорогу сквозь ряды почитательниц мясника и угрожающе надвинулся на хозяина лавки.
— Преступника, да? А вам известно, какое преступление совершили вы сами, Кит Лидберн?
Ожидая леденящих кровь разоблачений, дамы боялись дышать. Лоб мясника покрылся испариной.
— Я… я не понимаю вас, сержант…
— В моем лице вы позволили себе посмеяться над всей полицией Ее Величества!
— Я?!
— Да, вы, Кит Лидберн! Какого черта вам с Дермотом Гленрозесом понадобилось хватать бедолагу Кёмбре? Разве что вы надеялись отправить парня на виселицу за преступление, которого он не совершал, и таким образом закончить его роман с вашей дочкой!
Дамы возмущенно ахнули — упоминание о любви Дженет и Ангуса настроило их на сентиментальный лад. Мясник почувствовал, что уважение к нему покупательниц стремительно падает, а это могло самым пагубным образом сказаться на торговле. Лидберн с удовольствием нашел бы возражения, кинул их в лицо грубияну полицейскому и восстановил статус-кво, но язык прилип к гортани и сама почва, казалось, ушла из-под ног.
— Он… он не виновен? — жалобно пробормотал Кит.
— Нет, мистер Лидберн, не виновен! А вы заставили меня оттащить парня в участок и целую ночь продержать в камере! Кембре не мог совершить убийства, поскольку все его пули по-прежнему лежат в магазине, да и та, что убила Рестона, к нему не подходит! Добавлю, мистер Лидберн, что по вашей милости я предстал в самом нелепом свете перед прессой, а теперь еще вынужден докладывать суперинтенданту, что во всем, с начала до конца, ошибался! Как вы, вероятно, без труда догадаетесь, это очень украсит мой послужной список! Благодарю, мистер Лидберн, от всего сердца благодарю!
— Честное слово, сержант, мне и в голову не приходило…
— Ах, как у вас все просто! Вы сеете разрушение, не оставляете камня на камне, а потом умываете руки? Хотите, скажу, к какому я пришел выводу? Это вы во всем виноваты!
Слушательницы еще больше навострили уши. Каждая из них собирала новости, как пчела — мед, и, хорошенько приукрасив, разносила по всему Каллендеру. А несчастный мясник, не смея спорить, лишь робко оправдывался.
— Не понимаю, каким образом вы могли… — пробормотал он.
— Если бы вы не упрямились и позволили этим двум любящим друг друга молодым людям соединиться…
— Никогда!
— Ваша твердолобость стоила Рестону жизни!
— Скажите еще, что это я его убил!
— В определенном смысле — да…
— Но Кёмбре…
— В первую очередь он напал бы на вас! А кроме того, мне бы очень хотелось знать, почему Рестон вышел из вашего дома вооруженным?
— Я… я дал ему револьвер, чтобы в случае чего он мог защищаться…
— Право, вы умеете принимать замечательные и поистине мудрые решения! — отчеканил Мак-Клостоу с глубочайшим презрением. — Поздравляю, мистер Лидберн!
И он вышел из лавки, оставив мясника наедине с сурово взиравшими на него кумушками, а те уже прикидывали в уме, вдруг Кит Лидберн и в самом деле чудовищный отец-тиран и плюс к тому — коварный убийца.
Вернувшись в участок, сержант сразу отворил дверь камеры, где Иможен все это время пережевывала безграничную обиду.
— Уходите… Но в следующий раз, мисс Мак-Картри, я буду далеко не так покладист, имейте это в виду!
— Хорошо, Арчи.
И тон дочери капитана, и явное смирение мгновенно насторожили полицейского. Какую еще пакость задумало это омерзительное создание? И Мак-Клостоу решил удвоить бдительность.
— Вы позволите мне забрать туфлю, Арчи?
Сержант пожал плечами и снял трубку — пора было звонить в Перт суперинтенданту Копланду и объяснять, что опять вышло недоразумение.
— У вас что-нибудь новенькое, Мак-Клостоу? — сразу спросил его суперинтендант.
— Да, сэр… Произошла… ошибка…
— Вот как? Значит, никто не умер?
— Нет, нет, труп — по-прежнему в морге… но выяснилось, что подозреваемый, которого я арестовал, никак не мог совершить это убийство… Калибр пули, извлеченной из головы покойного, не соответствует его оружию…
— Неужели вы не заметили этого раньше?
— Дело в том…
— Тут не о чем даже говорить, сержант! Просто-напросто вы в очередной раз доказали, что не в состоянии выполнять возложенные на вас обязанности!
Мак-Клостоу нервно оттянул пальцем воротничок рубашки.
— Уверяю вас, сэр, я… я…
— Молчите уж!
Иможен вдруг выхватила трубку из рук совершенно убитого горем и потому не способного сопротивляться сержанта.
— Алло, мистер Копланд? Это Иможен Мак-Картри.
— Здравствуйте, мисс, как поживаете?
— Спасибо, хорошо. Я просто хотела вам сказать, что Мак-Клостоу выполнил свой долг и не мог поступить иначе, не рискуя вызвать в городе беспорядки.
— Спасибо, мисс. Из ваших уст такая оценка положения особенно весома. Будьте любезны, дайте еще раз трубку сержанту. Алло, Мак-Клостоу? Мисс Мак-Картри объяснила мне ситуацию. Я беру свои слова обратно и прошу прощения за то, что был к вам несправедлив. А насчет убийства не беспокойтесь — я кого-нибудь пришлю вам в помощь… До скорой встречи…
Сержант повесил трубку. Физиономия его так и сияла от счастья. В мгновение ока вскочив из-за стола, Мак-Клостоу обнял Иможен и завертел по комнате. Мисс Мак-Картри несказанно удивилась.
— Но, Арчи…
— Вы меня просто спасли, мисс, и я никогда этого не забуду!
Буйная радость вдруг вытеснила скопившиеся за долгие годы обиды и, трепеща от избытка чувств, Мак-Клостоу прижал старую деву к груди и расцеловал в обе щеки. Доктор Элскотт, явившийся улаживать конфликт между Арчибальдом и его исконной врагиней, с изумлением узрел их в объятиях друг друга.
— До чего же приятно видеть, что вы помирились и без моей помощи! — весело воскликнул он.
Только в эту минуту до Арчибальда Мак-Клостоу дошло, что он наделал.
— Не знаю, какая муха меня укусила, — смущенно пробормотал полицейский.
— Что ж, могу вам объяснить, Арчи, — с иронией заметил врач. — Это явление хорошо известно во всем мире, и у него есть вполне конкретное имя…
— Нет-нет!
Для разнообразия Иможен расплылась в самой любезной улыбке.
— Вот уже второй раз всего за несколько дней, Арчибальд Мак-Клостоу, вы довольно настойчиво доказываете мне свою привязанность, — кокетливо промурлыкала она.
— Я? Да что вы, мисс Мак-Картри… Не может быть! Вы, наверное, не так поняли…
Она лукаво погрозила сержанту пальчиком.
— Ну, чтобы разобраться в таких вещах, вовсе не обязательно заканчивать Оксфорд, Арчи… У меня до сих пор щеки горят от вашей колючей бороды!
Уловив на горизонте еще неясную тень шантажа, Арчибальд не на шутку встревожился.
— Клянусь вам, мисс…
Доктор Элскотт выразительно потирал руки.
— Ох, чувствую, нас скоро ожидает свадьба!
Мак-Клостоу подскочил.
— Как? Что вы сказали?
— Вот уже два раза, Мак-Клостоу, в «Гордом Горце» и здесь, вы серьезно скомпрометировали мисс Мак-Картри. А такой порядочный человек, конечно, без колебаний выполнит свой долг.
И врач, подхватив Иможен под руку, увел ее из участка, а полицейский еще долго стоял, как громом пораженный.
Наконец он снова опустился в кресло и, прикрыв лицо руками, попытался представить себе совместную жизнь с мисс Мак-Картри. Очень скоро волосы у него встали дыбом от ужаса. Чтобы хоть отчасти восстановить душевное равновесие, Арчибальд достал из-за кипы досье с надписью «Совершенно секретно» бутылку виски, которую всегда хранил там на случай крайней нужды тайно от Сэмюеля Тайлера, чьи бессовестные набеги на запасы начальства не достигали «святая святых». Откупорив бутылку, Мак-Клостоу выхлебал сразу треть ее содержимого. Голова слегка закружилась, но, вопреки ожиданиям, массированная доза алкоголя лишь усугубила отчаяние, и бедняга сержант погрузился в глубокую меланхолию. Теперь Арчибальд видел только одно средство избежать кошмарной участи, уготованной ему подле Иможен — как можно скорее умереть. Следуя давней традиции, Мак-Клостоу счел своим долгом оставить помощнику записку, чтобы его исчезновение не нанесло урона полицейской службе Каллендера.
«Мой дорогой Тайлер, по оплошности угодив в чудовищную ловушку, я не нашел иного способа спастись,кроме смерти. Да, я знаю, как тяжело видеть безвременную кончину человека моих достоинств, но иногда бороться со злой судьбой совершенно бесполезно. Прощайте, Тайлер. Я всегда вас глубоко уважал, невзирая на вашу досадную привычку пить мое виски, не испытывая при этом никаких угрызений совести (что, честно говоря, не могло не шокировать).
Покойный Арчибальд Мак-Клостоу,
бывший сержант полиции Ее Величества»
Составив это послание, Арчи, по-прежнему в полном соответствии с полицейским уставом повесил на дверь кабинета импровизированную табличку с надписью «Временно закрыто по случаю самоубийства», и поднялся к себе в спальню. Там он облачился в парадную форму, поставил у изголовья бутылку виски и прилег на минутку, чтобы хорошенько обдумать, каким образом покинет этот мир.
Вернувшись с обхода и обнаружив оставленную сержантом табличку, Сэм Тайлер чуть не умер на месте от удивления. Торопливо пробежав глазами записку, он несколько раз пробормотал «Господи!», тщетно поискал немного виски — этого воистину замечательного лекарства от слишком сильных потрясений (во всяком случае, с точки зрения Сэма) — и бросился наверх, туда, где, судя по всему, следовало искать бездыханный труп шефа.
Вид распростертого на кровати огромного тела Мак-Клостоу до слез растрогал добряка констебля. Как-никак они с Арчибальдом много лет проработали вместе. И что за дикая мысль взбрела в голову сержанта? Что его заставило сотворить такую непоправимую глупость? Тайлер снял каску, подошел к смертному одру шефа и, опустившись на колени, сразу же чуть не задохнулся в крепчайших испарениях виски, источаемых мнимым покойником. Не прошло и минуты, как Сэмюель с горечью констатировал, что сержант не мертв, а мертвецки пьян. Это открытие, несмотря на досаду, вызванную тем обстоятельством, что ему, Сэму, пришлось изрядно поволноваться просто так, принесло с собой громадное облегчение. Он снова спустился в участок и, зачеркнув на табличке Мак-Клостоу слово «самоубийства», написал сверху «пьянки», а к письму сержанта присовокупил постскриптум:
«Спасибо, шеф, я очень рад, что вы меня уважаете, но, если честно, советую в следующий раз, когда будете покупать виски, выбрать марку получше — это убережет от беды и вашу печень, и мою.
Преданный вам Сэм Тайлер»
Глава 4
Обыватели Каллендера
Поглядывая в окно на воды Тея, суперинтендант полиции графства Перт раздумывал, кого бы послать в Каллендер искать убийцу аптекаря — кандидата в Окружной совет, когда в его кабинет без доклада вошел сержант Берт Джонсон. Поседев на службе, он с минуты на минуту ожидал отставки и в последние годы стал своего рода советником при суперинтенданте — тот безгранично доверял старику и больше всего, пожалуй, ценил его непогрешимый здравый смысл.
— Что-нибудь случилось, Берт?
— Да опять бузит этот молодой инспектор, супер…
— Мак-Хантли? И что он еще придумал?
— Это просто издевательство, супер! Втемяшилось ему в башку поменять все наши методы работы, обучить новому способу классификации досье, ввести улучшенный распорядок дня, который, по его мнению, видите ли, увеличит отдачу. В общем, все хочет перевернуть вверх дном!
— Ну, так что же, Берт?
— Надо срочно найти парню задание и хотя бы на время услать его подальше отсюда.
— Это проще сказать, чем сделать… хотя… Минуточку! Попытайтесь забыть о своем раздражении против Мак-Хантли, Берт, и скажите честно, что вы думаете о нем как о профессионале.
Сержант долго чесал в затылке.
— По-моему, он хороший следователь. В парне не только есть искра божья, но он еще и любит работу. Однако трудно сделать окончательный вывод, пока мы не испытали его на деле.
— У меня есть такая возможность.
— Ну да?
— Можно отправить Мак-Хантли в Каллендер разбираться с убийством Хьюга Рестона.
Джонсон просиял.
— Потрясающая мысль, супер! Не знаю, сумеет ли он поймать убийцу, но зато наверняка познакомится с Иможен Мак-Картри, а уж она (если только не изменилась за эти годы до неузнаваемости) быстро собьет с нашего молодца спесь!
— Пошлите ко мне Мак-Хантли, Берт.
— Сию секунду, супер!
Почти сразу после ухода сержанта перед Копландом предстал инспектор.
Мак-Хантли (или Дугал для барышень) был, что называется, красавец мужчина. Такими высокими, стройными, широкоплечими и златогривыми принято рисовать викингов. Судя по всему, он это отлично знал и придерживался самого высокого мнения о своей особе. Но более всего самолюбие Мак-Хантли тешило то обстоятельство, что на конкурсе, организованном Отделом криминальных расследований Глазго, он стал одним из победителей.
— Я думаю, Мак-Хантли, вам уже известно о последних событиях в Каллендере?
— Вы имеете в виду убийство аптекаря? Да, сэр, я прочитал досье и понял, в чем ошибка тамошней полиции.
— Зато вы, вероятно, не в курсе, что убитый был одним из двух основных кандидатов на выборы в Окружной совет. Само собой, как вы, очевидно, догадываетесь, это не упрощает дела. Боюсь, как бы подобная история не подогрела страсти… Поэтому немедленно поезжайте туда и не возвращайтесь без убийцы.
— Положитесь на меня, сэр, я вам его привезу.
— Я, естественно, не считаю нужным подсказывать вам, как надо вести расследование…
— Это совершенно излишне, сэр. Еще учась в Глазго, я разработал свой собственный метод и, с вашего позволения, сэр, собираюсь применить его на практике.
— Будем надеяться, вас ждет успех.
— Честно говоря, я в этом не сомневаюсь, сэр.
— Да, хочу предупредить вас, инспектор… Оба представителя полиции в Каллендере — отнюдь не орлы. Стало быть, не слишком рассчитывайте на их помощь.
— Вряд ли она мне понадобится, сэр.
Эндрю Копланд подождал, пока за Дугалом Мак-Хантли закроется дверь, и только тогда дал волю душившему его хохоту.
На похоронах Хьюга Рестона собрался чуть ли не весь Каллендер. Порядок траурной церемонии обеспечивал Сэмюель Тайлер, причем отсутствие сержанта, конечно, не преминули заметить и решительно осудить. За гробом шли вдова, тщетно пытавшаяся напустить на себя скорбный вид, Лидберны и Гленрозесы. Преподобный Хекверсон произнес надгробную речь. Внезапная кончина аптекаря дала ему прекрасный повод порассуждать о неисповедимости путей Господних и о том, как бесполезно для человека строить планы на будущее, вместо того чтобы позаботиться о спасении души. По неизвестным для нас причинам, сказал пастор, Всевышний не захотел, чтобы Хьюг Рестон заседал в Окружном совете. Вероятно, Он предназначил нашему земляку место в более высоком собрании…
Наконец, все хором спели два псалма, поклонились могиле и родственникам и разошлись по домам. Остановившиеся у ворот кладбища миссис Фрейзер, миссис Шарп и миссис Плери благодаря траурным одеяниям, как никогда, смахивали на трех ворон.
— Интересно, узнаем ли мы когда-нибудь имя убийцы? — говорила подружкам миссис Фрейзер. — У меня такое чувство (хотя, возможно, я и ошибаюсь), что полиция не проявляет особого рвения…
— Да, наверняка нашлись люди, которых исчезновение Рестона очень устраивает, — прошипела миссис Плери.
— Вы имеете в виду Фиону? — так же тихо осведомилась миссис Шарп.
— Возможно…
— Вы и вправду думаете, что она причастна к убийству мужа?
— Понятия не имею, но вообще-то вполне могла попросить кого-то из своих любовников оказать эту небольшую услугу. Как, по-вашему?
Миссис Фрейзер покачала головой.
— Фиона, дорогая моя, уже не в том возрасте, чтобы ей так слепо и преданно служили. Скорее, если хотите знать мое мнение…
Две другие кумушки склонились к самому ее лицу.
— …Так вот, исходя из принципа, что убийство должно принести определенную выгоду преступнику, я в первую очередь спрашиваю себя: кому смерть Рестона принесет барыши…
— Его наследнице, Фионе Рестон?
— Не исключено, но есть и еще кое-кто, кого существование Рестона значительно стесняло… мешая его честолюбивым планам…
— Доктора Элскотта?
— Думаете, он способен на…
— Да еще как! — вдруг рявкнул у них над головами оглушительный голос.
Три вдовы, подскочив от страха, обернулись. Рядом стоял Элскотт. Доктор слышал по крайней мере часть разговора, и губы его кривила довольно-таки устрашающая гримаса.
— Вы на редкость проницательны, миссис Фрейзер… — не дав кумушкам опомниться, продолжал врач.
— Уверяю вас, доктор Элскотт, я…
— Да-да, вы совершенно правильно угадали — это я убил Рестона.
Три вдовы в унисон вздохнули и как по команде затаили дыхание.
— Господи!
— Но вот чего вы не поняли — так это каким образом мне удалось от него избавиться. Я не стрелял в Рестона, но когда его привезли ко мне в больницу, он был еще жив. Я вытащил мозг…
— Какой ужас!
— …Рестон так мало им пользовался, верно? И вообще, раз содержимое черепной коробки ничтожно мало — невелика разница… понимаете?
— Стыдно так насмехаться над мертвым, доктор Элскотт! — возмутилась миссис Фрейзер.
— Да, стыдно! — хором поддержали ее подружки.
И, не издав больше ни звука, все три дамы удалились с таким гордым и оскорбленным видом, словно врач посмел нашептывать им непристойности.
Каллендер отделяет от Перта не более пятидесяти миль, и в такое солнечное весеннее утро инспектору Мак-Хантли вовсе не хотелось спешить. Он никогда не бывал в окрестностях Каллендера, но вид с холма на красивый городок, словно несущий вечную стражу у скал Троссакса, его совершенно очаровал.
Дугал решил вести расследование очень мягко и осторожно. В первую очередь он намеревался побродить по Каллендеру инкогнито и составить представление о тамошней атмосфере, а уж потом переходить к активным действиям. Поэтому инспектор предпочел остановиться в пригородной гостинице «Черный Лебедь», у Джефферсона Мак-Пантиша.
Там Мак-Хантли отрекомендовался журналистом, приехавшим разузнать подробности об убийстве аптекаря. Это так поразило воображение Мак-Пантиша, что, дав гостю позавтракать, он без колебаний подсел к его столику и предложил выпить немного портвейна за счет заведения. Столь же охотно Джефферсон согласился рассказать мнимому репортеру о Каллендере и его обитателях.
— Как по-вашему, мистер Мак-Пантиш, повлияет ли смерть Рестона на ход выборов в Окружной совет?
— Еще бы, мистер Мак-Хантли! То, что выбрали бы Рестона, не вызывает и тени сомнений, а теперь пойдет более ожесточенная борьба. Есть, правда, доктор Элскотт, но я далеко не уверен в его победе, несмотря на все старания и поддержку Иможен Мак-Картри…
— А кто это?
— Исчадие ада! Мисс Мак-Картри непрестанно сеет в Каллендере самую настоящую смуту! Все пьяницы и драчуны города стоят за нее горой, а порядочные люди спят и видят, как бы отправить ее ко всем чертям!
— В том числе, конечно, и вы?
— Не стану скрывать.
— Но если эта женщина до такой степени нарушает мир и порядок, не понимаю, почему полиция не принимает соответствующих мер?
— Потому что сержант Мак-Клостоу и констебль Тайлер — два идиота и чертовка Мак-Картри их просто терроризирует.
Инспектор решил, что Мак-Пантиш необъективен, а потому, несомненно, преувеличивает и серьезный следователь, конечно, не должен принимать его точку зрения в расчет.
В четыре часа пополудни Дугал вышел из гостиницы и отправился знакомиться с Каллендером.
На скамейке у самого въезда в город сидели три пожилые дамы в черном, и Мак-Хантли подумал, что такие зрелые и, очевидно, рассудительные особы помогут ему составить о Каллендере куда более точное представление, нежели выходило со слов желчного Мак-Пантиша.
Инспектор учтиво раскланялся с дамами и попросил разрешения немного отдохнуть на их скамейке. Кумушки с готовностью закивали. Поймав несколько осторожных взглядов, Дугал быстро сообразил, что его соседки умирают от любопытства. Наконец, не выдержав, одна из них церемонно проговорила:
— Прошу прощения, сэр… Вы, должно быть, сын Яна Клэддиша и вернулись к нам из долгого путешествия по Европе?
— Нет, меня зовут Дугал Мак-Хантли. Я журналист и приехал по поручению своей газеты расследовать убийство аптекаря Хьюга Рестона.
Упоминание о печальном событии исторгло у дамы негромкий крик ужаса.
— Кошмарная история, мистер Мак-Хантли… Позвольте и мне представиться: миссис Плери, а это мои подруги — миссис Фрейзер и миссис Шарп.
За этим последовало множество поклонов, любезностей и уверений, что все безмерно рады новому знакомству. Потом Дугал задал тот же вопрос, что и Мак-Пантишу:
— Как вы считаете, сударыни, изменит ли гибель Рестона результат выборов в Окружной совет?
Три вдовы единодушно ответствовали, что теперь положение изменилось самым кардинальным образом, ибо покойного Рестона, бесспорно, ждала победа, а его противник доктор Элскотт не имел ни малейших шансов взять верх.
— Но мне, кажется, говорили, что врачу оказывает мощную поддержку некая мисс Мак-Картри? — коварно заметил Дугал.
— Ах, эта! — скривилась миссис Плери.
— Ах, эта! — простонала миссис Фрейзер.
— Ах, эта! — презрительно выплюнула миссис Шарп.
Вопрос Мак-Хантли вызвал целую лавину возмущенных воплей. Иможен Мак-Картри в три голоса ругали на чем свет стоит и обвиняли во всевозможных преступлениях, а закончилось все тройным пожеланием, чтобы проклятая рыжая ведьма оказалась замешанной в убийстве аптекаря, поскольку тогда, быть может, ее изгнали бы из Каллендера навсегда.
Инспектор покинул дрожащих от негодования дам в полной уверенности, что полицейские власти Перта очень плохо осведомлены о творящихся здесь безобразиях и давно пора вмешаться.
Немного побродив по городу, который ему все больше нравился, Дугал решил выпить стаканчик в «Гордом Горце». Теду Булиту он тоже представился журналистом.
— Ну, если вы и вправду хотите узнать имя убийцы Рестона, обратитесь к мисс Мак-Картри! — едва услышав о журналистском расследовании, воскликнул кабатчик.
— Почему?
— Потому что наша Иможен умнее всех полицейских Шотландии, вместе взятых, и, коли ей вздумается поймать преступника, будьте уверены: он далеко не уйдет!
И Тед Булит принялся воспевать необыкновенные достоинства мисс Мак-Картри, особы, достойной, по его мнению, войти в вечность рука об руку с Марией Стюарт. Слушая панегирик кабатчика, Дугал Мак-Хантли понял, что попал во враждебный хозяину гостиницы и трем дамам лагерь. Но так или иначе, а последние слова Булита не внушили ему особого доверия.
— И, можете не сомневаться, сэр, я говорю об этом совершенно беспристрастно, — подвел итог Тед.
Дугал заметил, что, пока кабатчик вещал, в зал откуда-то сзади (вероятно, из кухни) несколько раз с видом побитой собаки входила маленькая бесцветная женщина. До сих пор она не проронила ни звука и даже не поднимала глаз, но, когда Булит стал уверять инспектора в своей полной объективности, вдруг взвилась, как скорпион, которому случайно наступили на хвост.
— Постыдились бы, Тед, обманывать гостя, да еще в присутствии своей законной супруги! Именно из-за вас и вам подобных Иможен вообразила, будто ей все дозволено! А на самом деле вам не хуже моего известно, что эта огромная рыжая коза — истинный бич Каллендера!
На долю секунды Булит онемел от изумления, но, как ни странно, не стал прибегать к обычным методам воздействия на супругу, а лишь презрительно пожал плечами.
— Мне жаль вас, Маргарет… но я не стану сердиться, потому как вы ведь все равно не отвечаете за свои слова…
Прочитав каллиграфически выведенную красной краской вывеску над лавкой, Дугал убедился, что ее хозяина, мясника, зовут Лидберн. Он вошел. За прилавком стоял атлетического сложения мужчина. Два пучка волос, топорщившихся по обе стороны широкой лысины, придавали его грубому, словно высеченному из кактуса лицу нечто сатанинское. Густые усы скрывали вялый безвольный рот, зато видневшиеся из-под закатанных до локтя рукавов рубашки мускулистые, усыпанные веснушками и покрытые легким золотистым пушком лапищи производили устрашающее впечатление. Мясник бросил на посетителя равнодушный тупой, как у коровы, взгляд.
— Что вам угодно?
— Я журналист.
— Ну и что?
— Вы не хотели бы поделиться со мной впечатлениями?
— Нет.
— А насчет мисс Мак-Картри вы не…
— Нет.
Кит, до прихода инспектора рубивший тушу быка, вернулся к прежнему занятию.
— Однако вы ее знаете? — продолжал настаивать Дугал.
— Да.
— Может быть, вы дадите мне адрес?
— Нет.
— Но ведь…
Лидберн положил тесак и снова повернулся к посетителю.
— Да, я знаю адрес рыжей стервы, но вам его не дам! Вы спросите, почему? А потому что не желаю иметь ничего общего с этим дьявольским отродьем! А теперь, прошу вас, не мешайте мне работать!
Мак-Хантли понял, что настаивать бесполезно.
Выходя из мясной лавки, он увидел седого джентльмена с сумкой-чемоданчиком — неизменной принадлежностью любого английского врача. Он садился в стоявшую у обочины тротуара машину.
— Доктор Элскотт?
— Он самый.
— Я журналист и приехал разузнать подробности об убийстве Хьюга Рестона.
— Бог в помощь!
— Вы избавились от серьезного противника на предстоящих выборах, доктор?
— По правде говоря, молодой человек, у Рестона не было ни единою шанса обскакать меня. Во-первых, из-за его непроходимой глупости, во-вторых, из-за отвратительного характера (что, впрочем, объясняется больной печенью), а в-третьих, как мог победить на выборах самый знаменитый во всем графстве рогоносец?
— А нет ли у вас каких-нибудь соображений насчет того, кто мог его прикончить?
— Если честно — ни малейших.
— И вы не знаете ни единого человека, который бы ненавидел Рестона настолько, чтобы желать ему смерти?
— Да, я. Однако вынужден вас разочаровать, молодой человек, не убивал я этого дурня.
— Несколько жителей вашего города намекали мне, что в деле могла быть замешана некая мисс Мак-Картри… Это правда?
Лицо врача сразу преобразилось, и чуть язвительная учтивость уступила место с трудом сдерживаемому гневу.
— Молодой человек! Те, кто посмел нашептывать вам подобные гнусности, — самые что ни на есть презренные злопыхатели и сплетники! На самом деле наша Иможен — благороднейший и возвышеннейший характер, какой мне только довелось встречать за всю мою жизнь! Это энергичная, неутомимо служащая правосудию женщина получила столько наград за верную службу Короне, что все кретины и недоумки, которыми, кстати сказать, кишит наш милый Каллендер, бледнеют от зависти. Положа руку на сердце, признаюсь, я и сам не сразу оценил истинное величие души Иможен Мак-Картри и в первое время мы с ней немного враждовали, но теперь я прозрел и склоняю голову перед этой уникальной личностью. До свидания, молодой человек, рад был познакомиться с вами.
Поднимаясь по главной улице, Дугал подошел к храму, и ему пришло в голову, что местный священник наверняка сумеет дать населению Каллендера более трезвую и непредвзятую оценку.
Мак-Хантли позвонил. Дверь открыла скромная женщина в таком строгом одеянии, что показалась инспектору превосходным образчиком типичной супруги пастора — этакой ходячей добродетели, лишенной всех человеческих слабостей. Впрочем, некоторым представительницам слабого пола тем легче оберегать незапятнанную репутацию, подумал полицейский, что на их главное достояние никто не покушается. Мак-Хантли, успевший прочитать выгравированную на медной табличке у входа в дом фамилию, уверенно заявил, что хочет побеседовать с преподобным Реджинальдом Хекверсоном.
— Прошу вас, входите, мой муж сейчас вас примет.
Миссис Хекверсон проводила его в аскетически обставленную гостиную.
— Как о вас доложить? — тихо спросила она, направляясь к другой двери.
— Дугал Мак-Хантли, журналист из Перта.
Женщина чуть заметно кивнула и бесшумно исчезла, словно благочестивая тень, незаметно скользящая по земле в ожидании вечного блаженства в мире ином.
Мгновенно отметив нечто лошадиное в вытянутом лице пастора и маленькие, близко поставленные глаза, инспектор невольно поморщился. «Нетерпимость и тупость», — пронеслось у него в голове. Преподобный Хекверсон молча выслушал просьбу мнимого журналиста рассказать об убийстве Рестона и покачал головой.
— Боюсь, вы постучали не в ту дверь, мистер Мак-Хантли. Мое сердце обливается кровью от одной мысли, что чья-то преступная рука оборвала жизнь такого хорошего человека, как Хьюг Рестон… И я хочу лишь, чтобы в ожидании суда Всевышнего человеческое правосудие как можно скорее покарало подлого убийцу.
— Смерть мистера Рестона освободила путь честолюбивому желанию доктора Элскотта заседать в Окружном совете?
— Увы!
— А что вы думаете о нем, преподобный отец?
— Я обязан и пытаюсь с одинаковой нежностью относиться ко всей пастве, доверенной мне Господом, однако, коль скоро доктор Элскотт к таковой не принадлежит, не вижу причин, почему бы не высказать свое мнение о нем. Так вот… Наш брат во Христе Элскотт давно идет путем погибели, остается глух к призывам Всевышнего и дерзко безразличен к Церкви, подавая согражданам тем более ужасный пример, что занимает видное общественное положение. Поэтому-то все благочестивые души молятся за поражение нечестивца на предстоящих выборах, ибо его провал будет истинным торжеством Создателя!
— Ваша откровенность, преподобный отец, побуждает меня спросить еще о женщине, чье имя мне повторяют буквально на каждом шагу, с тех пор как я приехал в Каллендер… Что вы думаете о мисс Мак-Картри?
— Эта особа, мистер Мак-Хантли, постоянно посещает наши собрания, но ведет себя так, словно сама назначила Всемогущему свидание и не потерпит никаких опозданий с Его стороны. Мисс Мак-Картри бешеная националистка и, похоже, всерьез может не простить Богу, что Он не шотландец.
— Как мне сказали, она поддерживает кандидатуру доктора Элскотта?
— Они одного поля ягоды, мистер Мак-Хантли.
Бакалейщик, дышавший свежим воздухом у порога своей лавки, сразу понравился инспектору, и тот решил войти. Хозяин слегка посторонился, пропуская его в магазин, но даже не подумал спросить, чем может служить. Дугал уже собирался окликнуть бакалейщика, как вдруг из помещения за лавкой выбежала женщина — ни красавица, ни дурнушка, но, по-видимому, очень бойкая особа. Тоже не обратив на Мак-Хантли никакого внимания, она набросилась на того, кто по-прежнему стоял у порога лавки, небрежно сунув руки в карманы фартука и демонстрируя тем самым полное равнодушие к покупателям.
— Вы когда-нибудь будете работать, Уильям Мак-Грю? Честное слово, можно подумать, вы встаете с постели только для того, чтобы дождаться открытия «Гордого Горца» и пьянствовать там с такими же никчемными бездельниками!
Мак-Грю не счел нужным хотя бы обернуться, и его супруга продолжала:
— Господь вас накажет, Уильям Мак-Грю!
— Он это уже сделал, Элизабет, сведя вместе наши с вами пути. Я думаю, таким образом Всевышний хотел заставить меня искупить грехи многих поколений Мак-Грю.
— Грубиян! Но скажите мне наконец, чего вы ждете, переминаясь с ноги на ногу, как медведь?
— Вашей смерти, Элизабет. Надеюсь дожить до благословенного часа, когда ваш визгливый голос перестанет ругать меня на все корки. У вас будут великолепные похороны, Элизабет. Я, честное слово, настолько обрадуюсь избавлению, что заранее согласен на любые траты!
— Быть может, вы не прочь поторопить этот момент?
— Не стоит меня искушать, Элизабет.
Миссис Мак-Грю повернулась к Мак-Хантли.
— Вы слышали что-нибудь подобное? Муж открыто желает законной жене смерти, да еще в присутствии постороннего!
Мак-Хантли попытался разрядить атмосферу.
— В том-то и дело… Если бы он действительно хотел прибегнуть к насилию, то наверняка не стал бы говорить об этом публично, а постарался бы скрыть свои замыслы от чужих ушей.
— О, сразу видно, что вы не знаете Уильяма Мак-Грю — самого страшного лентяя во всем графстве Перт! И вдобавок — самого скверного мужа в округе!
Немного помолчав, она вдруг совершенно другим тоном добавила:
— Правда, надо честно признать, Уильям не всегда был таким, но, с тех пор как явилась эта тварь, у которой еще хватает наглости называть себя женщиной…
— Осторожнее, Элизабет! — невозмутимо предупредил Мак-Грю, по-прежнему не отходя от порога. — Вы, кажется, опять собрались злословить о нашей Иможен, хотя прекрасно знаете, что я вам это категорически запретил.
Но миссис Мак-Грю, пропустив его слова мимо ушей, с яростью завопила.
— Да нет, вы его только послушайте! «Наша» Иможен! Ну, не позор ли?! Воля ваша, Мак-Грю, можете предпочитать мне эту рыжую кобылу, но вы не помешаете мне высказать этому джентльмену все, что я думаю о бесстыднице, о разрушительнице семейных очагов, о пьянчуге, о…
Бакалейщик стремительно повернулся и с фантастической быстротой и меткостью (вот уж Дугал никогда бы не заподозрил, что флегматичный лавочник способен на такие подвиги!) запустил в лицо Элизабет перезрелым помидором, и, прежде чем залепленная томатным соком и ошметками женщина успела опомниться, метнулся к ней, отвесил две оглушительные пощечины и, невзирая на крики, затолкал в комнату за магазином.
— Ну, сэр, а теперь скажите, чем могу быть вам полезен… — проворчал он, вернувшись.
— Видите ли, я журналист и расследую убийство Хьюга Рестона. Поэтому в первую очередь мне хотелось бы составить представление о наиболее видных гражданах вашего города. Например, о мисс Мак-Картри…
Несколько секунд Мак-Грю, по-видимому, напряженно размышлял, потом наконец решился высказать свое мнение:
— Мисс Мак-Картри — это личность.
Очевидно, на сей раз Мак-Хантли напал отнюдь не на болтуна.
— А не могли бы вы рассказать о ней поподробнее?
— Говорю же вам: это личность!
Гуляя по городу, толстяк Гленрозес и его жена Майри встретили еще незнакомого им Мак-Хантли. Супруги улыбнулись, словно желая гостю приятного отдыха. Подобная любезность, разумеется, требовала ответа, и полицейский вежливо поклонился. Гленрозесы тоже кивнули, давая понять, что теперь, когда все формальности, принятые между цивилизованными людьми, соблюдены, можно начать разговор. Дугал в очередной раз повторил сказку о журналистском расследовании, и миссис Гленрозес расплакалась.
— Хьюг был одним из наших ближайших друзей…
— Я крестный его племянницы, — охрипшим от волнения голосом добавил Дермот. — Но пойдемте к нам — там гораздо удобнее разговаривать, чем на улице, мистер Мак-Хантли.
Как только они обосновались в роскошной гостиной Гленрозесов, хозяин дома рассказал о предшествовавших смерти Рестона событиях, намекнув, что полиция явно поторопилась отпустить на свободу Ангуса Кёмбре. Однако вместо того, чтобы рассуждать о проблематичной виновности молодого механика, Дугал предпочел поинтересоваться мнением миссис Гленрозес о жителях Каллендера. Не успел он задать вопрос, как эта пышная матрона принялась петь дифирамбы мужчинам и женщинам, обитающим в здешнем благословенном краю. Поверить ей, так всех украшали редчайшие добродетели, дети изо всех сил старались заслужить одобрение пап и мам, жены неукоснительно блюли верность супругам, те, в свою очередь, не доставляли своим дражайшим половинам никаких горестей, а все — благодаря мудрым наставлениям преподобного Хекверсона и помощи совета общины, который, с почтительного одобрения сограждан, имеет честь возглавлять мистер Гленрозес.
И лишь закончив этот своего рода хвалебный гимн жителям Каллендера, миссис Гленрозес позволила себе сделать небольшое отступление.
— Но, конечно, — вздохнула она, — у нас, как и в любом человеческом сообществе, есть свои паршивые овцы…
Ее супруг примирительно простер руку.
— Я знаю, какие страдания это вам причиняет, дорогая, но помните: если Создатель допустил существование не только белых, но и черных барашков, то лишь для того, чтобы на фоне последних еще ярче воссияла белизна первых…
— Аминь! Тем не менее согласитесь, Дермот, что, не появись тут эта ужасная женщина и не начни она мутить воду, быть может, мы сумели бы вернуть в лоно матери Церкви пьяниц, которых, увы, в городе хватает.
Дугал с наигранным удивлением воззрился на супругов.
— И кто же мешает вашим благотворным трудам, сударыня?
Гленрозесы, не скрывая злобы, начали в два голоса костерить Иможен Мак-Картри, причем каждая новая реплика звучала на полтона выше.
— Одна свирепая и мстительная старая дева! И мало того, что она предается самому неумеренному пьянству, но к тому же еще исповедует дичайший национализм!
— Представьте себе, эта особа дошла до того, что отрицает законность прав нашей королевы и не признает ее главой государства! — добавил Дермот Гленрозес.
— Ну да?!
— Правда-правда! С ее точки зрения, законные короли — потомки Марии Стюарт, а Ее Всемилостивейшее Величество — узурпаторша!
— Невероятно!
— А кроме того, она была замешана во множестве темных историй: убийства, кражи, шпионаж… разумеется, в глазах жалкого сброда все это создает некий дьявольский ореол! От проклятой ведьмы так и несет адской серой!
— Ну, по правде говоря, чаще всего она благоухает виски…
Уходя от Гленрозесов, Мак-Хантли невольно думал, что враги мисс Мак-Картри в общем и целом проявляют куда большее рвение, нежели ее сторонники. Но, для того чтобы прийти к окончательному выводу, он решил заглянуть в мэрию.
Мэр Нед Биллингс настолько не привык принимать приезжих, что инспектор вошел в его кабинет прежде, чем тот решил, стоит ли с ним разговаривать.
Мэр оказался высоким и еще не старым мужчиной. Жители города в основном относились к нему с симпатией. Правда, манера Неда выкладывать все, что думает, в глаза немного действовала на нервы самым важным шишкам, но зато остальные ее очень ценили, а именно они и составляли большинство. Наконец, Биллингс никогда не скрывал приверженности к национальному напитку.
— Я не помешал вам, господин мэр?
— Поздновато вы об этом спрашиваете… Да ладно, раз пришли — садитесь и рассказывайте, чего вам от меня нужно.
От мэра Мак-Хантли не стал скрывать, что он полицейский инспектор, и объяснил, какие важные соображения побудили его морочить голову прочим обитателям Каллендера. Теперь же он хотел бы узнать мнение главы города об избирателях.
— Люди тут не хуже и не лучше, чем в других маленьких городках. Богачи не слишком эгоистичны, а бедняки не так уж озлоблены. По воскресеньям все ходят в храм, по субботам большинство напивается, и кое-кто по старой доброй традиции лезет в драку. В остальные же дни — работают.
— В разговорах со мной сограждане то и дело повторяли одно имя… причем одни — с восторгом, другие — с глубочайшим отвращением… я имею в виду мисс Мак-Картри…
Громкий смех мэра раскатился по всей комнате.
— Наша Иможен?.. А вы знаете, что с тех пор, как она вернулась, Каллендер словно бы помолодел? Уж кто-кто, а Дева Гор старается внести некоторое оживление! Нет, правда, мисс Мак-Картри — настоящий феномен! Вам надо обязательно с ней познакомиться. Готов спорить, эта женщина вас заинтересует, тем более что ей подобных далеко не каждый день встретишь!
Кстати, в вашем управлении хорошо знают нашу Иможен. Вам о ней не говорили?
— Ни слова.
— Значит, хотели сделать сюрприз.
— Ваши слова, господин мэр, вызвали у меня огромное желание как можно скорее свести знакомство с мисс Мак-Картри. Вы не подскажете, где она живет?
— Вилла Иможен — чуть на отшибе. Идите дальше в сторону Доуна, пока не увидите заправочную станцию и гараж. И то и другое принадлежит Ивену Стоу. Он, кстати, тоже отличный малый. Много лет путешествовал и только три года назад возвратился домой. Ну, а наша Иможен живет ярдах в пятистах оттуда, на холме. Впрочем, Стоу объяснит вам на месте.
Обиталище Иможен понравилось Дугалу с первого взгляда. Он оценил и увитую плющом решетку над невысокой белой стеной, и ухоженный садик и, чуть в глубине, красивый дом, построенный в традиционном стиле. Так что Мак-Хантли дернул шнурок колокольчика в самом благостном расположении духа.
Древняя бабка, с трудом волоча ноги, проковыляла по саду, приоткрыла калитку и недоверчиво уставилась на незнакомца.
— Вы… вы не мисс Мак-Картри?
— Нет, только ее домоправительница.
— А нельзя ли мне повидаться с вашей хозяйкой?
— Никак невозможно.
— Ее нет дома?
— Нет, мисс Мак-Картри у себя, но вы, кажется, позабыли, что сегодня годовщина, а по таким дням она никого не принимает. Приходите завтра.
И миссис Элрой без лишних церемоний захлопнула перед носом гостя калитку, а Мак-Хантли побрел прочь, недоумевая, годовщина чего помешала ему взглянуть на мисс Мак-Картри.
На главной улице города инспектор заметил мужчину в форме, украшенной красно-белым квадратиком в знак того, что он служит в полиции Шотландии. На первый взгляд, судя по приветствиям, пожеланиям и дружеским хлопкам, каковыми констебля награждали прохожие, Дугалу показалось, что представители закона здесь весьма популярны. Это его обрадовало. И Мак-Хантли, с легким сердцем подойдя к коллеге, спросил, как пройти в участок. Констебль охотно показал дорогу.
— Надеюсь, сэр, в нашем городе с вами не случилось ничего дурного? — вежливо осведомился он.
Инспектор успокоил доброго малого, объяснив, кто он такой и зачем сюда приехал. Собеседник, назвавшийся Сэмюелем Тайлером, стал уверять Дугала, что Каллендер — тихий и спокойный городок, а те, кто время от времени проводят ночь в тюрьме, попадают туда лишь из-за чрезмерных возлияний или из-за какого-нибудь приступа глупой обидчивости, побудившего отстаивать свою точку зрения с помощью кулаков.
— И тем не менее в вашем, таком мирном городке только что произошло убийство, — вкрадчиво заметил инспектор. — Или вы об этом уже запамятовали?
— Разумеется, нет, сэр, но мне… мне с трудом в это верится.
— Как идет расследование?
— Топчется на месте, сэр. Впрочем, сержант Мак-Клостоу расскажет вам обо всем куда лучше меня.
— Насколько я понял, люди очень недовольны такой медлительностью, и я заметил, что в их обвинительных речах все время упоминается одно имя…
— Мисс Мак-Картри, надо думать?
— Да, действительно.
— В таком случае, инспектор, с вашего позволения, я бы посоветовал вам не слишком обращать внимание на болтовню и тех, и других. Само собой, наша Иможен (а я знаю ее с детства) не отличается миролюбивым характером. Кроме того, она имеет обыкновение рубить сплеча, а это не всем по нутру. Короче, доброе сердце и тяжелый нрав, если вы понимаете, о чем я толкую…
— По-моему, да.
— К тому же, будучи полицейским, я никак не могу забыть, как часто мисс Иможен помогала нам в сложнейших ситуациях и делала это с таким воодушевлением, что прославилась на всю страну.
Мак-Хантли едва не пожал плечами, но побоялся обидеть добродушного и, несомненно, честного малого. Однако в глубине души его самого оскорбило то, что представитель полиции позволяет себе болтать о воображаемых подвигах какой-то старой девы, чьим самым опасным оружием был, вероятно, всего лишь злой язык. В высшей степени неуместное и даже неприличное поведение!
Полицейский участок приятно удивил гостя чистотой и даже некоторой элегантностью. Войдя и никого не обнаружив, он толкнул сначала одну дверь, потом другую и оказался в кабинете. В кресле за столом дремал облаченный в полицейскую форму гигант. Шум его разбудил.
— Кто вы такой?.. По какому праву?..
Инспектор назвал фамилию и должность, и перепуганный Мак-Клостоу, торопливо застегнув китель, пригладил волосы и бороду.
— Что вы хотели бы узнать, сэр? — спросил он.
— Ничего.
— А?
— Я уже знаю не меньше вашего, поэтому предпочел бы послушать о степени нравственного здоровья города, попечение о котором, если меня не обманули, возложено на вас и вашего помощника Сэмюеля Тайлера.
Мак-Клостоу бросил на инспектора подозрительный взгляд.
— Вы уже видели Тайлера?
— Да, на улице. Он показался мне симпатягой.
— Пожалуй…
— Вы не очень в этом уверены?
— Заметьте, Сэм и вправду хороший человек, вот только он страшно честолюбив…
— Разве это не естественно?
— Теоретически — несомненно, однако на практике иногда выходит по-другому, особенно когда кто-то метит на ваше место. Поэтому, если констебль Тайлер позволил себе кое-какие критические замечания в мой адрес…
— Не беспокойтесь, мы говорили вовсе не о вас…
— А второй порок Сэма — в том, что он питает чрезмерную слабость к некоторым жителям Каллендера, причем, к несчастью, отнюдь не из числа наиболее почтенных.
— И особенно, я полагаю, к некоей Иможен Мак-Картри? — медовым голосом спросил инспектор.
Дугал никогда бы не подумал, что простое упоминание фамилии каллендерской героини способно вызвать столь бурную реакцию. Сначала сержант Мак-Клостоу застыл, уставившись в пространство и приоткрыв рот, словно его стукнули по голове дубинкой, потом издал нечто вроде хриплого стона, напомнившего его собеседнику призывный сигнал затерянного в тумане корабля, и, наконец, встал.
— Мистер Мак-Хантли, — торжественно изрек он, подняв к небу указующий перст и полубезумными глазами глядя на инспектора, — печальная необходимость вынуждает меня кощунствовать, но я просто обязан сказать вам все, как есть! Так вот: что бы там ни думали шотландцы, будь они родом из Горной страны, из Низин или из Приграничной зоны, Шотландия никак не может быть благословенной страной, раз ей случается порождать на свет создания, подобные Иможен Мак-Картри!
— А вам не кажется, что это небольшое преувеличение, сержант?
Мак-Клостоу кинул на маловера взгляд умирающего, которому только что сказали, что он превосходно выглядит, и предложили вместе отпраздновать Новый год.
— Если бы вы только знали…
— Вот именно, сержант, мне необходимо знать, иначе я никоим образом не смогу составить собственное мнение!
Арчибальд печально улыбнулся. Он явно чувствовал себя жертвой величайшей в этом мире несправедливости.
— Бесполезно… Эта кошмарная женщина пользуется у вас в управлении совершенно скандальным покровительством.
— Почему?
— Потому что она родилась здесь, в Верхней Шотландии, в то время как я имел несчастье приехать сюда из Приграничной зоны!
— Не вижу связи…
— Меня тут считают чужаком, докучливым иностранцем, хуже того — представителем некоего отсталого племени!
— Ну да? А как же в таком случае они относятся к англичанам?
— К англичанам? Их просто игнорируют!
Дугал только рот открыл от удивления. А Мак-Клостоу продолжал:
— Но, если не считать этой рыжей ведьмы, люди здесь — как на подбор: спокойные, честные и работящие.
— Вас уважают?
— А как же! Впрочем, я бы не потерпел ничего другого! Да, пожалуй, местные меня даже любят и, скорее, жалеют, чем винят за то неудачное, как им кажется, место рождения. Обеспеченные люди глубоко ценят меня, вне зависимости от географии, да и простой народ, забывая о расовых предрассудках, считает порядочным человеком и верным стражем закона, к чувству долга которого еще никто и никогда не взывал напрасно. Добавлю, что мое неизменно достойное поведение внушает если не дружеские чувства, то по крайней мере почтение.
— Значит, если я правильно понял, чисто по-человечески кое-кто из горожан о вас не блестящего мнения, но как профессионал вы пользуетесь всеобщей поддержкой и одобрением?
— Я думаю, вы прекрасно обрисовали ситуацию.
В ту же секунду дверь под бешеным натиском распахнулась, и в кабинет, где так мирно беседовали полицейские, влетела женщина.
— Арчи! Вы когда-нибудь приметесь за работу или нет? Вместо того, чтобы искать убийцу, вы, по природной лености, предпочитаете оставить тень подозрения на Ангусе Кёмбре! В последний раз предупреждаю, Арчи: если вы намерены и дальше сидеть сложа руки, я сама возьмусь за расследование!
Мак-Клостоу провел по перекошенной физиономии дрожащей рукой.
— Это… это она, — хрипло сообщил он инспектору.
Мак-Хантли, не скрывая любопытства, разглядывал высокую женщину с огненной шевелюрой, узким костистым лицом, в традиционной клетчатой юбке и шляпе вроде панамы, украшенной лентой цветов клана Мак-Грегоров и пером куропатки. Особенно поразили воображение полицейского уличные туфли без каблука, минимум сорок третьего размера.
— Вы что, больны, Арчи?
Дугал попытался помочь бедняге сержанту.
— Мисс Мак-Картри, позвольте мне…
— Нет времени! — сухо бросила Иможен.
Инспектор, почувствовав, что спорить бесполезно, снова плюхнулся на стул. А мисс Мак-Картри, опершись обеими руками на стол, склонилась к самому лицу Арчибальда. Взгляд ее выражал глубочайшее презрение. Наконец, выпрямившись, она повернулась к Дугалу.
— Тьфу! Даже смотреть противно!
И, высказав таким образом свое мнение, Иможен покинула участок с той же стремительностью, что и вошла. После ее ухода в кабинете надолго воцарилась тишина.
— У меня складывается впечатление, что вас далеко не так уважают, как вам хотелось бы думать, сержант, — наконец проронил Мак-Хантли.
— Ваш отец жив, сэр? — слегка пришепетывая от волнения, спросил Мак-Клостоу.
— Да, а что?
— Тогда его именем заклинаю вас, сэр, пустить в ход все свое влияние и помочь мне перевестись в другое место!
Он с трудом поднялся с кресла и навытяжку встал перед Дугалом.
— Во имя простого человеческого милосердия, сэр, умоляю отправить меня куда угодно, лишь бы там не было ни одного горца! Я больше не могу! Понимаете, сэр? Не могу! С каждым днем я медленно, но неотвратимо приближаюсь к больнице для умалишенных, и, не будь виски, которое хоть как-то помогает взять себя в руки, меня бы давно заперли с психами!
Глава 5
Предательство Иможен Мак-Картри
В то утро Мак-Хантли даже не заметил, что ему подали на завтрак. Он плохо спал ночью и, естественно, пребывал далеко не в лучшем настроении. Поразмыслив, инспектор пришел к выводу, что если в Перте и впрямь известно, какие бури сотрясают
Каллендер, то у Копланда и его помощников более чем странное представление о долге полиции!
Допив последнюю чашку чая, Дугал подозвал Мак-Пантиша и рассказал, как вчера вечером столкнулся в участке с Иможен Мак-Картри.
— По-моему, это очень своеобразное явление, — закончил он.
— Скажите лучше, стихийное бедствие! — воскликнул хозяин гостиницы.
— Уже десять часов, и я немедленно иду к ней.
Хоть Мак-Хантли и помнил, что полицейский обязан всегда сохранять полную объективность, позвонив у калитки мисс Мак-Картри, он невольно думал о том, как его тут приняли накануне.
Открыла та же старуха, но на сей раз не выставила инспектора вон, а предложила идти следом за ней и ввела в гостиную, стены которой украшали сувениры всех многочисленных войн, какие шотландцы вели либо ради собственного удовольствия, либо нанимаясь на службу к другим.
Иможен величавой поступью спустилась туда же по деревянной лестнице, соединявшей оба этажа дома. Дугал не без основания решил, что она хочет произвести определенное впечатление, и поклонился, но мисс Мак-Картри, мгновенно узнав вчерашнего собеседника сержанта, досадливо крикнула:
— Ах, это вы? Не понимаю, что могло привести ко мне дружка этого дурня Мак-Клостоу?
Прямой, как само правосудие, Дугал ледяным тоном отчеканил:
— Я инспектор полиции, мисс, и приехал в Каллендер расследовать убийство Хьюга Рестона.
— Давно пора!
— Насколько я помню, вчера вы заявили, что, если полиция не начнет искать убийцу с несколько большим энтузиазмом, этим займетесь вы сами?
— Совершенно верно!
— А нельзя ли узнать, каким образом вы намерены ловить преступника?
— У меня свои методы и, по-моему, было бы крайне неразумно делиться ими с первым встречным!
Мисс Мак-Картри тихонько заржала от удовольствия, и Дугал больше не сомневался, что над ним просто издеваются. Однако, если у инспектора и вскипела кровь, он даже виду не подал, а спокойно перешел в нападение.
— Судя по всему, мисс, сержант Мак-Клостоу далеко не уверен в невиновности Ангуса Кёмбре. Вы не знаете, почему?
— Потому что он человек ограниченный по натуре и не более чувствителен, чем какое-нибудь бревно… Хотите капельку виски?
— Господи Боже, что за вопрос?
Иможен достала бутылку и щедрой рукой наполнила бокалы, словно решила раз и навсегда опровергнуть расхожее мнение о скаредности шотландцев. Подняв бокал, она слегка кивнула гостю и тут же повернулась к стоявшей на комоде фотографии, очевидно, желая выпить за здоровье изображенного там мужчины.
— Это ваш родственник? — вежливо осведомился Мак-Хантли.
— Отец… Генри-Джеймс-Герберт Мак-Картри, капитан шотландских стрелков в индийской армии… безвременно погиб…
— Так его унесла война?
— Нет, виски.
— А?!
— Точнее, фатальная рассеянность… Однажды вечером отец по оплошности вместо доброго шотландского виски хлебнул ирландского. Он так и не оправился от угощения, а мне до сих пор не удалось выяснить, кто посмел в нарушение всех правил, принятых у цивилизованных людей, притащить в наш дом это пойло.
Мак-Хантли долго раздумывал, потешается над ним эта рыжая кобыла или говорит совершенно искренне.
— Короче, по вашему мнению, мисс, в Каллендере все идет прекрасно, не считая того, что время от времени тут убивают ближних? — иронически заметил он.
— Ну, это случайность… и дела обстояли бы еще лучше, если бы нам удалось очистить город от тех, кто не обладает природными достоинствами нашей расы, всегда составлявшими и, благодарение Богу, по-прежнему составляющими ее гордость… В общем, нам следовало бы избавиться от людей, которые покорно приняли законы захватчика и склонили головы перед оккупантами!
— Захватчики? Оккупанты? Боюсь, я плохо понимаю, что вы имеете в виду…
— А как, по-вашему, я могу назвать этих англичан и их королеву, узурпировавшую корону Шотландии?
Ошарашенный инспектор захлопал глазами, не в силах издать ни звука, потом встал и, собираясь уходить, полюбопытствовал, что за годовщина помешала ему увидеть мисс Мак-Картри накануне. Вместо ответа Иможен повелительно указала инспектору на дверь.
— Так я и думала! Убирайтесь!
Дугал настолько не ожидал подобной реакции, что совсем растерялся и попробовал, было, спорить.
— Но…
— Я велела вам убираться отсюда, предатель!
— Тут, наверное, какое-то недоразумение и…
— И он еще смеет прикидываться шотландцем! Ублюдок — вот вы кто! Просто-напросто ублюдок!
Теперь уже Мак-Хантли рассердился не на шутку и тоже начал кричать.
— Я не позволю вам!.. Я точно такой же шотландец, как и вы!
— Лгун! Лицемер! Розмери!!!
Миссис Элрой вбежала в комнату с каминными щипцами, превращавшимися в ее руках в довольно опасное оружие.
— В чем дело?
— Помогите мне выставить вон бессовестного втирушу! Он имел наглость проникнуть в мой дом, назвавшись шотландцем!
— Да замолчите же наконец! — рявкнул окончательно взбешенный Дугал. — Я запрещаю вам говорить, что я не шотландец! Я родился в Эдинбурге!
— По чистой случайности! Вперед, Розмери!
Растерянный и раздраженный инспектор так плохо соображал в эту минуту, что даже не подумал защищаться. Две женщины вихрем налетели на него и, подталкивая щипцами и зонтиком (который Иможен схватила по дороге), выгнали в сад, а потом и за калитку. Избавившись от противника, мисс Мак-Картри снова издала победное ржание и прогремела на всю округу:
— Он пытался выдать себя за шотландца, а сам даже не знает, что вчера была годовщина сражения при Баннокберне, где Роберт Брюс обеспечил Шотландии независимость!
Подходя к гаражу, где Ивен Стоу трудился над упорно не желавшим работать мотором, Мак-Хантли все еще кипел от возмущения, и ему хотелось поделиться с кем-нибудь обидой.
— Что, эта Мак-Картри совсем тронутая?
— На вашем месте я бы так не говорил о леди!
— Леди? Да она самая обыкновенная пьянчуга и…
Не дав инспектору договорить, Стоу нанес молниеносный удар правой, и Дугал с подбитым глазом очутился на земле. Но Мак-Хантли был далеко не трус, и, что бы ни говорила Иможен, шотландская кровь звала его к сражениям. Едва поднявшись на ноги, он яростно налетел на хозяина гаража. К несчастью для него, Стоу оказался чемпионом ближнего боя, и через несколько минут Дугалу пришлось признать поражение.
— Ладно… но вы за это заплатите! Бить офицера полиции — очень дорогое удовольствие!
— А я понятия не имел, кто вы такой, и отлупил вовсе не полицейского, а хама, вздумавшего оскорблять женщину из числа моих близких друзей!
Увидев, в каком состоянии его постоялец явился от мисс Мак-Картри, Джефферсон Мак-Пантиш сочувственно покачал головой.
— Похоже, она никогда не изменится, — проворчал он.
Донесение Мак-Хантли о событиях в Каллендере так рассмешило суперинтенданта, что он дал его почитать Берту Джонсону, а тот даже десять лет спустя, давно выйдя в отставку, рассказывал эту историю всякий раз, как ему хотелось повеселить друзей.
Как честный полицейский и достойный воспитанник школы детективов в Глазго, ведя расследование, Дугал всегда старался не принимать в расчет личных чувств.
Немного отлежавшись, он отправился в участок побеседовать с сержантом Мак-Клостоу. Тайлер молча присутствовал при разговоре.
— Но в конце-то концов, сержант, вы достаточно давно живете в Каллендере и, по идее, должны знать, кто так люто ненавидел Рестона, чтобы желать ему смерти!
— Да, по всей видимости, у него не было ни одного врага.
— Наоборот, по всей видимости, был, иначе аптекаря бы не застрелили!
— Верно, прошу прощения… Но сам я по-прежнему думаю, что Ангус Кёмбре…
— Слишком примитивное решение!
— Но ведь он же был на месте убийства!
— С вполне определенной целью: увести из дома Дженет Лидберн!
— И прихватил для этого револьвер!
— Не спорю, это он сделал напрасно, и теперь заплатит немалый штраф за незаконное ношение оружия. Тем не менее мы должны сделать скидку на романтический настрой молодого человека, задумавшего любой ценой похитить возлюбленную.
— Вплоть до убийства?
— А почему бы и нет?
— Тогда, сами видите…
— Он мог бы убить родителей — тюремщиков девушки, но какой смысл стрелять в дядю?
— Так ведь он тоже родственник, правда?
— Вряд ли Ангус Кёмбре хотел перебить всю родню своей милой.
— А может, он принял аптекаря за Лидберна?
— Ну, едва ли! Парень-то не слепой! Меж тем, Рестон стоял под самым фонарем, а он, в отличие от мясника, вовсе не отличается могучим телосложением! Нет, что бы вы там ни думали, а в Каллендере наверняка есть человек, который ненавидел аптекаря, желал ему смерти и при первом же удобном случае поспешил свести с ним счеты. Найти его трудно, но воля и упорство преодолеют любые препятствия. Вы начнете все сначала и проследите каждое движение всех, кто так или иначе был связан с жертвой. Я хочу знать, чем каждый из них занимался в ночь преступления. Тем временем сам я еще поброжу по городу и поговорю с кем сумею. До вечера.
Не успел Мак-Хантли отойти от участка и на несколько шагов, как его догнал Сэм.
— Прошу прощения, инспектор…
— В чем дело, Тайлер?
— Да я насчет этого расследования…
— Да?
— Не то чтоб я позволил себе давать вам советы, инспектор, но на вашем месте я бы непременно сходил к мисс Мак-Картри.
— Это еще зачем?
— Просто она здорово разбирается в такого рода историях.
— Мисс Мак-Картри работает в полиции?
— Нет, но…
— Или, может, у нее есть какой-нибудь документ, дающий право расследовать уголовные преступления?
— Несомненно, нет.
— Тогда я, право же, не понимаю, почему я должен просить у нее помощи.
— Но, инспектор, вам кто угодно скажет…
— Мне наплевать на все, что люди болтают о мисс Мак-Картри, Тайлер. По-моему, она просто крайне эксцентричная особа, сумевшая своими странными выходками поразить воображение не в меру доверчивых людей, всегда склонных восхищаться тем, что выходит за рамки обыденного. Я же с отличием закончил полицейскую школу Глазго и не нуждаюсь ни в какой подмоге и уж тем более не допущу, чтобы меня учила моему собственному ремеслу какая-то сумасбродная старая дева, не имеющая ни малейших законных оснований вмешиваться в наши дела.
— Хорошо, инспектор.
— Мало того, Тайлер, если эта баба позволит себе хоть капельку нарушить закон — например, допрашивать свидетелей, угрожать кому-либо или распространять недостоверные сведения, — я всерьез рассержусь и заставлю ее дорого заплатить и за бестактность, и за самоуверенность. Так что, если встретите мисс Мак-Картри, можете ее предупредить от моего имени. До свидания.
Возвращаясь в участок, Сэм с грустью думал, что лучше б ему промолчать. А Дугала трясло от возмущения. С ума сойти! Чтобы полицейский, то есть профессионал, мог вообразить, будто какая-то чокнутая старуха способна чему-то научить такого блестящего детектива! К тому же в глубине души Мак-Хантли все еще злился на Иможен за то, что они со служанкой так бесцеремонно выпроводили его из дома. Дугал, естественно, жаждал отыграться и дал себе слово сделать это как можно быстрее. То же самое касалось и хозяина гаража, у которого, как нарочно, работает Ангус Кёмбре. Инспектор не забыл об учиненной ему жестокой трепке. Нет, пусть эти двое будут тише воды, ниже травы, если не хотят навлечь на свою голову очень крупные неприятности!
За обедом Дугал расспрашивал Мак-Пантиша о Рестоне, Лидберне и Гленрозесе. Джефферсон высказал ему все, что знал об этих видных, почтенных и, в общем, уважаемых гражданах. Все трое состояли в Консервативной партии, и хозяин гостиницы считал это немалым достоинством. Напротив, Элскотт, Булит и Мак-Грю, равно как и мисс Мак-Картри, голосовали за шотландских националистов. Убийство аптекаря оставалось для Мак-Пантиша совершенно непонятным и, коль скоро Кёмбре невиновен, возможно, доктор Элскотт избавился таким образом от опасного соперника на предстоящих выборах в Окружной совет?
Дугал понял, что не добьется от жителей Каллендера ничего, кроме досужих домыслов и пустой болтовни. Нет, он должен вести следствие так, чтобы это стало эталоном для новичков, только начинающих работать в уголовной полиции, а кроме того, Дугалу хотелось утереть нос двум болванам, представляющим Закон в Каллендере. В первую очередь следовало сузить круг подозреваемых. Таковых пока было всего два: доктор Элскотт и молодой Ангус Кёмбре. И, лишь убедившись в их невиновности, инспектор мог перейти ко второй стадии расследования.
Доктор Элскотт встретил полицейского сардонической улыбкой.
— Входите-входите… Я сейчас никого не собираюсь убивать, так что вы как раз вовремя!
Дугалу страшно не понравился этот черный юмор.
— Заранее прошу извинить меня, доктор, но вы, наверное, сами догадываетесь, что мое ремесло не располагает к особой деликатности.
— Не заботьтесь о реверансах, мой друг, и выкладывайте, что вас сюда привело.
— Дело вот в чем… Расследуя убийство Рестона, я хочу прежде всего исключить возможных виновников и…
— …и вам очень хотелось бы знать, уж не милейший ли доктор Элскотт надумал с помощью револьвера навсегда устранить опасного конкурента?
— Честно говоря, это звучит немного грубовато, но… по сути верно.
— Жаль вас разочаровывать и лишать удовольствия немедленно прекратить дознание, но — нет, я не убивал Рестона. Во-первых, моя основная забота — попытаться спасти ближнего, а не отправить его прямиком в мир иной; во-вторых, я вообще выставил свою кандидатуру на выборы только для того, чтобы позлить Рестона и его приятелей, и, наконец, в ночь убийства я принимал роды у одной дамы, живущей в десяти милях отсюда. Могу дать вам ее имя и адрес.
— В таком случае прошу прощения.
— Тут не за что извиняться, я вас отлично понимаю. Скорее всего, на ваши представления обо мне повлияли отзывы трех старых сорок, которые меня на дух не выносят, а поскольку вам придется выслушать еще немало глупостей, желаю терпения и мужества.
— Ну, раз вы так любезны, доктор, позвольте спросить, может, со времени нашей последней встречи вы успели поразмыслить о возможном преступнике?
— Да, как и все в городе, я, конечно, не могу не думать об этом, но, увы, без особых результатов. Видите ли, среди почтенных жителей Каллендера немало «гробов повапленных», как сказал бы бедняга Хекверсон. Кто знает, на что они способны? Что творили в прошлом? Какие между ними могли быть счеты? Какие кровавые драмы? Этого я не знаю. Однако позволю себе дать вам один совет: попробуйте поворошить грязное белье тех семейств, которые особенно кичатся своей добродетелью. Право же, я очень удивлюсь, если после этого вы не проникнетесь к ним глубочайшим отвращением.
Говорил ли он наобум или намекал на что-то важное? Быть может, врач действительно знал о чем-то, но, не желая портить себе репутацию, лишь подсказывал, где следует искать? Ответа на все эти вопросы инспектор пока не знал, но на всякий случай решил принять к сведению совет доктора Элскотта. Мысленно он уже вычеркнул врача из списка подозреваемых, но для порядка все же собирался проверить его алиби. Однако в первую очередь надо было как следует допросить Кёмбре.
Ивен Стоу принял полицейского с таким спокойствием, словно уже напрочь забыл об их недавней схватке.
— Могу я поговорить с Ангусом Кёмбре? — холодно спросил инспектор.
— Мне очень жаль, но он уехал на целый день — чинит машину в Эберфойле.
— Ладно… Тогда, может, вы сумеете ответить мне хотя бы на часть вопросов?
— Попробую.
— Давно у вас работает Кёмбре?
— Три года — с тех пор, как я вернулся домой.
— А как вы его наняли?
— Случайно. Заглянул в один гараж проверить купленную с рук машину, ну, и меня поразило, что совсем молодой парень так здорово разбирается в технике. Ангус согласился приехать ко мне в Каллендер, да так и остался.
— Стало быть, вы о нем самого высокого мнения?
— Вот именно, самого высокого.
— А что вы знаете о его прошлом? В досье я прочитал, что он вырос в сиротском приюте. Это правда?
— Да. Мать оставила Ангуса в пертской больнице. Он не раз пытался узнать, кто она, но, как вам, наверное, известно, в подобных случаях соблюдается строжайшая тайна. Парень оставался в приюте, пока его не отправили учиться. Во время учебы он жил у так называемых приемных родителей (кажется, из фамилия Стрэчен), а дальше хозяин гаража, некий Скейтроу, забрал Ангуса к себе. Шесть лет назад Скейтроу умер, гараж продали и открыли на его месте кинотеатр. Тогда-то Ангус и перешел работать к Вестмуиру, у которого я его и нашел. Как видите, история очень проста.
— Кстати, об историях… Вы не расскажете мне немного об отношениях Кёмбре с Дженет Лидберн?
— Там тоже все на редкость просто, инспектор. Они познакомились здесь, понравились друг другу и договорились о новой встрече. Довольно скоро симпатия переросла в любовь, и дети решили пожениться, но Кит Лидберн встал на дыбы.
— Почему?
Стоу пожал плечами.
— Из-за денег.
— А вы что-нибудь знаете о ночи преступления?
— Ангус мне все рассказал. Они с Дженет условились сбежать и тайком повенчаться. Но только девушку по дороге перехватил отец и заставил во всем признаться. Я думаю, Рестон пошел выяснять отношения с Ангусом… Почему он, а не сам Лидберн? Понятия не имею. Ну, а остальное вам известно.
— Короче, вы уверены, что Кёмбре не имеет ни малейшего отношения к смерти аптекаря?
— Да, абсолютно. Впрочем, с какой стати ему было убивать Рестона, если тот ни в коей мере не влиял на их отношения с Дженет? В крайнем случае он мог лишь что-то посоветовать…
— Вы хорошо знали Рестона?
— Нет… хотя лет двадцать назад мы вместе заканчивали Пембертонский колледж… Но я по натуре, скорее, бродяга. Перспектива всю жизнь проторчать в Каллендере меня ничуть не соблазняла. И я ушел в армию. Там обучился ремеслу механика, а заодно, как мне и хотелось, повидал разные края: Индию, Гонконг… В Адене, когда я был уже в чине капитана, меня отправили в отставку по возрасту, и на сбережения я купил здесь гараж.
— А почему вы вернулись на родину?
— Возможно, потому что в конце концов, не так уж отличаюсь от других здешних жителей, как воображал.
— Не женаты?
— Нет. Упустил время, а теперь слишком поздно.
— Вам это горько?
— Нет, просто я привык смотреть на жизнь трезво, без иллюзий.
— Что ж, благодарю вас, мистер Стоу, за то, что вы с пониманием отнеслись к моим расспросам.
Дугал уже хотел уйти, как вдруг у него за спиной послышался женский голос:
— Уж не от меня ли вы спасаетесь бегством, инспектор?
— Я не привык бегать от женщин, мисс, хотя ваша манера выпроваживать гостей…
— Надеюсь, с тех пор вы слегка освежили в памяти историю Шотландии?
— Я думаю, степень моей осведомленности в подобных вопросах совершенно вас не касается, мисс!
— Что верно — то верно. Мне гораздо интереснее наблюдать, как вы ведете расследование.
Полицейский рассвирепел.
— Я уже слышал, что вы без всякого на то права вмешивались в дела кое-кого из моих коллег, мисс. Возможно, их это забавляло, а меня — нет. Поэтому настоятельно попрошу вас не совать нос куда не следует, иначе я всерьез рассержусь!
— Полагаю, вам должны были сказать заодно, что никто из ваших коллег ни разу не жаловался на мою помощь, — обиженно бросила Иможен.
— С чем я их и поздравляю. Но мне вы абсолютно не нужны, и я не собираюсь повторять это снова.
— Дело ваше. Очевидно, я ошиблась, думая, что вам очень интересно узнать имя убийцы Хьюга Рестона.
— А вы, конечно, его уже знаете?
— Разумеется.
Дугал, пустив в ход не самый честный прием, издевательски хмыкнул.
— И кто же это?
Но мисс Мак-Картри не поддалась на подначку.
— Зная, как низко вы цените мои возможности, было бы глупо делать вам царские подарки. Я думаю, вы, Стоу, согласитесь со мной, что человек, в котором так мало от истинного шотландца, никогда не сумеет докопаться до правды?
— Во всяком случае, это потребует от него немалых усилий.
У Мак-Хантли окончательно сдали нервы, и накипевшее раздражение прорвалось наружу.
— Как бы не так! Вы отказываетесь назвать имя убийцы только потому, что сами его не знаете!
— Думайте, что угодно. Если, по-вашему, лучше оставить преступника безнаказанным, чем воспользоваться моим опытом, — пожалуйста!
— И у вас есть доказательства?
— По крайней мере — превосходный мотив преступления…
— Готов спорить на бутылку виски: это неправда!
— Принимаю пари! Но виски должно быть высшего сорта!
— По рукам!
— Вы согласны быть свидетелем, Стоу?
— Да, мисс.
— Ну, так кто же убийца? — воскликнул, не в силах сдержать нетерпение, Мак-Хантли.
— Кит Лидберн.
— Правда? И что его толкнуло на преступление?
— Любовная связь с Фионой Рестон.
Инспектор мчался по улице огромными скачками, а за ним, метрах в десяти, бежала мисс Мак-Картри (несмотря на высокий рост, она с трудом поспевала за молодым человеком и никак не могла его догнать). Наконец, отчаявшись, Иможен, к ужасу и возмущению прохожих, перешла на галоп, настигла полицейского и схватила его за руку.
— Да остановитесь вы или нет?
— Зачем?
— Чтобы выслушать меня!
— Я и так уже наслушался более чем достаточно!
— Ну, в том, что касается благодарности, можете считать, вы побили все рекорды!
— И что дальше?
— Фиона — моя подруга!
Дугал насмешливо присвистнул.
— Ваша подруга? И вы ее предали?
— Вы что же, упрекаете меня за эту жертву во имя правосудия?
— Ладно, допустим, вы поступили правильно. Так чего вы еще от меня хотите?
— Чтобы вы взяли меня с собой!
— Нет!
— Никто, кроме меня, не сумеет уговорить Фиону признаться.
Инспектор колебался. С одной стороны, он вовсе не желал, чтобы эта рыжая бабища лезла в его дела, а с другой — предстоящие объяснения отнюдь не вызывали восторга… Может, и впрямь присутствие еще одной женщины несколько облегчит задачу?
— Ладно, пойдемте. Но только не воображайте, будто я взял вас в помощницы!
Возле аптеки они столкнулись с Мак-Клостоу. Сержант озирал окрестности с единственной целью убедиться, что все спокойно. А поскольку Арчибальд искренне полагал, будто тишиной и порядком обитатели города обязаны исключительно ему, то созерцание мирной жизни Каллендера очень грело его самолюбие.
— Пойдемте с нами, сержант, мне нужен свидетель, — окликнул коллегу Мак-Хантли.
Арчибальд с тревогой покосился на Иможен, но, коль скоро она явно оказалась тут по воле инспектора, возражать не посмел. Уже втроем они вошли в аптеку Хьюга Рестона, где покупателей теперь обслуживал молодой человек, нанятый на то время, пока вдова не продаст заведение.
Слегка удивленная внезапным нашествием Фиона проводила их в гостиную и сразу повернулась к Иможен.
— Что это значит, мисс Мак-Картри?
Однако Мак-Хантли, не давая шотландке ответить, вклинился в разговор.
— Мисс Мак-Картри — лицо неофициальное, — сухо заметил он, — и давать объяснения — не ее дело. Так вот, нас с сержантом привело сюда расследование. Надо выяснить кое-какие обстоятельства, связанные с убийством вашего супруга. А мисс Мак-Картри составила нам компанию только потому, что сумела убедить, будто ее присутствие несколько разрядит атмосферу.
Фиона улыбнулась Иможен.
— Несомненно. А теперь, инспектор, я готова ответить на ваши вопросы.
— Прошу вас не сердиться на меня за грубость, но я не вправе ходить вокруг да около и терять время. Итак, давно ли вы поддерживаете любовную связь с Китом Лидберном?
Фиона, казалось, остолбенела от удивления. Мак-Клостоу тоже — как с Луны свалился. Он еще не знал об откровениях Иможен и лишь изумленно таращил глаза.
— Хорошо, что вы заранее извинились, инспектор. Пр правде сказать, я ни разу в жизни не сталкивалась с подобным хамством.
— Я задал вам вопрос, миссис Рестон, и хотел бы получить ответ.
— Что ж, могу сказать одно: моя личная жизнь вас ни в коей мере не касается!
С этой минуты Дугал окончательно уверовал, что Иможен ему не солгала, и решил не отступать.
— Думаете, я удовольствуюсь таким ответом и смиренно уйду, бормоча извинения?
— Именно так вам бы и следовало поступить, будь вы воспитанным человеком.
— Тысяча сожалений, миссис Рестон, но я прежде всего полицейский.
— Оно и видно.
— Вы хотите, чтобы я повторил вопрос?
— Не стоит. Я никогда не была любовницей Кита Лидберна.
— И готовы поклясться в этом на Библии?
— Да.
Инспектор повернулся к Иможен.
— Ну?
Мисс Мак-Картри подошла к Фионе.
— Дорогая, прошу вас, скажите правду…
— Так это вы меня оклеветали? А я-то считала вас другом! О, Иможен, как вы могли так со мной поступить?
— Мне нужно разоблачить убийцу Хьюга.
— Но я не понимаю, каким образом…
Мак-Хантли не дал ей договорить.
— Я уверен, что мисс Мак-Картри меня не обманула и не возвела на вас напраслину, миссис Рестон.
— Почему вы так думаете?
— Это доказывает ваше поведение. Впрочем, сейчас мы окончательно все проверим. Сходите за Лидберном, Мак-Клостоу, и притащите его сюда.
Сержант вышел, и началось тоскливое ожидание. Три участника маленькой драмы, разыгравшейся в гостиной Рестонов, волком смотрели друг на друга. Наконец гнетущую тишину нарушила мисс Мак-Картри:
— Может быть, следовало бы…
— Нет! — буркнул Дугал. — Не вмешивайтесь, мисс! Я сам знаю, как вести допрос и, пока мне не докажут обратного, предпочту свои методы вашим!
Мисс Мак-Картри снова погрузилась в полное затаенной обиды молчание. Но дрожь, пробежавшая по ее огненной шевелюре, свидетельствовала, что неосторожный Мак-Хантли обрел нового, и очень опасного врага. Больше всего шотландка ненавидела, когда ее пытались публично поставить на место.
Зато появление Мак-Клостоу и Лидберна немало позабавило Иможен. Еще с улицы в гостиную донеслись его возмущенные вопли. Грубое лицо мясника раскраснелось даже больше обычного. По какому праву Мак-Клостоу вырвал его из дому, не дав докурить трубку, и чуть ли не силой приволок сюда?
— Силой? — холодно заметил Мак-Хантли. — Боюсь, вы немного преувеличиваете, мистер Лидберн. Я что-то не вижу на вас наручников!
— Только этого не хватало!
— Если хотите знать мое мнение, мистер Лидберн, вы совершенно напрасно подняли столько шума. Чего вы так опасаетесь?
— Я? Ничего! Уж не пытаетесь ли вы, случаем, меня запугать?
— Не стоит попусту гадать, мистер Лидберн. Я послал за вами, потому что вы мне нужны.
— Допустим. И что дальше?
— Я хочу знать, как давно началась ваша любовная связь с миссис Рестон.
Иможен с видом знатока любовалась физиономией Кита, на которой последовательно проступали все цвета радуги. Из красного она стала пунцовой, потом под глазами появились синеватые круги, а старые шрамы приобрели отвратительный оттенок ошпаренного мяса.
— Что вы сказали? Нет, что вы посмели сказать?
— Меня интересует, когда вы стали любовником миссис Рестон!
— И еще при свидетелях! Предупреждаю: я на вас в суд подам за клевету!
Мак-Хантли невозмутимо повторил вопрос.
— Клянусь святым Андреем, это поклеп! — заорал мясник. — Никогда я им не был! Чудовищная клевета! Я требую, чтобы мне назвали имя мерзавца, у которого хватило подлости придумать такую грязную сплетню!
— Мы никогда не называем имен тех, от кого получаем сведения.
— Хотите вы того или нет, но я его сам узнаю и, клянусь…
— Не стоит так хлопотать из-за пустяков, — спокойно заметила Иможен, — это я.
— Вы? И как я сразу не догадался, что это ваша работа? Проклятая чертовка!
Мак-Клостоу закрыл глаза, не желая видеть, что сейчас произойдет, хотя в глубине души ликовал: наконец нашелся человек, способный высказать мисс Мак-Картри все, что он о ней думает. А Дугал потирал руки. Да, он избрал самый удачный метод ведения допроса, нет более надежного способа узнать правду, чем столкнуть лбами свидетелей! А Иможен все тем же невыносимо ровным тоном продолжала:
— Слушайте, Лидберн, к чему притворяться? Вам ведь лучше кого бы то ни было известно, что я нисколько не погрешила против истины! Любвеобильная натура… Помните крошку Мойру, горничную ветеринара? Ваш бурный роман кончился тем, что ее во избежание скандала быстренько выставили за дверь…
Полицейские отродясь не слышали звука, подобного тому, что издал мясник, сжимая огромные кулаки. Однако наброситься на мисс Мак-Картри Лидберн не успел — еще один спокойный женский голос пригвоздил его к месту.
— Кит!
Обернувшись, участники драмы увидели застывшую на пороге живую статую оскорбленной добродетели — Флора Лидберн взирала на мужа испепеляющим взглядом.
— Уверяю вас, Флора, тут какая-то ошибка, — жалобно простонал Лидберн, почти не надеясь оправдаться.
— Подумать только, а преподобный Хекверсон еще ставит вас в пример другим!
Дугал, решив до конца сыграть роль безжалостного детектива, не дал мяснику перевести дух.
— Ну, собираетесь вы отвечать на мои вопросы, мистер Лидберн, или нет?
Бедняга Кит испуганно хлопал глазами.
— Да скажите им хоть вы, Фиона… — взмолился он к миссис Рестон.
— А что она может сказать? — презрительно бросила миссис Лидберн. — То, как вы оба себя ведете, уже признание!
— Объясните же наконец, инспектор, почему вы преследуете именно меня? — спросил мясник.
— Да просто хочу понять, за что вы убили Хьюга Рестона.
Лидберн так и застыл с открытым ртом, не в силах издать ни звука, а его жена горестно простонала:
— Он убил моего брата! Ох, лучше бы мне сразу умереть! Пусть разделается и со мной тоже!
— Но это же полный бред! — взвыл Кит, как только к нему вернулся дар речи. — Обвинять меня в убийстве Хьюга?! Да мы с ним ладили лучше кровных братьев! У нас были общие вкусы, общие взгляды на жизнь! Зачем бы я стал его убивать?
— Его жена — ваша любовница. Очевидно, вы любили ее до безумия и не желали ни с кем делить. По-моему, это совершенно ясно. Разве нет?
— Какой смысл отпираться, Кит, если они уже и так все знают?
Мак-Клостоу едва успел вовремя перехватить кинувшегося на вдову мясника.
— Нет, я должен прикончить эту чертову лгунью! — орал тот.
Но миссис Лидберн успокоила супруга.
— Ну вот, она и призналась! — крикнула Флора. — Вы омерзительны, Кит Лидберн, просто омерзительны! А что до вас, Фиона Рестон, то вы — последняя потаскушка!
— Не считая вас!
— Ну, я-то порядочная женщина!
— Невелика заслуга! Поглядите в зеркало!
— Зато вы, как всем известно, путаетесь с каждым встречным и поперечным!
— Только с теми, кому осточертели их собственные жены!
Флора Лидберн, утратив всякое самообладание, подскочила к Фионе прежде, чем та почуяла опасность, и влепила две такие крепкие затрещины, что миссис Рестон рухнула без сознания.
— Ну, так получите и это в придачу!
Мисс Мак-Картри с большой симпатией относилась к Фионе, зато терпеть не могла чопорную Флору, считая ее надутой гусыней. А потому, в порыве дружеских чувств к поверженной хозяйке дома, Иможен одним метким ударом в челюсть отправила миссис Лидберн в царство снов. Мясник обладал развитым чувством собственности и, не стерпев обиды, нанесенной его половине, вцепился в волосы мисс Мак-Картри с твердым намерением наконец-то насладиться местью — он так давно мечтал отплатить рыжей воительнице за долгие годы унижений! Однако Мак-Клостоу счел драку на глазах у представителей закона прямым оскорблением полиции и бросился утихомиривать Лидберна. В это время Фиона пришла в себя и, вставая, схватила первое, что попало ей под руку — не ее вина, что это оказалась борода сержанта. Арчибальд взвыл от боли. Мак-Хантли, разумеется, не мог оставить коллегу в беде. А Кит, меж тем, яростно махал кулаками, правда, в основном доставалось воздуху. К несчастью для себя, инспектор случайно попал на линию обороны Лидберна. Размах и скорость придали свингу мясника чудовищную силу, и Мак-Хантли, получив кулаком по лицу, отлетел на почтительное расстояние. Попытки уцепиться за что-нибудь по дороге не увенчались успехом, и в конце концов Дугал врезался в как раз поднимавшуюся на ноги миссис Лидберн. Супруга мясника снова утратила всякий интерес к ходу сражения. Мак-Клостоу долго не мог вытащить бороду из цепких пальцев полубесчувственной Фионы и в конце концов, разозлившись, влепил ей пощечину — несчастной вдове, похоже, в тот день сама судьба предназначила такой вид наказания.
Битва горячила шотландскую кровь сержанта, и под одобрительные крики Иможен он так свирепо накинулся на Лидберна, словно решил раз и навсегда с ним покончить. Мисс Мак-Картри помогала ему по мере возможности, от души пиная мясника ногами. Но Кит был крепким малым и, вложив всю силу в прямой короткий удар, заставил Мак-Клостоу отступить, а сам, воспользовавшись передышкой, повернулся к Иможен. Один резкий крюк в челюсть — и мисс Мак-Картри, воспарив над полом, рухнула на застекленную витрину, в которой Фиона хранила сувениры, привезенные из разных путешествий. Музыкальная шкатулка, включившись от резкого столкновения, заиграла «Маленький ноктюрн» Моцарта.
Столь, казалось бы, стремительная и полная победа не пошла Лидберну впрок. Пока он тешился видом Иможен, распростертой среди безделушек, Мак-Клостоу пришел в себя и нанес новый удар. Мясник не успел развернуться и, получив от сержанта сокрушительный апперкот, без звука грохнулся на ковер. Арчибальд — последний, кто устоял на ногах, — мог по праву считаться победителем в этой небольшой, но ожесточенной битве. Не без удовольствия обведя поле боя взглядом, он стал искать глазами, чего бы выпить, и только тут вдруг заметил парня, торговавшего в аптеке вместо Рестона. Продавец явно не знал, куда деваться от смущения.
— Неплохая работа, а? — гордо спросил Мак-Клостоу.
— Это и есть ваш знаменитый допрос третьей степени? — робко поинтересовался парень.
— Это? Вы что, смеетесь? Да нет, всего-навсего небольшая разминка! У вас не найдется капельки виски, чтобы привести в чувство всю эту публику?
Продавец вернулся в аптеку, куда, к чести Каллендера, за это время не вошел ни один покупатель, и очень скоро принес сержанту почти полную бутылку виски. Мак-Клостоу схватил ее и снова оглядел комнату — побежденные уже начали потихоньку приходить в себя.
— Похоже, они больше не нуждаются в лекарстве, — буркнул он.
И, поднеся горлышко к губам, Арчибальд, на глазах у восхищенного продавца, единым духом отхлебнул больше трети бутылки, а потом не без сожаления вручил остаток владельцу.
Очнувшись рядом, Иможен и Лидберн не сразу поняли, что с ними произошло, но тут же начали ожесточенно переругиваться, и Мак-Клостоу снова пришлось вмешаться. Он помог встать и слегка утихомирил обоих. Фиона тоже успела опомниться и беззвучно плакала. Флоре Лидберн было трудно дышать, поэтому ее оцепенение продолжалось чуть дольше. В полузабытье жена мясника вообразила, будто попала в железнодорожную катастрофу и теперь лежит на рельсах, под локомотивом. Видение привело несчастную в такой ужас, что она проснулась от собственного крика. И тут Флора наконец поняла, что на грудь ей давит не локомотив, а неподвижное тело инспектора Мак-Хантли. Впрочем, тот уже тоже начал приходить в себя и отчаянно хлопал глазами, пытаясь оценить ситуацию. Наконец он почувствовал, что его тихонько похлопали по плечу, и услышал задыхающийся голос Флоры Лидберн:
— Прошу прощения, инспектор, если можно, встаньте, пожалуйста, а то вы совсем раздавите мне грудную клетку!
Приняв наконец вертикальное положение, все смущенно переглянулись. Кит не смел поднять глаз на жену, а та еще жадно хватала ртом воздух. Иможен с трудом оправлялась от полученного удара, но уже обдумывала самые страшные планы мести. Фиона оценивала урон, нанесенный ее гостиной. Мак-Клостоу раздумывал, насколько его поведение соответствует требованиям закона. А Дугал все никак не мог взять в толк, каким образом начатый по всем правилам искусства допрос закончился общей потасовкой. А кроме того, он с тревогой задавал себе вопрос, как нужно поступить, чтобы, не нарушая долга, замять скандал и при этом возместить убытки хозяйке дома. Первой нарушила молчание Фиона:
— Кто за все это заплатит?
Этого-то Дугал и опасался больше всего. Но Лидберн неожиданно проявил великодушие:
— Раз драку, сам того не желая, начал я, стало быть, на мне и лежит материальная ответственность…
Мак-Хантли и сержант, с облегчением переведя дух, искренне поблагодарили мясника, но благостную картину подпортило язвительное замечание Флоры:
— Вполне естественно, что вы купите этой женщине новую обстановку, коль скоро для вас здесь, в сущности, дом родной!
Эту ненужную реплику встретили ледяным и откровенно враждебным молчанием, и Флора поняла, что напрасно не придержала язык. Но теперь ничего другого не оставалось, как напустить на себя самый высокомерный вид.
— На сегодня с меня развлечений довольно, — сухо бросила она. — Я возвращаюсь домой. Извольте следовать за мной, Кит, если, конечно, вы не предпочитаете остаться с этой особой… Вероятно, вам есть о чем вспомнить.
Однако мясник, чувствуя, что обещание привести в порядок гостиную миссис Рестон обеспечило ему всеобщие симпатии, держался гораздо увереннее, чем раньше.
— Я пойду с вами, Флора, хотя, повторяю, по неизвестным мне причинам Фиона солгала и, следовательно, вы не имеете права разговаривать со мной таким тоном. Прошу вас вести себя разумнее, иначе наши отношения очень быстро испортятся!
Мак-Хантли решил, что пора и ему вставить слово.
— Извините, миссис Лидберн, но вашему супругу придется пойти с нами в полицейский участок — надо же окончательно прояснить это дело.
— Так забирайте его! И можете вообще оставить у себя — я не заплачу!
Еще раз кольнув таким образом мужа, Флора Лидберн с достоинством выплыла из гостиной. Инспектор подозвал Мак-Клостоу.
— Проводите мистера Лидберна, сержант Мисс Мак-Картри, я должен вам бутылку виски.
— Я выпью ее за ваше здоровье, инспектор, — с притворным смирением проговорила Иможен, — равно как и за удивительную эффективность вашей манеры вести расследование.
Полицейский побледнел от ярости, но молча двинулся следом за Арчибальдом и мясником.
Оставшись вдвоем, Фиона и мисс Мак-Картри весело переглянулись.
— Ну что, сцена вполне в вашем вкусе, Иможен?
— Да, в такие минуты я чувствую, что в моих жилах течет кровь Роберта Брюса. Будь при Каллодене только шотландцы вроде меня, доброго принца Чарли ни за что бы не расколотили и мы остались бы свободным народом!
— Ну, пока у нас есть еще хоть несколько таких, как вы, далеко не все потеряно!
— Спасибо, Фиона!
Подруги со слезами на глазах обнялись, и миссис Рестон, скрывая волнение, вдруг воскликнула:
— Подумать только, а ведь этот полицейский воображает, будто вы и в самом деле меня предали!
— Даже толстый болван Мак-Клостоу не попался бы на удочку!
— Будем справедливы, Иможен. Как он мог угадать, что вы сказали это с единственной целью взбаламутить спящие воды нашего городка и заставить убийцу всплыть на поверхность?
— Вы замечательно сыграли свою роль, Фиона.
— Я хочу, чтобы они оставили Ангуса в покое! — с суровой решимостью заявила вдова.
— Ну, а я, дорогая, совсем не прочь дать хороший урок этому самоуверенному детективу. Будет знать, как относиться ко мне свысока!
Глава 6
Инспектор Мак-Хантли начинает сомневаться в себе
Дугал, устроившись за столом Мак-Клостоу, гораздо дружелюбней, чем прежде, разговаривал с мясником.
— Если вы уже расстались с миссис Рестон…
— Повторяю вам еще раз, инспектор, между нами никогда ничего не было!
— Но зачем ей обманывать в подобном вопросе?
— Понятия не имею.
— Я не верю вам, мистер Лидберн.
— Догадываюсь… Но, черт побери! Что заставило Фиону так говорить?
— Быть может, нежелание обманывать полицию?
— Клянусь вам…
— Ладно, оставим пока… Давайте лучше потолкуем о миссис Рестон. Что она за человек?
— Трудно сказать…
— Мне намекали, будто миссис Рестон отнюдь не была образцовой супругой. Это верно?
— Послушайте, инспектор, не стоит судить о Фионе вкривь и вкось. Родители заставили ее выйти за парня, которого она терпеть не могла, а Хьюг женился, отлично зная, что девушка его не любит. Фиона и не думала это скрывать. Но Рестон и мысли не допускал, что кто-то может не склониться перед его волей — уж такой был человек. Поэтому-то Фиона не столько по природной склонности, сколько в отместку мужу принялась кокетничать с кем попало.
— Значит, теперь, овдовев, она может наконец успокоиться?
— Не уверен.
— А?
— Честно говоря, инспектор, и при условии, что это останется строго между нами, по-моему, Фиона, хоть до сих пор она, вроде бы никогда никого не любила, на сей раз влюбилась по-настоящему.
— В кого?
— В Ангуса Кёмбре.
— Но он ведь по крайней мере на двадцать лет моложе ее!
— На шестнадцать!
— Ну, знаете!
— Любовь не подчиняется никаким законам.
— Вы уверены, что не ошиблись?
— Я сам несколько раз заставал их во всяких укромных уголках.
— Вы, что ж, хотите сказать, что молодой человек разделяет эту, довольно-таки… чудовищную страсть?
— Думаю, да… Потому-то я так упорно противлюсь замужеству Дженет. А раз правду сказать невозможно, приходится делать вид, будто вопрос упирается в деньги, пусть это и не очень красиво.
— Но почему вы не хотите откровенно поговорить с дочерью?
— Не решаюсь… И потом, она все равно не поверит.
— Ну что ж, спасибо, и, если хотите, в случае успеха сам побеседую с вашей дочкой.
— Вы оказали бы мне чертовски большую услугу!
Инспектор и мясник вместе вышли из участка: один направился к себе в «Черного Лебедя», другой — в лавку. Тем временем Тайлер расспрашивал шефа, что у него с лицом.
— У этих молодых следователей и впрямь очень странные методы работы, Сэм. Раньше, по старой доброй традиции, подозреваемых часами допрашивали, рассчитывая, что рано или поздно усталость вынудит их сознаться, ну, в крайнем случае можно было ускорить дело, дав пару
хороших затрещин. Короче, все просто и ясно. А теперь, судя по тому, что я видел в гостиной миссис Рестон, допросы стали смахивать на матч по регби. Поверьте человеку, повидавшему на своем веку немало фантастических драк, это нечто грандиозное! Кто бы мог подумать, что Лидберн так силен? Честное слово, он меня чуть не одолел, и, не вмешайся мисс Мак-Картри (которую, однако, наш мясник очень быстро вывел из игры), я вообще не знаю, чем бы дело кончилось!
— Так Иможен участвовала в схватке?
— Вас это удивляет?
— Нет, шеф, скорее, наоборот! А что другие?
— Не понял…
— Ну, что они делали, пока вы дрались с Лидберном?
— Ничего.
— И ни один не попытался вас растащить?
— Они были не в состоянии.
— Почему?
— К тому времени все уже полегли, старина.
— Даже инспектор?
— Инспектор — одним из первых! Лидберн его двинул с размаху! Сначала я даже испугался, что бедняге начисто оторвали голову. А если бы вы видели лицо мисс Мак-Картри, мирно спящей в витрине гостиной вдовы Рестон, Сэм…
Арчибальд громко расхохотался.
— Ну, заставили вы меня поговорить, Сэм, — заметил он, отсмеявшись. — Почему бы вам теперь не предложить мне стаканчик? Чего вы ждете?
— Думаю, может, вы сами меня угостите, шеф?
— Вы меня огорчили, Тайлер. Боюсь, вы и впрямь не способны на широкий жест!
Мак-Хантли, как новичок, притаился «в засаде» на главной улице Каллендера, не спуская глаз с аптеки Рестона. Около пяти вечера оттуда вышла Фиона, села в машину и поехала в сторону Доуна, а значит, и гаража Стоу. Инспектор осторожно покатил следом, надеясь, что его неброский автомобиль не привлечет внимания вдовы. Фиона, не останавливаясь, проехала мимо гаража, зато полицейский решил притормозить. Ивен подошел к нему, вытирая перепачканные смазкой руки.
— Все охотитесь, инспектор?
— Сейчас больше, чем когда бы то ни было! Кёмбре на месте?
— Нет, уехал всего несколько минут назад.
— Так я и думал.
— Почему?
— Да так, пришло в голову. Спасибо, Стоу, и — до скорой встречи.
Мак-Хантли почти не сомневался, что Лидберн сказал ему правду. Очевидно, Фиона и впрямь назначила Кёмбре свидание на свежем воздухе. Оставалось лишь найти, где они воркуют.
Дугал был превосходным следопытом. Читать следы он выучился на стажировке в канадской конной полиции. Сейчас инспектор осторожно продвигался вперед, и его внимательный взгляд не упускал ни единой подробности окружавшего ландшафта. У сворачивавшей в лес дорожки Дугал поехал еще медленнее и, увидев свежие следы колес, естественно, избрал то же направление. Полицейский не знал, как далеко углубились в лес миссис Рестон и Кёмбре, и на всякий случай сбавил скорость до минимума. Наконец впереди, среди деревьев, появился просвет — очевидно, Дугал добрался почти до опушки. Он чуть-чуть отъехал от дороги, вылез из машины и уже пешком стал искать кое-где различимые тренированному глазу следы колес.
Мак-Хантли уже минут двадцать брел по изрезанным оврагами небольшим долинам среди холмов, не видя ничего, кроме скал и жесткой травы да овец. Последние, перестав от удивления жевать, таращили на него глаза. Дугал чуть не прошел мимо машины и мотоцикла, стоявших рядом в небольшом углублении под скалой. Значит, следовало вести себя еще осторожнее. Сквозь неумолчные завывания ветра пробивалось чистое и звучное журчание ручья. Потом до инспектора внезапно донеслись приглушенные голоса. Прячась за скалами, Мак-Хантли чуть ли не ползком подобрался поближе. Теперь, навострив уши, он отчетливо слышал каждое слово.
— Как я счастлива, что ты наконец со мной, дорогой Ангус, — говорила женщина. — Без тебя мое существование не имело смысла… Но сейчас, получив свободу, я смогу всю жизнь посвятить тебе одному…
Дугал получил желанное подтверждение, но для очистки совести все же приподнялся на полусогнутых ногах и заглянул в овраг — Фиона обнимала Ангуса, а тот положил голову ей на плечо. Мак-Хантли захотелось подбежать к ним и высказать все свое отвращение: Кёмбре — за бессовестный обман девушки, верившей в его любовь, а Фионе — за то, что на склоне лет посмела строить из себя Джульетту. Однако полицейский сдержал благородный порыв — не следовало забывать, что он прежде всего детектив, и стало быть, его задача не читать проповеди, а искать убийцу. Впрочем, Дугал считал эту миссию законченной.
Идя в тот вечер к Лидбернам, Мак-Хантли искренне думал, что поступает правильно, и чувствовал себя неким новым воплощением святого Георгия, побивающего дракона. Дверь открыла Дженет. Она с вежливым равнодушием кивнула инспектору и повела в дом. Лидберны сидели в гостиной. Миссис Лидберн приняла гостя сдержанно и, пожалуй, даже прохладно. Флора не могла простить полицейскому, что по его милости узнала то, насчет чего предпочла бы навсегда остаться в неведении (она, конечно, не сомневалась, что миссис Рестон сказала правду, а ее муж соврал). Только Кит вел себя как нельзя учтивее.
— Надеюсь, в этот раз вы не принесли нам дурных новостей, инспектор?
— Увы, да!
Лица обоих супругов мгновенно помрачнели. Только Дженет оставалась совершенно безразличной к происходящему и словно бы вообще не замечала ничего вокруг.
— К несчастью, я только убедился в вашей правоте, мистер Лидберн, — поспешно добавил полицейский.
— А-а-а, так вы о…
— Да. Я могу говорить откровенно?
Кит слегка замялся.
— А, ладно, все равно она когда-нибудь узнает… Почему бы не сейчас?..
Дженет сразу поняла, что ей готовят жестокий удар, и сердце ее учащенно забилось. Инспектор мысленно пожалел девушку, но чувство долга, как всегда, взяло верх.
— Проведя тщательное расследование, я пришел к выводу, что Ангус Кёмбре умышленно застрелил Хьюга Рестона.
— Это ложь! — крикнула Дженет.
— Вероятно также… у Кёмбре был сообщник, которому он успел передать револьвер, — невозмутимо продолжал полицейский.
— Но у Ангуса не было ни малейших причин убивать моего дядю!
— Ошибаетесь, причина тут самая серьезная.
— Какая же, хотела бы я знать?
— Желание устранить человека, мешавшего его счастью с любимой женщиной.
— Какая чушь! Против нашей женитьбы возражал не дядя Хьюг, а папа!
Дугал откашлялся.
— Прошу прощения, мисс, но я не вас имел в виду…
— Не меня? Но кого же тогда?
— Миссис Рестон, любовницу Ангуса Кёмбре. Я сам наблюдал их свидание неподалеку ст Торнхилла, и тут все ясно, как Божий день. А за вами молодой человек ухаживал, видимо, лишь для того, чтобы возбудить ревность миссис Рестон.
— Но… но мы собирались бежать вместе…
— Не беспокойтесь, Кёмбре сумел бы все так подгадать, чтобы вас вовремя настигли. Простите, мисс, но увезти отсюда он хотел не вас, а миссис Рестон, вот только…
— Только — что?
— …у Ангуса Кёмбре нет ни гроша, а миссис Рестон полностью зависела от мужа. Поэтому ради счастливой и обеспеченной жизни в чужих краях им пришлось совершить убийство.
— Я вам не верю! Все это — просто мерзость! Ангус любит меня! Уж я-то наверняка знаю!
И девушка, ни с кем не попрощавшись, убежала. Из гостиной Дугал, Флора и Кит слышали, как она промчалась по лестнице, захлопнула за собой дверь и, судя по стону пружин, бросилась на кровать.
— Всю ночь проплачет, — вздохнула миссис Лидберн.
Ее муж покачал головой.
— Тут уж мы бессильны, мой бедный друг. До сих пор Дженет оставалась большим ребенком… а это потрясение сразу сделает ее взрослой.
— Вы обо всем знали, Кит?
— Да, Флора.
— Поэтому вы так восставали против замужества Дженет?
— Разве причина недостаточно веская?
— Да, вы правы.
— А почему вы так уверены, что моего шурина убил Ангус Кёмбре, инспектор?
— Насколько я помню, первым об этом заговорили именно вы.
— Да, конечно, но мне доказали, что мои подозрения беспочвенны…
— Просто наш молодой человек гораздо хитрее тех, кому надлежало установить его виновность. По-моему, в первую очередь он постарался внушить окружающим, что безумно любит вашу дочь и, следовательно, никак не может думать о другой женщине. Внезапно (ведь никто не предполагал, что вместо вас выяснять отношения пойдет Рестон!) Кёмбре подвернулся случай убить человека, чья смерть освободила бы его любовницу и обогатила их обоих. И парень поспешил им воспользоваться.
— А как же револьвер, который лежал у него в кармане?
— Выходя из гаража, Кёмбре, как пить дать, прихватил другой. А потом кто-то подменил оружие… Вероятно, этот человек следил за ним от самого дома — то ли желая отговорить от похищения Дженет, то ли, чтобы прикрыть беглецов с тылу… Этот доброхот и успел вовремя помочь Кёмбре.
— А… у вас есть какие-нибудь предположения…
— Послушайте, мистер Лидберн, кто покровительствует Кёмбре с тех пор, как тот приехал в Каллендер?
— О! Ивен Стоу?
— Вы сами его назвали, мистер Лидберн.
Мак-Хантли попрощался и пошел к себе в гостиницу, по дороге встретил Иможен — та как раз возвращалась домой из «Гордого Горца».
— А-а-а, мисс Мак-Картри, какая приятная встреча!
— Вот уж никогда бы не подумала, что она может вас обрадовать, инспектор.
— …еще приятнее — доказать вам, что вы напрасно мнили себя блестящим детективом.
— А по-моему, это вы считаете себя лучшим следователем, какой только появлялся в Департаменте уголовных расследований со времен его основания. Разве не так?
— Прошу вас, мисс, сейчас не время для шуток! Вы по-прежнему уверены, что в убийстве Хьюга Рестона виновен Лидберн?
— Более, чем когда бы то ни было!
— Так вот, вы заблуждаетесь!
— Ну да?
— Девяносто девять шансов из ста — за то, что это преступление совершил Ангус Кёмбре.
— Не может быть! Итак, если я правильно поняла, вы снова вернулись к исходной точке?
— Да, но с той небольшой разницей, что Ангус Кёмбре застрелил Рестона не по ошибке, а совершенно сознательно.
— Почему?
— Потому что у него роман с женой аптекаря. А значит, парнем двигало естественное желание устранить препятствие, стоявшее на пути к счастью и… богатству.
И Мак-Хантли подробно изложил ту же версию убийства, что и в доме Лидбернов. Иможен долго мерила его недоверчивым взглядом.
— У вас богатое воображение, инспектор, — наконец заметила она.
— Богатое или нет, а я немедленно арестую мистера Кёмбре. Что до миссис Рестон, то ей придется весьма убедительно доказывать свою непричастность к этому делу, потому как над этой дамой тяготеет серьезное обвинение в сообщничестве!
— И, таким образом, вроде бы способный молодой человек собирается сделать ужасающую глупость, которая наверняка испортит ему карьеру! А все потому, что, ведя расследование среди незнакомых вам людей, вы не желаете слушать тех, кто, в отличие от вас, понимает толк в здешних делах. Мой бедный инспектор, вы так же плохо знаете психологию горцев, как историю Шотландии! Прошу прощения за прямоту, но, боюсь, в программе полицейской школы Глазго есть очень большие пробелы…
— Значит, по-вашему, коль скоро человек родился в самом сердце Горной страны, он не способен на подлость?
— Наконец-то слышу от вас разумные слова!
— Мисс Мак-Картри, я терпеть не могу, когда надо мной издеваются! Не для того я так упорно учился и достиг нынешнего положения, чтобы разыгрывать из себя клоуна на потеху какой-то горянке, свихнутой на почве самого неприличного национализма!
— Именно так и рассуждают люди, готовые не без выгоды продаться врагу.
— Я не позволю вам…
— Поступайте, как хотите, инспектор, — в конце концов, это ляжет на вашу совесть (если, конечно, она у вас есть), но не пытайтесь чернить тех, в чьих сердцах еще жива надежда на освобождение родины!
— Клянусь дьяволом и всем его отродьем, не понимаю, при чем тут Ангус Кёмбре?
— А при том, что, обливая грязью Ангуса, который, между нами говоря, стоит тысячи таких, как вы, вы плюете в душу всем истинным шотландцам!
— Значит, вы полагаете, что, заведя роман с богатой женщиной, которая к тому же на шестнадцать лет старше его, Кёмбре продемонстрировал редкостную душевную чистоту? Позвольте заметить вам, мисс Мак-Картри, что за пределами Каллендера подобных типов называют очень нехорошим словом!
— Мне жаль вас, инспектор. Спокойной ночи.
Дугал в крайнем раздражении схватил мисс Мак-Картри за руку.
— Да повторяю же вам: я своими собственными глазами видел, как миссис Рестон его обнимала и целовала!
— Ну и что? Что это доказывает? У вас, право, совершенно извращенный склад ума, мистер Мак-Хантли, и я не хочу больше оставаться в вашем обществе — мне слишком дорого мое доброе имя!
Иможен вырвала руку и быстро пошла прочь, оставив инспектора в глубочайшей растерянности, однако, прежде чем совсем скрыться из глаз, она обернулась и крикнула:
— Невероятно, мистер Мак-Хантли! Должно быть, ваша матушка согрешила с англичанином!
Всю ночь Дугал Мак-Хантли проворочался с боку на бок — его мучили кошмары, точнее, жуткий, бесконечный сон о том, как мисс Мак-Картри, облеченная неизвестно откуда взявшейся властью, принимает выпускные экзамены у будущих детективов, и весь зал умирает со смеху над тщеславным Дугалом Мак-Хантли, нагло вообразившим, будто он хоть что-то знает!
Полицейский проснулся в холодном поту, и от этого его враждебность к Иможен стократ возросла. Дугал поклялся себе не уезжать из Каллендера, пока не отыщет случая публично ее унизить. Бедняга еще не вышел из того возраста, когда раны и даже царапины, нанесенные самолюбию, причиняют ужасные муки. Да как она посмела заявить, будто то, что инспектор видел Фиону Рестон в обнимку с Ангусом Кёмбре, ровно ничего не значит? Нет, тут одно из двух: либо мисс Мак-Картри непроходимо глупа, либо просто измывалась над собеседником!
Само собой, в то утро настроение мистера Мак-Хантли явно оставляло желать лучшего. Ему не терпелось как можно скорее позвонить суперинтенданту, но, увы, надо было ждать начала рабочего дня.
Наконец ровно в половине десятого на глазах у весьма заинтригованных Мак-Клостоу и Тайлера Дугал связался с Пертом и попросил к телефону Копланда. Не прошло и нескольких секунд, как в трубке зарокотал знакомый голос.
— Доброе утро, Мак-Хантли… Ну как, следствие продвигается?
— По-моему, да.
— И что же вам удалось выяснить?
Инспектор методично и тонко обрисовал происшедшие в Каллендере события, а под конец объявил о намерении сегодня же арестовать Ангуса Кёмбре. Суперинтендант ответил не сразу.
— Что об этом думает мисс Мак-Картри? — вдруг спросил он.
Инспектор опешил от неожиданности.
— Но я не понимаю, сэр, с какой стати мнение мисс Мак-Картри…
— Я задал вам вопрос, инспектор!
— Разумеется, она против!
— Почему?
Молодой полицейский, не выдержав, произнес страстную обвинительную речь против своей мучительницы. Если бы он только мог видеть, что на другом конце провода его шеф чуть не плачет от смеха, наверняка тут же подал бы в отставку. Но когда, вконец запыхавшись, Мак-Хантли умолк, Эндрю Копланд уже спокойно заметил:
— Я думаю, вы напрасно недооцениваете точку зрения Иможен Мак-Картри. И то, что эта дама считает вас англо-шотландским ублюдком, еще вовсе не доказывает ее глупости. Впрочем, если сердце вам подсказывает, что надо арестовать Ангуса Кёмбре, можете так и сделать. Только не маринуйте его слишком долго за решеткой, коли вам не удастся быстренько отыскать бесспорного доказательства его вины. Не стоит восстанавливать против себя весь Каллендер. Желаю успеха!
Вешая трубку, Дугал явственно ощущал во рту привкус желчи. Он сердито повернулся к коллегам.
— Ушам своим не верю! Господи, да что с ними со всеми? Помешались они, что ли, на этой полоумной старухе? Мисс Мак-Картри ни дьявола не понимает, отрицает очевидные факты и при этом вообразила, будто она умнее всех на свете! Объясните мне, ради святого Георгия, кто из нас детектив — я или она?
Ни Арчибальд, ни Сэм не рискнули ответить на этот вопрос, и Мак-Хантли, вне себя от ярости, грохнул кулаком по столу.
— Ну, раз так, я сейчас же арестую Ангуса Кёмбре! — заорал он.
Однако, прежде чем полицейский успел подняться с кресла, в кабинет влетел Кит Лидберн.
— Инспектор, моя дочь сбежала из дому! Жена обезумела от горя, а я… я боюсь самого страшного! Если то, что вы нам вчера рассказали, верно, Дженет грозит опасность!
— Не знаю, как насчет опасности, мистер Лидберн, но самое скверное — что Кёмбре, узнав от вашей глупой девчонки о моих подозрениях, запросто мог удрать. Пойдемте, Мак-Клостоу.
Три минуты спустя инспектор и сержант уже мчались к гаражу Стоу так быстро, как только позволяли правила дорожного движения.
Выскочив из машины у заправочной станции, они бросились к Ивену, который в это время заливал бензин в бак «олдсмобиля». Появление двух полицейских его, похоже, нисколько не смутило.
— Где Кёмбре? — без лишних церемоний спросил Дугал.
Стоу, оторвав глаза от счетчика, улыбнулся инспектору.
— Добрый день.
— Где Кёмбре?
— Его тут нет.
— Естественно! Так где он?
— Подождите минутку.
Стоу взял у клиента деньги и неторопливо протер ветровое стекло «олдсмобиля». Детектив понял, что его нарочно хотят унизить, но сделать ничего не мог. А Ивен подошел к ним лишь после того, как машина наконец уехала.
— Так что вам угодно, инспектор?
— Берегитесь, Стоу!
— Это еще почему?
— Попытка воспрепятствовать ходу следствия может вам очень дорого обойтись!
Хозяин гаража с напускным изумлением воззрился на полицейского.
— Чем же я мешаю правосудию?
Дугалу безумно хотелось стукнуть его по физиономии.
— Где Кёмбре, еще раз спрашиваю?
— Не знаю.
— Да ну? Хозяин понятия не имеет, куда девался его служащий?
— Слушайте, инспектор, Ангус влюблен… так что…
— А?
— Ну, и когда малышка прибежала сюда…
— Какая малышка?
— Черт возьми, Дженет Лидберн, конечно! Разве вы не в курсе?
— Перестаньте морочить мне голову, Ивен Стоу! Вам отлично известно, что ваш парень любит (или по крайней мере делает вид, что любит) не Дженет Лидберн, а Фиону Рестон!
Хозяин гаража рассмеялся.
— Честное слово, престранные у вас фантазии!
— Я сам видел, как они тайком обнимались в овраге возле Торнхилла!
— Ну и что? Это вполне естественно, правда?
Мак-Хантли не мог понять, то ли ему опять снится страшный сон, то ли аморальность жителей этого уголка Горной страны превосходит все мыслимые пределы. А Ивен, не ожидая новых расспросов, спокойно продолжал:
— Во всяком случае, Ангус уехал отсюда ни с кем-нибудь, а с Дженет Лидберн, и было это чуть больше часа назад…
— В какую сторону они направились?
— Парень сказал, что в Эберфойл.
— Какую машину он взял?
— Аварийный джип.
— В дорогу, Мак-Клостоу, мы должны непременно его догнать! Что до вас, Ивен Стоу, то мы еще увидимся и очень скоро!
— Тем лучше, инспектор, ничего не имею против.
Хотя полицейские мчались на полной скорости, им так и не удалось настигнуть беглецов. В Эберфойле их уверили, что никакой джип в округе не появлялся. Вывод напрашивался сам собой, и Мак-Хантли быстро сообразил, в чем дело.
— Ехать дальше — бесполезно, Мак-Клостоу. Стоу нас обманул, а за это время Ангус и Дженет сто раз успели добраться до Стирлинга и, возможно, сесть в поезд.
— Так что, арестуем Ивена?
— Невозможно. Он скажет, что только повторил нам слова Кёмбре, а тот, дескать, упоминал именно Эберфойл. И как мы докажем злой умысел?
Вернувшись в участок, Дугал не без мстительного удовольствия перезвонил суперинтенданту и рассказал о бегстве Ангуса Кёмбре.
— Он сбежал один?
— Нет, с несовершеннолетней Дженет Лидберн!
— Странно… Разве вы не говорили мне всего несколько часов назад, что любовница подозреваемого на шестнадцать лет его старше?
— Да.
— А удрал он с девчонкой? Впрочем, положа руку на сердце, понимаю Кёмбре и, пожалуй, это даже возвышает его в моих глазах. Так-то оно куда естественнее, правда? Но как вы, Мак-Хантли, объясните всю эту путаницу?
— Честно говоря, пока никак, сэр. Очевидно, разумнее всего немедленно объявить розыск девушки, а уж соображать, что к чему, — потом.
— Отец просил вас об этом?
— Официально — нет.
— Тогда, прежде чем что бы то ни было предпринимать, попросите его написать заявление.
— Но с ней ведь еще и Кёмбре, сэр!
— У вас нет новых доказательств, что преступник — именно он?
— Достоверных — нет… И я должен признать, что бегство Кёмбре с Дженет Лидберн, если, конечно, она не помогает милому обвести меня вокруг пальца, нанесло моей версии серьезный удар… Тем более трудно представить, что чуть ли не половина Каллендера вступила в заговор и против меня, и против закона.
— А почему бы и нет?
— Но, сэр, у меня нет никаких оснований…
— Слушайте, Мак-Хантли, а вам не приходило в голову, что они просто разыгрывают вас?
— Что?
— Я хорошо знаю жителей Каллендера… У них довольно своеобразное чувство справедливости, и, по-моему, они вполне способны ломать комедию, если уверены, что полицейские ошибаются. Признайтесь честно, Мак-Хантли, вам-то самому та версия, которую вы мне недавно излагали, не кажется малость подозрительной?
— И однако я веду расследование по всем правилам…
— Могу дать вам последний совет, инспектор: в Каллендере лучше забыть о правилах и о всяких методиках, здесь главное — попытаться понять психологию людей. Спросите-ка Мак-Клостоу и Тайлера, что они об этом думают.
— Коли на то пошло, сэр, быть может, мне следовало бы еще и попросить помощи у мисс Мак-Картри?
— Очень недурная мысль, инспектор!
— О!
Суперинтендант повесил трубку, не дав Дугалу выразить свое возмущение. Инспектор пребывал в том возрасте, когда человек гордится своими познаниями и с трудом выслушивает советы даже от тех, в чьей компетентности совершенно уверен. Поэтому он, естественно, решил действовать наперекор рекомендациям Копланда. Если суперинтендант воображает, будто он, Мак-Хантли, с отличием закончил школу детективов и победил на конкурсе только для того, чтобы получать указания от какой-то полоумной старой девы, считающей себя реинкарнацией Роберта Брюса, то он жестоко заблуждается!
— Мак-Клостоу!
— Да, инспектор?
— Надо потребовать от Лидберна письменного заявления. Пусть напишет, что у него похитили дочь. И мы арестуем Ангуса Кёмбре как похитителя малолетних и главного подозреваемого в убийстве Хьюга Рестона. Посидит несколько дней под замком — может, станет поразговорчивее.
Мнения Тайлера никто не спрашивал, но он все же решился его высказать:
— На вашем месте, инспектор, я бы вел себя осторожнее и…
— Будь вы на моем месте, мистер Тайлер, могли бы действовать как заблагорассудится, но пока вы на своем собственном, воздержитесь-ка от комментариев!
Арчибальд поддержал Мак-Хантли.
— Вот это отбрили — так отбрили, Сэм! Постарайтесь запомнить урок и оставьте дурную привычку то и дело приставать к начальству с нравоучениями!..
— Скорее, Мак-Клостоу! — поторопил сержанта Дугал.
Как только оба полицейских вышли из участка, по улице с бешеной скоростью промчалась машина и с визгом затормозила перед самым их носом. Из машины выскочил Тед Булит.
— Поехали, инспектор, быстрее!
— А в чем дело?
— Иможен Мак-Картри нашла Ангуса Кёмбре за рулем джипа!
— Ну и что?
— Она думает, парень мертв. Вся голова в крови!
— Где он? И где мисс Мак-Картри?
— Кёмбре в овраге неподалеку от Торнхилла, а мисс Иможен я встретил на дороге. Она велела мне ехать сюда, а сама пошла обратно, к телу.
— Ладно, заскочите за доктором Элскоттом и везите его туда же, мы доберемся сами!
По дороге к уже знакомому оврагу Мак-Хантли думал о стойкости человеческих привычек — похоже, Ангус всех своих подружек возил в одно и то же место. Но если он и в самом деле мертв, то кто его убил и почему? Расследование все больше запутывалось.
Инспектор свернул с дороги в Доун на ту же тропинку, по которой ехал накануне, преследуя Фиону и Ангуса. У опушки он вдруг заметил лежащую ничком женщину. Судя по положению тела, она явно не спала. Дугал притормозил, и Мак-Клостоу, первым выскочив из машины, побежал выяснять, что случилось.
— Господи Боже! — воскликнул он, перевернув тело. — Да ведь это проклятая стерва Иможен!
Дочь капитана приоткрыла затуманенный глаз.
— Арчи… — заплетающимся языком пробормотала она. — Не… могли бы… вы говорить… обо мне… повежливее?
— Что с ней такое? — крикнул из машины Дугал.
— Наверняка перебрала виски!
Сержант нагнулся к самому лицу Иможен и, принюхавшись, с удивлением обнаружил, что спиртным от нее не пахнет.
— Прошу вас, Арчи, ведите себя прилично — мы не одни, — с трудом прошептала мисс Мак-Картри.
Сержант отскочил от нее, как ошпаренный. Изумленный этим акробатическим номером Мак-Хантли подошел поближе.
— Что случилось? Она вас укусила?
— Почти!
Полицейские помогли Иможен встать, но колени у нее подгибались, и гордая шотландка повисла у них на руках.
— Да ну же, мисс Мак-Картри, что с вами?
— Не знаю. Я возвращалась с дороги к бедняге Ангусу и вдруг услышала, что за мной кто-то бежит. Очевидно, я обернулась не достаточно быстро, потому что тут же получила по голове. Удар был очень сильным — сперва я даже подумала, не рухнуло ли на меня дерево.
— Стукнувшись о череп горянки, оно наверняка разлетелось бы на тысячу кусков, — хмыкнул Мак-Клостоу.
Кому и зачем понадобилось нападать на Иможен? Бедняга инспектор впервые почувствовал, что окончательно запутался.
Подъехала машина Теда Булита. Оттуда выскочили сам хозяин «Гордого Горца» и доктор Элскотт. Врач первым долгом занялся Иможен и, отведя ее в сторону, тщательно ощупал голову. Вернувшись, он сообщил полицейским диагноз:
— Удар нанесен тупым предметом, или, выражаясь понятным языком, мисс Мак-Картри стукнули по голове.
— Знать бы только, какой подонок осмелился… — воскликнул Тед Булит, сжав кулаки.
Но шотландка примирительно махнула рукой.
— Прошу вас, не надо, дорогой Тед… хотя я очень тронута…
Все эти реверансы и дружеские излияния действовали Дугалу на нервы, но, памятуя о советах суперинтенданта насчет Иможен, он сдержал досаду.
— Садитесь в машину, доктор, нас еще ждет покойник, — проворчал инспектор.
— Вряд ли он куда-нибудь торопится.
Мак-Хантли не выносил каллендерской манеры подшучивать над тем, что ему самому внушало почтение, но опять-таки промолчал.
В овраге они и вправду нашли джип, однако тело Кёмбре исчезло. Лишь большая лужа крови на сиденье свидетельствовала о недавней драме. Что до Дженет Лидберн, то полицейские не обнаружили никаких следов ее пребывания в машине.
Глава 7
Все возвращается на круги своя
До сих пор Дугалу Мак-Хантли едва ли случалось приходить в такое исступление. Сначала он налетел на Иможен, но та послала его ко всем чертям. Тогда инспектор принялся за Булита, которому, мол, следовало сначала отвезти мисс Мак-Картри к джипу и лежащему в нем телу Кёмбре. Однако шотландка язвительно заметила, что не понимает намеков полицейского. Неужели он так огорчен, что ее не постигла судьба Ангуса? Сообразив, что от этих двоих он ничего не добьется, Дугал стал с горя отчитывать Мак-Клостоу, ибо сержант, по его мнению, постоянно витал в облаках, не замечая безобразий, творящихся у него под носом. Наконец доктор Элскотт восстановил спокойствие, заметив, что впервые в жизни имеет дело с покойником-непоседой.
Поравнявшись с гаражом Стоу, инспектор остановил машину, дабы со всей возможной деликатностью предупредить Ивена, что бедняга Ангус Кёмбре погиб преждевременной и совершенно непонятной смертью, Дженет Лидберн исчезла и лишь джип по-прежнему стоит на месте трагедии и Стоу может забрать его в любое время.
К удивлению Мак-Хантли, весть о гибели механика не особенно потрясла его хозяина.
— Так Ангус умер?
— Увы…
— Как — увы? Разве вы не собирались его повесить?
— Это не одно и то же!
— Только не для парня.
— Извините, мистер Стоу, но меня поражает ваше равнодушие. Я-то думал, вы относитесь к молодому человеку с большой симпатией…
— А вам какое дело?
— Прошу вас говорить со мной другим тоном!
— Тогда перестаньте меня донимать!
— Кстати, где вы были в момент убийства Ангуса Кёмбре?
— У своей приятельницы.
— Ее имя?
Ивен окинул его высокомерным взглядом.
— Мне казалось, вы джентльмен.
Мак-Хантли покраснел и торопливо сел в машину — урок его пристыдил, а черствость Стоу просто шокировала. Но у Фионы Рестон инспектора ждал еще худший прием. Узнав о трагической смерти молодого человека, вдова спокойно проговорила:
— История, конечно, очень печальна, но я совершенно не понимаю, почему вы решили рассказать ее мне.
Потеряв всякую власть над собой, Дугал рявкнул:
— Потому что Ангус Кёмбре был вашим любовником!
Миссис Рестон вскочила.
— Вон отсюда!
— Я видел, как вы обнимались в овраге у Торнхилла!
— Вам бы не мешало сходить к психиатру. Убирайтесь!
Бредя по улице, Мак-Хантли тщетно ломал голову, недоумевая, то ли все жители Каллендера не в своем уме, то ли элементарные нормы морали не для них писаны.
Зато Лидберны отреагировали на сообщение Дугала, как самые простые смертные. Оба энергично высказали все, что думают о бездарности полиции, и миссис Лидберн, пока ее супруг объяснялся с Мак-Хантли, стала в отчаянии ломать руки, оплакивая судьбу любимой дочери. Несчастная мать уже явственно представляла себе ее истерзанное, бездыханное тело. Под градом упреков и обвинений инспектор поспешно отступил.
В ближайшие пять-шесть дней полицейские развили бурную деятельность, подключив к поискам коллег со всего графства, но обнаружить трупы Дженет Лидберн и Ангуса Кёмбре им так и не удалось. А поскольку «неуловимые» покойники мало кого волнуют, после того как бой-скауты Перта и Демблейна безрезультатно прочесали всю округу, пресса окончательно утратила интерес к бесследно исчезнувшим молодым людям. Через неделю после убийства Кёмбре суперинтендант отозвал Мак-Хантли в Перт, и все искренне поверили, что расследование закончено, а Дженет, Ангус и Рестон так и останутся неотомщенными. Лидберны надели траур. Жизнь в Каллендере вернулась в прежнюю колею.
Две недели спустя Мак-Хантли, настолько убитого неудачей, что большая часть его прежней самоуверенности бесследно исчезла, вызвал к себе суперинтендант. Инспектор угрюмо поплелся к шефу.
— Садитесь, Мак-Хантли… Вопреки тому, что вы, очевидно, вообразили, я вовсе не отказался от намерения разобраться в каллендерских загадках, но, коль скоро расследование по горячим следам ничего не дало, решил подождать, пока все немного остынут.
— Вы хотите заново начать расследование?
— А я и не думал его прекращать!
— Но убийца, наверное, уже далеко…
— Сомневаюсь, инспектор. Это преступление (или преступления) сугубо местного характера, и, готов прозакладывать месячное жалованье, виновный спокойно прогуливается по Каллендеру в полной уверенности, что его подвиги нас больше не интересуют. Доказав, что это не так, мы его очень удивим и, возможно, деморализуем.
— Но я искал повсюду, сэр, и не нашел ни малейших следов, а единственного подозреваемого убили!
— Вы уверены?
— Простите, не понял…
— Не мне вас учить, что, пока не найден труп, мы не можем считать человека мертвым. Для этого нам необходимо либо заключение медицинского эксперта, либо приходится ждать много лет. Лишь в том случае, если за это время наш объект не подаст никаких признаков жизни, мы получаем право объявить его покойником.
— Однако…
— Пораскиньте мозгами, инспектор. Кто видел труп Ангуса Кёмбре? Иможен Мак-Картри!
— О, эта женщина!..
— И у нас нет доказательства, что она сказала правду.
— Но как заставить ее признаться?
— Если мисс Мак-Картри действительно солгала, гораздо разумнее попытаться понять, зачем. Кроме того, обратите внимание, что она ни словом не обмолвилась о Дженет Лидберн… А кой черт понес парня в овраг без Дженет или Фионы Рестон?..
— Но чего ради им понадобилось устраивать такую комедию?
— Именно это нам теперь и предстоит выяснить.
— Боюсь, такая задача мне не по зубам, сэр…
Суперинтендант отмел это горькое признание.
— С тех пор как вы вернулись, Мак-Хантли, я внимательно изучил досье об убийстве Хьюга Рестона и таинственном исчезновении обоих молодых людей. И меня поразила одна вещь: в событиях так или иначе замешано всего несколько человек — Рестоны, Лидберны, мисс Мак-Картри, Ивен Стоу и верные рыцари нашей неукротимой воительницы Тед Булит и Уильям Мак-Грю. Можно назвать еще Гленрозесов, но это, видимо, чисто эпизодические персонажи. Доктор Элскотт вряд ли принимал серьезное участие в перипетиях драмы, в крайнем случае лишь немного помог кому-то.
— А нельзя ли узнать, к какому выводу вы пришли, сэр?
— Что убийцу надо искать среди этих людей.
— Невозможно!
— Почему?
— Но… все они почтенные, хорошо известные в городе граждане…
— Это ничего не доказывает.
— По-моему, там одна мисс Мак-Картри способна кого-то убить, да и то лишь из политических соображений.
— Вы, наверное, удивитесь, инспектор, но я почти уверен, что Иможен Мак-Картри гораздо ближе нашего подошла к разгадке тайны и, если до сих пор она еще не знает имени преступника, то, во всяком случае, вот-вот докопается до истины. Я хорошо знаю мисс Мак-Картри, инспектор, и, пока мы с вами раздумываем, она наверняка действует — пускай неправильно и путанно, но зато ни в коем случае не сидит сложа руки. И, честно говоря, я очень боюсь, как бы в результате мы не получили еще один труп.
— Чей?
— Ее собственный. Именно поэтому вы завтра же вернетесь в Каллендер.
— И с чего вы посоветуете начать, сэр?
— Во-первых, вам надо поближе приглядеться к участникам и зрителям драмы: Лидбернам, Гленрозесам и Рестонам. Например, потолкуйте с их банкирами — порой банковский счет весьма красноречиво говорит о характере владельца. Затем попытайтесь разгадать тайну некоторых странных совпадений. Скажем, почему разговаривать с Кёмбре пошел Рестон, а не Лидберн? Откуда ехал Тед Булит, когда он так вовремя встретился на дороге с мисс Мак-Картри, чтобы сообщить вам об убийстве Кёмбре? Где находился самый загадочный из всех персонажей пьесы — Ивен Стоу, — когда его протеже с возлюбленной столь внезапно растворились в воздухе. На вашем месте, Мак-Хантли, я бы всерьез покопался в прошлом мистера Стоу. Какова истинная причина его бегства из Каллендера двадцать с лишним лет назад? Я приказал доставить мне его военное досье. Там — сплошняком превосходные характеристики. Записался в армию добровольцем в восемнадцать лет и три месяца. Так что с военной службой все ясно, можете не тратить время попусту. Повидайтесь лучше с директором Пембертонского колледжа. Двадцать пять лет назад он там уже работал, а до этого колледж возглавлял его отец. И держите меня в курсе дела.
Вопреки ожиданиям Дугала, его возвращение в Каллендер, по-видимому, никого особенно не взволновало, и полицейский почувствовал себя глубоко уязвленным. Он надеялся встревожить противников, но ощущал лишь весьма поверхностное любопытство. Мак-Пантиш сказал, что очень польщен вниманием инспектора к его гостинице. В «Гордом Горце» Тед Булит предложил выпить стаканчик, заявив, что вполне понимает, почему Дугал снова приехал в Каллендер — нигде в мире не найдешь такого отличного виски. А как всегда стоявший на пороге своей лавочки Мак-Грю поздоровался с самым любезным видом.
— Что, соскучились по Каллендеру? — только и спросил он.
Миссис Рестон показалась Мак-Хантли помолодевшей лет на десять, и выглядела она красивее и элегантнее, чем когда бы то ни было. Зато в довольно невежливо проводившей его взглядом черной фигуре Дугал с трудом узнал миссис Лидберн, несчастную мать Дженет. Наконец, в мелочной лавке, куда он зашел купить новый стержень для ручки, Мак-Хантли столкнулся с Иможен Мак-Картри.
— Инспектор! Как я рада вас видеть! Так вы, значит, еще не потеряли надежду изловить убийцу?
— Вы же знаете, мисс, полиция никогда не отступается.
— Однако я думала, вы закрыли дело.
— Признайте в таком случае, мисс, что порой и вы совершаете ошибки.
— Да, но я хотя бы никогда не упорствую в заблуждениях. А вот вы упрямо отказываетесь поверить, что преступник — Лидберн.
— По-вашему, он мог убить своего шурина Рестона и родную дочь?.. Вероятно, этот тип совершенно лишен родственных чувств, а?
— Я вижу, вы все так же тупы и самоуверенны, инспектор.
— А вы — тщеславны и ограниченны!
Перепалка уже начала привлекать внимание других покупателей, и Дугал почел за благо ретироваться.
Мак-Клостоу и Тайлер приняли инспектора без особого энтузиазма, ибо с увлечением разыгрывали партию в джинрамми, и побежденный должен был выставить бутылку виски.
— Я вам не очень помешал, джентльмены?
Полицейские, с сожалением оторвавшись от карт, встали.
— Значит, вы снова здесь, инспектор? — пробормотал сержант.
— Вам это неприятно?
— Мне? С чего бы это? Насколько я знаю, я никого не убил и не ограбил.
— Равно как, впрочем, и не арестовали кого бы то ни было!
Молодой человек начинал всерьез действовать Мак-Клостоу на нервы, а когда сержант злился, невозможно было предсказать, что он вытворит.
— Ну, это касается не одного меня! Меж тем, я самый обычный полицейский в форме!
Мак-Хантли вовсе не хотел ссориться с каллендерскими служителями закона и уже пожалел, что дал волю дурному настроению.
— Прошу прощения, если обидел вас, сержант, — примирительно сказал он, — но я только что столкнулся с мисс Мак-Картри, и она совершенно вывела меня из равновесия. Невыносимая женщина!
Смягченный этим изъявлением общей для них обоих враждебности, Арчибальд кивнул.
— Ну, вам по крайней мере не приходится видеть ее круглый год!.. Может, в вашем арсенале законов найдется что-нибудь такое, на основании чего мы сумели бы навсегда выдворить чертову ведьму из Каллендера, инспектор?
— Увы, нет! Сначала надо, чтобы мисс Мак-Картри совершила очень тяжкий проступок и попала в тюрьму.
— Ну, это уж слишком! — возмутился Тайлер, как известно, испытывавший к Иможен давнюю и глубокую привязанность.
— Мне кажется, вы позволяете себе недопустимо вольничать с дисциплиной, Сэмюель Тайлер! — осадил его сержант. — Кто вам разрешил вмешиваться в разговор начальства? Это что, бунт? Впрочем, я давно подозревал вас в анархизме…
— Лучше быть анархистом, чем идиотом, сэр!
— Ах вот как? Значит, вы признаетесь? А кого же вы обозвали идиотом?
— Никого. Это обобщения, шеф.
— Да хватит вам препираться, — нетерпеливо заметил Дугал. — Лучше скажите мне, как доехать до Пембертонского колледжа, сержант. Вы там бывали?
— Еще бы! [334]
Арчибальд объяснил Мак-Хантли, как добраться до Пембертона и, когда тот уехал, снова повернулся к Тайлеру.
— Воспользуйтесь этой передышкой, Сэм, и сбегайте за бутылкой, которую вы мне проиграли!
— Но мы ведь еще не закончили партию, шеф!
— Не отлынивайте, Сэм! Разве счет был не в мою пользу?
— Несомненно, но…
— Никаких «но»! Если партию приходится прервать, победителем считают того, кто набрал больше очков. Просто, ясно и логично. Идите, Сэм, я вас подожду и с удовольствием выпью за ваше здоровье.
— Я не согласен, шеф!
Мак-Клостоу с горькой обидой поглядел на помощника.
— Так вы еще плюс ко всему не умеете проигрывать, Сэм?..
— Я не считаю себя проигравшим!
— Вы меня очень огорчаете, Сэм, и…
— Сожалею, шеф!
— Молчите, когда говорю я! Вы просто-напросто недостойны формы, которую носите! Вы ее обесчестили! Я предупреждаю вас по-дружески, чтобы вы поскорее исправились… Вы не имеете права пятнать честь полиции, гордости всего Соединенного Королевства! Понятно?
— Нет.
— Ага… Притворство и двуличие… Ну, в последний раз спрашиваю, Тайлер: признаете вы себя побежденным или нет?
— Нет.
— Превосходно! Раз так, дайте мне свое досье — я сделаю в нем пометку о вашем недостойном поведении!
— Сами возьмете, коли на то пошло!
— Еще того не легче! Вы озлобленный человек и мятежник, Тайлер!
— Ладно, пойду погляжу, что делается в Каллендере.
— Я запрещаю вам!
— Вы не имеете права мешать мне выполнять свой долг!
— Ваш долг — поскорее принести мне проигранную бутылку!
— И не подумаю! Во-первых, мы так и не доиграли, а во-вторых, вы передергивали!
— Я?! И вы смеете оскорблять старшего по чину?!
— Правды боятся только трусы и дураки!
Мак-Клостоу, побагровев до корней волос, приблизился к подчиненному.
— Тайлер! — угрожающе прорычал он. — Вот уже второй раз за время разговора вы упоминаете о неких идиотах и дураках… Уж не возникло ли в вашем анархистском уме противоестественной связи между означенными особями и сержантом Арчибальдом Мак-Клостоу? Подумайте хорошенько и отвечайте, Тайлер! Скажете «да» — я разобью вам морду, а — «нет» — так я назову вас проклятым лжецом и опять-таки разобью морду! Так что поосторожнее! Ну, я жду ответа!
Полисмен вытянулся по стойке смирно и во всю силу легких гаркнул:
— Смерть тиранам!
И прежде чем Арчибальд успел опомниться от удивления и ужаса, в которые его повергло столь неожиданное заявление констебля, тот сделал безупречный поворот на 180 градусов из кабинета.
В Пембертонский колледж Мак-Хантли пришлось ехать мимо гаража Ивена Стоу. Он остановился у бензоколонки и попросил залить полный бак. Стоу, казалось, совершенно забыл об их прежних стычках.
— Вернулись отдохнуть в наш прекрасный Каллендер, инспектор? — с самым гостеприимным видом осведомился он. — Так я и думал, что в конце концов вы полюбите наш городок!
— Зато мне не очень-то по душе его жители!
— Ба! Они не хуже и не лучше, чем везде.
— Неправда, мистер Стоу! Их безразличие к ближним шокировало бы даже варваров с континента! Женщина, потерявшая мужа и любовника, ведет себя так, будто это сущие пустяки!
— Ну, знаете, женщины вообще странные создания…
— А что вы скажете о
хозяине, который с полным равнодушием относится к гибели любимого помощника, мистер Стоу?
— Коли вы имеете в виду меня, инспектор, могу вам ответить одно: раз Кёмбре решил бросить работу, с чего бы мне особо печься о его судьбе?
— Занятная психология!
— В моем возрасте поздно меняться. К тому же не понимаю, вам-то что за дело до моих чувств?
— Они интересуют меня лишь в той мере, в какой имеют отношение к расследованию, мистер Стоу. Я должен найти убийцу, хотя здесь, похоже, это никого не волнует.
— А почему мы должны делать за вас работу?
— Такой невероятный цинизм только увеличивает мои подозрения на ваш счет, мистер Стоу.
— Тут уж я бессилен, инспектор.
Директор Пембертонского колледжа принял Дугала с утонченной вежливостью, свойственной выходцам из Оксфорда и Кембриджа. Он проводил гостя в строго и со вкусом обставленный кабинет, усадил под портретом основателя колледжа, мистера Пембертона — аристократического вида господина с бородкой «а-ля Линкольн», — налил ритуальный бокал виски и опустился в директорское кресло.
— Не в моих привычках поддерживать тесные отношения с полицией, инспектор. Не то чтоб я презирал людей вашей профессии — совсем наоборот! — просто мы вращаемся в разных сферах. Впрочем, это нисколько не мешает мне питать глубочайшее уважение к мистеру Копланду, тем более что мы с ним познакомились при самых трагических обстоятельствах — несколько лет назад в колледже произошло убийство… я тогда долго не мог оправиться от потрясения. Однако, полагаю, вы пришли сюда не из-за этой давней истории?
Старик любил поговорить и явно любовался своим ораторским искусством.
— Нет, господин директор, вовсе нет. Тем не менее я был бы вам премного обязан, если бы вы согласились поделиться со мной кое-какими воспоминаниями.
— Но зачем?
— Например, меня очень интересует, помните ли вы те времена, когда в вашем колледже учились Хьюг Рестон, Кит Лидберн и Дермот Гленрозес.
Суровое лицо директора озарила улыбка.
— Это было так давно, инспектор… Помню ли я четырех мушкетеров? Еще бы мне их не помнить! Они были почти неразлучны: один за всех и все за одного!
— Четырех? А кто же четвертый?
— Д'Артаньян, или Ивен Стоу. Гленрозес был Портосом, Лидберн — Атосом, Рестон, самый хитрый из всех, — Арамисом.
— Должно быть, ваши питомцы сохранили эту дружбу навсегда, потому что и теперь в полном согласии живут в Каллендере, только сейчас их осталось трое…
— Да, я слышал печальную новость… Тем не менее позволю себе заметить, что Хьюг Рестон вызывал у меня наименьшие симпатии. Он с такой холодной безжалостностью терроризировал «желторотиков»… Несколько раз мне даже пришлось вмешаться. А однажды я вообще чуть не выгнал парня из колледжа, да упросили трое остальных. Представляете, Рестон требовал с младших учеников платы за покровительство! Самый настоящий шантаж! Нет, инспектор, что ни говори, Хьюг Рестон не был джентльменом.
— А остальные?
— Самый умный и способный — Стоу, наиболее ограниченный — Лидберн. Гленрозес и Рестон, закончив мой колледж, поступили в университет, Лидберн, унаследовав от отца мясную лавку, занялся торговлей…
— А Стоу?
— Предпочел записаться в армию рядовым.
— Довольно странно для, по вашим же словам, одаренного юноши, правда?
Директор явно смутился.
— Мне бы не хотелось ворошить старые и давно забытые истории…
— Уверяю вас, я спрашиваю отнюдь не из праздного любопытства.
— Не сомневаюсь… Ну ладно… Стоу завел бурный роман с одной ученицей, Элспет Келмингтон… Девочка тоже приехала к нам из Каллендера. В то время ей не исполнилось еще и шестнадцати лет. Представляете, каким это грозило скандалом, когда выяснилось, что Элспет беременна?
— И Стоу бросил подружку?
— По правде говоря, его вынудили к тому обстоятельства…
— Каким образом?
— Мне очень не хочется об этом говорить… Но, надеюсь, разговор останется строго между нами?
— Несомненно, если только мне не придется использовать эти сведения в суде.
— Естественно… ну, так вот… Стоу — из небогатой семьи. К тому времени его родители, мелкие коммерсанты, уже умерли. А эта любовная история, вероятно, требовала денег… Так или иначе, из нашей кассы исчезло двести фунтов. Мне неприятно об этом говорить, но деньги нашлись среди белья Стоу.
— Но ведь, наверное, у вас не было доказательств, что он сам их туда положил?
— Так я сперва и подумал, но трое остальных мушкетеров выдали Стоу.
— Довольно неожиданный поступок для таких близких друзей, вам не кажется?
— По их мнению, Стоу нарушил кодекс чести, а в таком возрасте юноши особенно щепетильны, поэтому они исключили его из своего круга.
— А кто донес на Стоу?
— По-моему, Хьюг Рестон, но двое других пришли вместе с ним.
— И как на это отреагировал Стоу?
— Удрал из колледжа, и со временем мы узнали, что бедняга записался в экспедиционный корпус.
— А что сталось с девушкой?
— Сначала родители забрали ее домой, потом отправили к какой-то родственнице в Перт. Насколько мне известно, в дальнейшем Элспет вышла замуж.
Дугал возвращался в Каллендер очень довольный тем, что ему удалось узнать. Легкую досаду вызывала лишь мысль о соблазненной Стоу девушке — напрасно он не расспросил о ней подробнее. Впрочем, директор колледжа наверняка не стал бы распространяться на эту тему. Теперь оставалось выяснить, не отомстил ли Стоу Рестону за давнюю обиду, если «мушкетеры» нарочно его подставили. Проще всего было поговорить с самим Ивеном.
Хозяин гаража выслушал просьбу полицейского уделить ему несколько минут со свойственным ему хладнокровием.
— Валяйте, я вас слушаю.
— Первый вопрос: кем вы хотели стать в те времена, когда обстоятельства заставили вас покинуть Пембертон?
— Адвокатом.
— Значит, это было для вас большим разочарованием?
— Очень большим.
— А почему вы сбежали?
— Потому что был зеленым юнцом и боялся полицейских. Сейчас — другое дело.
— К тому же вам пришлось расстаться еще и с мисс Элспет Келмингтон?
— Я вижу, вам удалось разговорить милейшего старину директора? — хмыкнул Стоу.
— А где теперь ваша Элспет?
— Забудьте о ней. Мисс Келмингтон вышла замуж и решительно ни в чем не виновата.
— Вы ее любили?
— Всю жизнь.
— И даже теперь?
— Да, и теперь.
Спокойная уверенность Ивена произвела на Мак-Хантли сильное впечатление.
— Можно мне задать вам один деликатный вопрос?
— По-моему, вы и так не стесняетесь…
— Мистер Стоу, это вы украли двести фунтов, которые потом нашли среди ваших вещей?
— Нет.
— А вам известно, кто это сделал?
— Хьюг Рестон.
— Но почему он так хотел вас скомпрометировать?
— Хьюг меня ненавидел.
— Из-за чего?
— Ну, допустим, он мне завидовал.
— Что, вашим успехам в учебе?
— Да, в частности и успехам.
— Так это вы, мистер Стоу, убили Рестона в отместку за тогдашнюю подлость?
— Нет. Лет десять назад я, может, и прикончил бы его, но не сейчас. Прошло слишком много времени…
— Не знаю, поверите ли вы мне, мистер Стоу, но я от души хотел бы, чтобы это оказалось правдой, — совершенно искренне признался инспектор.
Проезжая мимо мэрии, Мак-Хантли подумал, что неплохо бы попытаться узнать о дальнейшей судьбе Элспет Келмингтон. Он оставил машину на стоянке и пошел в отдел регистрации актов гражданского состояния. Инспектора встретил Алистер Легборн, чемпион округа по метанию стрелок. Он принес полицейскому регистрационные книги за нужные годы и стал с любопытством наблюдать за его работой, в глубине души обижаясь, что Дугал отверг предложенную помощь. Очень скоро инспектор нашел запись, ради которой и заглянул в мэрию: «Элспет-Майри-Фиона Келмингтон, родилась в Каллендере 5 января 1936 года, вышла замуж за Хьюга-Чарльза-Лайонела Рестона 12 марта 1952 года».
Мак-Хантли побежал к машине. Сердце у него бешено колотилось. Победа! Наконец-то он знает убийцу Хьюга Рестона и Ангуса Кёмбре! Оставалось как можно скорее поделиться новостью с Копландом, и Дугал помчался в полицейский участок, к телефону.
Однако при виде Мак-Клостоу он замер от удивления: физиономия сержанта, во всяком случае значительная ее часть, приобрела цвет зрелого баклажана, а распухший нос бесформенной грудой нависал над губами.
— Господи, сержант, что с вами стряслось?
— Ничего. А в чем дело?
— Но ваше лицо…
— А-а-а… у нас тут был небольшой спор…
— Невероятно!
— Да, мы с Тайлером не сошлись во мнениях насчет кое-каких его слов. Впрочем, это, естественно, ни в коей мере не касается службы.
— О, еще бы! А что вы прячете за спиной?
— Бутылку… самую обыкновенную бутылку.
— Это, случайно, не виски?
— Как вы догадались, инспектор?
— Вы что, издеваетесь надо мной, Мак-Клостоу?
— Ничуть, я всегда с уважением относился к начальству! А эту бутылку добровольно или, во всяком случае, почти добровольно подарил мне мой друг Тайлер — таким образом он в конце концов признал, что напрасно отказывался платить, проиграв пари.
— Так вы еще и игрок! Знаете, кто вы такой, сержант?
— Шотландец!
— А где сейчас ваш «друг» Тайлер? Вероятно, на дежурстве в городе?
— Не совсем…
— Ах, не совсем? И где же он?
— Понимаете… э-э-э… короче, у меня в комнате.
— А что он там делает?
— Отдыхает…
— В такое время?!
— Честно говоря, Сэму это совершенно необходимо…
Не слушая дальнейших объяснений, Мак-Хантли бросился к лестнице, ведущей на второй этаж, промчался по ступенькам, распахнул дверь и невольно вскрикнул от удивления.
Сэм Тайлер, одетый, лежал на постели, а Иможен Мак-Картри заботливо меняла компресс у него на лице.
— Что вы здесь делаете, мисс? — рявкнул Дугал.
— А, инспектор! Добрый день… Я помогаю Сэму прийти в себя.
— Вы что ж, решили стать сиделкой?
— Нет, но Сэм — мой старинный друг. Я заглянула сюда по чистой случайности и вдруг вижу, эти джентльмены с превеликим ожесточением… спорят… Ну, вы ведь меня знаете, инспектор? Я не могла не вмешаться…
— Вы меня поражаете, мисс! — иронически бросил Мак-Хантли.
— В результате я получила великолепный удар левой, предназначавшийся Мак-Клостоу, ну и джентльмены, заметив, что я упала, сразу прекратили спор и начали приводить меня в чувство. А теперь моя очередь им помочь, разве это не естественно?
— О, разумеется! И то, что стражи порядка, наплевав и на закон, и на приличия, устраивают драку из-за бутылки виски! И то, что барышня, которую возраст, казалось бы, должен был уберечь от такого рода развлечений, получает по голове не где-нибудь, а в участке!.. Да, с какой стороны ни глянь, просто замечательно! Можно не сомневаться, что, узнай об этом начальство, полицейские Каллендера и их друзья заработали бы медаль за примерное поведение!
— Не будь вы в каком-то смысле выродком, инспектор, знали бы, что шотландцев, особенно уроженцев Горной страны, сама кровь всегда подталкивает в бой!
— Спасибо за «выродка», мисс, но, если не ошибаюсь, Мак-Клостоу не горец?
Иможен ласково улыбнулась Арчибальду.
— По-моему, он им становится потихоньку.
Сержант, вне себя от счастья, поклонился.
— Спасибо, мисс Иможен.
— Ну, в конце концов, коли вам нравится колотить друг друга, — дело ваше… — буркнул Мак-Хантли. — А вы что скажете, Тайлер?
Констебль с помощью добровольной сиделки поднялся на ноги.
— К вашим услугам, инспектор!
— Как? В таком состоянии?
Распухшие веки Сэма не поднимались, и, чтобы взглянуть Дугалу в глаза, ему пришлось запрокинуть голову.
— Я прекрасно себя чувствую, сэр.
— Ну, как хотите. В любом случае предупреждаю, что вы оба должны быть в отличной форме, ибо я твердо намерен поставить точку в расследовании, ради которого меня направили в Каллендер.
Иможен, отпустив Сэма, быстро подошла к детективу.
— Вы уже знаете имя убийцы?
— Ивен Стоу!
Мисс Мак-Картри, пожав плечами, отошла. Тайлер с Мак-Клостоу тоже выслушали сообщение без должного интереса.
— Вы мне не верите? — сердито осведомился инспектор.
Все трое промолчали, и Мак-Хантли начал пересказывать историю пембертонских «мушкетеров».
— Стоу убил Рестона из мести, равно как и Кёмбре, — подытожил он, — и у меня есть тому доказательство. Вы ведь, наверное, не знаете, как теперь зовут Элспет Келмингтон?
— Фиона Рестон, — в один голос ответила троица.
Дугал задохнулся от возмущения.
— И вы об этом знали?!
За всех ответила Иможен:
— Это известно каждому жителю Каллендера, инспектор, и очень давно.
Мак-Хантли в бешенстве повернулся к сержанту.
— Так почему вы мне раньше не сказали?
— Но вы же не спрашивали!
Дугал махнул рукой и, сбежав по лестнице, бросился звонить суперинтенданту.
— Странно, что вы не выяснили этого раньше, — заметил Копланд, услышав, что вдова Рестона когда-то была возлюбленной Стоу.
— Это оттого, что меня окружают дураки!
— Мак-Хантли…
— Да, сэр?
— Помните, я говорил вам, что, возможно, над вами слегка потешаются?
— Да, сэр, но, клянусь вам, теперь им станет не до смеху!
— Осторожно, инспектор… Не торопите события. И прежде всего найдите доказательства.
— Но мне кажется, сэр, Стоу имел достаточно веские основания убить Рестона?
— На первый взгляд вроде бы так…
— Честно говоря, я не понимаю вас, сэр…
— Как давно он вернулся в Каллендер?
— Три года назад.
— И вас не смущает, что парень целых три года сидел спокойно, а потом вдруг решил отомстить?
— Очевидно, до сих пор ни разу не подвернулось удобного случая…
— Ну, при желании за три-то года он мог бы что-нибудь придумать, а? Повторяю вам, Мак-Хантли: будьте осторожны… разве что Стоу сам признается в преступлении.
— Завтра же я об этом позабочусь!
Глава 8
Мак-Хантли наконец понимает Каллендер
Большую часть утра Дугал разрабатывал стратегию будущего допроса, подбирая самые жесткие, самые хитрые и заковыристые ловушки в надежде, что это испытанное средство поможет ему загнать Стоу в угол. Из «Черного Лебедя» он вышел бодрым шагом, ничуть не сомневаясь в победе. Решив, что стаканчик доброго виски еще больше поднимет его боевой дух, инспектор заглянул по дороге в «Гордого Горца». Теда Булита на обычном месте у стойки не оказалось, но миссис Булит объяснила полицейскому, что ее супруг поехал навестить тетю в Икклфичен, графство Дамфрис. В этом, разумеется, не было ничего странного, но Дугал, сам не зная почему, внезапно почувствовал, что его прекрасное настроение слегка омрачилось.
Проходя мимо бакалейной лавки, полицейский раскланялся с миссис Мак-Грю — сегодня у порога вместо Уильяма стояла она.
— Как поживаете, миссис Мак-Грю?
— Я всегда чувствую себя превосходно, когда моего супруга нет поблизости.
— Разве мистер Мак-Грю не дома?
— Как же, станет он тут сидеть! Укатил куда-то пьянствовать с Тедом Булитом, и только один Господь ведает, когда этот бездельник вернется и в каком виде!
Мак-Хантли не смог бы объяснить, почему ему вдруг стало так тревожно и куда девался весь утренний оптимизм. Он торопливо сел в машину и поехал в гараж Стоу. Но двери гаража, как и бензоколонка, были заперты. Импровизированная табличка оповещала возможных клиентов, что хозяин не вернется до вечера. Ситуация прояснялась. Инспектор почуял какой-то сговор, хотя толком не понимал ни в чем его суть, ни каковы цели. Интуиция заставила его поскорее отправиться к мисс Мак-Картри. Дверь, как всегда открыла миссис Элрой, и Дугал узнал, что ее хозяйка в отъезде.
— И куда же она поехала? Случайно, не в Икклфичен? — с иронией спросил полицейский.
— Не знаю. А знала бы — так все равно не сказала.
Розмери не умела врать, и Мак-Хантли понял, что Иможен сейчас тоже гуляет по графству Дамфрис. Значит, те, кого инспектор не без основания считал заговорщиками, что-то затеяли, но что — этого он пока не знал.
Вернувшись в Каллендер, Мак-Хантли быстро убедился, что Лидберн и Гленрозес на месте, зато миссис Рестон отправилась в путешествие, оставив аптеку на попечение продавца. Инспектор больше не питал никаких иллюзий: по неизвестной причине и с не менее таинственными намерениями вся компания перебралась из Каллендера в Икклфичен. Но с чего их понесло именно туда?
Дугал поехал в участок. Увы, сержант Мак-Клостоу тоже не смог найти на этот вопрос вразумительного ответа. А Тайлера вообще не было на месте, — он на весь день отпросился у шефа.
— Под каким предлогом?
— У Сэма тяжело заболела дальняя родственница.
— А вы не знаете, где она живет?
— Точно не скажу… вроде бы где-то на юге…
— Случайно не в графстве Дамфрис?
— Да, так и есть, теперь припоминаю…
— Так, значит, несчастная больная живет в Икклфичене?
— Ну и ну! Интересно, как это вы догадались?
Мак-Хантли так и подскочил на месте.
— Они издеваются надо мной, Мак-Клостоу! Слышите? Из-де-ва-ют-ся! Но, Богом клянусь, я этого так не оставлю! Собирайтесь, сержант, мы тоже едем в Икклфичен!
Осторожности ради Дугал решил предупредить суперинтенданта, что ему надо съездить на юг. Копланд выслушал рассказ с ледяным спокойствием.
— Прошу вас, подождите немного, — сказал он, когда Мак-Хантли умолк.
Прошло несколько минут. Наконец в трубке снова послышался голос суперинтенданта:
— Так вы сказали, Икклфичен, верно?
— Да.
— А у вас под рукой нет карты?
— Нет.
— Так вот, инспектор, имейте в виду. Икклфичен всего в нескольких милях от Гретна-Грин[335].
— Ну и что?
Копланд весело рассмеялся.
— Поезжайте в Икклфичен, инспектор. И, либо я сильно ошибаюсь, либо вас ждет большой сюрприз. Желаю приятно провести вечер.
Мак-Хантли совсем перестал понимать суперинтенданта, чье более чем своеобразное чувство юмора все больше действовало ему на нервы.
По дороге в Икклфичен Дугал еще раз заглянул в «Гордого Горца» и попросил у миссис Булит адрес тетки ее мужа. Почтенная дама жила на улице Локерби, 132 и звалась Эннабель Физем.
Когда Мак-Клостоу и Дугал приехали в Икклфичен, уже стемнело, но они без труда нашли дом миссис Физем — оттуда на всю улицу разносились песни и смех. Полицейские с недоумением поглядели друг на друга, и Мак-Хантли, сжав кулаки и стиснув зубы, резко дернул дверной колокольчик. Дверь открыл благоухающий виски и блаженно улыбающийся Тед Булит.
— Инспектор! Как это мило с вашей стороны… Мы как раз только что о вас говорили… ну, и очень смеялись…
— Ах, вы смеялись, да?
Мак-Хантли решительно отодвинул Теда и вместе с сержантом проследовал в комнату, из которой слышались крики и хохот. Глазам его предстала развеселая компания. Здесь были все, кто утром уехал из Каллендера. И вдруг у инспектора Дугала Мак-Хантли глаза полезли на лоб: во главе стола, нежно обнявшись, сидели Ангус Кёмбре и Дженет Лидберн, а Ивен Стоу и Фиона Рестон с нежностью взирали на эту картину. Что до Мак-Клостоу, то, узрев среди пирующих своего помощника, он мгновенно вскипел.
— Тайлер! Вы переметнулись на сторону врага! Теперь вас ждет не только отставка, но и тюрьма!
Иможен Мак-Картри, сидевшая на самом видном месте и, очевидно, председательствовавшая на дружеской пирушке, крикнула:
— Не валяйте дурака, Арчи! Идите-ка лучше сюда и выпейте за здоровье молодых!
Мак-Клостоу очень любил такого рода предложения и никогда не отказывался, но на сей раз не успел взять протянутого бокала, инспектор призвал его к порядку.
— Минуточку, Мак-Клостоу! Прежде всего пусть мне объяснят, что здесь происходит!
Стоу поднялся со стула.
— Инспектор, позвольте вам представить моего сына — Ангуса Кёмбре Стоу…
— Вашего сына?!
— …и его жену — Дженет Кёмбре Стоу. Они обвенчались сегодня утром в Гретна-Грин.
Мак-Хантли почудилось, будто он опять слышит приглушенный смех суперинтенданта.
— А это Фиона Рестон, которая скоро станет миссис Стоу. Таким образом, мать и отец поженятся после сына. Оригинально, правда?
— Я очень хотел бы поздравить вас всех, мистер Стоу, но, к несчастью, вы ввели следствие в заблуждение, а это крайне опасная игра…
— В чем же мы вас обманули?
— Разве не вы убедили меня, что Ангус Кёмбре убит?
— Я? Вы меня удивляете, инспектор!
Иможен сочла своим долгом вмешаться.
— Об убийстве заявила я, инспектор, но, поверьте, без всякого злого умысла. Я видела, как Ангус сидит в машине, опустив измазанную кровью голову на руль… Подойти поближе я не рискнула и в ужасе помчалась к вам, а встретив Булита, рассказала то, что сама считала правдой… Право, инспектор, в мои намерения вовсе не входило вас обманывать.
Дугалу страшно хотелось вцепиться ей в волосы и хорошенько стукнуть головой об стенку — он в жизни не слыхал такого наглого вранья. Детектив еще раз обвел комнату взглядом, ища, кому бы отплатить за унижение, и наконец решил заняться Кёмбре.
— А вы что скажете? Для чего вы устроили эту комедию в овраге у Торнхилла?
— Никакой комедии я не устраивал, инспектор. Просто я застрелил куропатку и случайно испачкался ее кровью. А все из-за того, что у джипа заглох мотор. Дженет бросилась за подмогой — сами понимаете, мы спешили удрать подальше от Каллендера и от родителей моей невесты. Поэтому, когда Дженет нашла парня, направлявшегося в сторону Икклфичена, мы сразу уехали, бросив джип в овраге.
Разумеется, Ангус тоже бессовестно врал. Но, поскольку Мак-Хантли все равно не смог бы этого доказать, ему оставалось лишь повернуться на каблуках и, отклонив предложение хозяев выпить, навсегда покинуть этот дом. У Мак-Клостоу, разочарованного тем, что ему не дали принять участия в пиршестве, совсем испортилось настроение.
— Сэм Тайлер! Завтра утром я жду вас в участке. Прежде чем отослать в Перт соответствующий рапорт, мне хотелось бы выслушать ваши объяснения.
Дугал уже вышел из комнаты, и Мак-Клостоу направился следом, но его окликнул Ивен Стоу:
— Ловите, Арчибальд!
Сержант на лету поймал брошенную хозяином гаража бутылку виски. Физиономия его мигом просветлела.
— Забудьте обо всей этой истории, Арчи, и помните только, что вы теперь почти горец! — добавил Стоу.
Сержант хитро подмигнул.
— Не обращайте внимания на мои слова, я говорил не для вас, а для того мальчишки, — проворчал он.
И под громовое «ура», отголоски которого, вероятно, докатились до самых дальних пределов графства Дамфрис, Мак-Клостоу вышел из пиршественного зала.
Полицейские уже собирались возвращаться в Каллендер, когда к машине подошла мисс Мак-Картри.
— Вы на нас очень сердитесь, инспектор? — спросила она, облокачиваясь на дверцу.
— Ну, что вы! Вы ведь всего-навсего заставили меня отмахать Бог знает сколько миль и в конце концов выставили клоуном перед милой компанией шутников! И я еще должен быть недоволен? Нет, право, каким же надо обладать скверным характером!
— С самого начала этой истории я тысячу раз повторяла, что вы ошибаетесь, инспектор, но вы, упрямая голова, и слушать ничего не желали! Неужто вы думаете, дочь клана Мак-Грегор стала бы вас обманывать и марать репутацию соотечественника, не будь она абсолютно уверена, что этот тип — сущий мерзавец?
— Ох, если б я только мог выложить дочери клана Мак-Грегор все, что о ней думаю, означенная особа тут же слегла бы с печеночной коликой! В дорогу, Мак-Клостоу.
На следующее утро после этой чудовищной неудачи Мак-Хантли вошел в кабинет суперинтенданта. Слушая рассказ инспектора о путешествии в Икклфичен, Эндрю Копланд рыдал от смеха, чем довел беднягу Дугала до белого каления.
— Вот уж никак не рассчитывал так вас позабавить, сэр, — наконец с обидой заметил он.
— Простите, инспектор, но это… ужасно смешно и, в сущности, так просто…
— Для вас — может быть…
— Если хотите знать мое мнение, Мак-Хантли, я думаю, вам очень стоило бы послушать мисс Мак-Картри.
— И арестовать Лидберна?
— Нет, но приглядеться к нему повнимательнее.
— У бедняги убили шурина, украли дочь… По-вашему, этого мало?
— Досада мешает вам смотреть на вещи объективно, инспектор. Вы просто злитесь, что Иможен и ее команда обвели вас вокруг пальца.
— Все они врали мне в глаза!
— Вне всяких сомнений.
— И в моем лице оскорбили само правосудие!
— Вероятно, так.
— Но не можем же мы оставить это безнаказанным?
— Боюсь, придется.
— Но почему?
— Вам все равно не удастся доказать, что они умышленно направили вас по ложному следу. Стало быть, забудьте о прежних неприятностях и помиритесь с ними, поймав настоящего преступника.
— Прошу вас, сэр, поручите это кому-нибудь другому. Кажется, уже совершенно ясно, что я не способен справиться с заданием.
— Ни слова больше, инспектор! Судить о ваших способностях — мое дело! А я настаиваю, чтобы именно вы довели расследование до конца. Только это вернет вам веру в собственные силы.
— Но я напрочь запутался и даже не представляю, с чего начать…
— А все потому, что не желали слушать тех, кто хорошо знает Каллендер и его жителей. Вот и бросились преследовать две влюбленные парочки… Между нами говоря, вы не находите, что любовь Фионы Рестон и Ивена Стоу, выдержавшая более чем двадцатилетнюю разлуку, очень трогательна?
— Пожалуй, хотя… репутация миссис Рестон наводит на мысль, что она довольно весело провела это время!
— Я почти уверен, что все это чепуха, и Лидберн, когда его обвинили в связи с миссис Рестон, возмущался совершенно искренне. Сама же она нарочно вас обманула, надеясь отвлечь подозрения от Кёмбре. Счастье Ангуса для нее куда дороже, да и какая мать не пожертвует ради сына добрым именем?
— Но согласитесь, сэр, тут сам черт ногу сломит!
— Конечно, только не забывайте, что для хорошего детектива главное — медленно и терпеливо продвигаться вперед, отбрасывая все лишнее и случайное. Это единственный способ добраться до сути. А что для нас суть, как не убийство Рестона?
— Да, конечно…
— Судя по всему, аптекарь был пренеприятным типом. То, как он поступил со Стоу, чтобы отнять у него подружку, достаточно красноречиво свидетельствует о характере. Кстати, участие в этой грязной истории Лидберна и Гленрозеса тоже не говорит в их пользу.
— Еще бы!
— А если человек так прогнил к двадцати годам, у него мало шансов исправиться на старости лет. Очевидно, Рестон продолжал строить козни, и в конце концов одна из жертв его прикончила. Таким образом, вам осталось выяснить имя этой жертвы.
— Совсем пустячок!
— В первую очередь вы должны покопаться в бумагах покойного.
Лидберны настолько обрадовались, увидев дочь живой и здоровой, что охотно простили ей превращение в миссис Кёмбре. Кроме того, прежние тревоги несколько смягчило то обстоятельство, что со временем их зять унаследует гараж Стоу. Так или этак, а Дженет вышла не за перекати-поле!
Мак-Хантли отправился к даме, которая пока еще носила фамилию Рестон, и та без утайки рассказала ему свою историю.
— Когда я поняла, что скоро стану матерью, мне еще не исполнилось и шестнадцати лет. Сначала я, по детской наивности, чувствовала себя безумно счастливой, а потом в Пембертоне произошла эта жуткая буча с кражей и мой Ивен в панике побежал записываться в армию. Мне пришлось рассказать родителям правду, а они, к несчастью, были воспитаны в духе викторианской морали. Вспоминая ту кошмарную сцену, я и сейчас вздрагиваю. Мать хотела покончить с собой и таким образом избежать бесчестия. Отец собирался последовать ее примеру, но сначала убить меня. В общем, вы, наверное, представляете себе их настрой… Хьюг Рестон спас положение, заявив моим родителям, что охотно женится на мне, если я избавлюсь от плода прежних ошибок. Я была слишком молода, чтобы устоять против них троих. Меня вынудили отдать новорожденного сына в приют, и долгие годы, несмотря на все старания, я не могла ничего о нем узнать. Мужа я не любила, а после того как во время очередной ссоры он стал похваляться сделанной Ивену подлостью, просто возненавидела. С того дня я не жила, а существовала. Если я кокетничала и даже флиртовала с другими мужчинами, то лишь для того, чтобы позлить мужа. Зато, хотя после Ивена у меня никого не было, я сумела создать себе репутацию легкомысленной женщины и поставить Хьюга в смешное положение. Ничего другого мне и не нужно было.
— Но зачем же вы с мисс Мак-Картри уверяли, будто Лидберн ваш любовник?
— Это придумала Иможен. Она хотела настроить вас против него.
— Почему?
— Потому, что Иможен считает Лидберна убийцей.
— Ну и нравы у вас тут! Мисс Мак-Картри — просто сумасшедшая, и, глядя на вас, я начинаю думать, что безумие — болезнь заразительная, миссис Рестон!
— После возвращения Ивена замужество стало для меня особенно тягостным. Вот почему я благословляю того, кто убил Хьюга и тем самым вернул мне свободу. Надеюсь, вы никогда не поймаете этого человека, инспектор!
— Прошу прощения, миссис Рестон, но профессиональный долг никак не позволяет мне разделить ваши надежды. Однако я пришел к вам с просьбой. Можно мне взглянуть на бумаги вашего мужа, если, конечно, вы их не уничтожили?
— Даже не дотрагивалась.
До самого вечера Мак-Хантли с позволения Фионы рылся в оставшихся после смерти Рестона бумагах, но не нашел ничего интересного, в том числе и письма с угрозами, которое так надеялся отыскать. Единственное, что его слегка заинтриговало, так это ежемесячные вливания на счет Рестона в пертском Коммодор Нэшнл Банке, причем сумма в последние годы оставалась неизменной: сто и пятьдесят фунтов. Ничего не скажешь, очень недурная рента! Узнав от вдовы, что ее покойному супругу пенсиона никто не выплачивал, Дугал для очистки совести решил съездить в Перт и проверить финансовые документы.
Как все представители его профессии, директор банка недовольно поморщился, когда Мак-Хантли, предъявив удостоверение, потребовал сведений о происхождении сумм, ежемесячно поступавших на счет Рестона. И лишь поскольку клиент умер, в конце концов он неохотно согласился удовлетворить законное любопытство инспектора. Не прошло и часу, как Дугал выяснил, что интересующие его цифры, несколько менявшиеся с годами и возросшие одна — с двадцати фунтов до пятидесяти, другая — с тридцати до ста, переводились с помощью чеков, подписанных соответственно мистером Лидберном и мистером Гленрозесом, двумя гражданами Каллендера.
На обратном пути радостное возбуждение Мак-Хантли слегка отравляла только мысль о том, что Иможен Мак-Картри, по-видимому, была права. Оставалось спросить у мясника и ветеринара о причинах столь поразительной щедрости к покойному аптекарю, чья смерть экономила одному из них пятьдесят фунтов стерлингов в месяц, — другому — сто.
Лидберн не смог долго противостоять натиску инспектора и почти сразу признался, что Рестон его шантажировал. Как-то раз мясник по неосторожности сбил и серьезно ранил женщину, но, вместо того чтобы взять на себя ответственность, поспешил удрать с места происшествия. Аптекарь, которому он сдуру обо всем рассказал, поехал к хозяину гаража, где Лидберн чинил машину, и взял у него письменные показания о ремонте. С тех пор Кит ежемесячно платил так называемому другу за молчание. Мак-Хантли даже не стал ему объяснять, что только круглый дурак мог поддаться на этот грубый шантаж, поскольку «доказательства» Рестона ни один суд присяжных не принял бы всерьез. Так или иначе, полицейскому стало ясно, что такому ограниченному человеку, как Лидберн, и в голову бы не пришло разделаться с мучителем подобным образом, в крайнем случае он мог сделать это открыто, поддавшись слепой ярости.
— А что вы скажете насчет горничной, которую, по словам мисс Мак-Картри, сбили с пути истинного?
— Это ложь, инспектор! Так же, как и моя связь с Фионой!
После того, что он услышал от миссис Рестон, Дугалу оставалось лишь поверить мяснику на слово.
Теперь в списке подозреваемых стояла только одна фамилия, и полицейский пошел к ветеринару. К несчастью, тот оказался крепким орешком. Толстяк с улыбкой поведал Мак-Хантли, что они с аптекарем раз в месяц ездили погулять в Эдинбург или Глазго, а поскольку казначеем у них был Рестон, то потом Гленрозес расплачивался с ним чеком. Само собой разумеется, ветеринар попросил никому не выдавать эту маленькую тайну.
Инспектор тем более огорчился, что, казалось, уже достиг цели. С горя он рассказал о своих открытиях и последней неудаче мисс Мак-Картри. Немного подумав, Иможен внезапно издала гортанный боевой клич, который, по ее сведениям, весьма точно воспроизводил сигнал к бою, поданный Робертом Брюсом в битве при Баннокберне. Увы, пятнадцатый век давно миновал, и крик Иможен напугал пробегавших мимо ребятишек, матери на несколько миль в округе поспешили надежно спрятать детей, решив, что грядут невероятные потрясения, дремавший за рулем автомобилист резко выжал газ и чуть не врезался в грузовик, а водитель последнего разразился неистовой бранью, так что дело чуть не дошло до рукопашной. Собаки отозвались похоронным воем. Зато стоявший на пороге Мак-Грю, пользуясь тем, что описанная сцена происходила возле его бакалеи, одобрительно поднял большой палец и лаконично заметил:
— Высший класс, мисс Иможен!
Полумертвый от стыда Дугал мечтал очутиться за тысячу миль оттуда. Он уже собирался поспешно отступить, но мисс Мак-Картри схватила его за руку.
— Поехали в Перт! — шепнула она.
— Но я как раз оттуда!
— Ну и что?
Поразмыслив, Мак-Хантли признал беспочвенность своих возражений, а кроме того, теперь, когда следствие окончательно зашло в тупик, он готов был ухватиться за любую соломинку.
Добравшись до Перта, они заскочили в бар на Каунти Плейс и, выпив по стаканчику виски, отправились на Нельсон-стрит. Иможен позвонила в дверь дома 232, а Мак-Хантли с тревогой думал, в какую еще авантюру позволил себя втравить на этот раз. Открыла им молодая женщина.
— Как поживаете, Мойра? — с самым дружелюбным видом спросила Иможен.
— О, мисс Мак-Картри, какой сюрприз! Жаль только, хозяев нет, так что, если вы хотели их повидать…
— Нет, Мойра, мы пришли поговорить как раз с вами. Но давайте-ка я вас познакомлю. Это мистер Мак-Хантли… а это — Мойра Треквейр из Каллендера. Можно нам войти?
— Прошу вас.
Мойра с извинениями отвела их на кухню, объяснив инспектору, что она здесь всего лишь горничная. Как только все сели за стол и девушка налила чай, без которого в Британии не обходится ни один стоящий разговор, Иможен принялась растолковывать, какое важное дело привело их с Дугалом сюда.
— Вы могли бы оказать нам большую услугу, Мойра… Мистер Мак-Хантли — полицейский инспектор и расследует убийство Хьюга Рестона. Вы, конечно, о нем слышали?
— Еще бы!
— Так вот, я прошу вас очень откровенно и без ложного стыда ответить на мои вопросы.
— Но я не имею ни малейшего отношения к этому преступлению!
— Не беспокойтесь, Мойра, никто вас ни в чем не обвиняет. Кстати, дитя мое, как ваш малыш?
Молодая женщина расплакалась.
— Он… он не выжил? — прошептала смущенная мисс Мак-Картри.
Мисс Треквейр кивнула.
— Мо… может, для него… так оно… и лучше, — глотая слезы, пробормотала она.
— А кто был отцом ребенка, Мойра?
— И это спрашиваете вы, мисс Мак-Картри? Как будто не вы лучше всех знаете, что происходит у нас в Каллендере!..
— Да, но я хочу, чтобы вы сами назвали инспектору имя.
— Мистер Дермот Гленрозес.
Рыжая воительница кинула на Мак-Хантли торжествующий взгляд.
— А миссис Гленрозес — в курсе? — спросила она.
— О нет, мисс, нет!
— А что случилось бы, узнай она об этом?
— Трудно сказать… но наверняка что-нибудь ужасное… Мистер Гленрозес до смерти боится жены…
— Тем не менее он, вероятно, не бросил вас на произвол судьбы?
— О нет! Каждый месяц мистер Гленрозес передавал мне по двадцать фунтов.
— Через кого?
— Через мистера Рестона.
Дермот Гленрозес смахивал на огромную выжатую губку. Сначала на все расспросы Дугала он лишь жалобно повторял:
— Главное, чтобы Майри ни о чем не проведала!
Жалкое зрелище… Мало-помалу из сбивчивых объяснений, полупризнаний и умолчаний инспектору стало ясно, что бедняга ветеринар всю жизнь дрожал от страха. Сначала он боялся товарищей по колледжу, и особенно Рестона, который сумел получить над ним огромную власть, потом — жены. Мойра пожалела Дермота, и тот, естественно, стал искать у нее утешения… А потом Гленрозес узнал, что у них скоро родится ребенок… В полной панике он обо всем рассказал Рестону. Аптекарь обещал уладить дело, но, убедившись, что приятель прочно сидит на крючке, начал его шантажировать.
В ту ночь, когда Кёмбре ждал Дженет, Дермот вышел вместе с Лидберном, прихватив по просьбе последнего револьвер — сам мясник в случае неприятностей побоялся бы пустить его в ход. Под фонарем они увидели Рестона, возвращавшегося после разговора с Кёмбре. И тогда, повинуясь какой-то необъяснимой силе, сам не соображая, что делает, Гленрозес выстрелил в аптекаря. Лидберн сначала пришел в ужас, но, поняв, что смерть Рестона сэкономит ему пятьдесят фунтов в месяц, мгновенно стал на сторону ветеринара. Не сговариваясь, они обвинили в убийстве Ангуса, прибежавшего узнать, что случилось.
— А если бы несчастного Кёмбре повесили за совершенное вами преступление?
— Ни о чем таком я не думал… мне хотелось лишь спасти свою шкуру…
Самое ужасное, подумал Мак-Хантли, что это чистая правда.
Дугал Мак-Хантли не слишком гордился победой и пришел доложить суперинтенданту о том, что тайна убийства Хьюга Рестона раскрыта, а виновный Дермот Гленрозес и его сообщник Кит Лидберн — под замком, отнюдь не с торжествующим видом.
— Успешное начало всегда полезно для карьеры, инспектор, — поздравил его Копланд.
— Спасибо, сэр.
— Признайте, однако, что, если бы вы сразу приняли в расчет мнение мисс Мак-Картри…
— Чистая правда, сэр. Поэтому, с вашего разрешения, я хотел бы вернуться в Каллендер и сказать ей спасибо.
В «Гордом Горце» стоял адский гвалт. Все столики были заняты, а за самым длинным, в центре, восседали сам Тед Булит, Ивен Стоу, Дженет и Ангус Кёмбре (миссис Рестон не смогла прийти из-за этого проклятого траура), Уильям Мак-Грю, доктор Элскотт, Сэм Тайлер, Мак-Клостоу и, разумеется, мисс Мак-Картри. Пили они за Горную страну и горцев — самое благородное племя на свете, и сержант под влиянием виски совершенно забывший, что сам он пришелец из Приграничной зоны, орал чуть ли не громче других. Друзья праздновали новую победу Иможен Мак-Картри. Пришел на торжество и Фергус Мак-Интайр с волынкой. Сначала он с чувством сыграл «Энни Лоури», песенку, неизменно умиляющую сердца уроженцев Киркедбрайшира, и Дженет роняла слезы в мужнин бокал виски. Потом мисс Мак-Картри ужасающе фальшиво, но с большим воодушевлением затянула «Джесси, цветок Демблейна», и ее тут же поддержали Тед и доктор Элскотт. К десяти часам вечера все, включая юную Дженет, пребывали в полной эйфории и твердо уверовали, что рай, если, конечно, о нем говорят правду, несомненно, похож на Каллендер, точнее, на зал «Гордого Горца».
Именно в этот момент и вошел Дугал Мак-Хантли. Его встретили громкими приветственными воплями. Смущенный столь теплым приемом, инспектор приблизился к Иможен.
— Мисс Мак-Картри… я хотел поблагодарить вас за…
Она не дала полицейскому закончить и, схватив в охапку, звонко чмокнула прямо в губы. Мак-Хантли показалось, что его поцеловал перегонный куб. Меж тем шотландка уже усаживала его за стол и просила выпить во славу Горной страны. Маргарет Булит принесла хагги, и, когда ставила блюдо на стол, сержант вдруг хлопнул ее по заду. Миссис Булит негодующе выпрямилась.
— Вам… вам не стыдно?
В стельку пьяный Арчибальд Мак-Клостоу уже окончательно утратил представление о приличиях и границах допустимого в цивилизованном обществе, а потому спокойно ответствовал:
— Нет, моя дорогая!
Кипя от возмущения, Маргарет напустилась на мужа:
— Тед, неужели вы позволите этому проклятому пьянице вольничать с вашей законной супругой?
— Если парню это доставляет удовольствие, Маргарет, значит, он и в самом деле мертвецки пьян!
Миссис Булит, издав что-то вроде предсмертного хрипа, убежала на кухню и уже, наверное, в сотый раз за годы супружества всерьез задумалась о разводе. Кто-то из посетителей имел неосторожность вступиться за честь жены хозяина заведения и, получив от сержанта здоровенную затрещину, рухнул под стол. Как истинные шотландцы, несколько других мужчин, даже не разобрав в чем дело, поспешили на помощь побежденному — лупить полицейского доставляло им особое удовольствие. Само собой, друзья Арчибальда не могли допустить, чтобы его смяли превосходящие силы противника, и очень скоро в баре началась всеобщая потасовка. Мак-Хантли, благоразумно оставшийся за столом, все-таки получил по голове ножкой пролетавшего мимо стула и сполз на пол. Иможен, полагая, что ей надлежит опекать гостя, стала отпаивать его виски, а потом коварно указала на ненавистного ей бывшего мэра Гарри Лаудхэма, который мирно попивал пиво в дальнем уголке зала.
— Видите эту лицемерную рожу вон там, Дугал? Это он вас ударил сзади и тут же, как ни в чем не бывало, снова уселся на место!
Прогулка в страну грез и разбитый о его голову стул совершили с инспектором удивительную метаморфозу: он вдруг почувствовал себя истинным горцем.
— Я вижу, вам тут очень хорошо, да? — осведомился он, подойдя к столику Гарри.
Тот, немного удивившись фамильярности Мак-Хантли, спокойно ответил:
— Да вроде бы…
— А по-моему, так будет еще лучше!
И Дугал изо всех сил съездил Лаудхэму по физиономии. Тот на время отключился от хода сражения, а инспектор во все горло рявкнул:
— Да здравствует наша Иможен!
Не прошло и получаса, как Тед и его друзья выдворили вон всех недовольных и в ознаменование победы хором грянули знаменитую «Вы, кого водили в бой…», которую Роберт Брюс написал накануне сражения при Баннокберне.
На следующий день, разбирая кипу жалоб и обвинений, прибывших из Каллендера после вечеринки в «Гордом Горце», суперинтендант Копланд обнаружил в списке особо отличившихся хорошо знакомую фамилию. Он вызвал Джонсона и
протянул ему бумагу.
— По-моему, Берт, наш молодой Мак-Хантли наконец понял Каллендер.
Шарль Эксбрайя
 СЕМЕЙНЫЙ ПОЗОР
СЕМЕЙНЫЙ ПОЗОР
Фернанделю — в память о наших встречах.
Ш. Э.
Главные действующие лица
Элуа Маспи.
Селестина Маспи — его жена.
Бруно Маспи — их сын.
Перрин Адоль.
Дьедоннэ Адоль — ее муж.
Пэмпренетта — их дочь.
Пишранд — старший инспектор полиции.
Ратьер — инспектор.
Тони Салисето — главарь банды.
Антуан Бастелика, Луи Боканьяно — его подручные.
Глава I
Они шли, взявшись за руки и не говоря ни слова. Майское солнце играло на покрытых барашками пены волнах моря, и, казалось, сам воздух источает сияние. Молодому человеку исполнилось двадцать два года, девушке — семнадцать. В таком возрасте всегда воображаешь, будто жизнь готовит тебе одни несравненные радости. Они любили друг друга с тех пор как себя помнили, и уже тогда не сомневались, что у него не будет иной жены, а у нее — супруга.
Молодой человек только что вернулся из армии, девушка — закончила школу. Впрочем, на уроках она в основном писала письма возлюбленному, хотя пылкие чувства облекались не в самую блестящую форму. Но только дураки считают, будто орфография имеет какое бы то ни было отношение к любви. Медленным шагом они гуляли по Фаро, и сад казался им настоящим преддверием рая. Девушка смотрела на парня с восхищением, он на нее — с нежностью, и оба думали, что впереди у них целая вечность. Проходившая мимо старуха с улыбкой посмотрела на влюбленных. Они чуть снисходительно улыбнулись в ответ, не понимая, как это можно постареть.
Молодые люди сели на скамейку на самом краю высокого уступа над морем. Все это было им с детства знакомо, но от красоты пейзажа захватывало дух, и оба едва осмеливались дышать. Девушка склонила голову на плечо возлюбленного, он обнял ее за плечи, и та замурлыкала, как счастливый котенок, потом вдруг отстранилась, вытащила из-за корсажа ладанку и благоговейно поцеловала.
— Что это с тобой, Пэмпренетта? — ласково спросил парень.
— Я благодарю добрую Богоматерь за то, что она дала мне такое счастье!
— Так ты веришь в Богоматерь, в ад, чистилище и рай?
Девушка слегка отстранилась и посмотрела ему в лицо.
— Неужто в полку ты так изменился, Бруно? Ты больше не любишь нашу добрую Святую Деву? Если да, то лучше не говори, а то мне будет слишком больно!
Бруно поцеловал Пэмпренетту, ибо ему всегда хотелось ее целовать, даже когда девичья логика ставила его в тупик.
— Конечно, люблю, моя Пэмпренетта, по-прежнему люблю нашу добрую покровительницу и не далее как вчера ходил в собор Нотр-Дам де-ла-Гард ставить свечку, чтобы мой отец дал согласие на наш брак, да и твой не возражал.
У девушки отлегло от сердца.
— Ах, как хорошо! — воскликнула она. — А то я уж было испугалась…
Парень снова обнял возлюбленную.
— Но, дорогая моя, раз ты любишь Святую Деву, тебе ведь хочется ее радовать?
— Естественно! Что за вопрос?
Он понизил голос:
— Тогда почему ты ее огорчаешь… воровством?
Она вырвалась из его объятий, на сей раз рассердившись по-настоящему.
— Ты назвал меня воровкой?
— Ну а кто же ты еще, моя красавица?
Пэмпренетта возмущенно вскочила.
— Ах, вот как? Я думала, ты привел меня сюда поговорить о любви, а вместо этого оскорбляешь!
Памела Адоль, или, как ее называли близкие, Пэмпренетта, была еще совсем девочкой, а потому расплакалась, словно малое дитя. Бруно Маспи никогда не мог спокойно видеть ее слез. Он взял девушку за руку и, притянув к себе, снова усадил на скамейку.
— Послушай меня, Пэмпренетта… Чем ты занималась с тех пор, как окончила школу?
— Но…
— Тс!.. Ты помогаешь отцу обманывать таможенников и тащишь все, что только можно стянуть на набережной.
— Ага, видишь? Сам же говоришь, я не ворую, а тащу!..
— В тот день, когда тебя схватят полицейские, они наверняка не станут заниматься подобными тонкостями… Или тебе очень хочется в тюрьму?
— Мне? Да ты что, Бруно, с ума сошел? Во-первых, легавые меня никогда не поймают! Они меня даже не видят…
— Зато видит наша добрая Богородица!
— Ну, тогда она не может не заметить, что я никогда ничего не беру у бедных!
Бруно вздохнул, понимая, что спорить бесполезно. Пэмпренетта была так простодушно аморальна, что и сердиться-то на нее он не мог. Парень поцеловал девушку.
— Так ты меня все-таки любишь? — шепнула она.
— Ну как же я могу тебя разлюбить, если люблю так давно?
Ничего другого Пэмпренетте и не требовалось. Уже забыв о причине недавней размолвки, она крепче прижалась к любимому.
— Расскажи мне, как мы будем жить, когда поженимся? — выдохнула она.
— Ну…
— Нет, сначала опиши мне день нашей свадьбы…
— Мы поженимся на Святого Жана… но для этого тебе ведь придется исповедаться?
— Ну и что? Представь себе, я трижды в год хожу на исповедь! А как же иначе?
Бруно подумал, что, если Пэмпренетта говорит правду (а она явно не обманывала — просто наверняка не считала грехом то, что принято называть таковым), отцу-исповеднику приходится слушать престранные вещи. Не догадываясь, о чем думает ее возлюбленный, девушка с жаром продолжала:
— Папа подарит мне чудесное свадебное платье, которое он привез из Италии, а мама обещала дать свое жемчужное ожерелье, знаешь, то самое…
— …которое украли пятнадцать лет назад в Каннах, а Доминик Фонтан по кличке Богач продал твоему отцу?
— Да, именно! С ума сойти, какая у тебя память!
— Боюсь, как бы полиция тоже о нем не вспомнила…
— Полиция? А ей-то какое дело? Папа заплатил за ожерелье, разве нет? И что за мысли тебе иногда приходят в голову, Бруно!
Парень лишь улыбнулся.
— И тем не менее… Сдается мне, у нас на свадьбе будет немало полицейских…
Пэмпренетта тут же ощетинилась.
— Легавые на нашей свадьбе? Да кто же это их позовет?
— Легавых, как ты их называешь, Пэмпренетта, никогда не приглашают, они приходят сами… Пойми, если все друзья наших родителей явятся на свадьбу, это будет самое крупное собрание всех багаленти[336] побережья за последние тридцать лет! И можешь не сомневаться, полиция не упустит такого случая взглянуть, как поживают ее… подопечные и освежить в памяти кое-какие лица… А потому даю тебе добрый совет: спрячь свое ожерелье и носи его только дома, хорошенько закрыв дверь. Иначе ты рискуешь провести медовый месяц в Бомэтт[337]…
— Это несправедливо…
— А по-твоему, та, у кого укради тогда ожерелье в Каннах, сочла это справедливым?
Довод, очевидно, смутил Пэмпренетту, и она слегка замялась.
— Ну, это было так давно…
— Думаешь, если бы его сперли у тебя, через пятнадцать лет ты бы на это чихала?
— Ну нет!
Девушка обиженно надулась.
— И вообще, ты сбиваешь меня с толку всеми этими рассуждениями, — добавила она. — Чего ты, собственно, хочешь?
— Чтобы ты больше не воровала…
— И по-твоему, хорошо, если я начну бездельничать?
— Но ты могла бы работать.
— А я что делаю?
Бруно взял ее за руки.
— Послушай меня, Пэмпренетта… Я люблю тебя больше всего на свете и не хочу потерять… А это неизбежно случится, если ты собираешься продолжать в том же духе. Сколько лет твой отец провел в тюрьме?
— Не знаю…
— А мать?
— О, мама — не так уж много… наверняка меньше твоей!
— Свою мать я почти не знаю. По воскресеньям бабушка водила нас смотреть на нее сквозь прутья решетки… И ты бы хотела нашим детям такого же существования?
— H-н… ет.
— И чтобы они стали жульем, как наши родители?
Пэмпренетта вспыхнула и гневно выпрямилась.
— А ну, повтори, что ты сказал!
— Что наши родители мошенники.
— Ах, значит, я не ослышалась… это… это ужасно… Ты чудовище, Бруно! Ты смеешь оскорблять тех, кто произвел нас на свет? И при этом говоришь о каком-то уважении к Святой Деве, той, кого божественный сын поцеловал у подножия креста?
Бруно в отчаянии воздел руки.
— Но какая связь…
— Надо почитать отца и матерь своих!
— Да, когда они достойны уважения!
— О! Так скажи сразу, что мой отец каналья!
— А кто же еще? С утра до вечера он обкрадывает государство!
— И вовсе нет! Просто папа отказывается подчиняться законам, которых не одобряет.
— Все преступники говорят то же самое.
— Но папа никого не убивал!
— Из-за него мужчины и женщины часть жизни провели в тюрьме, из-за него таможенники убивали контрабандистов, работавших под его же началом, а многие портовые полицейские оставили вдов и сирот. И ты еще уверяешь, будто твой папочка не последний мерзавец?
— Я никогда тебе этого не прощу, Бруно! И вообще, по какому праву ты так со мной разговариваешь? Твой отец…
— То же самое я думаю и о нем, если тебя это утешит.
— Ты попадешь в ад!
— В ад? Только за то, что я хочу, чтобы ты стала честной и наши дети воспитывались в уважении к законам? Да ты, похоже, совсем спятила!
— Вот-вот, давай, оскорбляй теперь меня! Ипполит был совершенно прав!
Бруно приходил в дикую ярость, стоило ему услышать имя Ипполита Доло, своего ровесника, почти так же долго увивавшегося вокруг Пэмпренетты.
— И в чем же он прав, этот Ипполит?
— Он верно говорил, что с тобой мне нечего и надеяться на счастье!
— А с ним, значит, тебя ждет райское блаженство, да?
— Почему бы и нет?
— Ладно, я все понял. Зря я не верил тем, кто писал мне, что, пока я сражаюсь в Алжире, ты обманываешь меня с Ипполитом!
— И ты допустил, чтобы тебе писали обо мне такие гадости? Ты читал эту грязную ложь? Так вот как ты меня уважаешь?
— Но ты же сама сказала, что Ипполит…
— Плевать мне на Ипполита! И все равно я выйду за него замуж, лишь бы тебе насолить!
— Нет, ты выйдешь за этого типа, потому что в восторге от его рыбьих глаз!
— И вовсе у него не рыбьи глаза!
— Ох, как ты его защищаешь!
— Только из-за твоих нападок!
— А по-моему, ты просто его любишь!
— Ну, раз так — прекрасно! Пусть я его люблю! Ипполит станет моим мужем! Он-то позволит мне носить ожерелье! И не назовет меня воровкой.
— Естественно, потому что Ипполит тоже вор и закончит свои дни на каторге!
— Что ж, хорошо… Прощай, Бруно… Мы больше никогда не увидимся… и не ты станешь отцом моих детей…
— Тем хуже для них!
— И потом, ты ведь сам не хотел бы иметь малышей от воровки, а?
— Чего бы я хотел — так это никогда не возвращаться из Алжира. Сколько моих друзей, отличных ребят, там поубивали… так почему не меня? Это бы все уладило, и я умер бы, так и не узнав, что ты готова мне изменить…
Мысль о том, что ее Бруно мог погибнуть, заставила Пэмпренетту забыть обо всех обидах. Она кинулась парню на шею и, рыдая, сжала в объятиях.
— Умоляю тебя, Бруно, не говори так! Что бы сталось со мной без тебя? Я сделаю все, как ты хочешь! Если надо, готова даже устроиться прислугой…
— Но Ипполит…
— Чихать мне на Ипполита! И вообще у него рыбьи глаза!
И все исчезло, кроме охватившей их обоих нежности.
— Моя Пэмпренетта…
— Мой Бруно…
— Ого, я вижу, вы неплохо ладите друг с дружкой?
Молодые люди слегка отпрянули и смущенно посмотрели на улыбавшегося им высокого и крепкого мужчину лет пятидесяти. Оба прекрасно его знали: инспектору Констану Пишранду не раз случалось по той или иной причине отправлять за решетку всех членов семейств Маспи и Адоль. Однако никто не таил на полицейского обиды, напротив, его воспринимали чем-то вроде домашнего врача, назначающего мучительное, но неизбежное лечение. Пишранд никогда не принимал ни крохи от своих подопечных, но всегда беспокоился об их здоровье и житье-бытье, ибо, несмотря на суровый вид, в душе был человеком добрым и даже испытывал некоторую привязанность к своим жуликам.
— Ну, Памела, рада возвращению Бруно?
— Конечно, месье Пишранд.
Полицейский повернулся к молодому человеку:
— Видел бы ты, как она убивалась тут без тебя… прямо жалость брала… — Инспектор понизил голос. — Такая жалость, что, честно говоря, ради тебя, Бруно, я даже слегка изменил долгу… Один или два раза мне следовало бы схватить ее за руку с поличным, но уж очень не хотелось, чтобы ты нашел свою милую в исправительном доме… А потому я только наорал на нее хорошенько, но при такой-то семье, сам понимаешь, чего можно ждать от бедняжки…
Задетая за живое Пэмпренетта тут же возмутилась:
— Я не хочу слушать пакости о своих родителях!
Инспектор вздохнул.
— Слыхал, Бруно? Ну, Памела, так ты любишь или нет своего солдата?
— Само собой, люблю! Что за идиотский вопрос?.. О, простите, пожалуйста…
— А раз любишь, так почему изо всех сил стараешься как можно скорее с ним расстаться? Вот ведь ослиное упрямство! Или ты всерьез воображаешь, будто законы писаны не для мадемуазель Памелы Адоль и я позволю ей до скончания века обворовывать ближних?
— Я не ворую, а тибрю…
— Что ж, можешь положиться на судью Рукэроля — он тоже стибрит у тебя несколько лет молодости, дура! Пусть твой отец хоть помрет за решеткой — это его дело, но ты не имеешь права так себя вести, раз тебе посчастливилось добиться любви Бруно! И вообще, пожалуй, мне лучше уйти, а то руки чешутся отшлепать тебя хорошенько, паршивка ты этакая!
И с этими не слишком ласковыми словами инспектор Пишранд удалился, оставив парочку в легком оцепенении. Первой пришла в себя Пэмпренетта.
— Бруно… почему ты позволил ему так со мной разговаривать?
— Да потому что он прав.
— О!
— Послушай, Пэмпренетта, я хочу гордиться своей женой, хочу, чтобы она могла повсюду ходить с высоко поднятой головой.
— Никто не может сказать обо мне ничего дурного, или это будет просто вранье! Клянусь Богоматерью! — с обезоруживающим простодушием ответила девушка.
Убедившись, что все его доводы бесполезны, Бруно не стал продолжать спор. Он обнял возлюбленную за талию.
— Пойдем, моя красавица… мы еще потолкуем об этом, когда мой отец скажет «да» и твой скрепит договор.
— О, папа всегда делает то, что я хочу, но вот твой… Думаю, он согласится принять меня в дом?
— А почему бы и нет?
— Потому что твой отец — это фигура! Не кто-нибудь, а сам Элуа Маспи!
Элуа Маспи действительно занимал видное положение в марсельском преступном мире. Все, кто жил вне закона, включая убийц, торговцев наркотиками и сутенеров (их Элуа считал людьми без чести и совести и не желал иметь с ними ничего общего), признавали непререкаемый авторитет Маспи. Несколько раз по наущению какого-нибудь каида[338] на час убийцы, а заодно торговцы наркотиками и женщины пытались силой низвергнуть Маспи с пьедестала. Однако при каждой такой попытке они наталкивались на сопротивление всей массы марсельских воров, мошенников и прочих верных соратников Элуа, и те жестоко вразумляли нападавших. Полиция же спокойно наблюдала за стычкой, потом отправляла побежденных в больницу, а победителей в тюрьму. В последние годы оба крупных клана фокийской шпаны[339] делали вид, будто не замечают друг друга, и старались сосуществовать по возможности мирно. С той поры авторитет Элуа Маспи еще больше укрепился, и уже никто не пробовал бунтовать против его владычества.
Элуа родился в Марселе сорок пять лет назад в одном из кварталов Старого Порта, впоследствии разрушенном нацистами. Он был высок, скорее худощав и придерживался весьма лестного мнения о себе самом. Родители, деды и прадеды Маспи сидели в тюрьме при любых режимах и расценивали как имперские, так и республиканские пенитенциарные учреждения как своего рода дачу. Вынужденный отдых не доставлял им особого удовольствия и часто отдавал смертельной скукой, но поскольку каждый Маспи с детства готовился к подобной неприятности, то и переживал ее достаточно спокойно.
Поколениям Маспи-заключенных соответствовали такие же поколения тюремщиков, и эта преемственность с обеих сторон, ставшая своеобразной традицией, порождала если не взаимное уважение, то определенное дружелюбие. Именно в тюрьме Адель Маспи, мать Элуа, познакомилась со своей будущей снохой Селестиной. Женщины спали рядом в одной камере и долгими ночами вели задушевные разговоры. В конце концов Адель решила, что из этой не особенно ловкой воровки, если ее как следует натаскать, получится великолепная жена для Элуа, чья репутация уже начала укрепляться, и в преступном мире стали поговаривать о будущем Великом Маспи. Элуа полностью доверял опыту матери и без всякого сопротивления женился на хорошенькой девушке, а Селестина вполне оправдала ожидания Адели. Супруги жили не хуже других обывателей, если не считать того, что время от времени кто-то из них исчезал на несколько месяцев, а то и лет, но Маспи всегда старались устроить так, чтобы кто-то из женщин непременно оставался дома — это спасало детей от вмешательства благотворительных организаций. Частые расставания не дали Элуа пресытиться обществом Селестины, а последней — устать от мужа. И каждая встреча превращалась в новое свадебное путешествие, причем рождение Бруно, Эстель, Фелиси и Илэра красноречиво свидетельствовало о радости вновь обретших друг друга супругов.
Правда, старший сын, Бруно, с младых ногтей тревожил родителей излишней, по их мнению, любовью к учебе, чистоте и аккуратности. Но Элуа и Селестина тешились надеждой, что, став взрослым, их мальчик благодаря постигнутым наукам станет одним из тех выдающихся мошенников, о чьих подвигах говорит весь Марсель. Однако, несмотря на все надежды (или хотя бы видимость оных), Маспи все же испытывали тайную тревогу: а что, если вопреки родительскому примеру Бруно пойдет по дурной дорожке, то есть переметнется на сторону порядка и закона? К счастью, остальные дети полностью удовлетворяли родителей. К пятнадцати годам Эстель стала первоклассной карманной воровкой. Двенадцатилетняя Фелиси с ее наивным детским личиком без труда вытягивала деньги из ни в чем не повинных пожилых джентльменов, уверяя, будто они пытались обойтись с ней самым гнусным образом, и несчастные платили во избежание скандала. Что до Илэра, то едва мальчику исполнилось восемь лет, родителям уже не надо было заботиться ни о его прокорме, ни о карманных деньгах. Каким образом он добывал необходимое, Илэр держал в тайне.
Вот уже почти пять лет Элуа и Селестина как будто удалились от дел. Оба полагали, что в их возрасте сидеть в тюрьме слишком мучительно, особенно зимой, а лето они предпочитали проводить в деревенском домике, построенном ими в Сормиу. А потому Маспи довольствовался тем, что на них работали другие, взимая за каждую услугу весьма внушительный процент. Все начинающие жулики приходили учиться к Элуа, а тот вносил поправки в их планы и постоянно напоминал, как опасно брать с собой оружие. Маспи и его супруга установили определенный тариф за каждую консультацию и получали свою долю с любого удачного грабежа. Платили им и скупщики краденого, чьи адреса они давали клиентам. Кроме того, Маспи выступали посредниками в крупных контрабандных операциях. И тем не менее жили они очень просто, в небольшой квартирке на улице Лонг-дэ-Капюсэн. Элуа не допускал, чтобы дети нарушали заведенный в доме порядок или невежливо обращались с дедом и бабкой. Что до этих последних, то Элуа и Селестина не упускали случая поинтересоваться их мнением и внимательно слушали, хотя далеко не всегда следовали совету. Просто Элуа хотел, чтобы его папа с мамой, обладатели более чем впечатляющих досье, так и не почувствовали, что немного отстали от времени.
Пэмпренетта не ошиблась: Элуа Маспи был и в самом деле крупной фигурой.
В тот сентябрьский день в доме Маспи, особенно в гостиной, царила страшная суета. Именно там готовили все необходимое, чтобы на должном уровне принять друзей. Все разоделись в праздничные одежды. В креслах по обе стороны большого аквариума сидели свежевыбритый дедушка Сезар в жестком целлулоидном воротничке и бабушка Адель в черном платье, на котором блестел золотой крестик (украденный во время немецкого паломничества в собор Нотр-Дам де-ла-Гард). Оба казались воплощением почтенной старости, родоначальниками новых поколений, хранителями семейных традиций. Эстель, свеженькая и улыбчивая, в свои восемнадцать лет по праву считалась самой красивой девушкой квартала, и от воздыхателей не было отбою, но мать никогда не согласилась бы взять в зятья какого-нибудь мелкого воришку. В кругу Маспи тоже существовала своя иерархия, только гербы заменяло число лет, проведенных в тюрьме. Имело значение и то, в какой именно. Пятнадцатилетняя Фелиси в белом платье из органди улыбалась, как ангел, хотя ее небесным покровителям нередко приходилось закрывать лицо от стыда. Девочка следила, чтобы ее братишка Илэр, чувствовавший себя в двенадцать лет настоящим мужчиной, вел себя как воспитанный ребенок, а не изображал «крутого» гангстера. Гостей пригласили к пяти часам. Ждали самых близких и достойных — тех, чья репутация давно утвердилась. Когда все уже было готово, Элуа обвел гостиную величественным взглядом и соблаговолил выразить полное удовлетворение. От комплимента мужа Селестина, которую так и не сумели вывести из равновесия ни самые разные полицейские, ни бесконечные допросы, зарделась, как роза. Растроганный Маспи с любовью обнял жену за плечи.
— А, Тина? — Он широким жестом обвел комнату. — Как, по-твоему, мы кое-чего достигли в жизни, верно?
Мадам Маспи, называвшаяся в отличие от бабушки младшей, тихонько закудахтала от удовольствия. Элуа повернулся к отцу с матерью:
— А вы что скажете?
Адель промолчала, как почтительная супруга, предоставляя своему мужу Сезару высказать их общее мнение.
— Все отлично, сын… Ты хороший мальчик, и мы тобой довольны. И праздник получится что надо!
— Еще бы! Это ведь обручение малышей!
Селестина робко, ибо дома она всегда держалась тише воды, ниже травы, как будто все еще не оправилась от потрясения, что Маспи приняли ее в свой клан, спросила:
— Ты и впрямь думаешь, что наш Бруно хочет взять в жены Пэмпренетту, Элуа?
— Да послушай, несчастная, он уже лет семь-восемь вертится вокруг нее, а поскольку Бруно отлично знает, что я не склонен шутить с вопросами нравственности, надо думать, у него серьезные намерения! Впрочем, спроси у Эстель…
Та подтвердила, что ее ровесница Памела, или Пэмпренетта, до безумия влюблена в Бруно и хранила ему верность, несмотря на все приставания Ипполита Доло, который так и ходил за ней хвостом.
— Вот уж кому следовало бы попритихнуть, — заметил Элуа, — если не хочет нажить крупные неприятности!
Фелиси завидовала Пэмпренетте, считая ее гораздо красивее, а потому ядовито заметила:
— Вот только Пэмпренетта ужасно боится, что ты не захочешь взять ее в невестки, папа!
— А почему?
— Она говорит, мы настолько выше их…
Маспи благодушно махнул рукой.
— Да, верно, Дьедоннэ Адоль уже не тот, что прежде, но это вполне приличная семья, и мне этого достаточно. А кроме того, у Пэмпренетты особый шик! Надеюсь, она сумеет оказать должное влияние на Бруно.
Должное влияние, на которое намекал Элуа, было совершенно противоположно тому, что обычно вкладывают в это понятие законопослушные граждане.
Наконец наступил час, когда друзья Элуа покинули свои пристанища, чтобы откликнуться на приглашение Великого Маспи.
Когда Адольф Шивр, он же Крохобор, появился на пороге своего дома на улице Тиран под руку с женой, толстухой Ольгой, обитатели квартала замерли в полном восхищении. Шивр облачился в костюм цвета палого листа и ярко-зеленый галстук. А Ольга с трудом держалась на каблуках-шпильках — ни дать ни взять фрегат, борющийся с волнами, стараясь не разбиться о скалы.
В окружении Элуа Маспи Шивра считали полным ничтожеством, ибо бедняга Адольф никогда не мог придумать ничего путного. Он кое-как перебивался за счет мелких махинаций, и каждая оказывалась еще никудышнее предыдущей. Но Элуа продолжал питать к Адольфу дружеские чувства, памятуя о его отце Жюстэне. Уж тот-то был настоящим мужчиной…
Доло смахивали на парочку землероек. Жоффруа Доло, мужчина во цвете лет, едва достигал метра шестидесяти шести и не мог ни минуты усидеть на месте. Этот хорошо известный полиции грабитель постоянно держался начеку. Легендарная осторожность принесла ему кличку «Иди Первым», ибо именно такой приказ он давал тем или тому, кто шел с ним на дело. Его жена Серафина являла собой уменьшенную копию супруга. Трудно даже представить себе более подходящую пару.
К несчастью, их сын Ипполит мало походил на родителей, вырос настоящим бандитом, и наиболее проницательные сулили ему самое мрачное будущее. Сей смазливый малый полагал, что его отец зарабатывает слишком мало. Сам он метил куда выше и жил в ожидании крупного дела, которое бы обеспечило ему достойное положение.
Амедэ Этуван, или Двойной Глаз, из-за слабого здоровья так и не смог занять определенное место среди марсельского жулья. Высокий, тощий и бледный, он стал чем-то вроде «паблик рилэйшн» как для местных злоумышленников, так и для тех, кто ненадолго заглядывал в деревню Фокию. Его жена Зоэ расчесывала седые волосы на прямой пробор и одевалась примерно как солдат Армии Спасения, но под видом благотворительности принимала дома, на улице Кок, клиентов своего мужа.
В отличие от остальных Фонтан и его жена вполне процветали. Доминик Фонтан по кличке Богач славился как самый крупный скупщик краденого на всем побережье. Он платил наиболее высокую цену и не интересовался пустяками. Для прикрытия Доминик завел антикварный магазин на улице Паради и там вел дела лишь с солидными клиентами, способными представить документы о происхождении вещи и потребовать по всем правилам выписанный счет. Однако основные доходы приносили Фонтану тайные сделки, которые он заключал у себя на вилле в Сен-Жинье. В пятьдесят лет этот мужчина с открытым и честным лицом и слегка округлившимся животиком казался воплощением порядочности. Во Франции толстяки всегда внушают доверие. По сравнению с мужем Валери Фонтан казалась довольно невзрачной, зато была преданной супругой и принимала дела Доминика близко к сердцу. Кроме того, она могла определить цену камня с одного взгляда и установить подлинность картины, просто погладив ее и понюхав краску. Короче говоря, вполне приличная семья. К Великому Маспи они приехали на белой «ДэЭс».
Что до Адолей, то из поколения в поколение и отцы, и сыновья жили контрабандой и воровством на набережных. Однако длинный и довольно унылый Дьедоннэ мало походил на романтического героя, каким принято считать контрабандиста. Впрочем, Адоль уже давным-давно не принимал участия ни в каких операциях, а лишь составлял планы для отлично вымуштрованных подручных. Дьедоннэ едва исполнилось пятьдесят лет, но выглядел он неважно и за иссиня-бледное лицо и нездоровое ожирение его прозвали Суфле. Адоль вечно жаловался на усталость и с каждым днем все больше полагался на свою жену Перрин. В конце концов бразды правления окончательно перешли в ее руки. Это была крепкая, широкоплечая женщина, но лицо ее еще сохранило следы легендарной красоты уроженок Прованса. Единственной слабостью сей энергичной дамы была ее дочь Памела, она же — Пэмпренетта, которой прощалось решительно все, кроме, разумеется, нарушения приличий. Хорошо зная мать, молодые люди не решались приставать к девушке с дурными намерениями.
Адоли испокон веков жили в уютной квартирке на Монтэ-дэз-Аккуль. Когда они вышли из дома, направляясь к Элуа, вся троица выглядела более чем благопристойно: отец семейства — в добротном, удобном костюме, мать твердо ступала по земле, даже не пытаясь затянуть пышные формы в корсет, а тоненькая изящная дочь надела платье в цветочек, накидку и белые перчатки. И прохожие, глядя на них, думали, что вот, мол, типичный образчик добропорядочной французской семьи. А Дьедоннэ и его домашние с легким сердцем двигались дальше.
Бруно вернулся домой незадолго до начала торжества. Его ласково побранили за то, что все заботы достались другим, спросили, уж не считает ли он себя каким-нибудь пашой или воображает, будто это его праздник, а не мамин, и т. д. Но Бруно не отвечал на шутки сестер и брата, ибо его слишком занимал вопрос, чем закончится эта великолепная церемония. Молодой человек не одобрял образа жизни своих родителей, частенько сердился на них и тем не менее горячо любил и отца, и мать. В свою очередь Селестина питала особую слабость к старшему сыну и очень гордилась им. Да и сам Элуа, хоть и тревожился за Бруно, невольно признавал, что его первенец — парень хоть куда. Маспи целиком и полностью приписывал эту заслугу себе, что было не совсем справедливо, но никому бы и в голову не пришло его укорять.
Селестина расцеловала сына. Для нее он так и остался малышом, ибо суровый закон слишком часто разлучал ее с детьми и мешал в полной мере насладиться радостью материнства.
— Где ты был, сынок?
— Гулял в Фаро…
— Ну да? В Фаро? Что тебе это взбрело в голову?
Наивность матери умиляла Эстель.
— А может, он гулял не один? — заметила девушка.
Бруно, зная, что всегда может рассчитывать на поддержку младшей сестры, улыбнулся.
— Нет… с Пэмпренеттой…
Элуа счел своим долгом (в основном из-за троих малышей) прочесть сыну нравоучение:
— Бруно… По-моему, ты славный малый, и раз ты сам сказал нам, что гулял с Пэмпренеттой, значит, между вами нет ничего дурного… потому как, имей в виду, парень, веди себя поосторожнее! До тех пор, пока Пэмпренетта не стала твоей женой, она должна оставаться для тебя священной! Ясно?
Селестина обожала любовные истории — она так много читала о них в тюрьме!
— И о чем вы говорили? — спросила она.
Дедушка Сезар разразился слегка дребезжащим старческим смехом.
— Ох уж эта Селестина!.. Ну о чем же они могли болтать, бедная ты дурочка? Да о любви, конечно!
И, как всегда, когда при ней упоминали о нежных чувствах, мать семейства вознеслась на седьмое небо от восторга.
— Так ты любишь Пэмпренетту, малыш?
— Само собой, люблю…
— И хочешь на ней жениться?
— Естественно…
Элуа, как и всех остальных, охватило волнение, но все же он напустил на себя строгий вид.
— Ты ведь знаешь, мой мальчик, что у нас, Маспи, не принято жениться по пятьдесят раз! Так что хорошенько подумай, хочешь ли ты прожить с Пэмпренеттой всю жизнь.
— Я уже подумал.
— Хорошо… А ты что скажешь, отец?
Сезар долго откашливался, с лукавым удовольствием затягивая всеобщее ожидание.
— Скажу, что это прекрасно, — наконец отозвался он.
Все Маспи с облегчением перевели дух.
— А как по-твоему, мама?
— Я согласна с Сезаром.
Элуа величественно повернулся к сыну.
— В таком случае я сегодня же попрошу у Дьедоннэ руки его дочери для моего первенца. А сейчас, Бруно, пойдем ко мне в комнату, нам надо поговорить.
Когда отец с сыном остались вдвоем, Элуа приказал Бруно сесть и лишь после этого приступил к давно заготовленной речи:
— С тех пор как ты вернулся из армии, я не задавал тебе никаких вопросов… Но, уж коли ты задумал жениться, это меняет дело… Не стану скрывать, Бруно, ни в детстве, ни в юности ты не доставлял нам полного удовлетворения… Да, я согласен, ничего дурного о твоем поведении не скажешь, равно как и об отношении к нам, более того, когда нам с матерью приходилось надолго отлучаться из дому, ты неплохо заботился о сестрах и брате. Тем не менее я ни разу не заметил в тебе того огня, что делает человека настоящим мужчиной. А ведь я хочу, чтобы ты наследовал мне! Я не пытался ни нажимать на тебя, ни подталкивать, ибо считаю, что призвание должно проявиться само собой… Обычно это случается довольно быстро… К примеру, твой брат Илэр уже достиг поразительной ловкости, да и работает с полной отдачей… Эстель пошла по стопам матери, и, не стану скрывать, по-моему, она даже талантливее Селестины, но, главное, не говори об этом маме, а то она расстроится… Зато Фелиси меня немного беспокоит, поскольку, кажется, малость похожа на тебя… как будто у нее ни к чему нет особой тяги… Но в глубине души я спокоен: вероятно, у твоей младшей сестры, как и у тебя, просто позднее призвание… И можешь мне поверить, это не так уж плохо…
Элуа немного помолчал и, понизив голос, почти робко осведомился:
— Ну, Бруно… так ты наконец решил работать?
— Да.
— Слава Богу! И ты выбрал, чем именно хочешь заниматься?
— Да.
— Браво! Нет-нет, пока ничего не говори! Пусть это станет сюрпризом! Я хочу узнать о твоем призвании вместе с остальными. Мальчик мой, я в тебя верю и теперь не сомневаюсь, что ты станешь моим преемником, а возможно, достигнешь еще большего могущества! Я чертовски рад, сынок… И то, что ты женишься, тоже очень здорово. Пэмпренетта — самая лучшая девушка…
Маспи, припомнив недавний случай, вдруг рассмеялся.
— Представляешь, на днях она явилась сюда с таким пузом, будто вот-вот родит… Само собой, мы с твоей матерью совершенно обалдели… Ну, ты ведь понимаешь, какие мысли в таких случаях сразу лезут в голову… Хотя, кажется, могли бы сразу сообразить, что видели Пэмпренетту всего несколько дней назад, а младенцы ведь не растут, черт возьми, с такой скоростью! Я и спрашиваю: «Что это с твоим животом, Пэмпренетта?» Ну а она запускает руку под юбку и вытаскивает мешок первоклассного бразильского кофе на добрых пять кило! Утром она стибрила его на набережной Жолиэт! Ну, что скажешь, малыш?
Элуа так и не узнал, что думает его сын о проделке Пэмпренетты, поскольку в комнату вошла Фелиси и возвестила о появлении первых гостей.
Два часа спустя если бы кто-то из посторонних получил разрешение взглянуть на собравшихся в доме Маспи, его бы очаровали манеры дам, заботливость и вежливость мужчин и трогательное почтение к старикам. Чужак наверняка решил бы, что видит именитых граждан города, хранителей древних традиций, и, узнай он, что все эти славные буржуа, такие торжественные и величавые, в общей сложности провели в тюрьме два века, его бы, как пить дать, хватил удар.
Около семи часов Элуа постучал ножом о бокал, требуя всеобщего внимания. Все мгновенно притихли. Маспи немного смущенно, но, как всегда, с достоинством встал.
— Друзья мои, я предлагаю поднять бокалы в честь той, чьи именины мы сегодня празднуем… моей дорогой жены Селестины, матери четверых детей.
Тронутая вниманием мужа Селестина прослезилась, и все дамы тут же последовали ее примеру. Маспи подошел к жене и нежно похлопал по плечу.
— Да ну же, милая, перестань плакать… Ей-богу, не с чего! Ты среди друзей, наших лучших друзей… и мне не стыдно сказать им, как я счастлив с тобой и благодарен тебе за это…
Гости в полном восторге зааплодировали, и каждый счел своим долгом расцеловать Селестину. А Богач Фонтан от имени собравшихся произнес ответную речь:
— Мы все очень рады за тебя, Элуа! Ты наш глава, и мы тебя бесконечно уважаем… Уважаем мы и твою жену, ибо она — истинный образец для молодежи… А потому я пью за здоровье и процветание семьи Маспи!
Гости и хозяева снова осушили бокалы, и наконец настал момент, которого все давно с нетерпением ждали, ибо каждый уже знал секрет. Пэмпренетта ерзала на стуле, будто ненароком села на ежа. Ипполит Доло страдал, чувствуя, что девушка навсегда от него ускользает. А Бруно раздумывал, хватит ли у него отваги выложить новость, которая неминуемо вызовет скандал. И, однако, разве у него есть другой выход? Элуа снова встал.
— Друзья мои, я рад, что все вы станете свидетелями… великого события в нашей семье…
Женщины заговорщически улыбнулись Пэмпренетте, а та покраснела под белой накидкой.
— …Освободившись от военной службы, мой сын Бруно займет среди нас достойное место… Но он хочет сначала обзавестись семьей. Ну, а я вовсе не против ранних браков, потому как при нашей неспокойной жизни лучше не терять времени даром… И потом, хоть Бруно и получил хорошее воспитание, сами знаете, как это бывает, а? Короче, не стоит играть с огнем… Так вот, Дьедоннэ Адоль и вы, Перрин, согласны ли вы отдать свою дочь Памелу в жены моему сыну Бруно?
Селестина опять разрыдалась, так что свекрови пришлось тихонько ее одернуть:
— Послушай, Селестина, и долго ты собираешься изображать фонтан? Ну скажи, на кой черт нам тут потоп?
Дьедоннэ Адоль от души наслаждался этой минутой. В кои-то веки он выступил на первый план, а Перрин волей-неволей пришлось предоставить слово супругу.
— Для нас с Перрин твое предложение — большая честь, Элуа. А дети так давно любят друг друга… так что я не вижу причин мешать их счастью. Короче, я согласен! А ты, Перрин?
Мадам Адоль глубоко вздохнула, и корсаж ее платья едва удержал могучую грудь.
— Пэмпренетта — наша единственная радость на этой земле, а потому вы, конечно, поймете, Элуа, что я должна хорошенько подумать, прежде чем с ней расстаться…
Маспи побледнел.
— Уж не считаете ли вы, случаем, мадам Адоль, что наш род недостаточно хорош для вашей крошки?
Всеобщее радостное возбуждение в мгновение ока сменилось тревогой. В воздухе запахло грозой.
— Не приписывайте мне того, чего я не говорила, Элуа! Как и мой Дьедоннэ, я бы только гордилась союзом, наших двух семей, но…
— Что «но»?
— Но ваш Бруно в свои двадцать два года еще ни разу не показал себя на деле. И прежде чем отдать ему свою дочь, я бы хотела выяснить, каким ремеслом он намерен заняться. Надеюсь, за это вы не станете меня упрекать?
Маспи считал себя человеком справедливым.
— Вы правы, Перрин… Но успокойтесь — как раз перед вашим приходом Бруно сказал мне, что наконец принял решение… Просто у мальчика позднее призвание, Перрин… А вы ведь знаете, что это дает далеко не худшие результаты?
— Согласна, Элуа… Ну, так какую стезю выбрал ваш Бруно?
Наступило глубокое молчание. Все ждали, что ответит молодой человек. Элуа, не выдержав, поторопил сына:
— Да ну же, Бруно! Ты что, не слышал?
— Слышал…
— Так расскажи нам, каковы твои намерения!
Старший сын Маспи понял, что теперь уже не отвертеться. Он встал и, выпрямившись во весь рост, спокойно заявил:
— Я буду работать.
— Ну, об этом мы уже и сами догадались. И что за специальность ты выбрал?
— Честную.
— Что?!
Восклицание Маспи куда больше напоминало возмущенный вопль, чем вопрос. А Бруно не замедлил воспользоваться наступившей паузой.
— Я иду служить в полицию, — добавил он.
У Пэмпренетты началась истерика. Ипполит ликовал. Фелиси пыталась привести в чувство потерявшую сознание мать. Остальные разразились криками, причитаниями, кто-то тщетно взывал к силам небесным, а дедушка Маспи требовал бутылку, уверяя, что если он сейчас не подкрепится, то после такого потрясения непременно отправится на тот свет. Элуа разорвал воротник, чувствуя, что вот-вот задохнется. Бруно снова сел. Сейчас он больше всего напоминал рыбака, неожиданно застигнутого приливом на одинокой скале. Наконец Элуа отдышался и стоя выпил два бокала кьянти. Однако прежде чем он успел открыть рот, Перрин крикнула:
— Раз такое дело, Элуа, сами понимаете, я оставлю дочь при себе!
— Да, я вас понимаю, Перрин…
Пэмпренетта вознамерилась было снова устроить истерику, но увесистая материнская оплеуха отбила у нее желание скандалить.
— Друзья мои…
Все замерли, искренне переживая за Маспи, на которого так несправедливо обрушилось несчастье.
— Того, что со мной сегодня случилось, я никак не заслужил…
Фонтан Богач дрожащим от волнения голосом поддержал друга:
— Нет, Элуа, конечно, не заслужил!
— Спасибо, Доминик… Мы воображаем, будто хорошо знаем своих детей… изо всех сил стараемся подавать им хороший пример, а потом в один прекрасный день обнаруживаем, что пригрели на груди змею!
Метафора произвела на всех сильное впечатление. А упомянутая змея упорно не поднимала глаз от пола.
— Только я думал, что смогу на старости лет спокойно отдохнуть — и вдруг моя жизнь летит к черту! А все из-за этого бандита, из-за этого негодяя! Ну, скажи, чудовище, где тебе вбили в голову такую мерзость? Может, в полку?
И тут, к величайшему ужасу этих мужчин и женщин, воспитанных в глубоком почтении к старшим, Бруно осмелился оскорбить отца:
— Я научился этому здесь!
Элуа хотел броситься на сына, но Шивр успел вовремя его удержать.
— Успокойся, коллега… успокойся… а то как бы тебе не натворить бед!
— Отпусти меня, Адольф! Я должен его прикончить! Этого требует моя честь! Он смеет говорить, негодяй, будто здесь…
— Да, именно так! Видя, что мои родители вечно сидят в тюрьме, что вы большую часть жизни проводите за решеткой, я решил избрать другой образ жизни. Потому как, хоть вы и разглагольствуете о свободе, на самом деле любой дворник свободнее вас! А я хочу, чтобы мои дети не стыдились своего отца! И в полицию иду, чтобы бороться с мужчинами и женщинами вроде вас, поскольку именно вы делаете несчастными собственных малышей! С самого рождения они обречены стать преступниками!
Доло пришлось помочь Шивру удерживать Элуа, а тот продолжал бесноваться:
— Отпустите меня, я его сейчас убью!
Фонтан Богач повернулся к Бруно.
— Ты нас оскорбляешь, мальчик… Сейчас я в вашем доме и потому не стану отвечать, но больше не желаю тебя видеть… С этой минуты ты для меня не существуешь.
— А если я замечу, что ты по-прежнему вертишься около моей дочери, будешь иметь дело со мной, легаш недоделанный! — добавила Перрин.
— А я-то думала… ты… меня… любишь… — рыдая, пробормотала Пэмпренетта.
— Как раз из любви к тебе, моя Пэмпренетта, я хочу стать порядочным человеком!
— Попробуй только сказать еще хоть слово этому выродку, Памела, и я собственными руками расшибу тебе голову! — снова вмешалась мадам Адоль.
Друзьям наконец удалось утихомирить Элуа, и он пообещал не трогать сына. Маспи лишь подошел к возмутителю спокойствия.
— Встать!
Бруно выполнил приказ.
— Ты не только обесчестил меня, равно как свою мать, брата, сестер и моих родителей, но еще и оскорбил моих друзей, моих давних испытанных коллег… Неужто у тебя ни к кому и ни к чему не осталось уважения, Бруно? Или ты прогнил до мозга костей? Но раз ты не боишься живых, может, хоть перед мертвыми станет стыдно?
Элуа схватил сына за плечо и в благоговейном молчании
всех присутствующих подвел к висевшим на стене фотографиям.
— Вот твой прапрадед, Грасьен Маспи. Он умер на каторге в Тулоне… А вот это — его сын Модест. Он совершил ошибку, прикончив жандарма… слишком горячая кровь… и бедняга окончил дни свои на эшафоте… А это Оноре, мой дед… пятнадцать лет провел в Гвиане[340], а его жена Николетта — двенадцать в тюрьме Экс-ан-Прованса… Вот твоя бабушка, мать Селестины, Прюданс Казаве… Она умерла в больнице тюрьмы Шав…
Элуа торжественно перечислял имена и сроки заключения тех, чьи фотографии украшали стену гостиной. Так Руи Гомес в знаменитой сцене рассказывал дону Карлосу о великих свершениях предков.[341]
— …Твой дядя Пласид, мой родной брат… Насколько его знаю, услышав о твоем поведении, Пласид вполне способен устроить в Нимском централе голодовку, а ему сидеть там еще пять лет. Мой кузен Рафаэль Ано — в общей сложности провел в тюрьме двадцать пять лет, а потом еще отправился в ссылку… Максим Казаве, брат твоей матери и, стало быть, твой дядя… сейчас он в Бометт…
Элуа вдруг резко повернулся к сыну:
— А теперь посмей сказать мне в глаза, что ты собираешься предать всех, кого сейчас нет с нами!
— Просто я не желаю идти по их стопам и вечно чувствовать себя загнанной крысой! Может, вы и сумели уверовать, будто истинная свобода — в тюрьме, а по-моему, вы просто несчастные люди! Вы обманываете сами себя и слишком трусливы, чтобы открыто это признать! Да любой нищий счастливее вас! За всю жизнь вы не знали ни минуты покоя! Вы обкрадывали других и теперь бессовестно пользуетесь чужим добром, но каждую минуту дрожите, боясь услышать на лестнице своего дома шаги полицейских! Да-да, жалкие вы люди, и больше ничего…
Элуа Маспи, побледнев как полотно, указал сыну на дверь:
— Уходи! Ты мне больше не сын! Я отрекаюсь от тебя!
— Это вполне отвечает моим желаниям.
— Я проклинаю тебя!
— Ты? Когда человек живет вне закона, все его проклятия не стоят и ломаного гроша.
Бруно обнял мать.
— Мама, я тебя очень люблю… но был слишком несчастен, когда еще малышом почти не видел тебя… Поэтому я и не хочу следовать вашему примеру…
— Я запрещаю тебе целовать мать! — заорал Маспи.
Не обращая внимания на отцовские крики, парень долго прижимал Селестину к груди. Потом он подошел к Эстель, но та демонстративно повернулась спиной, а маленький Илэр показал брату язык. Зато Фелиси взяла Бруно за руку и коснулась ее губами. Он нагнулся к младшей сестренке.
— Тебя я тоже спасу… — шепнул он.
Бруно хотел попрощаться и с дедом, но старик плюнул ему под ноги, а бабушка Адель, впервые в жизни рискнув ослушаться мужа, крепко обняла внука и чуть слышно сказала на ухо:
— Я тоже иногда думала, как ты…
Уже уходя, молодой человек обернулся:
— Пэмпренетта… я всегда буду тебя любить… потому что полюбил с детства… И, верь мне, я еще вернусь за тобой!
После ухода Бруно гости стали прощаться один за другим. Никто из них не мог найти подходящих слов утешения. И снова общее мнение выразил Фонтан Богач:
— Элуа, мы по-прежнему доверяем тебе… Ты ни в чем не виноват… Дети — все равно что дыни, пока не разрежешь, невозможно узнать, что внутри…
— Спасибо, Доминик… благодарю тебя от всего сердца… Но пока я и сам толком не соображу, что за напасть на меня вдруг свалилась… У меня был сын, на которого я возлагал надежды и думал, что он станет мне опорой в будущем, а вместо этого в доме оказался полицейский, и он оскорбил нас всех! Нет, это уж слишком… Я не могу вынести такого несчастья…
И, вне себя от стыда, великий Элуа Маспи, склонив голову на плечо своего друга Фонтана Богача, заплакал. Остальные тактично удалились. Доминик по-братски похлопывал по голове давнего спутника и коллегу.
— Да ну же, Элуа! Возьми себя в руки! Какой смысл портить себе кровь?
— Да никакого, сам знаю, но все-таки кто бы мог подумать, что Бруно, которым я так гордился, станет позором нашей семьи?
Глава II
Вечером 22 мая 1963 года исполнилось ровно три года с тех пор, как Бруно Маспи покинул отчий дом. За все это время он ни разу не давал о себе знать. Лишь по слухам, которых ждали с большим нетерпением, хотя ради фамильной чести делали вид, будто все это их не касается, Маспи знали, что это чудовище Бруно бодро продвигается по служебной лестнице. И, таким образом, позор Элуа и всего семейства не только не исчез из памяти, но, похоже, со временем достигнет невероятных размеров, ибо Бруно, судя по началу его карьеры, запросто может стать шефом всех полицейских Франции. От одной мысли о подобной перспективе его отца прошиб холодный пот. И Элуа клялся себе, что, коли такой кошмар произойдет при его жизни, он наложит на себя руки и таким образом смоет позорное пятно с имени Маспи. Воображение южанина мгновенно превращало предположение в неотвратимую реальность, и Элуа, оплакивая свою безвременную кончину, ронял крупные слезы, а Селестина терзалась, глядя на страдания мужа.
Разумеется, за эти три года никто в доме Маспи не смел произносить имени изгнанника, опасаясь разгневать главу семьи. Но желания забыть слишком мало, чтобы унять печаль и залечить рану разбитого сердца, а потому даже те, кто не относился к ближайшему окружению Элуа, невольно замечали, что уход Бруно из дома возымел самые трагические последствия. Конечно, нельзя сказать, что после измены старшего сына Маспи утратили влияние, но все-таки они уже были не прежними… Да, разумеется, к Элуа продолжали приходить за советом, и он оставался бесспорным главой марсельских мошенников, но клиенты смутно ощущали, что былой огонь угас… Элуа почти не выходил из дома. Своему другу врачу, посоветовавшему хоть иногда дышать свежим воздухом, если он не хочет высохнуть, как вобла, Великий Маспи мрачно ответил:
— Я не хочу, Феликс, чтобы на меня показывали пальцем!
— А почему это на тебя должны показывать пальцем, несчастный?
— Да потому что все станут говорить: «Эге, вон он, тот, кто давал нам уроки! Вон он, Великий Маспи, не удосужившийся даже разглядеть червяка, глодавшего изнутри его родного сына!» А потом, Феликс, когда мы умрем, родители будут рассказывать своим юным отпрыскам: «Жил-был когда-то один человек, и всю жизнь он пользовался заслуженным уважением… Сколько блестящих операций на его счету… а уж тюрем перевидал — не счесть, даже в итальянских сидел… Крепкий был мужик, всегда умел осадить любого! Так вот, дети, представляете, кем стал сынок этого Великого Маспи? Легавым! А сам Великий Маспи от этого потихоньку спятил, потому как такого позора в приличной семье еще свет не видывал!»
— Знаешь, что я об этом думаю, Элуа? Тебе просто мерещится черт знает что!
— Ах, мерещится?
— Да, вот именно!
— А твоей сестрице тоже мерещится?
Врач отступил на шаг и пристально поглядел на друга.
— Моей сестре? Но ты же прекрасно знаешь, что у меня нет никаких сестер, а если бы и была, я совершенно не понимаю, при чем тут…
— Отцепись от меня, Феликс! Право слово, ты глупее дюжины таможенников!
— Полегче на поворотах, Элуа!
— Что?
— Я сказал: полегче, Элуа! Я вовсе не привык, чтобы пустозвоны вроде тебя разговаривали со мной в таком тоне!
— Так я, по-твоему, пустозвон?
— Ага, он самый! И могу добавить, что у любого таможенника мозги получше, чем у Маспи, даже если его называют Великим!
— Послушай, Феликс!
— Я тебя слушаю, Элуа!
— Всю жизнь я старался не проливать крови ближних, но на сей раз у меня лопнуло терпение! Убирайся отсюда, Феликс, или через пять минут мы оба начнем плавать в твоей крови!
— А пока ты будешь меня убивать, я, по-твоему, стану распевать псалмы?
— Да ты и рта открыть не успеешь! Покойники не поют!
— Убийца!
— Уж куда мне до тебя в этом плане!
— Дурной, бесчувственный отец!
— Ну, на сей раз ты свое получишь! Прощай, Феликс!
Маспи вцепился в горло врача, и тот дико завопил. Прибежала Селестина. При виде дерущихся мужчин она в свою очередь крикнула:
— Может, хватит, а?
Они немного смущенно отпустили друг друг.
— И не стыдно? В вашем-то возрасте…
Врач поправил галстук и с видом оскорбленного достоинства заявил:
— Ваш муж, мадам Селестина, окончательно рехнулся… Тридцать лет я считал его другом, но сегодня наша дружба умерла! Элуа оскорбил мою сестру!
— Вашу сестру? Так ведь у вас же ее нет!
— Нет, но могла бы быть. Я всегда очень любил вас, мадам Селестина, так что позвольте перед уходом вас поцеловать, а засим расстанемся навсегда.
— Давайте оставим нежности на после обеда.
— Обеда?
— Ну да! Прибор вам уже поставлен. Неужто вы думаете, бабушка допустит, чтобы вы ушли, даже не отведав ее рыбного супа, а?
Доктор немного поколебался.
— Ну, разве что из дружбы к вам, мадам Селестина, и из уважения к бабушке… так и быть, я останусь.
Элуа насмешливо фыркнул.
— Вернее, из любви к рыбному супу.
Феликс смерил хозяина дома высокомерным взглядом.
— Такая мелочность с вашей стороны меня нисколько не удивляет, месье Маспи!
Врач вышел из комнаты и отправился к старому Сезару пить пастис[342]. А Селестина, оставшись наедине с мужем, негромко заметила:
— Я просто не узнаю тебя, Элуа… Раньше ты всегда был так любезен, так предупредителен, а теперь стал зол и даже несправедлив… В конце концов люди перестанут тебя уважать!
— Они и так уже потеряли всякое уважение!
— Ну, это тебе только кажется…
— Посмотри на Феликса! Прежде он бы никогда не посмел так со мной разговаривать, а нынче это вполне естественно.
— Естественно?
— А какое почтение можно испытывать к человеку, если в его семье случился такой позор?
Той же ночью незадолго до рассвета в районе Старого Порта бродил мужчина. Он страшно проголодался, умирал от жажды и еле стоял на ногах от усталости. Еще совсем молодой человек, от тревоги он казался гораздо старше своих лет. Три часа назад парень тайно высадился на побережье, но за это ему пришлось выложить все деньги до последнего су. И теперь несчастный брел по набережной в поисках прохожего, которого можно было бы без особых опасений спросить, где найти человека, чье имя ему назвали в Генуе, сказав, что только этот тип способен отважиться на такую рискованную сделку. Но в такой поздний час прохожие попадались очень редко, да и то в основном возвращавшиеся к себе на судно моряки. А моряки, как правило, не имеют дел ни с кем из тех, кого парень надеялся встретить.
Совсем отчаявшись, он решил ждать утра. Но как совладать с голодом и жаждой, а главное, не угодить в лапы полиции? Боясь случайно налететь на таможенников, парень побрел наугад прочь от порта. А как бы ему хотелось снять номер в гостинице и спать, спать, спать… Может, тогда он сумел бы забыть три последних дня, три дня, за которые он совершил два убийства. Но — нет, никогда в жизни Томазо Ланчано их не забудет, он ведь не профессиональный убийца… Живот свело от голода, во рту пересохло, но итальянец брел, едва волоча ноги, прислушиваясь к каждому шороху и напряженно вглядываясь в темноту, поскольку хоть в кошельке у него не было ни гроша, зато в поясе лежало больше чем на миллион[343] драгоценностей.
Элуа Маспи тоже никак не мог заснуть, правда, по совсем иным причинам, и вертелся с боку на бок в огромной супружеской постели, занимавшей чуть ли не всю длину спальни. Элуа даже слегка досадовал на Селестину — уж очень сладко она посапывала во сне. В обычное время это только умилило бы Маспи, но сейчас выводило из себя. Тяжкие мысли мешали Элуа забыться и по-настоящему отдохнуть. Перед сном у него произошла довольно бурная стычка с младшей дочерью, Фелиси. Теперь у Элуа не осталось сомнений, что и эта, как ее брат, пойдет по дурной дорожке. А две паршивых овцы в семье — это чересчур!
Ох уж эта Фелиси! Она, видите ли, вбила себе в голову, что хочет честно зарабатывать на жизнь! И у бесстыдницы хватило нахальства без спросу пойти ученицей в парикмахерскую на Канебьер![344] Эстель так оскорбило поведение Фелиси, что она даже не позвала младшую сестру на свадьбу! А Эстель, между прочим, вышла замуж не за кого-нибудь, а за одного пьемонтца, настолько преуспевшего в разного рода мошенничествах, что теперь его разыскивает полиция сразу трех или четырех стран. Вот это мужчина! Семейные огорчения помешали Маспи отпраздновать свадьбу с должной роскошью и размахом, но все же церемония получилась достаточно внушительной и собрала самые сливки международного преступного мира. Селестина полагала, что не будь у Фелиси таких нелепых заскоков, девчушка могла бы там познакомиться с подходящим молодым человеком и он обеспечил бы ей безбедное существование… во всяком случае, на какое-то время…
А тут еще самый младший, Илэр… Малышу, которым так гордился Маспи, пришлось сидеть сложа руки, ибо за ним зорко следила полиция. В последний раз, когда Илэра привели в суд для малолетних нарушителей, судья ясно предупредил:
— Если мы с тобой снова встретимся, прямо отсюда поедешь в исправительный дом!
Элуа, полагая, что его сын еще слишком мал для таких суровых испытаний, устроил его в пансион неподалеку от Экс-ан-Прованса, строго-настрого приказав не высовываться год или два. Отец объяснил Илэру, что тот теперь последний продолжатель рода Маспи, а потому обязан действовать осторожно и не рисковать понапрасну. Илэр, далеко не глупый малый, дал слово, что отец вполне может на него положиться.
Короче, теперь, без детей (Фелиси возвращалась домой только ночевать), жизнь на улице Лонг-дэ-Капюсэн стала совсем не веселой. Впрочем, даже если дочь приходила раньше обычного, отец с ней почти не разговаривал и, вероятно, выгнал бы, как и старшего сына, узнай он, что вот уже несколько недель девушка тайно видится с братом.
Как и остальные члены семьи, Фелиси три года не получала никаких вестей от Бруно и очень тревожилась. Однажды, не выдержав, девушка рискнула сходить в комиссариат к инспектору Пишранду. Фелиси помнила, что он всегда очень хорошо относился к Бруно. Добряк поспешил ее успокоить. Он переписывался с «позором» Маспи, иногда даже виделся с ним и уверил Фелиси, что она может гордиться братом — тот, как и она сама, на верном пути.
— И, знаешь что, моя крошка, — добавил инспектор, — если тебя вдруг кто-нибудь обидит, сразу скажи мне! Ладно?
Но Фелиси так и не пришлось звать Пишранда на помощь. Она была порядочной девушкой, всегда держалась скромно, и ни один шпаненок никогда не посмел бы к ней приставать. И потом, не следовало забывать, что Фелиси — дочь Великого Маспи, а с ним шутки плохи.
Однажды в полдень девушка, как обычно, шла обедать в бистро на улице Тьер. Неожиданно из толпы, запрудившей Канебьер, ее окликнули:
— Фелиси!
Мадемуазель Маспи не повернула головы, решив, что, возможно, это какой-нибудь повеса, узнавший ее имя от одной из подруг. И все же сердце Фелиси учащенно забилось — уж очень знакомый голос… А вдруг это и вправду… Тот, кто окликнул девушку, подошел поближе и, поравнявшись с ней, ласково спросил:
— Боже мой, да неужто это ты, Фелиси, стала такой красоткой?
Тут она наконец обернулась и, смеясь от счастья, упала в объятия Бруно.
Парень повел сестру обедать в хороший ресторан, но ни тот, ни другая почти не обращали внимания на еду — у обоих накопилось слишком много вопросов и больше всего им хотелось говорить и слушать. Бруно рассказал сестре, что недолго носил полицейскую форму — успешно сдав все экзамены, он получил звание инспектора и теперь будет служить в комиссариате, под началом у своего покровителя Пишранда.
— Но тогда, Бруно… случись что-нибудь в нашем квартале, туда могут послать тебя?
— Конечно.
— О Матерь Божья! Да подумай же хоть немного об отце!
Бруно пожал плечами.
— Об отце? Я не хочу иметь с ним ничего общего, но пусть только попробует ставить мне палки в колеса — узнает, почем фунт лиха.
Фелиси, в ужасе от такого кощунства, молитвенно сложила руки.
— Но отец…
— Послушай, Фелиси, для меня мир делится на честных людей и всех остальных… И хватит об этом. А как мама?
— Скучает по тебе, как и бабушка с дедом…
— А Эстель, говорят, вышла замуж?
— Да, за пьемонтца. Живет в Турине… Мы не пишем друг другу… и на свадьбу она меня не позвала…
— Тем лучше для тебя… Эстель кончит очень скверно. А как Илэр?
— В пансионе неподалеку от Экса… За него я тоже беспокоюсь, Бруно… мальчишку чуть не отправили в исправительный дом.
— Я в курсе. Попытаюсь его урезонить… Во всяком случае, дорогая моя Фелиси, я очень рад, что ты не похожа на Эстель и Илэра.
— Надо думать, скорее на тебя…
Брат и сестра чуть смущенно рассмеялись. Оба прекрасно понимали, что, хотя никто из них не назвал имени Пэмпренетты, оно так и вертелось на языке. Наконец Бруно решился:
— Ах да, кстати… а дочка Адолей… — голос Бруно слегка дрогнул, и у Фелиси на глазах выступили слезы. — Памела… Что с ней теперь?
— Пэмпренетта все такая же… Продолжает смеяться и… делать глупости…
— Так ты думаешь, она…
— Нет-нет, совсем не то, что ты подумал! Насчет поведения я ни разу не слышала ничего дурного…
Бруно с облегчением перевел дух.
— Но Пэмпренетта по-прежнему ворует… Ума не приложу, как ее до сих пор не поймали… Скажи, Бруно, а ты все так же любишь Пэмпренетту?
— Да, все так же.
— И хочешь на ней жениться?
— Да.
— Тогда тебе надо бы поспешить!
— А что такое?
— Да Ипполит Доло вот-вот выйдет из Бомэтт, где провел два года, а я знаю, что он тоже не прочь жениться на Пэмпренетте!
— Ну и что?
— Я думаю, твой отъезд ее страшно огорчил… Но теперь даже не знаю, что у нее на уме — мы ведь больше не встречаемся.
— Но ты все же могла бы увидеться с Пэмпренеттой?
— Ну да, достаточно просто сходить к Адолям.
— Может, передашь, что мне бы очень хотелось с ней поговорить?
— С удовольствием, Бруно… А маме ты ничего не хочешь передать?
— Поцелуй ее… и всех остальных… Да скажи, как мне жаль, что я не могу прийти домой. Но, боюсь, отец снова выставил бы меня вон.
— Очень возможно.
Утром 23 мая дежурившему в комиссариате Бруно сообщили, что портовая полиция выловила из воды труп мужчины и, судя по всему, его сначала убили, а уж потом бросили в море. Бруно немедленно предупредил комиссара, а тот вызвал коллег Маспи — молодого инспектора Жерома Ратьера и старого служаку Пишранда. К полудню следствие уже шло полным ходом. Выяснилось, что покойный — некто Томазо Ланчано, подозреваемый в убийстве супругов-мультимиллионеров Беттола, живших на вилле в пригороде Генуи, и похищении великолепной коллекции драгоценностей. С этой минуты стало ясно, что Ланчано надеялся продать бесценную добычу в Марселе, но не нашел ожидаемой помощи. Более того, по-видимому, тот, к кому ехал итальянец, счел, что куда выгоднее убить его и прикарманить драгоценности.
Во второй половине дня комиссар Антуан Мурато вызвал к себе подчиненных.
— История выглядит довольно просто… Ланчано украл драгоценности и, понимая, как рискованны любые попытки сплавить их в Италии, с помощью какого-нибудь контрабандиста тайком пробрался во Францию. По всей видимости, ему дали адрес человека, способного собрать достаточно денег (а их понадобилось немало!), чтобы купить такой дорогостоящий товар. Очевидно, покупатель разлакомился и предпочел, избавившись от итальянца, получить коллекцию даром. Я думаю, ждать, пока драгоценности всплывут на рынке, бесполезно… Это слишком опасно для убийцы. Он же понимает, что дело попахивает гильотиной. Стало быть, по-моему, надо выяснить, кто переправил Ланчано из Генуи в Марсель, и этим займетесь вы, Маспи… Вы, Пишранд, покопайтесь в окружении Элуа — наверняка там что-то знают. Вам, Ратьер, надо поставить на ноги всех осведомителей, что вертятся вокруг Тони Салисето. Корсиканца кровь не пугает, особенно когда речь идет о миллионах. Ну, что вы об этом думаете, Пишранд?
— Я согласен с вами, шеф. Но только, мне кажется, Элуа и его друзья тут вряд ли замешаны… Слишком крупная игра для них, и потом, они еще никогда никого не убивали.
— Верно, но такой куш может свести с ума и самых благоразумных.
— Мой отец не мог запачкаться в таком деле — разве что за три года изменился до неузнаваемости, — сказал Бруно. — Зато Адоль вполне мог перевезти сюда Ланчано, даже не догадываясь о краже драгоценностей… Дьедоннэ — контрабандист, а не убийца.
— Не мне вам говорить, Маспи, что нередко человеком управляет случай. Но, так или иначе, хорошенько встряхните Адоля. Я хочу знать правду!
— Будет сделано, шеф!
Ответ парня прозвучал не слишком уверенно — он прекрасно понимал, что это не лучший способ доказать свою любовь Пэмпренетте. Не очень-то хорошо допрашивать ее родителей… Но, выбрав профессию полицейского, Бруно сознательно шел на подобный риск. Пишранд обещал наведаться к Двойному Глазу. По его мнению, столь важное событие в марсельском преступном мире никак не могло ускользнуть от внимания Амедэ Этувана. А Ратьер уже мысленно перебирал имена лучших осведомителей, обещая себе непременно выжать из них все возможное. Что до комиссара Мурато — то он радостно потирал руки: серьезные расследования отнюдь не портили ему настроение, а, напротив, скорее радовали.
— Ну, дети мои, вперед! И без проволочек!
Примерно в это же время Пэмпренетта собиралась, как обычно, пройтись по набережной и взглянуть, нельзя ли что-нибудь стянуть без спросу. Девушка осталась верна себе. В прелестном новеньком платье, держа нос по ветру, она шла по своим охотничьим угодьям. Встречные таможенники окидывали Пэмпренетту подозрительными взглядами. Время от времени кто-нибудь из старших окликал девушку:
— А, Пэмпренетта! Опять замышляешь какую-нибудь пакость?
Она с видом оскорбленной добродетели пожимала плечами.
— Берегись, как бы в один из ближайших дней тебя не упекли за решетку, и надолго!
Она дерзко смеялась в ответ, и в этом смехе было столько солнца и радости, что даже самые ворчливые опускали руки и совершенно искренне бормотали:
— А было бы чертовски жаль запереть в камере такую красотку!
По правде говоря, Пэмпренетта продолжала воровать на набережных только потому, что ничего другого не умела, но теперь душа у нее не лежала к этому занятию, и все из-за Бруно! Пэмпренетте так и не удалось его забыть. Очень долго она ждала, когда же парень даст о себе знать, не ведая, что мать перехватывает все письма Бруно. В конце концов девушка решила, что старший сын Элуа Маспи забыл о ее существовании. И это — после всех обещаний и клятв! Мысль о таком чудовищном предательстве надолго отвратила Пэмпренетту от всех представителей сильного пола.
Добравшись до Старого Порта, девушка заметила Ипполита. Она сразу узнала чуть пританцовывающую походку молодого бандита — он нарочно ходил так, стараясь казаться «крутым». В первую минуту Пэмпренетта хотела уклониться от встречи, но теперь, когда Бруно навсегда исчез из ее жизни, Ипполит нравился ей не больше и не меньше других, а потому мадемуазель Адоль бодро продолжала идти вперед. Сын Жоффруа и Серафины Доло подошел поближе.
— Пэмпренетта! Это и вправду ты!
— А почему бы и нет?
— Мне так давно хотелось тебя увидеть! Два года, знаешь ли, это очень много…
Теперь они медленно шли рядом. А солнце заливало ослепительным светом знаменитый марсельский порт.
— Солоно тебе пришлось? — вежливо спросила Пэмпренетта.
— Сначала — да, но потом я всем показал, чего стою.
Краем глаза девушка увидела, как Ипполит гордо выпятил грудь.
— А что ты думаешь делать теперь?
Парень слегка замялся.
— Пэмпренетта… я открою тебе одну тайну… Похоже, Корсиканец не прочь принять меня в компанию.
Девушка в изумлении замерла.
— Ты хочешь сказать, что готов переметнуться на их сторону?
— У нас нет никакого будущего, — с жаром стал объяснять Ипполит. — Папаша Маспи — конченый тип… Мой отец стареет… Двойной Глаз — тоже… Фонтан больше не желает рисковать… и занимается ерундой… Остаются лишь твои родители, но к контрабанде я не чувствую никакого призвания…
— Послушай, Ипполит, так ведь у корсиканцев и наркотики, и девки, и вообще… каких только гадостей они не делают!
— Согласен, зато там можно быстро добиться приличного положения, а я очень тороплюсь!
— Почему?
— Из-за тебя, Пэмпренетта.
— Из-за меня?
— Я ведь по-прежнему тебя люблю… Там, в Бомэт, я все время думал о тебе. «Чем она занимается?» — говорил я себе. И ужасно боялся, что ты выскочишь замуж… Ну и короче, чуть не сбрендил… Так вот, если ты согласна выйти за меня, я заработаю такие горы бабок, что ты будешь жить как принцесса!
Слушая парня, Пэмпренетта вспоминала Бруно. Он обещал превратить ее не в принцессу, а лишь в добропорядочную мать семейства с кучей ребятишек… Вечно у этого Бруно были какие-то дурацкие фантазии!
— Пэмпренетта, ты меня слушаешь?
— Само собой, да.
— И как тебе мое предложение?
— Пожалуй, над ним стоит поразмыслить.
Ипполит обнял девушку за плечи и прижал к себе.
— Ох, ты и представить не можешь, как я счастлив! Я так боялся, что ты все еще мечтаешь о Бруно!
Пэмпренетта чуть принужденно рассмеялась.
— Бруно? О-ля-ля! Да я сто лет как и думать о нем забыла! Легавый! Нет, да за кого ж ты меня принимаешь?
— Так, значит, моя Пэмпренетта, я могу потолковать с твоими родителями?
Комок в горле мешал девушке говорить.
— Ну, если хочешь… — с трудом выдавила она из себя.
Занятые расследованием полицейские большую часть ночи провели за работой. Инспектор Ратьер вызвал к себе в кабинет всех мелких осведомителей. Ничего особо полезного он от них не ждал, но решил не пренебрегать ни единой возможностью узнать хоть что-то. Бруно допрашивал тех, кто имел какое бы то ни было отношение к контрабанде, лишь встречу с Адолем он оставил на потом, отлично понимая, что именно к отцу Пэмпренетты все преступники побережья как Франции, так и Италии — от Генуи до Марселя — обращаются за помощью в первую очередь. Что до Пишранда, то он долго, очень долго пробыл у Амедэ Этувана по прозвищу Двойной Глаз. Но, вопреки ожиданиям инспектора, последний не смог рассказать ровно ничего интересного. Этуван вообще ничего не слыхал об этом деле и, как человек с большим жизненным опытом, в заключение заметил:
— Если хотите знать мое мнение, месье Пишранд, все это попахивает импровизацией… Случайное убийство, чего там… Тот тип увидел побрякушки и потерял голову…
— Кто, Тони Салисето?
— Понятия не имею, но среди его дружков масса любителей поработать ножом…
— Да и сам Тони неплохо управляется с холодным оружием, а?
— Верно, очень даже неплохо.
Рано утром подчиненные комиссара Мурато разошлись по домам совершенно измученные и в отвратительном настроении.
В доме Адолей на Монтэ-дэз-Аккуль тоже царило далеко не радужное настроение. Неподалеку от замка Иф в открытом море таможенники перехватили не слишком ценный, но все-таки полезный груз. И Дьедоннэ упрекал жену, что она рискует семейной репутацией, ввязываясь в мелкие и к тому же неудачные аферы. Оскорбленная Перрин отвечала, что, выйди она замуж за настоящего мужчину, ей бы не пришлось всем заниматься самой. Пэмпренетта давно привыкла к таким стычкам и обычно избегала вмешиваться в дела родителей. При первых же раскатах грома она на цыпочках удалялась к себе в комнату. Однако в то утро у нее было так тяжело на душе, что не хотелось двигаться с места. А потому случилось то, чего и следовало ожидать. Перрин Адоль, не найдя в муже достойного противника, без всякой причины накинулась на дочь. Она вопила, что Пэмпренетта — лентяйка, ни в чем не может помочь матери и в двадцать лет ведет существование умственно отсталой.
— Честное слово, можно подумать, что с тех пор как ты чуть не выскочила замуж за мерзавца Бруно Маспи, у тебя поехала крыша!
— Бруно не мерзавец!
— Вот-вот! Давай защищай его теперь!
— Я его не защищаю… Я говорю только, что он думает иначе, чем мы, и все.
— И все? Нет, ты слыхал, Дьедоннэ? Она считает, что разговор на этом закончен! Нет, мадемуазель, я замолчу, когда сама сочту нужным!
— Да ладно тебе, мама!
— Нахалка! И где, скажи на милость, тебя воспитывали?
— Сама знаешь, в монастырской школе.
— И она еще имеет наглость издеваться над родной матерью! Нет, ты и впрямь достойна своего Бруно! И надо думать, охотно подсобила бы ему отправить за решетку своих мать и отца, бесстыдница этакая!
Обожавший дочь Дьедоннэ попробовал за нее заступиться:
— Ну знаешь, Перрин, по-моему, на сей раз ты перегнула палку! Девочка не говорила ничего такого!
— И ты еще смеешь высказывать свое мнение, жалкий бездельник? Да как у тебя хватает наглости спорить со мной и поддерживать эту неблагодарную девчонку? Эту бессердечную! Может, ты забыл, что это я ее родила?
— Ну, не без моей помощи…
— Ты уверен?
Коварный намек Перрин глубоко уязвил Дьедоннэ.
— Боже мой! — жалобно заметил он. — И чего только не услышишь в этом доме! Я всегда уважал тебя, Перрин, но, предупреждаю, не испытывай моего терпения! Еще одно замечание в том же роде — и я навсегда перестану считать тебя достойной женщиной! Если Пэмпренетта — не моя дочь, признайся сразу! Тогда я покину этот дом и пойду топиться!
— А что, коли я поймаю тебя на слове?
— Ну, тогда я обдумаю положение.
Мадам Адоль торжествующе рассмеялась.
— Так я и знала! Никогда у тебя не хватит пороху покончить с собой, жалкий придурок!
— Насколько я понимаю, ты жаждешь моей крови, Перрин? Преступница, вот кто ты после этого!
— Не пытайся меня разжалобить, Дьедоннэ! Но Пэмпренетта, можешь не беспокоиться, и впрямь твоя дочь! И похожи вы как две капли воды, потому как эта бессовестная тоже позволяет матери убиваться на работе, а сама живет в свое удовольствие! А мне приходится кормить вас обоих!
Девушка наконец не выдержала:
— Раз тебе так трудно меня кормить, успокойся — недолго осталось!
После этого загадочного заявления в доме мгновенно наступила тишина. Забыв о недавней ярости, Перрин с тревогой спросила:
— Что ты имеешь в виду?
— Я выхожу замуж!
Родители тут же подскочили к любимому чаду.
— Замуж? Господи Иисусе! И за кого же?
— За Ипполита Доло.
— За Иппо… но он же в кутузке!
— Уже вышел! Мы встретились утром, и Доло просил меня стать его женой.
— И ты согласилась связаться с таким ничтожеством?
— Да.
— Я тебе запрещаю!
— Обойдусь без твоего разрешения!
— Матерь Божья!
Перрин налетела на дочь и влепила ей такую пощечину, что звон прокатился по всему дому. Девушка гордо выпрямилась.
— Можешь меня убить, но я все равно выйду за Ипполита!
— Ох, несчастная, да что ж ты нашла в этом недоноске?
— Это уж мое дело!
Мадам Адоль свирепо повернулась к мужу.
— Ну, а ты? Это все, что ты можешь сказать, когда твоя дочь собирается сделать глупость, которая приведет меня прямиком на кладбище?
Отец попытался воздействовать на дочь лаской.
— Моя Пэмпренетта… не может быть, чтобы ты говорила серьезно… Доло — просто мелкая шушера… нищие, да и только. Да ты помрешь голоду со своим Ипполитом, и потом, по-моему, у парня дурные наклонности… Сдается мне, он на все способен… Неужто ты хочешь стать вдовой типа, казненного на гильотине?
Но Пэмпренетта упрямо молчала, и ее мать в полном отчаянии воздела руки к небу.
— Что я тебе сделала, Господи? И за что ты взвалил на меня такой тяжкий крест?
Перрин Адоль, несомненно, очень бы удивилась, скажи ей кто-нибудь, что Всевышний не слишком благосклонно взирает на ее повседневные занятия.
Атмосфера в доме окончательно накалилась, когда в дверь неожиданно постучала Фелиси Маспи. Появление девушки мгновенно утихомирило бушевание страстей, едва не закончившееся всеобщей потасовкой. При посторонних всегда надо держать себя в руках! Перрин Адоль с улыбкой повернулась к гостье, и даже Дьедоннэ, давно привыкший к перепадам настроения супруги, слегка опешил.
— Ба, да это же Фелиси!.. Ну, девочка, что тебя сюда привело? Надеюсь, у вас ничего не стряслось?
— Я хотела поговорить с Пэмпренеттой.
— Ай-ай, ты выбрала не самое удачное время, бедняжка…
— А что, она больна?
— Больна? Да нет, скажи лучше, это мы от нее заболеем! Дрянь она и больше никто! А впрочем, тут нечему удивляться: Пэмпренетта — живой портрет своего папаши!
Дьедоннэ подскочил от возмущения.
— Так вот как ты говоришь обо мне при девочке, которая теперь и уважать-то меня не станет!
— Позволь заметить тебе, Дьедоннэ, что мы не одни и наши ссоры не интересуют эту барышню! Или ты хочешь навсегда внушить ей отвращение к замужеству?
Странная логика жены совершенно подавляла Адоля. Он чувствовал несправедливость ее слов, но все это настолько превосходило его разумение, что бедняга Суфле плюхнулся на стул, с горечью подумав, что, вероятно, до конца своих дней так и не научится понимать женщин. А мадам Адоль, больше не обращая на мужа внимания, стала расспрашивать Фелиси о здоровье домашних. Весть о том, что все Маспи чувствуют себя превосходно, по всей видимости, доставила ей огромное удовольствие.
— А если ты все-таки хочешь поболтать с этой паршивой Пэмпренеттой, — сказала она, — поднимись сама к ней в комнату, потому как на мой зов она вряд ли ответит, да еще, чего доброго, запрет дверь.
Мадемуазель Маспи тихонько постучала.
— Кто там?
— Фелиси…
— Входи.
Как ни пыталась Пэмпренетта держаться, дочь Элуа Маспи сразу заметила, что она плакала.
— Здравствуй, Пэмпренетта…
— Привет… С чего это ты вдруг пришла?
— Мы очень давно не виделись.
— Ты ведь знаешь причину…
— В том-то и дело…
— То есть?
— Я встретила Бруно.
— Не может быть!
По тону девушки Фелиси сразу поняла, что та по-прежнему любит ее брата. Но Пэмпренетта быстро взяла себя в руки.
— Ну и что? Мне-то какое дело?
— Он очень хотел бы с тобой поговорить.
— Перебьется! Я не общаюсь с легавыми.
— Но Бруно так несчастен…
— Тем хуже для него!.. А он, правда, несчастен?
— Правда!
— Почему?
— Потому что он все еще любит тебя.
— И ты воображаешь, будто я поверю?
— Я только повторяю то, что мне сказал Бруно, понятно? Он будет ждать тебя у фонтана Лоншан в одиннадцать часов.
— Ну, коли ему нравится ждать, пусть торчит там, пока не пустит корни!
— Поступай как знаешь, Пэмпренетта, а мне пора бежать на работу. Можно я тебя поцелую?
Девушки обнялись и немного поплакали.
— И кой черт понес этого дурня в легавые? — простонала Пэмпренетта.
Однако любовные огорчения Пэмпренетты и Бруно нисколько не интересовали господ из Министерства внутренних дел, и всем инспекторам приходилось заниматься расследованием убийства Томазо Ланчано. Жером Ратьер, которого в марсельском преступном мире еще почти не знали, мог беспрепятственно расспрашивать обывателей. Полицейский обращался главным образом к женщинам, зная, что его приятная внешность производит сильное впечатление на слегка увядших, но все еще не утративших романтических грез дам облегченного поведения. Но старания Ратьера не увенчались успехом. Судя по всему, никто даже не подозревал о существовании Ланчано, пока в газетах не сообщили о его убийстве.
В свою очередь, Пишранд возлагал большие надежды на встречу с Элуа Маспи. Ради своего любимца Бруно инспектор оказал Элуа немало услуг, стараясь помочь и ему, и домашним, когда тем случалось набедокурить.
Великий Маспи пребывал в глубокой меланхолии с тех пор, как его старший сын покинул семейный очаг. Сейчас он курил трубку в гостиной. Услышав стук в дверь, Элуа решил, что очередной клиент пришел за советом, и принял величественную позу, дабы внушить посетителю должное почтение к своей особе. Но в гостиную вдруг вбежала запыхавшаяся и покрасневшая Селестина.
— Элуа…
— Что? В чем дело?
— Это… это месье Пишранд!
— Инспектор? И чего ему надо?
Констан Пишранд переступил порог комнаты.
— Да просто немного поболтать с вами, Маспи, — благодушно проговорил он.
Элуа велел жене достать бутылку пастиса, и скоро инспектор и закоренелый нарушитель закона пили, как старые добрые друзья. Впрочем, они и сами относились друг к другу довольно дружелюбно. Пишранд рассказал Великому Маспи все, что сам знал об убийстве Ланчано и вероятных мотивах преступления. Элуа слушал очень внимательно.
— А почему вы все это решили выложить мне? — спросил он, когда инспектор умолк.
— Да так, подумал, что вы могли бы мне подсобить.
— Осторожно, Пишранд! Нельзя же презирать меня до такой степени! Я вам не осведомитель! Вот рассержусь по-настоящему да и вышвырну вас вон, не погляжу, что инспектор полиции! Этак мы с вами в дым поссоримся… Если мой сынок сбился с пути, это вовсе не значит, что и я пойду следом!
Пишранд давно привык к гневным вспышкам Великого Маспи, и никакие угрозы его ничуть не трогали. Однако он сделал вид, будто смирился с неудачей.
— Ладно… забудем об этом!
— Вот-вот, лучше выпьем еще по маленькой.
Они снова чокнулись. Полицейский поставил пустой бокал на столик.
— А вы и вправду изменились, Элуа, — пробормотал он себе под нос. — Я не хотел верить, но теперь вижу: так оно и есть… И, если хотите знать мое мнение, это особенно грустно, когда вспомнишь, каким вы были прежде…
Маспи чуть не захлебнулся пастисом, а караулившая под дверью Селестина, услышав кашель, хрип и странное хлюпанье супруга, бросилась в комнату и стала энергично хлопать Элуа по спине, — за тридцать лет супружеской жизни она приобрела в этом плане достаточный опыт. Одновременно мадам Маспи с глубоким укором посмотрела на инспектора:
— Ну, зачем вы довели его до такого состояния?
— Но, дорогая моя Селестина, я даже не понимаю, что вдруг стряслось с Элуа!
Маспи, едва отдышавшись, отпихнул жену и вскочил, мстительно указывая пальцем на Пишранда.
— Ах, он не понимает? Ну, это уж слишком! Оскорбил меня в моем собственном доме, а теперь прикидывается простачком! Вы что, надеетесь, меня хватит удар?
— Да уверяю вас, Элуа…
— Врун! Самый настоящий врун!
— Но я же еще ничего не сказал…
— Значит, собрались соврать или нагородить целую кучу вранья, и я это предвидел! И, во-первых, чем же это я так изменился?
— Раньше вы не стали бы покрывать убийц.
— Так по-вашему, сейчас я…
— А то нет? Ваше молчание, ваш отказ сотрудничать — что это, как не пособничество убийце?
— Пособ… Селестина, убери от меня подальше все тяжелые предметы, а то…
Селестина попыталась успокоить мужа.
— Угомонись, Элуа… Тебе вредно так кричать!
— А вот захочу и буду кричать! Но, чтобы доставить тебе удовольствие… и из уважения к матери моих детей — ладно, я готов успокоиться… Правда, это стоит мне большого труда, но все же… А потому я спокойно — заметь, Селестина, совершенно спокойно! — прошу господина Пишранда немедленно убраться отсюда ко всем чертям!
Инспектор встал.
— Что ж, хорошо, я ухожу, Элуа… Теперь я понимаю, что мне не стоило идти на подобное унижение… Лучше бы я послушался вашего сына.
Селестина мигом проглотила наживку.
— А разве вы видите нашего мальчика?
— Еще бы! Ведь мы с ним коллеги, и, если хотите знать, мадам Селестина, парня ждет блестящая карьера… Кстати, он просил передать вам поцелуй и сказать, что он очень вас любит… Слышали бы вы, как Бруно говорит о своей маме!
Мадам Маспи разрыдалась.
— А что… такое… он говорит?
— Ну, например, как жаль, что в самом нежном возрасте вы встретили проходимца вроде вашего супруга… а отсюда и пошли все несчастья… Так я могу передать вам поцелуй Бруно, мадам Селестина?
Мадам Маспи молча бросилась на шею инспектору, и тот звонко чмокнул ее в обе щеки. Слегка удивляясь полному отсутствию реакции со стороны Элуа, полицейский и Селестина поглядели на хозяина дома. Великий Маспи напоминал статую командора. Скрестив на груди руки, он сурово взирал на жену и гостя. И столько оскорбленного достоинства, столько попранного чувства справедливости и незаслуженного горя выражали его поза и взгляд, что Селестина снова заплакала.
— Э… Э… Элуа… — пролепетала она.
— Ни слова больше, Селестина! После двадцати семи лет совместной жизни ты меня растоптала ногами! Ты плюнула на мою честь!
— Потому что я обняла месье Пишранда?
— Да, именно потому, что ты целовалась с этим субъектом!
Селестина улыбнулась сквозь слезы — так солнце вдруг проглядывает после дождя.
— Уж не ревнуешь ли ты часом, Элуа?
Раздраженный таким непониманием Маспи пожал плечами, а бедняжка Селестина начала простодушно оправдываться:
— Так это же чисто по-дружески, понимаешь? Надеюсь, ты не подумал ничего дурного, правда?
На сей раз Элуа не выдержал, и пусть обитатели улицы Лонг-дэ-Капюсэн не могли разобрать, что происходит в доме Маспи, однако прохожие, слыша раскаты гневного рыка главы семейства, невольно замедляли шаг и прислушивались.
— Ревную? Да ты только погляди на себя, дура несчастная! Ни дать ни взять скорпена[345], целый год провалявшаяся на солнце!
— О!
Селестина всегда верила каждому слову и восприняла заявление мужа буквально. От такого страшного удара бедняжка опустилась на стул, чувствуя, что ноги отказываются ей служить. Муж ее больше не любит! Теперь Селестина в этом не сомневалась. Дохлая рыба! По странной ассоциации мадам Маспи вспомнила, с кем ее сравнивал Элуа двадцать семь лет назад, когда приглашал погулять в Аллон и угощал нугой… Да, в те времена он называл ее соловьем! И такой грубый переход от одного представителя животного мира к другому стал для несчастной женщины символом ее падения в глазах супруга. Селестина так страдала, что даже не слышала обвинительной речи Элуа. Меж тем Великий Маспи, вновь обретя прежнюю боевую форму, голосил во всю силу легких:
— Мало того, что ты смеешь в моем присутствии расспрашивать этого типа о мальчишке, которого я проклял и выгнал из дому, нет, ты еще позволила себе в лице этого злосчастного полицейского передать поцелуй мерзавцу, ставшему позором нашей семьи! Негодяю, из-за которого я больше не выхожу на улицу, боясь, что на меня станут показывать пальцем и хихикать! И этот неблагодарный сын, это чудовище, рядом с которым самый закоренелый убийца — сущий
ягненок, не довольствуется тем, что так подло нас опозорил, а еще и позволяет себе оскорблять старика отца! Так, значит, по его мнению, я сделал тебя несчастной? Да не умей я владеть собой, сейчас же бы отправился к этому Бруно, плюнул бы ему в физиономию и придушил бы собственными руками!
На Пишранда пылкая речь Элуа не произвела никакого впечатления.
— К счастью, вы прекрасно владеете собой, — только и заметил он.
— Вот именно, месье Пишранд! Я не желаю стать убийцей того, кто когда-то был моим сыном!
— Не говоря уж о том, что вряд ли он позволил бы себя убить.
— Вы что, намекаете, будто он способен поднять руку на отца?
— И даже опустить!
Дикий вопль Великого Маспи вывел Селестину из оцепенения.
— Что тобой, Элуа?
— А то, что я предпочитаю умереть, чем стерпеть побои от родного сына! Все, решено, я умру!
Селестина, как всегда, тут же уверовала в слова мужа и, уже чувствуя себя вдовой, в свою очередь истошно закричала:
— Нет, не умирай, Элуа!
— Умру!
— Нет!
— Да!
Инспектор иронически наблюдал за этой сценой.
— Да не мешайте же ему умереть, коли так хочется, мадам Маспи, — посоветовал он. — Я бы даже с удовольствием взглянул, как он примется за дело!
Элуа возмущенно расправил плечи.
— И вы воображаете, что я стану умирать при постороннем? Нет, месье Пишранд, у меня есть чувство собственного достоинства! И моя агония — дело сугубо личное, месье Пишранд!
Полицейскому все это стало изрядно надоедать.
— Прекратите валять дурака, Маспи! — совсем другим тоном проговорил он. — Ну, так вам по-прежнему нет дела до убийства Ланчало?
— Черт возьми! И почему оно должно меня волновать? Да пусть Салисето или любой другой бедняга из той же компании перережут хоть всех итальяшек от Марселя до устья Роны! Мне на это чихать и наплевать!
Пишранд улыбнулся.
— Спасибо за наводку, Маспи, за мной не заржавеет!
— За какую такую наводку?
Но полицейский ушел, не ответив. Элуа тупо уставился на жену.
Однако прежде чем она успела высказать свое мнение, в гостиную снова заглянул Пишранд и, все так же улыбаясь, обратился к супруге Маспи:
— Будьте любезны, мадам Селестина, верните мне, пожалуйста, часы.
Наступила тишина. Селестина попыталась было отнекиваться, но под суровым взглядом мужа опустила голову и, вытащив из кармана часы, смущенно протянула инспектору.
— Простите… это я случайно, — пробормотала она.
Элуа пристыдил жену:
— Ну как тебе не стыдно, Селестина? Это же наш гость!
И, вернувшись к полицейскому, он с умилением добавил:
— Вечно шалит, как девчонка…
— От старых привычек не так просто избавиться.
Оставшись вдвоем с женой, Великий Маспи со слезами на глазах заметил:
— До чего ж ты у меня еще молодая, Селестина!
— Надо думать, именно поэтому ты и обозвал меня скорпеной, хотя раньше говорил, что твой соловушка!
Элуа обнял жену.
— Хочешь, я открою тебе один секрет, Селестина? В моем возрасте я куда больше люблю рыбу!
Такая же нежная сцена происходила в это время у фонтана Лоншан. И однако, расставшись с Фелиси, Пэмпренетта твердо решила не ходить на свидание с Бруно. Во-первых, она его больше не любит (ибо разве может девушка из такой семьи питать нежные чувства к полицейскому?), а во-вторых, почти дала слово Ипполиту, и тот не замедлит явиться к ее родителям официально просить руки мадемуазель Адоль. Короче, хорошая заваруха в перспективе!
Но, так или иначе, сама не зная каким образом, ровно в одиннадцать Пэмпренетта оказалась у фонтан Лоншан и тут же упала в объятия поджидавшего ее Бруно. В этот миг перестали существовать и полицейский, и Ипполит, и грядущие неприятные объяснения — мадемуазель Адоль, как три года назад, прижималась к тому, кого всегда любила и никогда не сможет разлюбить. Наконец они слегка откинули головы и долго смотрели друг на друга.
— Ты совсем не изменился… — заметила Пэмпренетта.
— Ты тоже! Все такая же красавица!
И влюбленные снова обнялись. Проходившая мимо женщина с двумя малышами недовольно заворчала:
— Неужели нельзя вести себя поприличнее, а? По-вашему, это подходящее зрелище для детей?
— Но мы ведь любим друг друга! — простодушно отозвалась Пэмпренетта.
Матрона с жалостью пожала плечами.
— Ох, бедняжка! Все мы одним миром мазаны! Я тоже когда-то верила красивым словам и обещаниям…
Она сердито ткнула пальцем в двух насупившихся малышей и с горечью подвела итог:
— А вот что от всего этого осталось! Да еще стирка, уборка, готовка… Эх, девочка, удирайте пока не поздно, если у вас есть хоть капля здравого смысла!
И с этими словами мамаша удалилась, что-то недовольно бормоча себе под нос — наверняка ругала последними словами весь сильный пол вообще и своего мужа в частности. Но Пэмпренетта чувствовала себя слишком счастливой и не могла допустить даже мысли, что еще чья-то любовь начиналась точно так же. Наконец, когда они с Бруно вдоволь нацеловались, намиловались и нагляделись друг на друга, девушка задала мучивший ее вопрос:
— Бруно… почему ты так поступил со мной?
— Как?
— И ты еще спрашиваешь, чудовище? Ну, отвечай, почему ты меня бросил?
— Я? Но ведь это же ты…
— Я? О Матерь Божья! Чего только не приходится выслушивать! Может, это я, обесчестив и себя и свою семью, пошла работать в полицию?
— Нет, это ты с детства бесчестишь себя, таская чужое добро!
— Бруно! И ты смеешь утверждать, будто я не порядочная девушка?
— Конечно, не порядочная!
— О!
Пэмпренетта задыхалась от гнева, обиды и полного непонимания.
— И тем не менее ты хочешь на мне жениться? — с трудом пробормотала она.
— И даже очень!
— Но почему?
— Потому что я люблю тебя, Пэмпренетта, и никогда не смогу полюбить другую.
И они снова обнялись, забыв о логике и думая лишь о переполнявшей обоих нежности. К полудню Пэмпренетта и Бруно окончательно решили, что теперь они жених и невеста. Девушка согласилась вести праведную жизнь вместе с Бруно и во имя любви решительно и бесповоротно перейти во враждебный всем ее родным и близким клан. Домой мадемуазель Адоль возвращалась веселая, как жаворонок весной, и совершенно забыв, что некий Ипполит Доло собирается просить ее руки.
Покидая улицу Лонг-дэ-Капюсэн, инспектор Пишранд не сомневался, что, сам того не желая, а может, и нарочно (разве поймешь этого старого черта Элуа?) Великий Маспи подтвердил его подозрения насчет виновности Тони Салисето в убийстве Ланчано. Однако при всей своей уверенности инспектор не питал ни малейших иллюзий, что ему удастся найти мало-мальски серьезные улики против каида. Салисето был признанным главой наиболее опасных марсельских преступников, и его все боялись. Любой, кто вздумал бы сболтнуть лишнее, тут же подписал бы себе смертный приговор. И Пишранд прекрасно понимал, что Ратьер ничего не добьется от своих обычных осведомителей, поскольку Салисето они боятся куда больше, чем полиции. Поэтому инспектор решил устроить в стане врага небольшой переполох, пустив в ход далеко не самый честный прием. Впрочем, для него цель вполне оправдывала средства.
Пишранд обошел большую часть кабачков, расположенных около Биржи, и в конце концов отыскал своего молодого коллегу Ратьера. В тот момент, когда Пишранд его заметил, Жером разговаривал с каким-то типом с неприятными, бегающими глазками. При виде хорошо известного всей городской шпане инспектора парень мгновенно испарился. Пишранд рассчитывал, что к его разговору с Ратьером прислушается не одна пара ушей. Но именно огласки он и добивался. Инспектор сел за столик слегка удивленного коллеги и заказал пастис.
— Ну, малыш, чего-нибудь добился?
— Нет. Все как воды в рот набрали.
Пишранд рассмеялся.
— Этого и следовало ожидать! Я предупреждал шефа, что это не лучший способ прижать Салисето к стенке.
Полицейский почувствовал, как напряженно замерли сидевшие за соседними столиками, едва он произнес имя каида. Ратьер был далеко не дурак; оправившись от первого удивления, он быстро сообразил, что старший коллега так разоткровенничался неспроста, и немедленно поддержал игру.
— Знаешь, старина, по-моему, мы и на сей раз не сумеем накрыть Тони.
— Не уверен…
— Кроме шуток? У тебя есть определенные догадки на этот счет?
— Даже кое-что получше…
Пишранд немного понизил голос, но окружающие сидели так тихо и так старательно ловили каждое слово, что полицейский мог бы говорить даже шепотом — все равно его бы услышали.
— Я ходил к Великому Маспи…
— Ну и что?
— Разумеется, он не стал категорически утверждать, что это дело рук Салисето, но, по правде говоря, все же сообщил кое-какие подробности, и теперь наш каид может оказаться в очень щекотливом положении… Ну, за твое здоровье, малыш! Я думаю, уж теперь-то мы разделаемся с Тони.
— А шеф в курсе?
— Еще бы! Я сразу же составил рапорт… Ну и обрадовался же старик! «Пишранд, — сказал он мне, — похоже, я все-таки сумею упечь Салисето в тюрьму, прежде чем уйду в отставку! И это будет для меня самым лучшим вознаграждением!»
Полицейский еще не успел закончить не слишком правдивые излияния, как многие посетители тихонько выскользнули из кабачка, причем одни так и не доели обед, другие, с молчаливого согласия партнеров, не закончив игры, бросили карты. А Пишранд краем глаза с усмешкой наблюдал, как подручные Салисето спешат предупредить хозяина, что ему готовят ловушку. Инспектор внутренне ликовал.
Тем временем в морге, поскольку никто так и не востребовал тело Томазо Ланчано, служители сунули тело в простой некрашеный гроб и повезли к общему рву, где хоронят безымянных покойников. Маленький итальянец, лишившись неправедным путем приобретенного сокровища, уже решительно никого не интересовал.
Глава III
В то утро Тони Салисето, ненавидевший завтракать в постели, даже не накинув пиджака, спустился в комнату за баром маленького бистро на улице Анри Барбюса, где всегда ночевал, когда готовил или проворачивал какое-нибудь дело. Очень удачный выбор, поскольку полиции никогда не пришло бы в голову искать знаменитого каида в таком жалком заведении.
Лестница вела из спальни Тони прямо в комнату, где он всегда столовался. Каид сошел вниз, зевая во весь рот. Облаченный в пижаму цвета бычьей крови с золотисто-желтым кантом толстяк (Салисето весил добрых сто двадцать кило) ничем не напоминал щуплого подростка, лет тридцать назад покинувшего мостовые родной Бастии.
Подручные Тони — Антуан Бастелика и Луи Боканьяно — уже сидели за столом и с видимым удовольствием поглощали более чем плотный завтрак. Салисето сразу заметил, что оба его приятеля настроены довольно мрачно, хотя после ночной экспедиции им вроде бы не с чего хмуриться. Вместо приветствия оба проворчали нечто неопределенное. Каид мигом пришел в ярость.
— Ну, в чем дело? Это еще что за манеры? По-моему, сегодня ночью мы не потеряли времени даром? По моим подсчетам, мы стянули побрякушек на добрых сто тысяч франков, и Богач Фонтан отвалит за них не меньше половины… чтобы меня не сердить. Так какого рожна вам еще надо?
— Ты читал газету? — спросил Бастелика.
— Нет. А что, об этом деле уже пронюхали?
— Не-а, почти ничего не пишут, всего несколько строчек. Похоже, я слишком сильно стукнул сторожа и раскроил ему черепушку.
— Ну и отлично! Теперь он ничего не сможет выболтать. А тебя, что, это огорчает? Может, месье понадобилась реклама или он жаждет, чтобы ему оттяпали башку под грохот барабанов и завывание труб?
Антуан пожал плечами. Тяжеловесный юмор Тони нисколько не улучшил ему настроение. Что до Луи, то он продолжал спокойно есть, словно разговор его ни в коей мере не касается. Зато Бастелика с самым серьезным видом сунул газету шефу под нос.
— Они опять талдычат о деле Ланчано.
— Это тот тип, что плавал в Старом Порту? А мне-то что за печаль?
— Его убийство пытаются взвалить на нас.
Салисето вскочил.
— Чего? А ну, повтори!
— Ну, так слушай…
И Антуан принялся читать вслух:
«Стали известны новые подробности о деле Ланчано. По словам инспектора Пишранда, он имел серьезную беседу с людьми, хорошо осведомленными практически обо всем, что творится в преступном мире (читатели, конечно, поймут, почему инспектор не стал называть имен), и те в конце концов признали, что убийцу, похитившего у Ланчано примерно на миллион франков драгоценностей, — напомним, что означенные украшения итальянец приобрел ценой двойного убийства, — так вот, убийцу и грабителя следует поискать в окружении одного корсиканского каида. До сих пор полиции не представлялось случая изолировать его от общества, и подобная безнаказанность уже переполнила чашу терпения порядочных людей. Мы от души надеемся — и, полагаем, все сограждане вполне разделяют наши чаяния, — что опасный преступник наконец попадет в руки правосудия и заплатит все свои долги обществу. В этом плане мы полностью доверяем дивизионному комиссару Мурато и его сотрудникам.»
— Вот дерьмо!
— А тебе бы не хотелось узнать, кто натравил на нас легавых? — вкрадчиво спросил Бастелика.
— И даже очень!
— Элуа Маспи.
— Ты рехнулся, Антуан?
— Да говорю же тебе: это работа Маспи! Старого придурка Великого Маспи! Филозель сидел в кафе, когда туда явился Пишранд, еще тепленький после разговора с Элуа, и выложил все это своему коллеге Ратьеру! Ну, что скажешь?
Салисето немного помолчал.
— Что я скажу? А то, что мне придется малость потолковать с «моим другом» Элуа… Но тут есть одна закавыка…
— Что ты имеешь в виду?
— У Маспи — свои осведомители… И обычно он очень неплохо информирован… С другой стороны, обо всей этой истории с итальянцем и улетучившимися в неизвестном направлении драгоценностями мы не слыхали ни звука… во всяком случае, я…
— И что означает это «во всяком случае, я», Тони?
— Да то, что это дело вполне мог обстряпать кто-то из вас!
Бастелика, побледнев как смерть, медленно встал.
— Думаешь, я способен вести с тобой двойную игру?
— По нынешним временам миллион франков — очень большие бабки, разве не так?
Антуан повернулся к Боканьяно:
— Слыхал, Луи, как он нам доверяет?
Тот, не переставая жевать, слегка пожал плечами.
— Будь у меня в кармане на миллион стекляшек, я бы давным-давно сделал ноги! — проворчал он с набитым ртом.
Салисето хмыкнул.
— Для начала еще надо суметь отмыть эти стекляшки, малыш!
Луи на секунду перестал жевать, но лишь для того, чтобы, с жалостью поглядев на патрона, высказать свое мнение о нем:
— Каким же ты иногда бываешь кретином, Тони!
Пока Салисето собачился со своими присными, в кабинете дивизионного комиссара Мурато царила примерно такая же атмосфера — шеф отчитывал подчиненных:
— Ну и что о нас думают люди, я вас спрашиваю? Едва вытащили из воды труп Ланчано и узнали, что его добыча исчезла, как прямо у нас под носом ограбили ювелирную лавку на улице Паради и разбили голову сторожу! Кстати, как он себя чувствует, Пишранд?
— Не блестяще… Голова почти всмятку… и врачи настроены довольно пессимистично.
— Браво! Два трупа всего за несколько часов! Да, господа, марсельцы могут чувствовать себя в полной безопасности от посягательства всякой сволочи, угнездившейся в нашем городе! Может, кто-нибудь из вас имеет хотя бы отдаленное представление, за что нам платят жалованье?
Пишранд стал на дыбы:
— Если бы мне вздумалось забыть об этом, патрон, достаточно подойти нагишом к зеркальному шкафу! У меня вся шкура покрыта напоминаниями!
Комиссар Мурато отлично знал, сколько ран получил на службе инспектор Пишранд. Он тут же смягчился.
— Я сказал это, просто чтоб вы малость поднажали, старина.
— Незачем нас подстегивать, шеф. Рано или поздно, но мы непременно загребем всю компанию.
— Что ж, будем надеяться… Ну и как идет ваше расследование, Констан?
Называя подчиненного по имени, комиссар хотел подчеркнуть, какое доверие он питает к старому служаке.
— Насчет убийства Ланчано пока ничего не прояснилось. Жду результатов операции, о которой я вам вчера рассказывал, шеф…
Пишранд подмигнул начальнику, не желая упоминать при Бруно о ловушке, расставленной Салисето, — молодому человеку могло бы очень не понравиться, что в дело впутали его отца. Мурато чуть заметным кивком дал знать, что отлично понял.
— А с ограблением на улице Паради, по-моему, все не так уж плохо…
— Вы находите?
— Сторож когда-нибудь придет в себя и опознает того, кто его ударил, или хотя бы сделает вид…
— Ну, для начала их надо свести вместе.
— Уж это я устрою, как только в больнице дадут разрешение.
— И кого вы туда приведете?
— Антуана Бастелику.
— Правую руку Салисето?
— Насколько я знаю, он один разбивает витрины таким образом.
— Это было бы великолепно… Только бы раненый его признал!
— Не беспокойтесь, признает!
— А что у вас, Ратьер? Как ваши осведомители?
— Немы как рыбы. И дрожат от страха.
— А вы, Маспи, что скажете?
— Я обошел всех мелких контрабандистов и скупщиков, но больше для очистки совести — у всех у них кишка тонка, чтобы прикарманить миллионное состояние…
— И что же дальше?
— Ну, если Ланчано переправили в Марсель не итальянцы, придется поговорить с Адолем… А что касается драгоценностей, только Фонтан способен раздобыть достаточно денег на их покупку. Даже учитывая комиссионные расходы и степень риска, скупщик должен выложить от трехсот пятидесяти до четырехсот тысяч франков. Никто другой во всем Марселе не соберет такой суммы.
Поскольку Селестина решила приготовить на обед буйабес[346], Элуа рано утром сходил к знакомому рыбаку и купил у него нужную для этого блюда рыбу — ту, что живет под скалами. Поднимаясь домой по улице Лонг-дэ-Капюсен, он читал газету и внутренне негодовал на так подло подставившего его Пишранда. Тот, правда, не назвал Элуа (только этого не хватало!), но ясно намекнул, кто выдал Салисето и его банду. Великий Маспи настолько увлекся чтением, что чуть не налетел на ярко-красную машину, стоявшую у крыльца. Элуа тихонько выругался и, подняв глаза, заметил улыбающегося Пишранда. Гневно размахивая газетой, он бросился на инспектора:
— Да как вы посмели…
— На вашем месте, Элуа, я бы поспешил домой, — невозмутимо отозвался полицейский. — Похоже, у вас гости, и, судя по тачке, в которой они разъезжают, довольно-таки важные птицы.
— Корсиканец? — чуть дрогнувшим голосом спросил Элуа.
— Да, у меня есть смутное предчувствие, что это именно он.
— Разве вы не того добивались, бессовестный враль?
— Честно говоря, да. Я остаюсь, и, коли дело обернется совсем худо, зовите на помощь!
Великий Маспи с бесконечным высокомерием поглядел на инспектора:
— Надеюсь, вы не думаете, будто я спасую перед каким-то корсиканцем?
Это гордое заявление не помешало Элуа подниматься по лестнице крадучись. У двери он замер и прислушался. Тишина. И вдруг, охваченный дикой, беспричинной паникой, он влетел в дом, почему-то решив, что всех его домашних уже зарезали. Дверь была не заперта, и Маспи пулей влетел в комнату. Боканьяно по-мальчишески подставил подножку, и Элуа, растянувшись во весь рост, на животе подъехал к ногам Селестины. Тони насмешливо чистил ногти лезвием внушительного ножа.
— Ну, вставай же, Маспи… Великий! — издевательски предложил Тони.
Все три бандита дружно заржали.
— Боже мой, да будь при мне ружье… — проворчал дед.
— А ты заткнись, предок! — сухо бросил Салисето. — А то отправим в постель без сладкого!
Дрожа от унижения, Элуа встал и оглядел комнату. Боканьяно курил, стоя у двери. Бастелика, развалившись в кресле, пил отменный контрабандный портвейн, подаренный Маспи Адолем. Тони то поглядывал в окно, то на хозяев дома. Селестина, дед и бабушка рядком сидели на стульях. Элуа попытался восстановить пошатнувшийся авторитет.
— Ну что, напали втроем на двух стариков и женщину и теперь воображаете себя настоящими мужчинами? — злобно глядя на Салисето, буркнул он.
— Заглохни!
— А не много ли ты о себе воображаешь, Салисето? И, во-первых, какого черта ты приперся в мой дом без приглашения?
— А ты не догадываешься?
— Нет.
— Спросил бы своего дружка Пишранда, с которым минуту назад так мило беседовал! Вон он торчит под окном, видно, нарочно, чтобы тебе подсобить? Так чего ты ждешь? Быстренько зови его на помощь!
— А на черта мне помощники? Я и так вышвырну вон дерьмо вроде тебя.
— Вот как? Тебе, я вижу, не терпится остаться без ушей?
Салисето подошел и осторожно приставил нож к горлу Маспи.
— А ну-ка, продолжай в том же духе! Что-то я плохо расслышал песенку!
Не то чтоб муж Селестины был трусом, но, во всяком случае, всегда чувствовал, когда перевес не на его стороне.
— Садись, Маспи… Великий! Точнее, великая сволочь!
Элуа устроился на последнем стуле.
— Ну, говорят, на старости лет ты заделался осведомителем, подонок?
— Клянусь тебе…
— Молчать! Впрочем, чему тут удивляться? Коли ты достаточно прогнил, чтобы сделать собственного отпрыска легавым…
— Я его выставил за дверь!
— Ты, случаем, не воображаешь, будто я совсем чокнутый? Просто тебе вздумалось жрать из всех кормушек сразу. Ты не мужчина, Маспи, а так себе, недоразумение! Да еще страдаешь манией величия! Право слово, мне так и хочется дать тебе хороший урок! И не будь под окнами полицейского, ты бы свое получил! А теперь слушай и постарайся запомнить: с этой минуты ты держишь пасть на запоре, ясно? Если тебя еще о чем вдруг спросят, ответишь, что дал маху и вообще ничего не знаешь… Потому как ежели тебе еще хоть раз вздумается бредить вслух, мы сюда снова приедем, а потом придется вызывать «скорую». И имей в виду: увезут не только тебя, но и этих троих доходяг… А что до твоего сынка, посоветуй ему не совать нос в мои дела, иначе он живо окажется в Старом Порту с парой кило чугуна в карманах!
— Или с ножом в спине!
Корсиканец с размаху ударил Маспи по лицу. Элуа не дрогнул.
— Тебе не следовало так поступать, Тони… никак не следовало… ты сам искал неприятностей, и ты на них нарвешься… Ох и горько ты пожалеешь об этой пощечине, Корсиканец! — только и сказал он.
— Замолкни, а то я намочу штанишки… Ты ведь не хочешь, чтобы меня прямо здесь от страха хватил инфаркт?
Трое бандитов весело рассмеялись. Уходя, Бастелика решил выкинуть новую шутку — поцеловать Селестину, просто чтобы показать, как он ценит прекрасный пол. В ответ жена Элуа плюнула ему в физиономию и тоже заработала пару оплеух. Маспи хотел броситься на Антуана, однако нож Корсиканца больно кольнул в его шею, ясно показав, что силы по-прежнему слишком неравны.
— Ну что, угомонился?.. Мадам Селестина, вы совершили ошибку… Антуан у нас на редкость ласковый малый… Ладно, чао! В следующий раз наша встреча может закончиться гораздо хуже, Маспи… Великий… А кстати, великий — кто?
Они снова захохотали с оскорбительным для хозяина дома презрением и наконец ушли. Элуа, сходя с ума от стыда и ярости, чувствовал, что отец смотрит на него с неодобрением, а Селестина и мать — с жалостью. Некоторое время он продолжал молча сидеть на стуле, а когда все же решился встать, сердито зарычал на жену:
— И все из-за твоего сына!
Селестина, задохнувшись от такой чудовищной несправедливости, даже не смогла сразу ответить.
— Моего сына? — крикнула она, вновь обретя дар речи. — А разве он и не твой тоже?
И тут Великий Маспи позволил себе совершенно бессовестное замечание:
— Я начинаю в этом сильно сомневаться!
У машины трое корсиканцев столкнулись с Пишрандом.
— Что, ходили в гости к Великому Маспи?
Бастелика хмыкнул.
— Великому… тоже мне! По-моему, он здорово сократился в размерах!
— Чисто дружеский визит, господин инспектор, — поспешил вмешаться Салисето. — Самый что ни на есть дружеский! И, кстати, я очень рад вас видеть, месье Пишранд!..
— Вот удивительно!
— Да-да, необходимо рассеять одно недоразумение… Мне сказали, будто вы взъелись на меня из-за того убитого итальянца…
— Не только, Салисето, а за все сразу, и буду преследовать тебя до тех пор, пока ты навеки не сядешь за решетку! Быть может, ночное ограбление ювелирного магазина наконец и предоставит мне случай с тобой покончить, кто знает? А ну, живо убирайся отсюда! Мне противно на тебя смотреть!
Тони закрыл глаза и до боли стиснул зубы, пытаясь справиться с пеленой бешенства, застилавшей ему разум. Антуан полез в карман за ножом. Для него это движение стало чисто рефлекторным.
— Мой кошелек! — вдруг воскликнул он.
И, словно эхо, ему ответил возмущенный возглас Боканьяно:
— Мои часы!
Ошарашенное бормотание Тони довершило картину всеобщего смятения:
— Моя…
Бандит вовремя прикусил язык и ляпнул первое, что пришло в голову:
— …ручка…
Вышло довольно глупо, и полицейский насмешливо спросил:
— Ты не ошибся, Салисето? Уж не пушку ли ты, случаем, потерял?
— Нет-нет, господин инспектор!.. У меня нет револьвера… и никогда не было… это слишком опасно… и потом, я знаю, что иметь огнестрельное оружие запрещено… Эй, ты куда собрался, Антуан?
— За нашими вещами!
— Стой на месте, дурак! Никто у нас ничего не брал… а кошелек ты где-нибудь посеял. Ну, лезьте в тачку!
На столе в гостиной Маспи лежали кошелек, золотые часы и пистолет. Дед с бабкой весело хихикали.
— А мы, похоже, не совсем потеряли сноровку… и потом, надо ж было сохранить что-то на память от таких милых гостей, верно, Элуа?
Сложив рот сердечком, тщательно завив волосы и облачившись в свой самый лучший костюм и ослепительно сверкающие лакированные штиблеты, Ипполит Доло с легким сердцем позвонил в дверь Адолей. Дверь открыл Дьедоннэ и с заговорщической улыбкой поинтересовался, зачем Ипполит явился к ним.
— Что тебя сюда привело, малыш?
— Очень важное для меня дело, месье Адоль.
Войдя в маленькую гостиную, где в витринах и на столиках красовались изделия ремесленников со всего света, Ипполит немного смутился, тем более что среди всей этой роскоши стояла Перрин Адоль, еще сильнее обычного смахивающая на Юнону. Парень поклонился.
— Мадам Адоль, я пришел…
Она грубо перебила гостя:
— Да знаю я, зачем ты пришел! И, если хочешь знать мое мнение, я против этой жениться! Двадцать лет воспитывать и оберегать лучшую девушку во всем городе, а потом отдать ее ничтожеству вроде тебя… Честное слово, после этого невольно подумаешь, что лучше вообще не иметь детей!
Парень попытался было возразить.
— Позвольте, мадам Адоль…
— Не позволю! И вообще предупреждаю: в этом доме не стоит и пробовать говорить громче меня! Ясно? И еще… насчет Пэмпренетты… можешь ее забирать, коли она согласна, эта дура! Но ты не получишь в приданое ни единого су! Она возьмет с собой только те тряпки, что на ней, да самый маленький чемоданчик барахла! Но раз ты ее так любишь, соблазнитель фигов, я думаю, на приданое тебе плевать?
— Разумеется, меня это нисколько не волнует!
— Поговори еще со мной подобным тоном, и я тебе так наподдам, что за месяц не очухаешься!
— А когда свадьба, мадам Адоль?
— Когда наскребешь на нее денег, нищеброд! Пэмпренетта!
Со второго этажа послышался тонкий голосок:
— Что?
— Спускайся! Тебя тут ждет твой жалкий ухажер!
Пэмпренетта мигом сбежала по лестнице, вообразив, что пришел Бруно, и окаменела от изумления при виде Доло.
— Чего тебе надо?
— То есть как это? Разве мы с тобой не договорились?
Пэмпренетта, напустив на себя самый невинный вид, посмотрела на мать:
— Ты понимаешь, что он тут болтает?
Перрин так обрадовала перемена в настроении дочери, что она цинично поддержала ее игру:
— Знаешь, не стоит обращать внимания… У Доло все слегка чокнутые, это передается от отца к сыну…
Ипполит почувствовал, что с него хватит.
— Да вы все, никак, издеваетесь тут надо мной? — заорал он.
Мадам Адоль испепелила его высокомерным взглядом.
— Потише, малыш, потише… а то как бы с тобой не приключилось несчастье…
Но парень, вне себя от обиды, окончательно утратил самообладание:
— Вы обо мне еще услышите! А вам, Дьедоннэ, разве не стыдно, что в вашем доме мне нанесли такое оскорбление?
— О, я вообще молчу… и никогда ни во что не вмешиваюсь… Но коли ты спрашиваешь мое мнение, то думаю, лучше бы тебе отсюда уйти!
Ипполит с быстротой молнии выхватил из кармана нож.
— А что, если, прежде чем уйти, я вам пущу кровь, как борову?
Перрин Адоль была женщина с головой и в случае необходимости никогда не думала о расходах. Оставив мужа стонать от страха, она схватила огромную вазу, прибывшую прямиком из Гонконга и расписанную лазурью в лучших традициях расцвета китайского искусства. Высоко подняв это великолепное творение гонконгских мастеров, мадам Адоль с громким выдохом расколотила его о голову Ипполита Доло. Тот, не успев и пикнуть, вытянулся на полу. Перрин взяла побежденного за шиворот и без лишних церемоний вытащила на тротуар. Удивленному таким странным маневром соседу она объяснила:
— Вы не поверите, но этот тип посмел просить руки моей дочери!
Дьедоннэ встретил супругу жалобными причитаниями:
— Ты его хоть не убила?
Перрин пожала мощными плечами.
— Какая разница? Пэмпренетта, поцелуй меня, моя прелесть.
Девушка бросилась в материнские объятия и замурлыкала как котенок.
— До чего же я рада, моя красотулечка, что ты не выходишь замуж!
Пэмпренетта живо отстранилась.
— Но я выхожу…
— Ты все-таки… И за кого, скажи на милость?
— За Бруно Маспи!
Так и оставшийся на тротуаре сосед впоследствии говорил, что в первую минуту решил, будто на семейство Адоль напали зулусы (означенный господин когда-то дрался с ними в Африке), таинственным образом высадившиеся в Марселе. Во всяком случае, дикий топот, страшные завывания, вопли и стенания сотрясали весь дом. Люди высовывались из окон, не понимая, что происходит, и удивленно переговариваясь. В конце концов все обитатели улицы пришли в такое возбуждение, что Перрин пришлось выйти и успокоить соседей.
— Ну? Теперь уже нельзя даже выяснить отношения в собственной семье?
Именно в эту минуту Ипполит открыл глаза. При виде мадам Адоль парень схватил ноги в руки и, как заяц, дал стрекача.
Фонтан Богач смотрел на Бруно круглыми глазами.
— Э! Мой мальчик, насколько я понимаю, ты обвиняешь меня, будто я прибрал к рукам на миллион драгоценностей, стянутых тем итальянцем, что перебрался в мир иной непосредственно из Старого Порта? — Старик благочестиво перекрестился. — И я же, по-твоему, купил побрякушки, которые сегодня ночью свистнули на улице Паради? Бруно, ты меня разочаровал… Можно подумать, я не знаю тебя с рождения…
Добродушная честная физиономия старого скупщика вытянулась от огорчения, и, не общайся с ним Бруно всю свою сознательную жизнь, наверняка попался бы на удочку.
— А ведь тебе отлично известно, что я ни разу не прикасался к товару, запачканному кровью!
— Да, но только вы один могли собрать нужную сумму.
Польщенный Доминик Фонтан выставил грудь колесом.
— В определенном смысле ты прав, малыш… И, честно говоря, я даже малость досадую, что слыхом не слыхал об этих чертовых камнях… Но, коли что услышу, можешь не сомневаться, тут же сообщу тебе.
Они дружески улыбнулись друг другу, причем оба отлично понимали, что старик врет, а Бруно это превосходно известно.
— Неужто ты уйдешь, даже не пропустив стаканчика, малыш?
— Нет, спасибо, Фонтан.
— Почему?
— А потому… Если мне придется вас арестовать, станет стыдно, что пил ваш пастис.
Оба посмеялись, как над забавной шуткой.
— Ну что ж, ладно… я вас оставляю…
— Я бы очень хотел тебе помочь… но, к несчастью…
— Не сомневаюсь… А кстати, ведь тот итальянец, что болтался в Старом Порту… вряд ли он приплыл из Генуи своим ходом, а?
— Да уж, меня бы это очень удивило… все-таки немалое расстояние…
— И как, по-вашему, Фонтан, каким образом он добрался к нам?
— Кто знает?.. В конце концов, существуют поезда, самолеты, машины…
— А может, он прибыл на «Мистрале»? Слушайте, Фонтан, не надо принимать меня за круглого дурака! Кто ж это рискнет сунуться на таможню с миллионом краденых драгоценностей в кармане?
— Ты прав! Об этом я не подумал…
— Боже, но до чего ж вы лихо умеете заливать!
Взгляд Доминика выразил глубокую печаль.
— И ты можешь так со мной разговаривать, малыш? Или забыл, как я качал тебя на коленях? А на твоего итальянца, между нами говоря, мне плевать… и ты даже не можешь представить, до какой степени! Хотя, заметь, я бы с удовольствием провернул эту сделку с драгоценностями…
Он мечтательно поглядел в пространство и с искренним сожалением добавил:
— Какое прекрасное завершение карьеры!.. И понимаешь, больше всего мне действует на нервы, что эти несравненные сокровища наверняка стибрили какие-то ничтожества, тупые мясники… и они их непременно испортят!.. Ужасно грустно! И что до твоего макарони, то, если он не мог приехать сюда как все люди, значит, его переправили контрабандой, а в таком случае, сам знаешь, кто может рассказать тебе что-нибудь интересное…
Возвращаясь из Сен-Жинье, Бруно обдумывал разговор со скупщиком. Да, бесспорно, Фонтан — очень ловкий мошенник, и тем не менее молодой человек склонялся к мысли, что тот говорил правду. Доминик никогда не прикасался к плодам кровавых преступлений, и, следовательно, труп итальянца помешал бы ему купить драгоценности. Насчет кражи в ювелирной лавке на улице Паради Богач может проявить гораздо меньшую щепетильность, но лишь в том случае, если раненый сторож останется жив. Именно благодаря такой скрупулезно соблюдаемой осторожности Фонтан имеет все основания надеяться, что спокойно доживет дни свои на вилле в Сен-Жинье. Так с чего бы ему вдруг изменить всем прежним привычкам?
Важнее всего сейчас найти того, кто привез Ланчано из Генуи в Марсель. Возможно, итальянец доверился проводнику или задавал какие-то вопросы, которые могли бы навести на след? С кем Томазо хотел встретиться в Марселе?
Фонтан недвусмысленно дал Бруно понять, что лишь Адоль при желании мог бы просветить его на сей счет. Но необходимость допрашивать Дьедоннэ чертовски смущала молодого человека… из-за Пэмпренетты, разумеется… В первый раз за последние три года войдя в дом Адолей, ему хотелось бы говорить о любви к девушке, а не задавать вопросы и выпытывать у ее отца сведения о Ланчано. Тем более Пэмпренетте это могло очень и очень не понравиться… Влюбленные девушки частенько склонны думать, будто их любовь способна остановить даже вращение Земли…
После того как Пэмпренетта объявила матери, что намерена выйти замуж за Бруно Маспи, поднялся невероятный тарарам. Объяснение прошло все мыслимые и немыслимые фазы, достигнув в конце потрясающего драматизма. Сначала Перрин разразилась ураганом криков, проклятий, угроз и стенаний. Но Пэмпренетта на глазах у пораженного ее стойкостью отца держалась насмерть. В конце концов мадам Адоль едва не поколотила дочь. Но крошка, защищая свою любовь, преисполнилась настолько несокрушимого мужества, что даже мать почувствовала, что силой тут ничего не добиться. Тогда наступило время рыданий. И обе женщины долго плакали в объятиях друг друга, причем каждая клялась принести себя в жертву ради счастья другой и при этом обе самым невинным образом лгали. Наконец пришел черед логической фазы. Изощряясь в самых разнообразных доводах, Перрин пыталась убедить дочь, что для нее совершенно недопустимо выйти замуж за стража закона, ибо и она сама, и вся ее семья только и делали, что нарушали означенный закон. Но Пэмпренетта заявила, что готова избрать самый добропорядочный образ жизни и во избежание новых ошибок постоянно держать под рукой Кодекс. Сражение закончилось пророчеством. Мадам Адоль уверяла дочь, что ее ждут кошмарные испытания, что они больше никогда не увидятся, что сама Перрин не сможет полюбить внуков, зная, что их отец — полицейский, а мать — неблагодарная предательница, и потому несчастная родительница Пэмпренетты в награду за все свои труды умрет одинокой и покинутой всеми. Дьедоннэ робко заметил, что у Перрин есть он, но та холодно поблагодарила и, объяснив, что это не считается, попросила больше не лезть в разговор с дурацкими замечаниями. Покончив с супругом, Перрин перешла к описанию своего безрадостного будущего. Как она, стареющая женщина, будет сидеть у окна и с завистью смотреть на чужих внуков, как целыми днями она станет разглядывать фотографии Пэмпренетты: сначала младенца, потом ребенка, подростка, девушки… Вот крошечная Пэмпренетта сидит голышом на подушке, а вот она, тоже голенькая, впервые робко знакомится с морем в Рука-Блан, потом она же — в белом платье причастницы или на свадьбе Эстель Маспи… Нарисованная картина произвела на мадам Адоль такое сильное впечатление, что бедняжка лишилась чувств, и только большой стакан рому вернул ее к действительности. Перрин с отвращением выпила лекарство.
Тем не менее шок оказался настолько сильным, что все неожиданно помирились. Перрин дала клятву, что не станет мешать счастью дочери и уж как-нибудь постарается полюбить внуков, воспитанных в уважении к законам. Звонок в дверь оборвал грозившие затянуться до бесконечности излияния.
Это пришел Бруно.
Немного поколебавшись, Пэмпренетта повисла на шее у молодого человека, а мадам Адоль стоило неимоверных усилий не накинуться на полицейского, которого она уже считала похитителем ее дочки. И все же в глубине души Перрин невольно признавала, что Бруно намного лучше Ипполита. Как только Пэмпренетта позволила возлюбленному немного перевести дух, к нему в свою очередь подошла мадам Адоль.
— Бруно, я бы предпочла иметь другого зятя, но, раз Пэмпренетта настаивает, ладно уж, женитесь!
И, дабы увенчать всеобщее примирение, Перрин крепко расцеловала в обе щеки сына Элуа Маспи, а Дьедоннэ тряс ему руки, уверяя, что готов считать парня родным сыном и постарается стать для него лучшим из отцов. Перрин подумала, что ее супруг изрядно перебарщивает. Что до Бруно, то он ужасно смутился, чувствуя, что с его стороны все это почти жульничество. Да, конечно, он мечтал жениться на Пэмпренетте, но в первую очередь следовало покончить с делами. Девушка, еще не оправившаяся от недавних волнений, первой поняла, что ее возлюбленный чем-то озабочен. И на глазах у нее сразу выступили слезы.
— Я вижу, ты не очень-то рад… — дрожащим голосом проговорила она.
— Еще бы — нет! Но…
— Так в чем дело?
— Я ведь полицейский.
— Ну и что? Мы все в курсе.
— И я пришел сюда по заданию начальства.
— По заданию?
— Да, я должен допросить твоего отца…
— Насчет чего?
— Насчет убийства итальянца, которого выловили в Старом Порту…
Дьедоннэ задрожал, побледнев от страха.
— Меня… меня… — заикаясь, лепетал он. — И ты смеешь… ты… Бру… но! О Господи! И я до… должен… выслушивать такое?
Тут он заметил, что все еще держит Маспи за руку, и тут же отшатнулся, словно обжег пальцы.
— А я-то воображал, что ты пришел сюда как друг, как сын, — с грустью заметил Адоль.
Пэмпренетта, с ужасом глядя на полицейского, медленно пятилась к лестнице, ведущей на второй этаж.
— Ты обманул меня, Бруно… обманул меня…
— Да нет же! Клянусь, я действительно люблю тебя! И только… тебя! И мы с тобой обязательно поженимся!.. Не моя же вина, что у твоих родителей такая отличная от моей… профессия!
— Ты обманул меня! Пришел из-за своей грязной работы! Ты мне отвратителен! Обманщик!
Перрин решила, что сейчас самое время вмешаться в разговор, и с обычным пылом налетела на дочь:
— Вот видишь? Еще немного — и ты выскочила бы замуж за того, кто может стать палачом твоей семьи! Ну и хорош гусь этот твой любимый! Ему отдают тебя в жены (хотя он даже не просил, хам этакий), а он, видите ли, не нашел ничего лучшего, чем обозвать твоего отца убийцей!
— Позвольте! — возмутился Маспи. — Я ничего подобного никогда не говорил!
Но мадам Адоль, не обращая на него внимания, разговаривала только с дочерью:
— Слыхала? А теперь еще меня назвал лгуньей!
Она повернулась к Бруно.
— Не много ли ты о себе возомнил? По-твоему, моя дочь без тебя не выйдет замуж? Вышвырни его вон, Дьедоинэ!
Приказ, очевидно, не доставил особой радости месье Адолю.
— Может, ты сам уйдешь отсюда, Бруно? — робко спросил он.
— Нет.
— Вот как? Перрин, он отказывается…
Как будто не замечая родителей девушки, Маспи подошел к Пэмпренетте.
— Прошу тебя, моя Пэмпренетта… ты ведь знаешь, как я тебя люблю?
— Нет, ты меня не любишь… ты любишь только свою работу… Ты легавый, просто легавый! Уходи! Я тебя ненавижу!
Повернувшись на каблуках, девушка вмиг взлетела по лестнице и заперлась у себя в комнате на ключ. Перрин с трагическим видом повернулась к Бруно.
— А вдруг она себя убьет? Негодяй! Соблазнитель! Обманщик! Убийца!
— Если она это сделает, я тоже покончу с собой! — поклялся парень, очевидно, проникшись атмосферой дома.
— Не успеешь! Я придушу тебя своими руками!
И, сделав это решительное заявление, мадам Адоль бросилась вслед за дочерью с твердым намерением не допустить никаких эксцессов.
— Ну и натворил же ты дел! — бросил Дьедоннэ, как только его жена исчезла из виду.
— Но почему она не хочет понять, что я должен выполнять свои обязанности?
— Матерь Божья! Да поставь же ты себя на ее место! Девочка ждет, что ты сейчас наговоришь ей кучу всяких нежностей, а вместо этого ты заявляешь, будто я убийца!
— Да неправда это! Я всего-навсего сказал, что хочу потолковать с вами насчет убитого итальянца!
— Но, малыш, если ты вообразил, будто я способен зарезать ближнего, что ты можешь надеяться от меня услышать?
— Например, как он добрался сюда из Генуи.
— А почему я должен это знать?
— Потому что парня переправили контрабандой.
— Ну да, а стоит в Марселе произнести это слово, как все тут же вспоминают о Дьедоннэ Адоле, верно?
— Вот именно.
— Так вот, малыш, могу сказать тебе только одно: очень возможно, что твой макарони
приплыл сюда на какой-нибудь из моих лодок, но ты, я думаю, и сам догадаешься, что те, кто его перевез, хвастаться не стали? Не исключено, что ребятам вздумалось подработать, потихоньку переправив к нам генуэзца… Кто ж тут может помешать? Но все они прекрасно знают, что, коли я выясню, чья это работа, живо выгоню вон, а потому никто и слова не скажет! Так что даже не стоит тратить время на расспросы…
— И все-таки попытайтесь, Дьедоннэ… Вы мне оказали бы громадную услугу, потому как, если генуэзец говорил кому-то из ваших людей, что хочет встретиться с Салисето, мы могли бы навсегда избавиться от Корсиканца. По-моему, все только вздохнули бы с облегчением, разве нет?
— Да, разумеется…
Пока Бруно, повесив нос, возвращался в кабинет комиссара Мурато, Перрин тщетно урезонивала дочь. Но Пэмпренетта, лежа ничком на кровати, продолжала отчаянно рыдать.
— Да ну же, девочка, прекрати! Не стоит он твоих слез!
— Я хочу умереть!
— А я тебе запрещаю!
— Мне все равно! Я наложу на себя руки!
— Только попробуй — и я тебя так отшлепаю, что целый год не сможешь ходить!
— В таком случае, я выйду за Ипполита!
Как только Бруно переступил порог участка, Пишранд схватил его за руку.
— Поехали, малый! Сейчас мы загребем Бастелику!
— А что, есть новости?
— Сторож пришел в себя… Он не так пострадал, как сперва подумали. И вообще, старики — крепкий народ.
— Ты знаешь, где прячется Бастелика?
— Ратьер не спускает с него глаз. Он только что позвонил мне и сказал, что наш бандит играет в карты в «Летающей скорпене».
Полицейские так стремительно вошли в бистро, что никто не успел предупредить Антуана, поглощенного партией в покер. При виде инспекторов парень побледнел. А Пишранд не дал ему времени опомниться.
— Ну вот, Бастелика, с тобой покончено. Поехали.
Бандит медленно встал.
— А в чем дело?
— Узнаешь в больнице… Ужасная невезуха, мой мальчик, твоей жертве удалось выкарабкаться…
Антуан попытался хорохориться.
— Я оставляю бабки, скоро мы закончим партию, — бросил он партнерам.
Пишранд усмехнулся.
— Если вам когда-нибудь и доведется всем вместе поиграть в карты, то вы уже совсем состаритесь и, пожалуй, не узнаете друг друга. Так что забирай-ка лучше свои деньги, Антуан, в тюрьме они тебе очень пригодятся.
— Ну, я еще не там.
— Не беспокойся, ждать осталось недолго.
В больнице Бастелику вместе с полицейскими проводили в палату раненого, и тот сразу указал на корсиканца.
— Вот он, подонок! Спросил у меня закурить… сукин сын… При свете спички я его отлично разглядел! И даже заметил на мизинце левой руки кольцо с камнем!
Пишранд взял Антуана за левую руку и показал всем кольцо.
— Ну, будешь раскалываться?
Понимая, что отпираться бесполезно, Бастелика пожал плечами.
— Ладно… ну, допустим, это я стукнул придурка… и что с того?
— Да так, пустяки… вооруженный налет, ограбление ювелирного магазина. Дорого же тебе придется за это заплатить! Разве что скажешь, кто ходил на дело вместе с тобой…
— Бастелика не питается хлебом измены!
— Тем хуже для тебя! Сдается мне, дружки не очень-то помогут тебе.
В сумерках Шивр, Доло, Фонтан, Этуван и Адоли по приглашению Великого Маспи явились на улицу Лонг-дэ-Капюсэн. Войдя в гостиную, сначала с удивлением, а потом и с тревогой они увидели неподвижно застывших деда и бабушку в выходном платье и облаченную в черное мадам Селестину. Да и сам Элуа выглядел довольно зловеще. Первым не выдержал самый нервный, Адоль.
— О, Маспи… случилось какое-нибудь несчастье? — спросил он вполголоса.
— Да, большое несчастье, Дьедоннэ…
Перрин, не умевшая держать язык за зубами больше пяти минут, с обычной бесцеремонностью осведомилась:
— Кто-нибудь умер?
Великий Маспи еще больше выпрямился.
— Вот именно, Перрин, умер! И этот покойник — честь дома Маспи!
Никто ничего не понимал, но по тону хозяина чувствовалось, что назревает трагедия, и в глубине души все испытывали некое радостное возбуждение.
— Я принесу пастис? — робко спросила мадам Маспи.
Муж испепелил ее взглядом.
— Позволю себе заметить, Селестина, что у тебя не хватает чувства собственного достоинства! В подобных обстоятельствах не пьют!
Если кое-кого это заявление не слишком обрадовало, то никто не подал виду. А Великий Маспи все с тем же торжественным видом вышел на середину комнаты.
— Я просил вас прийти, ибо вы самые верные и преданные мои друзья, и все, что касается меня, затрагивает и вас.
Шивр невольно пустил слезу.
— Так вот!.. Я сейчас почти как Наполеон, окруженный остатками своей гвардии… И надо решить, должен ли я отречься или продолжать борьбу… Поэтому я хотел узнать ваше мнение…
Сам выбор слов свидетельствовал о важности момента, а также о том, что Элуа заранее подготовил речь. Двойной Глаз, менее остальных восприимчивый к таким тонкостям, позволил себе вмешаться:
— А может, ты все-таки расскажешь нам, что стряслось?
Все сочли, что Этуван очень плохо воспитан, тем более что он несколько испортил удовольствие от столь драматических минут.
— Так вот… Представьте себе, что сегодня утром…
И Великий Маспи поведал о вторжении корсиканцев. Он возвышенным слогом описал свое удивление при виде убийц, угрожавших его домашним (о собственном позорном падении Элуа, конечно, умолчал), с большим лиризмом остановился на угрозах и оскорблениях, несколько преувеличив наглость Салисето, с гневом рассказал о пощечине и с глубокой обидой — об унижении Селестины.
Перрин Адоль снова не выдержала.
— Да я бы проглотила его живьем, этого Бастелику! — крикнула она.
Элуа, словно не заметив, что его перебили, подвел итог:
— Теперь вы все знаете. И я спрашиваю: что мы будем делать?
В гостиной надолго воцарилось молчание.
— А что, по-твоему, мы можем? — поинтересовался Фонтан.
— Объявить войну Корсиканцу и его банде!
— В нашем-то возрасте?
— Когда затронута честь, это не имеет значения.
И снова наступила тишина.
— Ты еще забыл сказать нам, с чего вдруг Корсиканец явился сюда? — рискнул задать вопрос Этуван.
Но хозяин дома явно предпочитал не слишком распространяться на эту тему.
— Салисето обвиняет меня, будто это я донес Пишранду, что он замешан в убийстве итальянца из Старого Порта!
— А это неправда?
Подобный вопрос — хуже всякого оскорбления.
— Что? И ты смеешь…
— Ну… когда твой сын служит в полиции…
Фонтан с трудом удержал Элуа, рвавшегося наказать обидчика.
— Отпусти меня, Доминик! Я вобью ему эти слова обратно в глотку!
— Да успокойся же, Маспи! На что это похоже? Такие давние друзья, и вдруг…
Однако едва Элуа немного успокоился, Двойной Глаз встал.
— Маспи, я тебе очень сочувствую, но скажу откровенно: твои дела с корсиканцами меня не касаются… Всякому своя рубашка ближе к телу. А у меня — ничего общего с Салисето и его парнями… Мы просто игнорируем друг друга. И на старости лет мне бы не хотелось ввязываться в ненужные приключения… Так что — привет…
И он в ледяном молчании покинул дом Маспи.
— Если кто-то еще придерживается того же мнения, то может отправиться следом! — презрительно бросил Элуа, не вставая со стула.
Немного поколебавшись, Шивр жалобно пробормотал:
— Попробуй же понять, Маспи… Этот Тони — слишком крепкий орешек для меня, и…
— Убирайся!
Крохобор быстренько исчез за дверью. А Элуа с горечью рассмеялся:
— И это — друзья…
Фонтан в очередной раз попробовал его урезонить:
— Попытайся же войти в положение, Элуа. Мы больше не в состоянии бороться с Салисето. Остается лишь надеяться, что он оставит нас в покое… Стоит мне поссориться с ним, и весь мой мелкий бизнес полетит к чертям…
— Прощай, Фонтан…
— Но…
— Прощай, Фонтан!
— Ладно… раз ты так к этому относишься, пусть будет по-твоему, не стану настаивать. Ты идешь, Доло?
«Иди Первым» на мгновение замялся, с видом побитой собаки поглядел на Маспи, но все же ушел вместе с Фонтаном Богачом, ибо тот по старой дружбе покупал все, что Доло удавалось раздобыть тем или иным путем.
Оставшись наедине с Адолями, Великий Маспи бессильно развел руками:
— Ну вот… воображаешь, будто тебе помогут… будто в случае тяжкого удара не останешься один… — и пожалуйста! Трусы! Жалкие трусы!
Перрин вскочила, дрожа от гнева.
— Мы оба, и Дьедоннэ, и я, остаемся с вами!
— Тем более что того итальянца пырнули ножом, а это очень похоже на Салисето, Бастелику или Боканьяно! — добавил ее муж.
Маспи взял за руки Дьедоннэ и Перрин.
— Спасибо… Но я буду сражаться один. Не позднее чем завтра я пойду к Корсиканцу, и мы объяснимся с ним по-мужски. А если я не вернусь, вы, друзья мои, не оставите этих несчастных…
Сцена выглядела так трогательно, что Элуа заплакал. Селестина последовала его примеру, за ней — бабушка и, наконец, Дьедоннэ. И вскоре рыдали все, кроме Перрин и деда — те принадлежали к более крепкой породе.
Проводив Адолей, Маспи вернулся в гостиную. У него опускались руки. Подумать только, Элуа надеялся сыграть возвращение с Эльбы, а получил Ватерлоо…
— Элуа… ты и впрямь собрался идти к Корсиканцу? — с тревогой спросила Селестина.
Маспи недоверчиво уставился на жену.
— Ты хочешь послать меня на верную смерть? Вот уж не ожидал от тебя! Признайся лучше сразу, что тебе не терпится стать вдовой!
— Но ведь ты сам только что…
— Ну, это, скорее, фигура красноречия, и вообще я устал от твоих расспросов! Какое тебе дело, как я собираюсь поступить?!! К тому же наша семья обесчещена не сегодня, а когда твой сынок пошел работать в полицию! Да, тот день и стал позором, истинным позором нашей семьи!
Маспи так разволновался, что жене пришлось готовить ему на ночь липовый отвар.
В кабинете Пишранда все три инспектора пытались заставить Бастелику признаться в убийстве Томазо Ланчано и ограблении. Но Антуан не впервые имел дело с полицией и крепко стоял на своем. Все обвинения он отвергал упрямо, но так спокойно, что невольно производил на допросчиков сильное впечатление.
— Насчет ювелирной лавки — согласен… Мне следовало прикончить того типа… Ладно, минутная слабость… — с кем не бывает! И, надо думать, она дорого мне обойдется! Добродетель никому еще не приносила пользы, инспектор. И потом, я сделал еще одну глупость… Что за кретинизм — совать морду к самому свету?.. Даже новичок справился бы лучше… В моем ремесле стоит чуть-чуть промахнуться — готово дело! И доказательство — перед вами. Остается только надеяться, что друзья меня не забудут, пока я отсижу свое, как паинька.
— Ну, дружочек, выйдешь ты очень не скоро!
— Кто знает? А насчет макарони, которого вы пытаетесь на меня взвалить, глухо дело! Я его в глаза не видел и даже не слышал о нем…
— Ты что, издеваешься надо мной?
— Нет. Я узнал о существовании этого типа, только когда он уже умер, если можно так выразиться… И, послушайте, инспектор… Допустим, я шлепнул бы парня и отобрал у него на целый миллион всякой всячины… Неужто вы думаете, я стал бы терять время на какую-то жалкую ювелирную лавку? Очень надо пачкаться за несколько кусков, когда у тебя и так набиты карманы? Вы меня совсем за дурака держите? Нет, сдается мне, эта история с итальяшкой — чистая случайность… Тут наверняка работал не профессионал, потому-то никто не знает!
Пишранд почти поверил, что Бастелика говорит правду, во всяком случае, в рассуждениях бандита была несомненная логика. После удачной операции преступник не станет сразу же снова искушать судьбу, рискуя все потерять из-за сравнительно ничтожной прибыли.
— Допустим… Но в ювелирном магазине ты был не один?
— Как перст!
— Врешь!
— А доказательства?
— Так ты готов отдуваться за всех сразу?
— Таков закон.
— Ну хорошо… раз у тебя есть тяга к мученичеству…
Антуан гордо выпрямился:
— При чем тут мученичество, инспектор? Просто я мужчина!
В тот же богатый приключениями день Бруно и Ратьер отправились гулять по Марселю, зорко поглядывая вокруг и прислушиваясь к разговорам. Оба они были еще очень молоды и так любили свою работу, что продолжали держаться настороже и когда, казалось бы, вполне могли отдохнуть. Они вышли на Канебьер вечером, магазины уже закрывались, и вдруг Маспи услышал, как его окликнули: «Бруно!»
Фелиси подбежала к брату. Тот познакомил ее с коллегой, и Ратьеру сразу понравилась приветливая, симпатичная девушка.
«Вот славная крошка», — подумал он. Фелиси мило улыбнулась приятелю брата, но чувствовалось, что ее гложет какая-то тревога.
— Бруно, мне надо с тобой поговорить… это насчет Пэмпренетты…
Ратьер хотел деликатно отойти в сторонку, но Маспи его удержал.
— Ты можешь не стесняться Жерома — он в курсе…
— Ох, Бруно… ты знаешь, что она выходит за Ипполита?
— Не может быть!
— Увы… Я сама только что видела Пэмпренетту — она пришла к нам делать прическу… Разумеется, нарочно — чтобы поиздеваться надо мной… Ну и заявила во всеуслышание, что скоро выходит замуж… Расплачиваясь в кассе, Пэмпренетта подозвала меня и сказала: «Твой брат, Фелиси, просто чудовище… он наболтал мне с три короба, а я и уши развесила, но теперь с этим покончено… Встретишь его — передай, чтоб больше не смел к нам являться… и вообще, моя свадьба с Ипполитом — дело решенное… Обручение — завтра, в восемь вечера, у нас дома… Хочешь — приходи, я тебя приглашаю…» Ну а я ответила: «Нет, Пэмпренетта, я не приду, потому что моему брату и так будет слишком больно и я не желаю, чтобы он и меня тоже считал предательницей! А еще имей в виду: ты делаешь ужасную глупость, связываясь с таким ничтожеством, как Ипполит!» Пэмпренетта же заявила, что это касается только ее и вообще ей не нравится, когда о ее будущем муже говорят в таком тоне… Короче, мы поссорились… Тебе очень грустно, Бруно?
Да, Бруно было очень грустно. Он ведь всю жизнь любил Пэмпренетту и наверняка так и не сумеет разлюбить. По лицу парня и Фелиси, и Ратьер сразу поняли, что творится у него на душе. Наконец Бруно передернул плечами, словно пытаясь стряхнуть прилипшую соринку.
— Ладно… ну что ж, как-нибудь переживем… А что до боли, Фелиси, то, да, конечно, мне сейчас несладко, но, надеюсь, со временем это пройдет… А сейчас, сестренка, мне лучше побыть одному, Жером тебя немного проводит…
Фелиси поцеловала старшего брата — она прекрасно его понимала и от души хотела бы помочь, а потом удалилась вместе с инспектором Ратьером. Тот предложил девушке выпить аперитив, и она согласилась. Так одна любовь умирает, другая зарождается. И все идет своим чередом.
Глава IV
Комиссар Мурато метал громы и молнии. Начальство то и дело требовало новых сведений о ходе расследования, а Мурато всякий раз приходилось отвечать, что, если главный виновник ограбления ювелирного магазина надежно заперт в тюрьме, то остальные все еще на свободе и похищенные драгоценности тоже не найдены. Что до убийства итальянца, до сих пор не удалось ухватить ни единой ниточки, которая бы вывела полицейских на след. В зависимости от характера собеседников Мурато выслушивал то горькие упреки насчет полного бездействия некоторых подразделений и слишком быстрого повышения по службе не всегда достойных этого полицейских, то вежливые замечания тех, кто не сомневался в искреннем рвении Мурато и его подчиненных, но полагал, что от человека нельзя требовать большего, нежели то, на что он способен. В заключение и те и другие обещали потерпеть еще немного, а потом официально заявить о вопиющей неспособности комиссара выполнять свои обязанности, что, разумеется, мгновенно станет достоянием общественности. Естественно, вся досада, которую Мурато не мог излить начальству, обрушивалась на подчиненных. А инспектору Пишранду, как самому старшему, доставалось больше других.
— Но это же просто уму непостижимо, Пишранд! Вот уже две недели как выловили труп итальянца, а не сообщи нам из Генуи, кто он такой, мы бы даже имени не знали… Неизвестный убит неизвестным по неизвестным причинам! Вы что, воображаете, будто государство платит нам за такие блестящие результаты?
— Мы стараемся изо всех сил, патрон…
— Очевидно, ваших сил недостаточно, Пишранд!
— Так передайте дело кому-нибудь еще!
— Ишь, чего выдумали! Кому же это? Маспи, с тех пор как узнал, что его подружка помолвлена с Доло, смахивает на Гамлета… Бродит, как тень, и равнодушен ко всему на свете… Придется нашего молодца хорошенько встряхнуть и втолковать, что его любовные истории дела не касаются! Не худо бы все-таки заставить его работать, а не только делать вид! Ну а Ратьер — полная противоположность. С утра до вечера я слышу, как он хохочет, поет и насвистывает! Рехнуться можно! Какая еще чума напала на этого придурка?
— Он влюблен, шеф…
— Тысяча чертей! В конце-то концов, Пишранд, что у меня тут — служба знакомств или уголовный отдел? Во-первых, у меня есть старик, которому все давным-давно осточертело, во-вторых, кретин, судя по всему, готовый обрадоваться даже атомной войне, только потому что ему предпочли другого, и в-третьих, юный идиот, воображающий, будто он первым на свете влюбился! А тем временем убийцы, воры и прочая сволочь разгуливают на свободе и, вероятно, скоро откроют бильярдную в нашем комиссариате!
— Но мы все-таки поймали Бастелику?
— Он стреляный воробей! И, во всяком случае, имейте в виду: владельцу магазина и его страховой компании плевать на Бастелику, для них главное — вернуть награбленное!
— Коли так, господин дивизионный комиссар, может, мне лучше заблаговременно подать в отставку?
— Ах так? И вы — на дыбы? Значит, я даже не могу разрядить нервы и немного поворчать? Стоит сказать слово — и вы уже лезете в бутылку? Да, я вижу, на старости лет ваш характер стал еще хуже! И это говорит вам друг, Пишранд! Вы знаете, как безгранично я вам доверяю, и злоупотребляете моим доверием!
— Я?
— Вот именно! Вы не терпите никаких замечаний, пусть самых безобидных! Кто вас просил уйти, а? Или вы сами задумали дезертировать? Ну, признавайтесь честно!
— Да я никогда…
— Ладно! Я это запомню! Слушайте, Пишранд, прошу вас во имя нашей пятнадцатилетней дружбы: найдите мне убийцу Ланчано, а?
— Но я и так делаю все возможное, шеф…
— Так сделайте невозможное, Пишранд! Само правосудие взывает к вам моим голосом! И встряхните-ка тех двух шутов, которых злая судьба подкинула вам в помощники!
Инспектора Пишранда вовсе не требовалось подстегивать. Он и так буквально рыл носом землю. И все же, куда бы он ни повернулся, наталкивался на стену молчания. Против обыкновения, все как воды в рот набрали и даже лучшие осведомители, невзирая на угрозы и обещания, не могли добыть никаких стоящих сведений. Мало-помалу инспектор начинал думать, что Бастелика, пожалуй, не ошибся: Ланчано убили дуриком, и сделал это отнюдь не профессионал. Но тогда, если опять-таки не поможет случай, полиция никогда не докопается до правды. Драгоценности, украденные в Генуе, а потом, вторично, в Марселе, как в воду канули, хотя всех специалистов поставили на ноги, за всеми скупщиками вели наблюдение, а описание украшений получили все ювелиры. Казалось, добыча Ланчано покинула этот мир вместе с ним.
В довершение неприятностей ограбление магазина на улице Паради, хоть и менее крупное, тоже никак не удавалось прояснить. Пишранд не питал никаких иллюзий. Арест Бастелики ни в коей мере не разрешил проблему. Разве что полиции удалось довольно надолго обезвредить опасного преступника. Но, увы, от нее ждали совсем других результатов.
Погруженный в мрачные размышления Пишранд встретил Бруно Маспи. Парень брел по улице с похоронным видом.
— Мне только что крепко намылили шею, малыш. И мне это совсем не нравится.
— А за что?
— Да за то, что мы не двигаемся с места и по-прежнему ничего не знаем ни об итальянце, ни об ограблении магазина.
Бруно пожал плечами в знак того, что честно исполняет свой долг, а результат его решительно не волнует. Пишранд рассердился. Человек вспыльчивый, он с радостью ухватился за возможность отыграться за вынужденное молчание у дивизионного комиссара:
— Мальчик мой, так больше продолжаться не может! Тебе надо раз и навсегда решить, чего ты хочешь! Полицейский ты или певец любви, певец печали? Ты все перепробовал, пытаясь вытащить свою Пэмпренетту из ямы, но она слишком испорчена… Конечно, не ее, бедняжки, вина… в таком-то окружении! Это вообще чудо, что ты сумел из него выскочить! Погляди на старшую сестру и младшего брата… обоим — прямая дорога на каторгу… К счастью, есть еще Фелиси, и благодаря вам обоим Маспи, возможно, станут вполне приличными людьми… Ну а пока доставь мне такое удовольствие — прекрати думать о Пэмпренетте и займись как следует работой! Ясно? Мы должны изловить сообщников Бастелики, поскольку иначе невозможно вернуть их добычу, если, конечно, ее еще не сплавили… Заметь, что, если бы не убийство итальянца, все бы уже тысячу раз продали, но сейчас скупщики слишком напуганы. И наша задача — не дать им опомниться. Усек?
— Да, инспектор.
— Ну и отлично! Глянь-ка, а вон и второй обалдуй топает сюда!
Означенным обалдуем был не кто иной, как Жером Ратьер. Он подошел к коллегам, блаженно улыбаясь.
— Ну что, жизнь по-прежнему прекрасна? — не особенно ласково спросил Пишранд.
— Да!
— Она тебя любит?
Жером смущенно покосился на Бруно.
— Я… я думаю, да… Во всяком случае, я ее люблю, и это, честное слово, серьезно!
— Тем лучше. И когда свадьба?
— Как можно раньше… разумеется, при условии, что она согласится.
— Вот-вот, конечно… Но скажи-ка мне, чертов ты остолоп, как, по-твоему, для чего я торчу в полиции? Может, чтобы изучать твои любовные трели? Или ты забыл, что нам надо найти убийцу, а заодно вернуть хозяевам на несколько миллионов драгоценностей? Но, вероятно, ты полагаешь, что счастье месье Жерома Ратьера куда важнее, чем все остальное?
— Помилуйте, инспектор…
— Молчи! Меня с души воротит… Как погляжу на вас обоих, чертовски рад, что остался холостяком!
И, оставив на тротуаре двух слегка обалдевших приятелей, Пишранд торопливо умчался прочь, словно его ждало что-то очень важное. На самом же деле он спешил в небольшое кафе, где всегда пил пастис, а сегодня, после головомойки у дивизионного комиссара, ему больше, чем когда бы то ни было, хотелось немного поднять настроение.
— Старик, похоже, недоволен, — вслед ему пробормотал Ратьер.
— Да его только что опять взгрел патрон.
— И по тому же поводу?
— Угу… надо признать, мы и в самом деле мало чего добились…
— Между нами говоря, старина, мне сейчас совсем не до того.
— Фелиси?
— Да… ты на меня не сердишься?
— С чего бы это? Если тебе удастся вытащить ее с улицы Лонг-дэ-Капюсэн, я только порадуюсь.
— Правда? Значит, ты согласен?
— Но гляди, Жером! Надеюсь, у тебя серьезные намерения?
— А ты как думал? И вообще, за кого ты меня держишь?
Если в кабинете дивизионного комиссара Мурато царила отнюдь не праздничная атмосфера, то в задней комнате бистро, где Тони Салисето и Луи Боканьяно толковали об угодившем в лапы полиции Бастилике, тоже не ощущалось особого оптимизма. Время от времени Луи даже переставал жевать и с тревогой спрашивал:
— Как, по-твоему, сколько схлопочет Антуан?
— А я почем знаю? С его-то послужным списком наверняка немало…
Боканьяно вздохнул.
— Вот и еще одного настоящего парня как не бывало… Здорово же ты придумал грабить эту чертову лавку!
Тони Салисето, отличавшийся бешеным нравом, мгновенно вышел из себя:
— Ну, валяй! Скажи еще, что это я во всем виноват!
— А кто готовил план, разве не ты?
— И что дальше?
— А то, что ты плохо его продумал!
— Как же я мог догадаться, что этот сукин сын сторож ни с того ни с сего вдруг изменит время обхода?
— Конечно… конечно…
— Ты говоришь «конечно», а сам думаешь по-другому!
— Верно, никак я не могу примириться…
Тони обогнул стол и угрожающе навис над приятелем.
— Послушай, Боканьяно, мне не нравятся твои фортели!
Луи снова оторвался от тарелки и поглядел на Салисето.
— Не нравятся — можешь уматывать!
Еще ни разу за десять лет его безраздельного царствования среди убийц никто не смел так разговаривать с Салисето. От яростной жажды убийства глаза его заволокло красной пеленой. Облокотившись на стол, он нагнулся к самому лицу Боканьяно.
— Придется мне тебя проучить, деревенщина!
Боканьяно плюнул ему в лицо и тут же схлопотал по физиономии. Парень мгновенно вскочил.
— Ну, теперь, Тони, обоим нам на этом свете не жить…
Выхватив нож, Луи пошел на Салисето, а тот медленно отступал, не сводя с него глаз.
— Вот этой самой штукой ты и прикончил итальяшку? — насмешливо бросил Тони.
Не отличаясь особым умом, Боканьяно все понимал буквально и попадал в любые расставленные ему ловушки.
— Отродясь я его не видел!
— Врешь! Ты по-тихому обстряпал дельце, а теперь из-за твоей измены Бастилика угодил за решетку! Знай я про Ланчано, никогда бы не полез в тот ювелирный магазин!
— Подонок!
У Салисето не было под рукой оружия, поэтому он старался отвлечь внимание противника. Чуть-чуть замедлив шаг, он дал Боканьяно подойти поближе.
— И по твоей вине Антуан состарится в кутузке!
Боканьяно очень любил Бастелику. Поэтому, вне себя от злобы и обиды, он кинулся на Салисето, но тот ожидал нападения и молниеносно швырнул под ноги Луи стул. Боканьяно упал. Тони схватил со стола бутылку и по всем правилам разбил ее о затылок Луи. Тот мигом утратил весь воинственный пыл. Успокоившись, Салисето взглянул на распростертого у его ног противника.
— Ах ты чертова старая шкура, — пробормотал он, почесываясь, — если это не ты ухлопал и ощипал итальяшку, то кто же, черт возьми, мог это сделать?
Допив свой пастис, Пишранд почувствовал, что ему и в самом деле полегчало. Он глубоко вдохнул морской воздух. Инспектор любил родной город и в этой любви черпал необходимую энергию, чтобы продолжать порой невыносимо трудную работу. Полицейский не сомневался, что рано или поздно справится с Тони. С убийцей Ланчано будет посложнее, но он и тут не терял надежды. Впрочем, над Марселем сверкало такое ослепительное солнце, что, право же, не стоило отчаиваться в чем бы то ни было.
Выходя из кафе, Пишранд заметил Пэмпренетту. Но теперь ее походка вовсе не казалась танцующей, и все ее существо как будто перестало излучать неистребимую радость жизни. Короче говоря, мадемуазель Адоль выглядела очень печальной. Инспектор подошел к девушке:
— Ну и как поживает наша Пэмпренетта?
Девушка вздрогнула и с довольно жалкой улыбкой повернулась к полицейскому:
— А-а-а… месье Пишранд…
— Гуляешь?
— Да так, захотелось проветриться…
— Послушай, Пэмпренетта, сдается мне, что тебе совсем не весело и ты совершенно права, решив хорошенько проветрить голову! Вдруг осенит какая-нибудь путная мысль!
— Пустяки… — вяло возразила девушка.
— Но я ведь вижу, что ты несчастна, Пэмпренетта!
— Наоборот, ужасно счастлива! И доказательство — то, что завтра у меня обручение!
Инспектор прикинулся дурачком:
— Завтра? Не может быть!
— Матерь Божья! А почему это не может быть, хотела б я знать? — возмутилась девушка. — Может, по-вашему, я недостаточно хороша собой, чтобы понравиться парню?
— Вовсе нет, и ты сама это отлично понимаешь, Пэмпренетта, потому как я уверен, что ты самая красивая девушка во всем Марселе… Просто мне очень грустно…
— Грустно?
Пишранд слегка отвернулся.
— Ну попробуй поставить себя на мое место! Я люблю Бруно, как младшего брата, а этот неблагодарный мальчишка даже не подумал ни сказать мне, что у него помолвка, ни пригласить… Говори что хочешь, но узнать о таком предательстве очень тяжко!
Вместо ответа девушка горько расплакалась. А полицейский напустил на себя изумленный вид:
— О-ля-ля! Да что это с тобой?
— Я… не за… Бру… но вы… хожу замуж…
— О Господи Боже! Что это ты болтаешь?
— Бруно — чу… довище… Он меня не любит! И я выхожу за Ипполита!
— За Ипполита Доло?
— Да!
— Я тебе не верю!
— Не верите?
— Нет, не верю!
Пэмпренетта в ярости поднесла к самому лицу инспектора кольцо.
— А это что, по-вашему?
Пишранд внимательно поглядел на ее палец.
— Очень красивое колечко…
— Это Ипполит мне его подарил к свадьбе!
— Правда?
— Клянусь вам!
— Что ж, Ипполиту пришла в голову отличная мысль… А меня ты не приглашаешь на помолвку, Пэмпренетта?
Девушка немного смутилась.
— Обед мы устраиваем дома… завтра в полдень… Я думаю, все будут рады вас видеть…
— Еще бы! Жаль… И тем не менее я желаю тебе огромного счастья с тем, кого ты любишь, Пэмпренетта…
— Ипполит…
— Я имел в виду вовсе не Ипполита…
И полицейский ушел, оставив мадемуазель Адоль в полной растерянности.
Бруно прекрасно знал о скором обручении Пэмпренетты и чувствовал себя глубоко несчастным, и несчастье казалось тем больше и тяжелее, что в эту трудную минуту парень не мог рассчитывать ни на чью поддержку. А потому вполне естественно, что Бруно потянуло на улицу Лонг-дэ-Капюсэн. Но он лишь бродил вокруг, не рискуя подходить слишком близко к дому. Воспоминания о родном гнезде притягивали Бруно, но парень хорошо помнил, что для всех представителей семейства Маспи он — воплощение позора.
И вдруг среди женщин, окруживших тележку бродячей торговки, Бруно заметил свою мать. Сердце у него учащенно забилось. Смущенный и растроганный парень подошел поближе и чуть слышно шепнул:
— Мама…
При виде сына Селестина выронила корзинку и молитвенно сложила руки.
— Матерь Божья! Мой Бруно!
И, не обращая внимания на прохожих, мадам Маспи обняла своего мальчика и стала покрывать его лицо поцелуями. Боясь, как бы один из не в меру прытких зевак не побежал предупредить Элуа, полицейский взял мать за руку и повел в маленькое кафе, где они и устроились рядышком, как влюбленные. Селестина раскраснелась от счастья.
— А что отец?
Она грустно покачала головой.
— Он по-прежнему считает тебя позором нашей семьи… Не думаю, чтобы он когда-нибудь простил… А мне это очень тяжело… потому как тебе я могу честно признаться, мой Бруно, что с тех пор много чего передумала… раньше мне такие мысли и в голову не приходили… Но теперь я уверена, что ты правильно поступил. И, что бы там ни говорил Элуа… тюрьма — штука препротивная…
Бруно прижал мать к себе, обняв за плечи.
— Я очень рад, мама… хотя, ты ведь знаешь, какое у меня горе…
Она отстранилась и с тревогой поглядела на сына.
— А что такое?
— Пэмпренетта…
— Ты ее все еще любишь?
— Да… а она выходит за Ипполита…
— Бедный мой малыш!.. Может, мне поговорить с Пэмпренеттой?
— Она не станет тебя слушать.
— Почему?
— Из-за моей работы… Мне пришлось допрашивать ее родителей насчет той истории с итальянцем… помнишь, его тело вытащили из воды в Старом Порту?
— А кстати…
И Селестина рассказала Бруно, как к ним явились Салисето и его дружки, об их поведении и угрозах. Опустив глаза, мать Бруно призналась, что получила две пощечины и еще одну — Элуа… Полицейский сжал кулаки. Ну, попадись ему только Корсиканец! Узнает, как лезть к Маспи!
— Твой отец созвал друзей, но все, кроме Адоля и его жены, струсили… Элуа старается не показывать виду, но я чувствую, как все это гложет его изнутри…
Какая-то девица, видимо, не оставшаяся равнодушной к красоте Бруно, все время вертелась около их столика, то и дело посылая парню многообещающие улыбки. В конце концов Селестина не выдержала и резко одернула нахалку:
— Нет, да когда ж этому настанет конец, бесстыдница этакая?
Девица, похоже, не привыкла лезть за словом в карман и ответила в том же духе:
— Кроме шуток? Да вы ее только послушайте! И за кого она себя принимает, за королеву?
— Постыдились бы!
— Это вам должно быть стыдно! Чего вы клеитесь к парню, который годится вам в сыновья?
Селестина лучезарно улыбнулась.
— А это и вправду мой сын, потаскушка!
Девица рассвирепела.
— И ничем я не хуже тебя, старая коза!
Бруно решил, что пора вмешаться.
— А ну, быстро чеши отсюда, если не хочешь ночевать в камере!
И он сунул красотке под нос полицейское удостоверение. Девица обалдело вытаращила глаза.
— Черт! — пробормотала она. — Я пыталась прикадрить легавого!
Выйдя из своей парикмахерской, Фелиси замерла от радости — на улице ее поджидал Жером Ратьер. Ей нравился друг Бруно — вежливый, сдержанный и немного застенчивый (что иногда довольно приятно).
— Мадемуазель Фелиси… вы не сердитесь, что я искал встречи с вами?
— Все зависит от того, зачем…
— В том-то и дело… Я говорил с вашим братом…
— С моим братом? И что же вы ему сказали?
Юная кокетка наслаждалась смущением поклонника. Они шли вниз по Канебьер, а погода стояла такая чудесная, что даже закоренелые ворчуны улыбались ни с того ни с сего.
— Я… я сказал ему, что…
— Да что же?
— …что я… вас люблю.
Фелиси зажмурилась от удовольствия и чуть не толкнула шедшего навстречу толстого господина. Вместо извинения девушка заговорщически подмигнула, но под таким ослепительно синим небом этот господин, видимо, счел вполне естественным, что хорошенькие девушки ни с того ни с сего улыбаются и подмигивают, а потому отправился дальше, весело насвистывая.
— А вы не думаете, что сначала следовало бы поговорить об этом со мной?
— Я… я не посмел…
Фелиси первой взяла инспектора за руку.
И тут несчастные итальянцы, болтающиеся в водах Старого Порта, до полусмерти избитые преступниками сторожа и всякие украденные драгоценности совершенно потеряли значение в глазах Жерома Ратьера. Он гордо выпрямился и пошел бодрым шагом, нисколько не сомневаясь, что их с Фелиси любовь — самая прекрасная в мире и до сих пор никто никогда никого так не любил, а потому они будут счастливы до конца своих дней.
Селестина с еще влажными от слез глазами вернулась домой почти одновременно с дочерью. У обеих, хотя и по разным, но достаточно веским причинам учащенно билось сердце. Лишь Элуа не разделял их прекрасного настроения. Для начала он выбранил жену за то, что пришла так поздно. И сколько Селестина ни объясняла, что ужин почти готов и с помощью свекрови она через несколько минут все подаст на стол, Маспи не желал ничего слушать и сердито ворчал. По правде говоря, ему просто хотелось поскандалить, и, не желая отказывать себе в таком удовольствии, Элуа стал ругать дочь:
— Селестина, почему ты просишь помощи у моей матери, хотя здесь эта бессовестная лентяйка! Почему это она должна сидеть сложа руки, как барыня?
Селестина вступилась за родное дитя:
— Ты что ж, хочешь отнять у нее последние два часа отдыха и заставить работать еще и здесь? Или у тебя нет сердца, Элуа? Бедная крошка! Скажи, ты хоть подумал о ее ногах?
Вопрос явно застал Маспи врасплох.
— А почему это я должен думать о ее ногах?
— Потому что Фелиси топчется на них весь день! Ты что, хочешь, чтобы у нее вылезли вены?
По правде говоря, Элуа в глубине души полагал, что его младшая дочь, по крайней мере внешне, удалась на славу, и он вовсе не желал видеть ее с распухшими узловатыми ногами, а потому лишь пробормотал, что в его время дети работали и никто не беспокоился за их конечности.
Ужин прошел тоскливо. Элуа почти не поднимал голову от тарелки. Дед и бабушка ели, по-стариковски тщательно пережевывая пищу, как будто от этого зависело их долголетие. А Селестину так взволновала встреча с сыном, что ей вообще не хотелось есть. Фелиси же настолько погрузилась в самые радужные мечты, что низменные материи вроде ужина ее нисколько не занимали.
— Сегодня утром приходил Дьедоннэ Адоль, — вдруг заявил Великий Маспи.
Селестина очнулась от грез и потребовала уточнений:
— И чего он хотел?
— Адоль выдает дочку замуж… за Ипполита Доло… и пригласил нас, всех пятерых, на обручение… Это будет завтра у них дома.
— И ты согласился?
Возмущение, прозвучавшее в голосе жены, заставило Элуа оторваться от тарелки.
— Разумеется! А почему бы я стал ему отказывать? Адоли — настоящие друзья. Я очень люблю Пэмпренетту и, кстати, мы — единственные приглашенные.
— И тебе не стыдно идти на обручение девушки, которая разбила сердце твоему сыну?
— Какому еще сыну?
— Бруно!
— Да, у меня и вправду был малыш с таким именем, но он умер, и я запрещаю о нем говорить!
Селестина быстро осенила себя крестным знамением.
— Как тебе не совестно произносить такие ужасные слова? Господь тебя накажет!
— Отстань от меня!
— В любом случае я ни за что не пойду поздравлять маленькую стерву, которая предпочла подонка Ипполита моему Бруно!
— Твой Бруно — ничтожество! И я прекрасно понимаю Пэмпренетту! Она совершенно права, не пожелав выйти за парня, опозорившего свою семью!
— Потому что он хотел остаться честным человеком, а не тюремными крысами вроде нас?
Великий Маспи побледнел как полотно.
— Так ты встаешь на его сторону!
— Вот именно! Бруно молодец! А теперь, может, ты вышвырнешь из дому и меня тоже?
После предательства друзей Элуа ожидал чего угодно, но чтобы его собственная жена… его подруга и в горе, и в радости! Дикая злоба сменилась полным упадком сил. Вместо криков и проклятий, вопреки всеобщим ожиданиям, Маспи лишь вздохнул и с глубоким отчаянием заметил:
— Когда жалкие паяцы, которых я считал друзьями и братьями, покинули меня в трудную минуту, я думал, это предел моего падения… Но я ошибался! Мне еще суждено было узнать, что моя подруга… мать моих детей… укусит кормящую ее руку… предаст того, кто всегда был ей защитником и покровителем, — меня!
Чувствительная душа Селестины не выносила столь патетических речей. Она уже собиралась покаяться, но муж не дал ей на это времени. Вытащив из-за ворота рубахи салфетку, он встал.
— Я больше не могу… Когда-то я, быть может, выпустил бы всем вам кишки, но теперь у меня просто нет на это сил… да и желания тоже… Раз, по-вашему, я виновник всех несчастий, раз все восстают против меня…
Дед, довольно рассеянно слушавший полные благородной решимости слова сына, перебил его самым прозаическим образом:
— Элуа… тушеное мясо остынет…
Сие гастрономическое замечание несколько подпортило лирический порыв Великого Маспи и помешало полной раскаяния Селестине броситься к ногам супруга. Элуа устало пожал плечами.
— Еда!.. Бедный отец! Ешьте и пейте! Смейтесь над тем, кого должны были бы уважать! А я знаю, что мне остается делать…
И он решительно направился к двери.
— Куда ты, Элуа? — не выдержав, крикнула Селестина.
— Спать.
Немного успокоившись, она облегченно вздохнула и снова опустилась на стул.
— Да, уснуть и попытаться забыть этот прогнивший мир!.. А проснусь я или нет — на то воля Господня!
После этого торжественного заявления наступила полная тишина, а потому слова Фелиси прозвучали с особой резкостью:
— На твоем месте, папа, я бы поостереглась упоминать о Господе Боге, потому что для тебя самое лучшее — это чтобы он забыл о твоем существовании!
Благие намерения Элуа мигом улетучились. Он вернулся в комнату. Глаза его сверкали, губы кривила горькая улыбка.
— Для начала, Фелиси, скажи, кто тебя просил высказывать свое мнение?
— А меня не нужно просить — и так обойдусь!
— Ты не имеешь права так поступать только потому, что твоя мать ведет себя, как…
— Да мама в сто раз лучше тебя!
Великий Маспи, откинув на время величие и подняв карающую длань, кинулся к дочери, но путь ему преградила Селестина.
— Не смей трогать крошку!
Неожиданный бунт совсем обескуражил Элуа. И уже то, что он снизошел до переговоров, свидетельствовало о поражении.
— Ты что, не слышала как она разговаривает с отцом?
— Фелиси права!
— Что?
— Какого уважения заслуживает отец, если он учит детей плохо себя вести? Кто станет уважать мать, столько лет просидевшую в тюрьме? И, по-моему, Фелиси на редкость славная крошка, коли ей удалось не прогнить до мозга костей, несмотря на то, какой пример мы подавали!
Элуа совсем растерялся.
— Но… что это с тобой? — пробормотал он.
— Я виделась с Бруно!
— Этого и следовало ожидать!
— Да-да, я встретилась с Бруно, мы поговорили, и мне стало стыдно… Слышишь, Элуа? Мне, матери, было стыдно смотреть в глаза собственному сыну! И я просто не знаю, как он еще может меня любить… Жалкие люди мы с тобой. Элуа, и, предупреждаю, если вздумаешь еще хоть раз напасть на мою маленькую Фелиси, за то что она честная и чистая, как родник, девочка, я соберу чемоданы и мы с ней вместе уйдем отсюда!
Совершенно убитый этим новым, незнакомым ему ликом Селестины, Элуа просто не знал, что сказать. А дедушка, быстро разобравшись в ситуации, поспешил на помощь сыну:
— В мое время жена не посмела бы так говорить с мужем, не то живо заработала бы хорошую трепку!
Селестина сердито повернулась к свекру:
— А вы, папаша, молчите! Все это случилось по вашей милости! Это вы сделали из сына бандита, лентяя и бездельника!
Старик побагровел.
— Вот что, девочка, будь у меня под рукой палка, я бы так треснул тебя по спине, что враз научил бы уважать старших!
Фелиси вмешалась, как всегда, в самый удачный момент:
— К счастью, у тебя ее нет, дедушка, а то, если б ты только тронул маму, я бы заставила тебя разжевать и проглотить эту палку!
Селестина поддержала дочь:
— Вы просто старый негодяй! Из-за вас бедная наша бабушка вытерпела сто тысяч адских несчастий, так что, я думаю, она того же мнения! Ну хватит, Фелиси, оставим их… Даже смотреть противно!
Мать с дочерью вышли на кухню. Элуа, как потерянный, ушел к себе и заперся на ключ. Старики остались в гостиной одни. Дед стукнул кулаком по столу.
— Все эту — еще не причина оставлять меня без кофе! Принеси-ка мне его, Адель.
Но, очевидно, в тот день угнетенные обитатели дома на улице Лонг-дэ-Капюсэн твердо решили бунтовать, а потому впервые в жизни Адель Маспи не подчинилась мужу.
— Нет.
Старик
недоверчиво уставился на жену.
— Что ты сказала?
— Если тебе так хочется кофе — пойди и сам приготовь!
— Иисусе Христе! И почему ж это я должен готовить его сам?
— Потому что Селестина права, и, очень возможно, ты и вправду старый негодяй!
Погода стояла великолепная, но Бруно день казался хмурым, как его настроение. Даже ослепительное южное солнце казалось парню каким-то жалким фонарем, а лазурный небесный свод — раскрашенным бездарными малярами полотном. Едва проснувшись, молодой Маспи почувствовал, что какая-то пакость мешает ему свободно дышать, и далеко не сразу понял, что и дурное настроение, и отвращение ко всему окружающему вызваны одним-единственным обстоятельством: сегодня Пэмпренетта должна навсегда связать судьбу с Ипполитом Доло.
Пишранд, догадывавшийся, что творится с его коллегой, почти не трогал его все утро и нарочно взял с собой на обычный обход, ставший своего рода ритуалом: инспектор, прогуливаясь по определенным кварталам, просто показывал злоумышленникам, что прекрасно о них помнит. На ходу полицейский делился с Бруно планами поимки убийцы Ланчано и сообщников Бастелики по ограблению на улице Паради.
— Доказательств у меня нет, но, думаю, эти дела не связаны между собой… Бастелика прав: прибери он к рукам огромное состояние, которое итальянец таскал при себе, ни за что не стал бы дергать дьявола за хвост и участвовать в слишком опасном ограблении ради сравнительно ничтожной прибыли.
— Так вы больше не подозреваете Корсиканца в убийстве Ланчано?
— Не совсем так… У меня есть ощущение, что убийца не стал рассказывать о своем «подвиге» друзьям… Понимаешь, что я имею в виду? По-моему, дело было примерно так: Ланчано садится в Генуе на французскую лодку… возможно, одну из лодок Дьедоннэ Адоля… Так или иначе, наш итальянец вместе с драгоценностями направлялся к Салисето… Я думаю, они встретились. И Корсиканец в тот момент оказался один… При виде товара у Тони закружилась голова… Он убил парня, припрятал добычу и бросил труп в море. А чтобы обмануть приятелей, затеял якобы давно подготовленное ограбление ювелирного магазина… Там Бастелика сделал промашку и попался… Вот у меня и наклюнулась одна мыслишка… Что, если внушить Бастелике, что его шеф вел двойную игру?.. Интересно, как он отреагирует… Да ты меня слушаешь или нет?
— Что? Да, конечно…
— Понятно… Представляю, как бы ты мучился, попроси я повторить все, что я только что сказал… Ну да ладно, это неважно: я говорил скорее сам с собой…
— Простите, сегодня я сам не свой…
— Знаю, малыш, но ты напрасно так портишь себе кровь.
— Она была для меня всем… Едва я научился думать о будущем, оно всегда связывалось для меня с Пэмпренеттой… И вот теперь она выходит за Ипполита… Если б она хоть выбрала порядочного парня, может, я бы меньше страдал…
Пишранд взял Бруно под руку:
— Пока они не побывали в мэрии, не стоит терять надежду… Пошли, я угощу тебя завтраком.
— Я не голоден.
— Ничего! Значит, заставишь себя есть.
У Адолей свадебная трапеза проходила далеко не так весело, как хотелось бы участникам. И каждый тщился изобразить воодушевление, которого вовсе не испытывал. По правде говоря, из-за Великого Маспи Фонтаны, Этуваны и Шивры остались без приглашения, и Перрин злилась на Элуа, считая, что по его вине на церемонии присутствует слишком мало гостей. Доло, несколько смущенные неожиданно оказанной им честью, держались тише воды ниже травы. Маспи еще не вполне пришел в себя после вчерашнего столкновения со «своими» женщинами и с трудом поддерживал разговор, в котором частенько наступали неловкие паузы. Селестина так и не смогла простить Пэмпренетте то, что про себя называла предательством, и, думая о Бруно, сидела с самым мрачным видом. Перрин Адоль пыталась оживить атмосферу, рассказывая забавные истории, но никто ее не слушал. Дьедоннэ без особого успеха изображал довольного жизнью весельчака, но это производило крайне жалкое впечатление. Ипполит, отлично чувствуя всеобщее недовольство, отчаянно злился, так что даже забывал ухаживать за Пэмпренеттой. А девушка с горечью вспоминала Бруно. Только дедушка Маспи с огромным аппетитом поглощал праздничные блюда и не обращал ни малейшего внимания на чужие неприятности. Бабушка Маспи после вчерашней сцены видела все происходящее в новом свете, а потому жалела Пэмпренетту, понимая, что девушка собирается сделать ужасную глупость, за которую ей предстоит расплачиваться всю жизнь.
Наконец настало время подавать десерт. Дьедоннэ встал с кубком шампанского в руке.
— Друзья, спасибо вам, что пришли на обручение моей единственной дочери!.. И я уверен, что вы присоединитесь к моим пожеланиям… Пусть Пэмпренетта будет бесконечно счастлива с тем, кого она любит!
— Неправда!
Возмущенное восклицание Селестины оборвало порыв красноречия Адоля, и контрабандист растерялся, не зная, что еще сказать. Перрин удивленно вскинула брови. Доло оскалили зубы. Пэмпренетта покраснела. Ипполит сжал кулаки. Великий Маспи повернулся к жене.
— Ты что, спятила?
— Вот уж не ожидала от вас, Селестина! — обиженно заметила Перрин Адоль.
— А я, Перрин, никак не ожидала, что вы отдадите дочь такому бандиту!
И тут все закричали разом. Ипполит бешено размахивал руками и рычал, что непременно разобьет кому-нибудь физиономию, вот только надо выбрать — кому именно. Супруги Доло хором спрашивали мадам Маспи, зачем она лезет не в свое дело и по какому праву. Элуа посоветовал означенным супругам несколько сбавить тон и не забывать, что, как ни крути, они всего-навсего мелкая сошка. Перрин вопила, что впервые в жизни ее оскорбили в собственном доме, а Дьедоннэ силился объяснить, что тут наверняка произошло какое-то недоразумение. Пэмпренетта плакала. А дедушка Маспи, перекрывая общий шум, крикнул жене:
— Дай мне еще мороженого, Адель, пока нас отсюда не выставили!
Атмосфера накалялась на глазах. Отчаявшись, что ее наконец услышат, Перрин схватила компотницу и вдребезги разбила об пол. Услышав дьявольский грохот, все замерли, а дедушка Маспи так испугался, что сунул ложку с мороженым не в рот, а за пазуху.
— А теперь, — объявила мадам Адоль ледяным тоном, особенно резко контрастировавшим с недавней жаркой перепалкой, — я хочу знать, что все это значит. И никто здесь больше не произнесет ни слова без моего позволения. Вы сказали ужасные слова, Селестина… А мы ведь старинные друзья… Так за что вы нас так оскорбили?
— Вы не хуже меня знаете, что ваша дочь не любит Ипполита. Вы только поглядите — сущий недоносок! И доказательство — то, что его даже не взяли в армию!
Серафина подняла узкую мордочку (в этот момент она особенно напоминала землеройку) и прошипела, что ее оскорбляют и она, Серафина, не хуже любой другой могла бы нарожать красивых детей, но для этого нужен подходящий родитель. Уязвленный Доло отвесил жене пощечину, а Ипполит, защищая мать, набросился на отца. Перрин схватила парня за шиворот и усадила на место.
— Жоффруа, — предупредила она Доло, — позвольте себе еще хоть раз такое хамство — и будете иметь дело со мной! Продолжайте, Селестина!
— …Повторяю, ваша дочь не любит Ипполита, потому что она любит моего мальчика!
Перрин покраснела от злости.
— И вы смеете объявлять при всех, будто моя Пэмпренетта способна влюбиться в легавого?
— Это неправда! — крикнула девушка.
Торжествующая мать решила окончательно доконать противницу:
— Я все понимаю, Селестина… это разочарование заставляет вас клеветать… Раз Бруно опозорил вашу семью, вам бы очень хотелось и других поставить в такое же положение! Но в семье Адоль никогда не было и не будет легавых!
Великий Маспи не шелохнулся. Всякий раз, как упоминали о позорном переходе его сына на сторону полиции, он сконфуженно молчал. Зато Селестину, по-видимому, уже ничуть не волновали оскорбления, брошенные ей в лицо.
— Вот что я скажу вам, Перрин… По-моему, Бруно совершенно прав… Он хороший мальчик и сейчас, наверное, исходит слезами из-за того, что Пэмпренетта, его Пэмпренетта, та, кого он любит с детских лет, изменила данному слову… Только вчера я видела своего Бруно, и если бы вы тоже могли на него взглянуть, Перрин, сразу перестали бы сердиться… Лицо — как у покойника… и отощал — просто ужас… А сам только и говорит, что о Пэмпренетте. «Мама, — сказал он мне, — мне лучше умереть, чем жить без нее… Я слишком ее люблю… И не позволю другому отнять у меня Пэмпренетту, иначе я готов Бог знает чего натворить!»
Мадемуазель Адоль уже не плакала, а рыдала в голос. Ипполит, вне себя от обиды, не слишком вежливо приказал ей замолчать:
— Да заткнешься ты наконец?
Мадам Адоль не могла допустить, чтобы с ее дочкой разговаривали так грубо.
— Ипполит Доло! В нашем доме женщины не привыкли к подобному обращению! А коли тебя не учили вежливости — что ж, я сама быстренько возьмусь за дело!
Жених, уязвленный явной несправедливостью и всеобщими нападками, с негодованием указал на Селестину Маспи.
— Да разве вы не видите, что эта подлая баба пытается поссорить нас с Пэмпренеттой? Маспи, видите ли, не выносят, чтобы кто-то устраивал свои дела, не спросив у них дозволения! И приходят в ярость, коли обходятся без них! Иметь в семье легавого — такой стыд, что они просто свихнулись!
Хотя ее муж продолжал безучастно наблюдать за происходящим, а свекор невозмутимо набивал брюхо, Селестина не желала идти на попятный.
— Бедняжка Ипполит, ты тявкаешь, как шавка из подворотни, но на людях ты бы не позволил себе такого нахальства!
— Совсем как вы, когда к вам пришел Тони Салисето с друзьями и малость поучил хорошим манерам?
Маспи вдруг вскочил.
— Кто тебе рассказал?
— Попробуйте угадать, а?
— Ты что, якшаешься с Корсиканцем?
— Ну и что? Лучше с Тони, чем с легавыми! Вам не кажется?
Элуа снова рухнул на стул. Только теперь он окончательно понял, что время его ушло безвозвратно. Предательство сына лишило Великого Маспи пьедестала. И сейчас он всего лишь Элуа, отец полицейского. Ему хотелось плакать от стыда… Но тут, ко всеобщему удивлению, в наступившей после поражения Маспи тишине раздался дребезжащий голос Адепи:
— При всем при том мы и не выяснили, любит Пэмпренетта Бруно или нет!
Столкнувшись со столь неожиданной противницей, Ипполит вновь утратил хладнокровие.
— Что за собачья жизнь! И чего она лезет в разговор, эта старая дура?
— Я не дурее тебя, хряк невоспитанный!
А героиня этого бесконечного сражения, где каждый высказывал свою точку зрения и лишь ей одной не удавалось вставить ни слова, наконец не выдержала.
— Замолчите! — крикнула Пэмпренетта. — Замолчите! Или вы сведете меня с ума! Да, я люблю Бруно, а Ипполита больше не желаю видеть! Пусть убирается на все четыре стороны! Мне не нужен супруг, который связался с Корсиканцем!
И Пэмпренетта бросилась в материнские объятия.
— Могла бы предупредить пораньше, до того, как мы заказали еду, — не удержалась Перрин.
Что до Ипполита, то подобный афронт окончательно лишил его остатков разума. Парень совсем озверел, и, вероятно, дело окончилось бы очень печально, но в эту секунду дверь гостиной распахнулась и вбежала девушка, специально нанятая прислуживать на праздничной трапезе.
— Мадам! Мадам! Там двое мужчин…
Прислуга не успела договорить — инспектор Пишранд, твердой рукой отстранив это хрупкое препятствие, вошел в комнату вместе с инспектором Маспи. Это по меньшей мере неожиданное явление разом утихомирило страсти. Полицейский любезно поклонился.
— Приветствую вас всех… Простите, что нарушаем такое милое семейное торжество, но мы заглянули к вам всего на минутку…
Перрин Адоль приняла вызов.
— По-моему, я вас не приглашала, месье Пишранд?
— Работа часто вынуждает нас заходить к людям без приглашения… Я хотел бы поговорить с Пэмпренеттой.
— А что вам надо от моей дочери?
— Ничего особенного, успокойтесь! Пэмпренетта!
Но девушка не слышала оклика. Они с Бруно, не отводя глаз, смотрели друг на друга. Успокоенная Селестина наконец села. Что до Великого Маспи, то он закрыл лицо руками, предпочитая ничего не видеть и особенно сына, которого так бесконечно стыдился.
— Я тебя зову, Пэмпренетта!
Девушка наконец подошла к Пишранду, и тот взял ее за руку.
— У тебя очень красивое колечко, малышка… Кто тебе его подарил?
— Ипполит.
Инспектор все так же любезно повернулся к младшему Доло.
— Может, ты объяснишь мне, где купил такую замечательную драгоценность?
— Это вас не касается!
Полицейский с жалостью поглядел на парня.
— Я с прискорбием вижу, что ты не умнее своего папаши… потому как надо потерять рассудок, чтобы подарить невесте только что украденное кольцо!.. Тебе еще не объяснили, что нам отправляют подробное описание всех похищенных драгоценностей?
— Неправда!
— Правда или неправда, а я тебя арестую, и, поверь, в твоих же интересах — не ерепениться!
В мгновение ока Пишранд защелкнул наручники на запястьях совершенно уничтоженного таким ударом судьбы Ипполита Доло.
— Ну а теперь мы уходим… и еще раз просим извинить за беспокойство, дамы и господа… Желаю хорошо повеселиться! Ты идешь, Бруно?
— Да, сейчас!
Но Пэмпренетта, схватив его за руку, твердо заявила:
— Я иду с тобой!
После ухода полицейских и несостоявшихся жениха и невесты все долго сидели в полной растерянности. Серафина Доло беззвучно плакала на плече у мужа. Торжествующая Селестина с трудом скрывала радость. Перрин мысленно подсчитывала, во что ей обошлось это ненужное торжество. Великий Маспи старался ни на кого не смотреть. Дьедоннэ Адоль про себя радовался, что неприятная для него помолвка все же сорвалась. Жоффруа Доло с грустью думал, что его сын снова надолго засядет в тюрьму, и невольно признавал, что, возможно, Селестина говорила не такие уж глупости, как ему казалось. Но лучше всех обрисовал положение дедушка Маспи:
— В первый раз я попал на помолвку, где нет ни жениха, ни невесты!
Ипполит Доло еще не успел достаточно окрепнуть, чтобы долго сопротивляться допросам Пишранда и Ратьера. Сначала он по-детски все отрицал, но потом, когда вызванный свидетель — владелец ювелирного магазина — опознал кольцо как одну из похищенных у него драгоценностей, Доло сломался.
— Ладно… ну, участвовал я в этом деле…
Пишранд сменил Ратьера и принялся допрашивать сам:
— Так, ты уже начинаешь вести себя разумнее… Что ж, отлично, это пойдет тебе на пользу. А кто тебя втравил в ограбление?
— Антуан Бастелика.
— Ты с ним очень дружен?
— Не сказал бы, но, выйдя из Бомэтт, я сидел без гроша… Старики не особо могли помочь… А тут случайно подвернулся Бастелика… Я сказал ему, в какой сижу дыре, и он предложил прихватить меня на дело… Пока он работал, я стоял на стреме.
— И сколько ты получил?
— Кольцо и пятьсот монет.
— А твой отец?
— Отец? Да вы что, воображаете, будто мы потащили с собой старика? А вы, часом, не того? Разве это работа для моего папаши? Предок возится со всякой ерундой, а нынешние дела ему не по зубам!
— А ты, значит, решил, что тебе море по колено?
— Просто не повезло, уж чего там…
— Кретин несчастный! Только что вышел из Бомэтт и опять вернешься туда, да еще чертовски надолго! По-твоему, это очень умно, а? Так ты себе представляешь красивую жизнь?
— Это уж мое дело!
— Согласен… А кто еще участвовал в ограблении, кроме вас с Бастеликой?
— Никто.
— Ну, как хочешь… А насчет итальянца, которого выловили в Старом Порту, случайно не знаешь, каким образом он туда угодил?
— Вы и это хотите мне пришить?
— Нет, такое дело не для сопляка вроде тебя… но ты мог кое-что слышать, а если бы дал нам наводку, глядишь, и скостили бы срок… Не так уж весело в твои годы лучшие деньки проторчать в каменном мешке!
— Ну и гады же вы!.. Не знаю я ничего о вашем макарони, а и знал бы — так держал язык за зубами.
— Твое дело… У тебя хватит времени поразмыслить… и сидеть тебе, голубчик, без солнышка, пока не высохнешь, как цикорий!
Во время очной ставки с Бастеликой Доло придерживался прежней версии. В свою очередь, Антуан подтвердил все, что сказал парень. Держался он весьма самоуверенно.
— Понимаете, господин инспектор, я слишком добр по натуре… а потому, встретив малыша и видя, как он изводится, что ничего не может подарить невесте, сразу подумал о красивом колечке. Чистое сострадание к ближнему… разве это не прекрасно?.. Вот я и взял его с собой… А теперь, конечно, жалею… Будь нас побольше, не потащили бы мальчишку на дело! С сосунками всегда рискуешь!
— Врешь ты все, Антуан!
— Ну, это вам придется доказать, господин инспектор…
— И докажу.
Пока взорам Бастелики и Ипполита рисовалось довольно безрадостное будущее, Бруно и Пэмпренетта, взявшись за руки, гуляли в парке Фаро — своем любимом прибежище. К счастью, «их» скамья как раз пустовала. Влюбленные сели, и девушка сразу прижалась к Бруно.
— Тебе правда было больно, что я согласилась обручиться с Ипполитом?
— Да я бы лучше умер, чем увидеть тебя его женой!
Пэмпренетта тихонько застонала, причем неизвестно, от позднего ли сожаления или от удовольствия.
— И ты решился бы наложить на себя руки?
— Без твоей любви мне было бы плевать на все на свете!
— Но я же никогда не переставала тебя любить!
— И хотела выйти за Доло?
— Это в отместку!
— За что?
— За ту боль, которую ты мне причинил!
— Я?
— Ну, кто из нас служит в полиции, ты или я?
Бруно слегка отодвинулся от Пэмпренетты.
— Выслушай меня хорошенько, — сухо сказал он. — Давай покончим с этим вопросом раз и навсегда! Либо ты соглашаешься стать женой полицейского и хорошо себя вести…
— А-а-а, так ты считаешь, будто я плохо себя веду? И это твоя любовь? Хорошенькое дело! Клянешься в любви и тут же оскорбляешь!
— Святая Матерь Божья! Прибери меня к себе, или я ее сейчас удавлю! Да пойми же, упрямая голова, я хочу, чтобы ты всегда была рядом, и вовсе не желаю по воскресеньям носить тебе передачи в тюрьму! Чем иметь жену, которую видишь только время от времени, лучше помереть холостяком! Решай сама! В конце концов, я могу попроситься в другой город, и ты больше никогда даже не услышишь обо мне!
— Ты меня оскорбляешь… ты мне угрожаешь… да еще и собираешься удрать? Странная у вас в полиции манера доказывать свою любовь! А вот я люблю тебя взаправду и потому сделаю все так, как ты хочешь!
Глава V
Несмотря на весь свой пессимизм и раздражение от слишком долгого топтания на месте, дивизионный комиссар мало-помалу проникался спокойной уверенностью инспектора Пишранда.
— Так, давайте еще раз переберем все сначала… Как с делом об ограблении?
Полицейский пожал плечами:
— Тут почти все закончено. И я бы уже закрыл доло, если бы не опасался повредить другому расследованию. Но, по-моему, между налетом на магазин и убийством итальянца существует какая-то связь.
— Объясните толком, чтобы я мог в свою очередь сообщить начальству!
— Во-первых, насчет налета… Мы накрыли Бастелику и Доло, но Ипполит — неопытный щенок, а Антуан еще ни разу не организовал ни одной операции. Так что, невзирая на все уверения Бастелики, будто он сам все придумал, это совершенно исключено, хотя бы потому, что полностью противоречит его характеру…
— Бастелика мог измениться…
— В его-то возрасте? Антуану нужны только хорошо начищенные ботинки, яркий галстук и костюм по мерке, а ломать голову он не привык… Нет, в операции участвовали еще двое — Салисето и Боканьяно… Думаю, это вопрос нескольких часов или дней и очень скоро я заставлю их расколоться.
— А почему не сию минуту?
— Просто я уверен, что это Салисето или Боканьяно прикончили и ограбили Ланчано, но тот, кто это сделал, действовал тайком от других и боится напарника не меньше, если не больше, чем нас! Если Салисето или Боканьяно припрятали драгоценности в надежном месте, я окажу убийце большую услугу, надолго изъяв его из обращения: избавлю его от искушения сплавить несколько камешков и обелю в глазах остальных… Понимаете?
— Вполне.
— Разумеется, с Салисето и Боканьяно не спускают глаз — вдруг кому-нибудь из них захочется переменить климат?.. Оба не понимают, почему их до сих пор не отправили за решетку, но, как и положено настоящим бандитам, просто считают нас дураками… Это дает им ощущение относительной безопасности. Вот я и жду, когда убийца, совсем успокоившись, сделает ошибку. Тогда-то я его и поймаю за шиворот.
— А у вас нет более точных соображений насчет личности преступника?
— Скорее всего, это Тони Салисето… Генуэзец, конечно, сначала навел справки и явился не к подручному, а к главарю банды. Боканьяно слишком туп… Я прошу у вас еще несколько дней, патрон.
— Ладно.
— Благодарю вас.
В доме Маспи все шло прахом. После бунта Селестины и ареста Ипполита у Элуа и его отца появилось несколько непривычное чувство, что их воля перестала быть законом для женщин. Долгие годы безропотного послушания в мгновение ока ушли в прошлое. Теперь Селестина уже не боялась говорить о Бруно, несмотря на то, что глава семьи запретил касаться этой темы. А настоящий переворот произошел, когда Маспи вернулись с так странно оборвавшегося торжества. Едва успев положить сумочку на стол в гостиной, Селестина с необычным для этой всегда приветливой и мягкой женщины раздражением налетела на мужа:
— А ну, посмотри на меня, Элуа! Может, ты еще и гордишься собой?
Остальные замерли, словно персонажи какого-нибудь фильма «новой волны». Великий Маспи, не привыкший к подобному обращению, попытался было восстановить прежнее положение вещей:
— Это еще что такое? Как ты смеешь так разговаривать с супругом, которого обязана уважать?
Селестина рассмеялась:
— А кто это сказал?
— Что сказал?
— Что я обязана тебя уважать?
Сбитый с толку таким неожиданным ответом Маспи смешался:
— Ну… так принято… короче, это закон…
— Так тебе же вроде плевать на все и всяческие законы?
— В каком-то смысле…
— Не увиливай! Ты сам нам всегда втолковывал, что законы и жандармы — не для тебя… И, кажется, ты достаточно долго отсидел в тюрьме за свое презрение к законам?
— Ну и что?
— А то, что нечего теперь взывать к закону и приставать ко мне!
— Приста…
— Вот именно! Я ведь точно так же, как и ты, чихать хотела на законы! А потому обойдешься без уважения!
В перепалку вмешался дед:
— Элуа, не позволяй ей разговаривать таким тоном! Подумай, какой пример она подает твоей матери!
Но Селестина в одну секунду отбила у старика весь воинственный пыл:
— А вы, дедушка, шли бы лучше к себе в комнату, пока я не рассердилась! Не то ужин вам придется искать в другом месте!
— Селестина! — возмутился Маспи. — Я запрещаю тебе…
— Ты? Да иди ты…
В эту минуту в доме Маспи началась новая эра. Тем не менее Элуа, оправившись от потрясения, решил бороться и не допустить полного краха. Пока старики тихонько отступали, не желая случайно угодить под горячую руку, хозяин дома напустил на себя торжественный вид.
— Я к этому не привык, Селестина… С чего вдруг ты стала обращаться со мной, как с последним… ничтожеством?
— А как еще можно назвать мужчину, если он позволяет оскорблять свою жену, оставляет ее без помощи и защиты?
— Да что ты болтаешь?
— Может, ты не слыхал, как со мной разговаривала Перрин?
— Когда речь заходит о господине Бруно Маспи, я не желаю вмешиваться! Мне слишком стыдно!
— Это мне стыдно за тебя!
— Я запретил тебе говорить о парне, которого больше не желаю знать!
— Ах, ты его больше не знаешь? Старый дурак! Во всяком случае, ты не посмеешь отрицать, что наш сын просто красавчик! А как он вошел!
Элуа скорчил гримасу.
— Красавчик… не стоит преувеличивать… И вообще, интересно, в кого это ему быть красивым?
— В меня! Ты уже забыл, какой я была раньше? В те времена, когда малыш появился на свет?
Маспи чувствовал, что разговор принимает слишком опасный для него оборот. Он попробовал сменить тему.
— Я помню только одно: что категорически запретил вспоминать о субъекте, опозорившем до сих пор всеми почитаемую семью!
— Кем?
— Что — кем?
— Я тебя спрашиваю: кто нас уважал?
— Но, мне кажется…
— Нет, Элуа… К нам относились с почтением все отбросы общества, но ни один порядочный человек не пожал бы тебе руки… И был бы совершенно прав, Великий Маспи, потому что ты плохой муж, бессовестный отец и, с точки зрения нормальных граждан, всего-навсего мелкий жулик!
— Я вижу, господин Бруно здорово промыл тебе мозги!
— Ну, он-то везде может ходить с высоко поднятой головой!
— В форме!
— А на тебя не надевали в тюрьме форму?
— Так это ж насильно! Я ее не выбирал!
— Ошибаешься! Ты выбрал образ жизни, а вместе с ним — и тюремную робу!
Наступила долгая тишина. Оба обдумывали все сказанное. Наконец Маспи поднялся из кресла.
— Селестина… я тебя всегда уважал… но на сей раз ты зашла слишком далеко… Для меня твой сын — презренный тип, и, даже если бы он тонул у меня на глазах, я бы и мизинцем не шевельнул… Я считаю, что Бруно Маспи умер и похоронен… А теперь, если хочешь, отправляйся к нему… и, коли Фелиси тоже увяжется за вами, — задерживать не стану! Ты, твой сын и твоя дочь стали говорить на другом языке, поэтому вполне естественно, что мы больше не понимаем друг друга… И, раз уж так получилось, я готов остаться один со стариками и поддерживать честь дома Маспи!
В тот вечер впервые в жизни Элуа настолько утратил вкус к радостям бытия, что улегся спать без ужина.
Утром инспектор Пишранд заглянул в паспортный отдел префектуры к своему другу Эстуньяку, чьим детям приходился крестным отцом. Приятели мирно болтали, когда полицейский вдруг заметил ослепительную блондинку. Эта не слишком добродетельная особа, Эмма Сигулес по кличке Дорада[347], занимала в своем кругу довольно высокое положение — поговаривали, что она более чем дружна с Тони Салисето. Незаметно указав на молодую женщину, Пишранд попросил приятеля:
— Постарайся задержать эту девицу на две-три минуты, а я тем временем узнаю у твоего коллеги, что ей понадобилось.
— Положись на меня!
Когда Дорада после долгих препирательств вышла наконец из кабинета, в коридоре ее встретил Эстуньяк. А инспектор поспешил к чиновнику, у которого только что побывала Эмма Сигулес. Очередь недовольно заворчала, и инспектору пришлось предъявить удостоверение.
— Чего хотела мадемуазель Сигулес?
— Получить паспорт.
— Так-так… она вам случайно не сказала, куда собралась?
— Кажется, в Аргентину.
— Естественно! А она не задавала вам каких-нибудь не совсем обычных вопросов?
— Честно говоря… Погодите, а ведь и правда! Мадемуазель Сигулес хотела знать, сколько драгоценностей может прихватить с собой, не опасаясь затруднений со стороны аргентинской таможни… Я ответил, что хоть тонну, там ни слова не скажут и даже наоборот!
Теперь Пишранд точно знал, что, как и обещал шефу, вплотную приблизился к цели, а потому с особой теплотой потряс руку удивленному столь необычным для полицейского энтузиазмом чиновнику.
— Вы и представить не можете, старина, какую услугу мне оказали! И последнее: дайте мне, пожалуйста, адрес мадемуазель Сигулес.
— Улица Доктора Морукки, триста двадцать семь.
Эстуньяк смущенно признался, что не смог дольше удержать Эмму Сигулес. Пишранд выскочил из префектуры и скоро заметил в толпе молодую женщину — Дорада шла через площадь Маршала Жоффра. Со всеми обычными предосторожностями полицейский отправился следом за своей элегантно одетой добычей. Так, друг за другом, они пересекли улицу Паради, миновали Французский банк и по улице Арколь вышли на улицу Бретей. Дорада возвращалась домой. Для очистки совести инспектор свернул за Эммой на улицу Монтевидео, пересекающую улицу Доктора Морукки. Пишранд подождал, пока молодая женщина войдет в подъезд, и бросился в ближайшее бистро звонить на работу. Трубку снял Жером Ратьер.
— Чем ты сейчас занят, малыш?
— Дежурю.
— Пусть тебя кто-нибудь сменит, а сам живее беги на перекресток улиц Бретей и Монтевидео. Но перед уходом разыщи фотографию Эммы Сигулес по кличке Дорада. Два-три года назад на нее завели карточку из-за какой-то темной истории с наркотиками.
Инспектор дождался коллеги и приказал ни на секунду не терять молодую женщину из виду. Если Эмма куда-нибудь пойдет, повсюду следовать за ней, да еще звонить почаще, чтобы Пишранд постоянно знал, где найти мадемуазель Сигулес. В восемь часов Жерома сменит Бруно Маспи.
Дивизионный комиссар Мурато с легким удивлением поглядел на влетевшего в его кабинет инспектора Пишранда.
— Дело в шляпе, патрон!
— Вы о чем?
— Я его поймал-таки!
— Может, перестанете говорить загадками, Констан?
— Наконец-то я подловлю Тони Салисето и отберу у него украденные у мертвого Ланчано драгоценности!
— Вы это серьезно?
— Более чем, патрон!
Инспектор рассказал комиссару, как он увидел в префектуре Эмму Сигулес, подружку Тони, и о странных вопросах Дорады к паспортисту. Мурато присвистнул сквозь зубы.
— Да, Констан, по-моему, на сей раз вы и в самом деле вышли на верный след.
— Еще бы! Вы ж понимаете, что только из-за ограбления ювелирной лавки Салисето и не подумал бы эмигрировать. Поделенная на три части добыча не так уж велика, чтобы Корсиканец мог вести в Буэнос-Айресе привычный образ жизни, особенно с мадемуазель Сигулес — эта молодая особа наверняка не захочет работать в Аргентине, подобно многим другим нашим соотечественникам. Конечно, можно предположить, что Салисето решил воспользоваться арестом Бастелики и удрать, прихватив с собой всю добычу, но есть еще Боканьяно, и вообще это не похоже на Корсиканца. Я уж молчу о том, что там он рискует встретить джентльменов, предупрежденных марсельскими коллегами, и те потребуют отчета за предательство. Нет, куда логичнее — предположить, что Тони рассчитывает наслаждаться жизнью по ту сторону океана с прекрасной Эммой на миллион, украденный у Ланчано.
— Я тоже так думаю. И как вы намерены действовать?
— За Дорадой установлено наблюдение — необходимо прежде всего выяснить, с кем она встречается. Я отправил туда Ратьера. В восемь часов его заменит Бруно, и, если до завтра не произойдет ничего нового, я сам схожу к мадемуазель Сигулес и заставлю ее исповедаться. Думаю, я без особого труда получу от Эммы показания, и Тони по шею увязнет в истории, из которой ему уже не выпутаться. Уж положитесь на меня!
— Я вам полностью доверяю, старина!
Фелиси уже привыкла, что всякий раз, как позволяет служба, воздыхатель ждет ее у выхода из парикмахерской. В тот вечер девушка с легкой досадой убедилась, что знакомой фигуры поблизости нет. Однако Фелиси так и не успела поразмыслить о превратностях судьбы, потому что на шее у нее повисла Пэмпренетта.
— Ничего, что я пришла за тобой?
— Наоборот, очень хорошо. А что у тебя случилось?
— Очень много чего!
— У тебя чертовски счастливый вид, как я погляжу.
— Но… я и в самом деле безумно счастлива!
— Из-за помолвки с Ипполитом? — с горечью спросила Фелиси, думая о страданиях брата. Дочка Адолей разразилась таким звонким смехом, что несколько прохожих окинули ее изумленным взглядом.
— Ох, да ведь ты же еще ничего не знаешь! С Ипполитом покончено!
— Покончено?
— Да, между нами больше нет ничего общего!
— Ну да?
— Да! И вообще, он в тюрьме!
— В тюрьме?
Пэмпренетта рассказала подруге обо всех перипетиях своей фантастической помолвки.
— И что все стали делать, когда полицейские увели Ипполита?
— Не знаю…
— То есть как это?
— Я ушла вместе с Бруно… и мы гуляли в Фаро… Слушай, Фелиси, ты не против, если я стану твоей невесткой?
— Я? И тебе не стыдно? Да я только об этом и мечтаю!
Не обращая внимания на прохожих, девушки с величайшим пылом обнялись и расцеловались. Пэмпренетта говорила о своей любви к Бруно. А Фелиси в свою очередь не стала скрывать от подруги подробностей романа с Жеромом Ратьером. Обе девушки совсем размечтались. Расстались они поздно вечером, не сомневаясь, что их ждет самое радужное будущее и больше уж они не расстанутся.
Попрощавшись с Пэмпренеттой и стряхнув очарование волшебных грез, Фелиси вдруг сообразила, что сильно задержалась, и не без трепета поспешила домой, на улицу Лонг-дэ-Капюсэн. Как пить дать, там ее ждет нахлобучка от отца — Маспи теперь разговаривал с дочерью лишь для того, чтобы ее выбранить. Но сегодня вечером Фелиси чувствовала себя слишком счастливой и надеялась молча, с улыбкой выслушать любые упреки.
Войдя в дом, девушка сначала подумала, что там никого нет, и очень удивилась — ее родители не привыкли выходить куда-либо после ужина. Но больше всего Фелиси поразило то, что, несмотря на поздний час, на стол даже не накрывали… И тут девушка увидела, что в любимом кресле Элуа сидит ее мать. Эта странность в довершение ко всем прочим окончательно встревожила невесту Ратьера.
— Мама!
Селестина вздрогнула.
— А, это ты? Гляди-ка, я, кажется, малость задремала…
— Но… где остальные?
— У себя в комнатах.
— У себя?..
Мадам Маспи пришлось рассказать младшей дочери о бурном объяснении с ее отцом.
— Мы наговорили друг другу ужасных вещей, — подытожила она, — но, сама понимаешь, рано или поздно это не могло не прорваться! И потом, Бруно открыл мне глаза… Прости меня, Фелиси, я была тебе такой же плохой матерью, как и остальным…
Девушка опустилась на колени рядом со своей мамой и взяла ее за руки.
— Я не хочу тебя осуждать… Ты же наверняка старалась делать как лучше…
— Это верно… у нас в доме все думали, как твой отец… так чего ж тут ожидать? А мужества понять, что это ошибка, у меня не хватало… Потом появилась твоя бабушка… она произвела на меня очень сильное впечатление… и я оказалась замужем, даже не успев сообразить, как это произошло… Кроме того, я люблю твоего отца, хоть он и не особо того заслуживает…
Однако умиление Селестины быстро сменилось гневом:
— Ох, но когда я слышу, что Элуа говорит о своем, о нашем сыне, так и проглотила бы его живьем!.. И я счастлива, Фелиси, что ты пошла по стопам брата… А вот бедняжка Эстель погибла безвозвратно… Не надо было отдавать ее за того пьемонтца… Но уж Илэра я хорошенько выдрессирую!
Материнские признания настроили девушку на доверительный лад. Она рассказала, что любит Жерома Ратьера и хочет выйти за него замуж. Растроганная Селестина крепко обняла дочь.
— Ты даже не представляешь, как меня обрадовала!
А Маспи Великий, запершись у себя в комнате, долго не мог уснуть — мешали обида, раздражение, горечь и легкие угрызения совести. Наконец Элуа забылся сном, не подозревая, что всего в нескольких шагах жена и дочь замышляют окончательно разрушить его идеалы и еще больше усугубить то, что глава семьи считал позором.
Узнав из донесений коллег, что мадемуазель Сигулес, так ни с кем и не встретившись, легла спать, Пишранд решил утром нанести ей небольшой визит. Из вежливости инспектор отложил это до полудня, не желая вытаскивать Эмму из постели в необычно ранний для нее час. Он отпустил Жерома, и тот бросился на Канебьер в надежде повидать Фелиси до работы.
На звонок полицейского открыла сама Дорада. В домашнем платье она выглядела прелестно. По слегка исказившемуся от страха лицу молодой женщины полицейский понял, что его узнали.
— Что вам угодно?
— Поговорить с вами, мадемуазель Сигулес.
— Но я жду одного человека…
— Вот и прекрасно. Я как раз мечтаю с ним познакомиться!
— Но, месье, по какому праву вы…
— Старший инспектор Пишранд из отдела уголовных расследований.
— А!
— Теперь я могу войти?
Дорада отошла в сторону, и полицейский беспрепятственно проник в гостиную, обставленную с гораздо большим вкусом, чем он ожидал.
— Так чего вы все-таки от меня хотите?
— Вы не против, если я сяду?
Эмма пожала плечами, желая показать, что, раз помешать инспектору не в ее силах, остается лишь смириться с неизбежным.
— Мадемуазель Сигулес, я хочу, чтобы вы мне кое-что объяснили.
— Насчет чего?
— Насчет того, что вы просили подготовить паспорт.
— А разве я не имею на это права?
— Конечно, имеете.
— Так в чем дело?
— Куда вы собираетесь ехать?
— А вас это касается?
— Представьте себе, да.
— А по-моему, нет.
— Мадемуазель Сигулес, меня считают человеком терпеливым, но все же не стоит перегибать палку! Зачем вам понадобилось удирать в Аргентину?
— Я не удираю, господин инспектор, а просто еду туда. Чувствуете нюанс? Обожаю путешествия…
— И много вам довелось путешествовать?
— До сих пор — ни разу.
— А почему? Я полагаю, страсть к перемене мест не пробудилась у вас внезапно?
— Чтобы купить билет на поезд или корабль, нужны деньги, а я… скажем, до сих пор не располагала достаточными средствами.
— Вы получили наследство?
— Думаете, это очень остроумно?
— Что и как я думаю — к делу не относится.
— У меня есть богатый друг.
— Достаточно богатый, чтобы осыпать вас драгоценностями?
— А почему бы и нет? Мне очень идут украшения!
— Не сомневаюсь… но покажите мне их.
— Что за странная мысль, инспектор?
— Я большой любитель…
Эмма явно занервничала.
— Но в конце-то концов, что все это значит?
— Покажите мне свои драгоценности.
— Нет!
— Вы предпочитаете, чтобы я позвонил в комиссариат и попросил прислать ордер на обыск?
— Я… я солгала вам… У меня нет никаких украшений… так, несколько дешевых побрякушек…
— Тогда чего ради вы спрашивали у паспортиста в префектуре, можете ли прихватить с собой кучу драгоценностей, не опасаясь аргентинских таможенников?
— Но… но…
Пишранд вдруг заговорил совсем другим тоном:
— Вас ожидают очень крупные неприятности, Эмма Сигулес, если вы не перестанете лгать и изворачиваться… Итак, повторяю вопрос: где ценности, которые вы собирались переправить в Аргентину?
— Не знаю.
— Представьте себе, меня это ничуть не удивляет.
Дорада круглыми глазами посмотрела на полицейского.
— Правда?
— Да… вы ведь по-прежнему очень дружны с Тони Салисето, не так ли?
— Да…
— Значит, драгоценности у него?
— Возможно.
— Не возможно, а точно… А вы их видели?
— Нет.
— Но Тони предупредил, что вы должны отвезти в Аргентину немало украшений, так?
— Да.
— И вас это не озадачило?
— Тони не задают вопросов, инспектор. И потом, он обещал, что мы поженимся и заживем нормальной, хорошо обеспеченной жизнью… Так с чего бы я стала думать о чем-то еще?
— А следовало… поскольку громадное состояние, которое предлагает вам разделить Корсиканец, он добыл, убив и ограбив человека.
— И кого же Тони убил?
— Томазо Ланчано. А теперь решайте, Эмма, будете вы с нами заодно или против нас. Я хочу припереть Салисето к стене и отправить на эшафот. Вы его не любите?
Дорада хмыкнула.
— Я вообще не понимаю смысла этого слова.
— В данном случае так оно гораздо лучше для вас… И, коли вы не станете упрямиться…
— То есть, если соглашусь предать друга?
— Короче говоря, вам надо просто взять паспорт и вести себя так, будто мы с вами не виделись…
Пишранд вдруг заметил, что Дорада больше не слушает и старательно отводит глаза, боясь привлечь его внимание к тому, что происходит за спиной. Инспектор почувствовал опасность, но слишком поздно. Он даже не успел встать. Удар пришелся под левую лопатку, и полицейский умер почти мгновенно.
К вечеру комиссар забеспокоился, куда исчез Пишранд и почему он молчит, но все же решил терпеливо подождать до утра, боясь неосторожным вмешательством нарушить планы подчиненного. Однако утром, придя в комиссариат, Мурато узнал, что инспектор по-прежнему не давал о себе знать. Он немедленно отправил Ратьера и Маспи к мадемуазель Сигулес с приказом выжать из нее всю правду.
— И не стесняйтесь в средствах, ребята, я вас прикрою. Главное — узнайте, где Пишранд!
У мадемуазель Сигулес инспекторы наткнулись на запертую дверь, и соседка объяснила, что накануне вечером молодая женщина уехала куда-то и, видно, надолго — в руке у нее был чемодан. Маспи и Ратьер уже собирались уйти, но Бруно, благодаря семейным связям с детства овладевший искусством открывать двери, решил все-таки заглянуть в квартиру беглянки. Ратьера подобная операция не особенно воодушевляла, но он тоже очень любил Пишранда…
Тело своего друга они увидели сразу. На мгновение полицейские оцепенели, но, поскольку оба были еще слишком молоды и не успели закалиться на службе, не выдержали и разрыдались, скорбя о добром и славном товарище. Особенно страдал Бруно, которому Пишранд в какой-то мере заменил отца. Именно он дал парню то, чего не смог Элуа. Потом они позвонили дивизионному. Тот разразился чудовищными проклятиями и пообещал перетряхнуть весь Марсель, но непременно разыскать убийцу своего инспектора. Фотографию мадемуазель Сигулес немедленно размножили, и десятки людей бросились на поиски Дорады. Салисето представил железное алиби, и полицейским пришлось на время оставить его в покое, хотя ни один из гарантов не заслуживал ни малейшего доверия. Однако комиссар Мурато не думал, что Пишранда убила Эмма Сигулес. Во-первых, нож — не женское оружие, а во-вторых, Пишранду нанесли точно такой же удар, как и Ланчано, и потому, скорее всего, оба убийства совершил один и тот же человек. Из всего этого комиссар сделал вывод, что инспектор шел по верному следу, и, стало быть, от Салисето нельзя отступать ни на шаг.
А Бруно воспринимал поимку убийцы как свое личное дело. Поразмыслив, он решил, что, коли отец согласится помочь, это очень облегчит задачу. И вот ради Пишранда впервые за последние три с лишним года вечером Бруно Маспи направился в отчий дом.
Когда инспектор постучал в дверь, все сидели за столом. Открыла ему Фелиси. При виде брата девушка удивленно открыла рот, и полицейский ласково поддел сестренку:
— Ну, ты по крайней мере не умеешь скрывать своих чувств. И мне отрадно видеть, Фелиси,
что все твои тридцать два зуба — в превосходном состоянии.
— Но… он же тут… — беззвучно шепнула девушка.
— С ним-то я и хочу поговорить.
Из гостиной послышался крик Элуа:
— Эй, Фелиси! Да скажешь ты нам наконец, кого там принесло?
Девушка собиралась ответить, но брат, опередив ее, вошел в комнату.
— Это я.
Селестина вскрикнула от радости и страха, а поскольку оба эти чувства смешались в равных долях, звук получился довольно неприятный.
Дед подмигнул внуку, а бабушка с улыбкой спросила:
— Перекусишь с нами, малыш?
Но тут вмешался Великий Маспи:
— Нет, этому господину здесь решительно нечего делать, и я попрошу его не-мед-лен-но уйти, если не хочет, чтобы его вышвырнули вон!
Селестина горестно сложила на груди руки.
— Матерь Божья! Его родной сын! Плоть от плоти…
Бруно, словно не замечая отца, без особого смущения поцеловал мать и бабушку и нежно похлопал деда по плечу. Элуа окончательно вышел из себя.
— Ты что, провоцируешь меня, предатель?
— Я пришел сюда как полицейский, месье Маспи.
— Полицейский — не полицейский, а убирайся поживее, или я так тебя отделаю, что до конца дней своих будешь ходить с перекошенной физиономией!
Бруно подошел к отцу и нагнулся, так что теперь они оказались нос к носу.
— Попробуй меня стукнуть, и как почтительный сын я верну тебе каждый удар с лихвой, а как полицейский возьму за шиворот и отволоку в тюрьму, подбадривая пинками в задницу!
— В задницу?
— Совершенно верно. Именно в задницу!
Элуа повернулся к жене:
— Отличное воспитание! Тебе есть чем гордиться! Парень готов прикончить отца!
Он снова посмотрел на Бруно.
— Ну, валяй, убивай! Чего ты ждешь?
— Я жду, когда ты прекратишь валять дурака!
Великий Маспи опять накинулся на жену:
— А уж до чего почтителен! Вполне понятно, почему ты считаешь его истинным образцом для сестер и брата! Вот что, господин Маспи-младший, к несчастью, я не имею возможности помешать вам ни носить, ни бесчестить мое имя, но я хочу, чтобы вы знали: я больше не считаю себя вашим отцом!
— Неважно!
— Не… Ах ты паршивец! Ну, сейчас тут будет смертоубийство!
Селестина, заслоняя сына, бросилась между ними:
— Прежде чем ты дотронешься до моего малыша, чудовище, тебе придется убить меня!
— Прочь с дороги!
— Никогда!
— Не доводи меня до крайности, Селестина, а то здесь начнется настоящее светопреставление!
Бруно мягко отстранил мать.
— Отец…
— Я тебе запрещаю!..
— Отец… убили Пишранда.
Тут уж наступила гробовая тишина.
— Кто? — немного помолчав, спросил Великий Маспи.
— Тот же, кто прикончил итальянца…
— Салисето?
— Я не знаю.
— А с чего ты взял, будто я в курсе?
— Отец… я очень любил Пишранда… И он всегда хорошо к тебе относился… Правда, он считал тебя жуликом, но по крайней мере жуликом симпатичным, и потом, Пишранд всегда думал о нас, малышах… Именно ради нас он не отправлял тебя за решетку так часто, как ты этого заслуживал…
— Ну и что?
— Может, подсобишь мне поймать убийцу?
— Нет!.. Во-первых, я не обязан вкалывать за полицейских, а во-вторых, мне нет дела до Корсиканца!
— Даже когда он колотит тебя при жене и родителях?
— Ну, это уж совсем другая история, и я расквитаюсь с ним на свой лад — тебя это не касается!
— Ты знаешь Эмму Сигулес по кличке Дорада?
— Смутно.
— Говорят, она подружка Салисето?
— Возможно.
— Это в ее доме убили Пишранда.
— Так ты арестовал Дораду?
— Нет, она скрылась.
Элуа хмыкнул.
— Ох, ну до чего же вы все ловки!
— Не представляешь, где бы Дорада могла спрятаться?
— Нет.
— Ладно… короче, ты вовсе не желаешь мне помогать?
— Вот именно.
— Что ж, я сам пойду к Корсиканцу! Скажи хоть, где я могу его найти.
— В «Ветряной мельнице» на улице Анри Барбюса, но на твоем месте я бы поостерегся… Тони — крепкий малый…
— Не беспокойся, я тоже не кисейная барышня… И я больше не вернусь сюда, отец.
— Правильно сделаешь.
— Не думал я, что ты такая дрянь… И теперь, раз ты встал на сторону убийцы Пишранда, — только держись! Я не оставлю тебя в покое и, даю слово, при первом же ложном шаге сразу упеку в Бомэтт!
— Странные у тебя представления о сыновней почтительности.
— Для меня настоящим отцом был Пишранд, а тебя уважать решительно не за что.
Когда Бруно собрался уходить, Селестина его обняла.
— Ты прав, малыш… И, случись с тобой какая беда, этот сквернавец еще свое получит!
Сказать, что Элуа остался очень доволен собой, было бы бессовестной ложью.
Бруно вместе с Ратьером, грубо отшвырнув хозяина «Ветряной мельницы», преградившего им вход в комнату за баром, переступили порог тайного убежища Тони Салисето. Корсиканец играл в карты с Боканьяно. Оба бандита окаменели от изумления, потом, очухавшись, полезли за оружием, но Маспи, уже державший в руке пистолет, приказал им сидеть спокойно.
— Вас сюда не звали, — буркнул Салисето. — Чего надо?
Бруно подошел поближе.
— Во-первых, вернуть то, что тебе задолжал мой отец.
И Салисето получил такой удар в челюсть, что полетел на пол. Боканьяно хотел броситься на помощь главарю, но Ратьер мягко посоветовал:
— На твоем месте, Луи, я бы не рыпался.
Боканьяно послушно замер. А Тони уже встал, ребром ладони утирая кровь с разбитых губ.
— Ты об этом пожалеешь, Маспи!
— Сядь! А теперь, может, потолкуем немного об убийстве Пишранда?
Бандиты с удивлением переглянулись, и полицейский подумал, что, похоже, оба понятия не имеют о гибели старшего инспектора. На долю секунды он растерялся. Но потом ему пришло в голову, что эта парочка слишком хитра для такой примитивной ловушки.
— Первый раз слышу! — проворчал Салисето.
— Разве Эмма тебе ничего не сказала? А ведь Пишранда убили у нее дома…
— Какая еще Эмма?
— Дорада… Она ведь твоя подружка, верно?
— Мы расстались несколько месяцев назад. Слишком своевольна, на мой вкус…
— Так-так! Значит, это не с тобой она собралась в Аргентину?
Тони пожал плечами.
— А чего я там забыл?
— Ты мог бы продать драгоценности, украденные у итальянца и в ювелирной лавке на улице Паради, и очень неплохо жить на эти деньги.
Бандит вдруг рассвирепел:
— Вы что, меня совсем кретином считаете? Да будь у меня все эти побрякушки, я бы сто лет назад слинял! Повторяю вам: Бастелике вздумалось поразмяться на пару с этим сопляком Ипполитом Доло — и вот результат! Если б мы с Боканьяно участвовали в деле, оно бы не закончилось так по-дурацки!
— Ладно, пусть вы с Эммой поссорились, но ты ведь должен знать, с кем она теперь.
— Нет… Мне совершенно наплевать на эту девку… А впрочем, у нас что-то давно вообще ничего о ней не слыхать… точно, Луи?
— Да.
— По-моему, инспектор, она подцепила какого-нибудь богатенького буржуа.
— И этот толстосум, по-твоему, на досуге режет полицейских?
— А может, он приревновал? Парень мог не сообразить, зачем ваш коллега заявился к Дораде.
— Мирные обыватели, даже приревновав, не пускают в ход нож! Придумай что-нибудь поумнее, Салисето!
— Да мне-то какое дело до шашней Эммы?
— Это я тебе объясню в один из ближайших дней — мы еще далеко не квиты!
— Тут я с вами согласен, инспектор…
И это было сказано таким тоном, что Жером Ратьер вдруг испугался за друга.
Когда Пэмпренетта на полчаса опоздала к столу, Перрин не стала скрывать раздражения.
— Где ты была?
— Со своим женихом!
— Опять?
— То есть как это — опять?
— Да сколько ж раз ты собираешься морочить нам голову то с одним, то с другим женихом?
— Ты не хочешь, чтобы я вышла замуж?
— О да! Но только за приличного парня!
— Лучше Бруно не бывает!
— Бруно Маспи?
— Я никогда не любила никого другого…
— И это — после скандала, который он устроил на твоей помолвке? Неужели у тебя совсем нет самолюбия?
— Не появись Бруно так вовремя, я бы сейчас была навеки прикована к Ипполиту!
— Так ведь ты же сама его выбрала!
— Это с горя.
И девушка расплакалась. А ее отец Дьедоннэ сердито осведомился:
— Да сможем мы наконец спокойно поесть?
Этот вопрос тут же навлек на него гнев супруги:
— Ну, конечно! Тебе лишь бы набить брюхо, а остальное неважно, даже судьба родной дочки!
Столь явная клевета и вопиющая несправедливость никак не заслуживали ответа, и Дьедоннэ предпочел промолчать. Оставшись без противника, раздосадованная Перрин снова повернулась к дочери:
— Так, значит, ты хочешь выйти замуж за легавого?
— Да, и ни за кош другого!
Мадам Адоль горестно вздохнула.
— Чего только мне не приходится терпеть по твоей милости!
Пэмпренетта тут же встала на дыбы.
— Да скажи, наконец, что тебе в нем не нравится?
— Хотя бы то, как ты переменилась. Вот уже Бог знает сколько времени ты не принесла в дом ни крохи.
Девушка стыдливо опустила глаза.
— Я решила стать честной.
— Ну, это уж ни в какие ворота не лезет! Давай, скажи прямо, что мы с отцом — прохиндеи! Вот что, Пэмпренетта, ты перестала уважать своих родителей, и это говорит тебе мать! А ты, Дьедоннэ, вместо того чтобы урезонить дочку, продолжаешь молча лопать?
— Ну, коли Пэмпренетте охота подыхать с голоду со своим полицейским, это ее личное дело!
— Мой полицейский недолго будет жить бедно! Когда Бруно арестует Корсиканца, о нем напишут во всех газетах! Поглядите!
— Да все и так ясно! Уж я-то знаю, каков Тони! Законченный подонок! И с ним не так просто справиться!
— Просто или не просто, а Бруно всего несколько минут назад хорошенько отлупил его в «Ветряной мельнице»!
И девушка с величайшим воодушевлением пропела истинную героическую песнь во славу своего Бруно, карающего злоумышленников. Дьедоннэ долго смотрел на нее во все глаза, потом повернулся к жене:
— Этот парень совсем спятил! Ну, можно ли наступать на хвост Салисето? Или Бруно так хочет до срока перебраться на тот свет?
Но Пэмпренетта настолько верила в непобедимость своего героя, что отнюдь не разделяла отцовских опасений.
— Погоди немного… Как только Бруно поймает Эмму Сигулес… или Дораду… Ты ее знаешь, мама?
Перрин поджала губы.
— Я не якшаюсь с подобными тварями! И, по-моему, даже неприлично, чтобы воспитанная девочка вроде тебя упоминала ее имя!
— Говорят, это у Дорады убили инспектора Пишранда… А Эмма — подружка Салисето… Так вот, Бруно изловит Дораду, заставит ее говорить и — клак! — прощай, Тони! Ему наверняка отрубят голову за убийство месье Пишранда и итальянца, и правильно сделают!
В доме Маспи Фелиси говорила примерно то же, что и ее подруга Пэмпренетта на Монтэ-дэз-Аккуль. Когда Селестина с тревогой спросила дочь, почему она ничего не ест, та ответила:
— Я ужасно волнуюсь за Бруно!
— Замолчи! — немедленно рявкнул Элуа. — Не смей называть это имя! Я запрещаю! И лучше не зли меня, девочка!
Селестина встала.
— Пойдем на кухню, Фелиси, и ты мне все расскажешь о сыне, потому что у меня не такое каменное сердце, как у некоторых, кому вообще следовало бы постыдиться жить на белом свете!
Отпустив это мстительное замечание, мадам Маспи увела дочь, и та поведала ей о подвигах Бруно и о подстерегающих его опасностях — девушка уже успела повидаться с Ратьером и знала о сцене в «Ветряной мельнице» из первых рук. Потрясенная Селестина, вернувшись в столовую, тут же начала обрабатывать супруга:
— Ты хоть знаешь, что случилось?
— Нет, и не желаю!
— Но ты меня все-таки выслушаешь! Бруно набил морду Корсиканцу!
Великий Маспи с большим трудом сохранил невозмутимость, ибо слова жены пролили бальзам на его самолюбие.
— И они там, в полиции, опасаются, как бы Тони не зарезал нашего сына!
— Так пусть охраняют!
— И это все, что ты можешь сказать? Значит, пускай твоего мальчика заколют, как невинного агнца, а ты будешь равнодушно взирать на эту картину?
Нет, Элуа, конечно, никак не мог остаться равнодушным, но ни за что на свете не подал бы виду.
— Клянусь святой Репаратой, это уж слишком! Я что ли послал его служить в полицию? Я заставил обесчестить семью? Нет, ты скажи, чего ради я должен метать икру из-за мальчишки, о котором и думать-то не могу без стыда?
— Ладно… Делай как знаешь, Элуа, но предупреждаю: если Корсиканец тронет хоть волос на голове Бруно, я прикончу его своими руками, а судье скажу, что это ты послал меня туда, потому что сам струсил!
— Чего же еще ожидать от матери полицейского?
— Поберегись, Элуа… Пусть попробуют обидеть моего малыша, и я навсегда покину этот дом, а вместе с ним и человека, совсем потерявшего и совесть, и мужество! Я не останусь с тем, кто способен спокойно смотреть, как его жену бьют по лицу всякие подонки, и, весело хихикая, отправить старшего сына на верную смерть!
— Я вовсе не хихикаю!
— Это потому, что ты лицемер!
Бабушка постаралась умерить безумный гнев Селестины.
— А нас с дедушкой ты тоже бросишь, дочка? — жалобно спросила она.
— Да, потому что никогда не смогу вас простить!
— Но мы-то в чем провинились?
Мадам Маспи угрожающе ткнула перстом в сторону супруга.
— В том, что породили на свет это чудо-юдо!
Инспектора Ратьера не было на месте, когда дежурный вручил Бруно Маспи записку. Полицейский распечатал конверт.
Та, кого ты ищешь, спокойно загорает на балконе дома 182 по улице Селина. Это еще одно из укрытий Корсиканца. Хотел бы я знать, что бы ты вообще без меня делал! Но я вмешался в эту историю только из-за тумака, которым наградил меня этот гад… и пощечины, нанесенной твоей матери… хотя, по-моему, ее следовало бы лупить почаще, но это мое дело, а никак не посторонних!
Навсегда отрекшийся от тебя отец
Элуа
Бруно улыбнулся. Что бы там отец ни говорил, а он его все-таки любит, и, хоть Элуа не желал в том признаться, убийство Пишранда, должно быть, сильно его потрясло. Инспектор попросил дежурного передать Ратьеру, как только тот появится, что он, Бруно, побежал на улицу Селина, дом сто восемьдесят два — это сразу за собором Нотр-Дам де-ля-Гард — и просит поспешить следом.
Уже перевалило за полдень, в воздухе стояло знойное марево, и вся улица Селина казалась вымершей. Бруно очень быстро отыскал номер сто восемьдесят два — крошечный домишко с закрытыми ставнями. Калитка сада, как и окна крытой матовым стеклом веранды, оказалась открытой. Что-то уж слишком все просто… или же Эмма чувствует тут себя в полной безопасности… Маспи сразу вытащил из кобуры пистолет, не желая, чтобы его, как Пишранда, застали врасплох, бесшумно поднялся на крыльцо и, не особо надеясь на результат, повернул ручку двери. К огромному удивлению инспектора, она тут же отворилась. Полицейский увидел небольшой коридор, справа и слева — две закрытые двери, а в глубине — лестницу, ведущую на второй этаж. Не зная, как быть дальше, он замер и стал прислушиваться. Ни шума, ни шороха. Подозрительно тихо. Бруно чуял опасность и злился, что не может разгадать, откуда ждать нападения. На миг ему захотелось выйти и подождать Ратьера на улице, но парень так мечтал самостоятельно схватить убийцу Пишранда! Вдруг решившись, он бесшумно двинулся направо по коридору, в мгновение ока повернул эмалированную ручку, украшенную яркими цветами, и распахнул дверь, а сам сразу отскочил к стене. Но ничего не произошло. Тогда Бруно осторожно заглянул в комнату и тихонько выругался — Эмма Сигулес лежала у камина, и голова ее плавала в луже крови. Бедняжка Дорада не поедет в Аргентину… и там, где она теперь, уже ничего никому не расскажет…
Досада и волнение помешали Бруно Маспи сохранить прежнюю осмотрительность. Он хотел подойти к телу несчастной, но, сделав всего один шаг, получил страшный удар по голове. Глаза тут же заволокло туманом, и полицейский упал на колени, но пистолета не выронил. У него еще хватило сил обернуться и почти наугад выстрелить в неясный силуэт в дверном проеме. Бруно услышал крик боли и по-прежнему сквозь туман увидел, как его противник схватился за левое плечо. Уже теряя сознание, он успел подумать: «И все-таки я его ранил!..»
Узнав, что Бруно в одиночку поехал к Эмме Сигулес, Жером Ратьер разразился таким потоком брани, что удостоился весьма недружелюбного взгляда бригадира Орифле, человека крайне религиозного и потому не одобрявшего сквернословия. Однако Жером и не подумал выяснять отношения с бригадиром, а поспешно сел в машину и помчался следом за Маспи.
Едва войдя в сад, Ратьер почувствовал, что здесь произошла драма. Выхватив пистолет, он вбежал в дом, готовясь стрелять в первую же подозрительную личность. Никого. С порога комнаты Ратьер увидел два распростертых на полу тела, но, невзирая на тревогу, не забыл об осторожности. Лишь убедившись, что поблизости нет ни души, Жером склонился над другом. Бруно крепко получил по голове, но был жив, и полицейский с облегчением перевел дух, хотя из раны на голове хлестала кровь и, струйками стекая по лицу, придавала Маспи устрашающий вид. А вот насчет Эммы Сигулес Ратьер с первого взгляда понял, что тут уж ничем не поможешь. Инспектор позвонил, и через несколько минут его коллегу уже везли в больницу выяснять, не поврежден ли череп.
Как только санитары ушли, Ратьер связался с комиссаром, а потом, чтобы как-то отвлечься от мыслей о судьбе друга, начал осматривать комнату. К тому времени, как прибыла посланная дивизионным бригада, Жером обнаружил на полу у окна несколько пятен крови. Это его слегка озадачило. На крыльце тоже оказались капли, и тогда инспектору пришло в голову понюхать пистолет Бруно, так и оставшийся в комнате. От дула несомненно пахло порохом, и Ратьер наконец мог сообщить шефу первую обнадеживающую весть: Бруно ранил преступника!
Мурато немедленно разослал по больницам и клиникам приказ задерживать всех поступающих с огнестрельными ранениями и немедленно вызывать полицию.
Комиссар выглядел озабоченным.
— Соседи уверяют, будто дом принадлежит какому-то пенсионеру. Тот два месяца назад уехал отдыхать на Лазурный берег, и никому даже в голову не приходило, что кто-то поселился в пустом доме. По-моему, Эмма пришла туда только для того, чтобы встретиться с Бруно… Но почему именно с ним?
— У Салисето с Маспи особые счеты.
— С чего бы вдруг?
Жерому пришлось рассказать, как они ходили в «Ветряную мельницу». Мурато пришел в ярость и долго кричал, что, как только Бруно оправится от удара, он пошлет парня патрулировать улицы, да и у некоего Жерома Ратьера тоже навсегда отобьет охоту к партизанским вылазкам. Наконец, отдышавшись, комиссар рявкнул:
— А каким образом Маспи пронюхал, что Дорада будет ждать его здесь?
Ратьер протянул полученное его другом письмо, и дивизионный снова разразился воплями и проклятиями по адресу неопытных новичков, которые, наплевав на дисциплину и иерархию и путая Марсель с Диким Западом, разыгрывают из себя шерифов. Потом он призвал в свидетели и Небо, и закон, обещая искоренить эту порочную практику и скоренько разжаловать кое-кого из инспекторов в рядовые, пока они не научатся соблюдать порядок. Наконец он прочитал записку Маспи и буквально взвыл от возмущения:
— И как этот кретин мог угодить в такую грубую ловушку? Господи ты Боже мой! Желторотик вообразил, будто уже научился летать, а сам врезался в первое же препятствие, хотя и слепой сумел бы его избежать! Нет, Тони не настолько глуп, чтобы отправить эту писульку! Я уверен, Корсиканцу и в голову не пришло бы искать среди моих инспекторов такого наивного дурня! Ну да ладно, пошлите все-таки проверить, чем занимался в это время Салисето, а я перекинусь парой слов с Элуа Маспи. Может, хоть тогда что-нибудь прояснится.
Великий Маспи сидел в любимом кресле и смаковал вечерний бокал пастиса, мечтая о былой славе. Отец устроился рядом, а доносившиеся из кухни ароматы свидетельствовали, что его жена и мать готовят суп-писту[348]. Элуа блаженно улыбался, предвкушая удовольствие, ибо очень любил вкусно поесть. Настойчивый звонок в дверь вывел его из приятного оцепенения, но нисколько не встревожил, и уж тем более Маспи не подумал двинуться с места. Хозяин дома лишь громко крикнул:
— Селестина!
Мадам Маспи появилась на пороге:
— В чем дело?
— В дверь звонили.
— И что дальше?
— Может, надо бы взглянуть, кто там?
— А ты сам не в состоянии открыть дверь?
— Я?
Предложение выглядело настолько невероятно и чудовищно, что у Элуа не нашлось подходящих слов. Все равно как если бы кто-нибудь вздумал рассказывать всякие мерзости об Иисусе Христе! Нет, наглый вопрос Селестины — просто ересь и больше ничего! Великий Маспи лишь тяжело вздохнул и повернулся к отцу:
— В этом доме ко мне больше нет никакого уважения… Должно быть, такие теперь времена…
А комиссару Мурато ужасно хотелось бы знать, по каким таким причинам его заставляют торчать на лестнице. Поэтому он вихрем ворвался в гостиную и уже с порога, по обыкновению сердито, завопил:
— Ну, это еще что?.. Или вы тут печатаете фальшивые деньги?
Селестина, всегда понимавшая каждое слово буквально, с ужасом воскликнула:
— О, господин комиссар! И как вы могли подумать такое?
Раздражение Мурато мгновенно исчезло и, повернувшись к Элуа, он чуть ли не с умилением заметил:
— Таких, как твоя жена, теперь днем с огнем не сыщешь, Маспи, и только мерзавец вроде тебя мог заставить ее столько лет проторчать в тюрьме!
Элуа с большим достоинством встал.
— Комиссар! Я не позволю вам…
— Замолкни!
Раньше Великий Маспи тут же встал бы на дыбы, но теперь он относился ко всему с полным смирением. Так какой-нибудь знатный современник Ноя глядел бы вслед уплывающему ковчегу, понимая, что привычный ему мир гибнет в водах потопа.
— Ты отправил это письмо?
Дивизионный протянул Элуа записку, полученную Бруно. Тот внимательно прочитал и удивленно воззрился на гостя.
— Нет… А что это значит?
— Только то, что кто-то воспользовался твоим именем.
— Это еще зачем?
— Чтобы заманить твоего сына в ловушку!
Душераздирающий крик Селестины потряс Мурато. Она не задала ни единого вопроса, не стала требовать объяснений, а просто вцепилась в мужа.
— Негодяй! Каналья! Будь ты проклят! Так ты убил моего Бруно, да?
Отчаяние помогло Селестине Маспи окончательно скинуть иго, которое она терпела почти тридцать лет. Мурато едва успел остановить обезумевшую женщину, иначе она выцарапала бы Элуа глаза. Дед ругал невестку последними словами, бабушка призывала на помощь святую Репарату, всерьез опасаясь кровопролития, и лишь Элуа не проронил ни звука. Он настолько удивился, что даже не испытывал страха.
Крепко держа Селестину за руки, комиссар собирался успокоить ее насчет судьбы сына, как вдруг дверь распахнулась и в гостиную влетел новый ураган криков, рыданий, призывов к Матери Божьей и ее достославному Сыну, а заодно и ко всем небесным силам — то явилась растрепанная, рыдающая Пэмпренетта.
— Корсиканец убил Бруно! Мне сказал об этом Ратьер! — заламывая руки, всхлипывала она.
Столь драматическое заявление удвоило силы Селестины и, вырвавшись из рук дивизионного комиссара, она подскочила к Элуа. Но тот встретил жену парой таких оплеух, что бедняга отлетела и шлепнулась на мягкое место. Тем временем Мурато орал, что выставит Ратьера из полиции за не в меру длинный язык, что Бруно вовсе не мертв, а только ранен и вообще он очень хотел бы знать, на чем основано обвинение против Тони Салисето! Но никто не отвечал полицейскому, поскольку его просто не слышали. Пэмпренетта объясняла бабушке, что собирается идти в монастырь, потому что без Бруно ей жизнь не мила, а Селестина, поднявшись, напоминала мужу, сколько жертв принесла ради его благополучия, а в награду он, чудовище, ее жестоко избил. Может, прикончив сына, он хочет избавиться и от его матери? А Великий Маспи во всю силу легких клялся известными ему святыми, что учинит настоящую бойню, если кто-нибудь посмеет еще раз заговорить с ним о проклятом ренегате Бруно. Сообразив наконец, что в общем хоре все равно ни до кого не докричаться, комиссар Мурато сел в хозяйское кресло, налил бокал пастиса и собирался выпить, но тут дверь в гостиную опять отворилась, причем так стремительно, что вздрогнувший от удивления комиссар залил себе всю манишку. Это окончательно взбесило полицейского, и он заорал с удвоенным пылом. Но на сей раз у него совсем не осталось шансов привлечь внимание представителей семейства Маспи, поскольку прибежавшая домой Фелиси на самых пронзительных нотах начала вместе с остальными оплакивать Бруно — сына, внука, брата и жениха.
Через пять минут вконец измочаленный Мурато снова упал в кресло. И тут его осенила спасительная мысль. Он схватил трубку, набрал номер и попросил к телефону директора больницы. Тот признался, что очень плохо слышит комиссара. И полицейский, собрав все остатки энергии, на весь дом рявкнул:
— Скажите, Бруно Маспи умер?
И в ту же секунду в комнате наступила полная тишина. Мурато с облегчением перевел дух. Он долго слушал собеседника, поблагодарил и повесил трубку, а обитатели дома все это время стояли затаив дыхание. Наконец, не выдержав молящего взгляда Селестины, комиссар решился нарушить молчание:
— Бруно Маспи приступит к служебным обязанностям через сорок восемь часов… Его просто оглушили. Никаких серьезных повреждений нет… А теперь, может, поговорим о Тони Салисето?
Имя Корсиканца вызвало новый поток воплей и стонов. Только вместо скорбных завываний слышались проклятья, призывы к отмщению, и комиссар, опять поддавшись природной раздражительности, вышел из себя. Соседи не смели вмешиваться и лишь тихо обсуждали вопрос, увидят ли они живым хоть единого члена семейства Маспи.
Час спустя, покидая дом Маспи, комиссар Мурато выглядел совершенно измученным и сердитым. Зато он убедился по крайней мере в одном: Элуа Маспи не имеет никакого отношения к ловушке, расставленной его сыну, но среди всех угроз и проклятий по адресу Тони не было и намека на возможную виновность Корсиканца. Короче, после гибели Пишранда, покушения на Бруно и смерти Эммы Сигулес расследование продвинулось не больше, чем в тот день, когда в Старом Порту нашли труп Томазо Ланчано. Дивизионный комиссар пребывал в таком подавленном настроении, что перед сном принял несколько таблеток аспирина.
В то же время, вернув себе часть былого авторитета, Великий Маспи произнес краткую речь перед собравшимися вокруг него представителями клана:
— Тот, кто некогда был моим сыном, сознательно пренебрег семейной честью и выбрал недостойную профессию! Поступив так, он отлично знал, чем рискует, и я не вижу причин жалеть этого типа! Молчи, Селестина! А ты, Пэмпренетта, прекрати шмыгать носом — это действует мне на нервы! Зато я никак не могу позволить, чтобы какая-то сволочь смела пользоваться именем Элуа Маспи и благодаря этому заманивать в западню моего бывшего сына, несмотря на то что теперь он может считаться лишь позором моих седин! Я должен поразмыслить. И — ни слова больше! Возвращайся домой, Пэмпренетта! Ты, Фелиси, накрывай на стол, Селестина, доваривай суп, а ты, мама, налей нам с отцом пастиса!
Около десяти часов, когда женщины ушли спать, Элуа и дедушка Сезар остались вдвоем. Великий Маспи, пристально глядя на родителя, осведомился:
— Ну, и что ты об этом думаешь?
Старик немного помолчал.
— По-моему, на сей раз мы не можем уклониться… ради нашей чести… да и малыша — тоже…
Глава VI
Великий Маспи и его отец всего за несколько минут добрались до улицы Анри Барбюса. Зэ, хозяин бистро, где жил Тони Салисето, не сразу узнал их обоих. Надо сказать, что похожий на слегка трухлявый шампиньон кабатчик был большим домоседом и с удовольствием с утра до ночи торчал за стойкой, куда никогда не проникали лучи солнца. Древний старикан с ружьем на ремне показался ему скорее забавным, зато его спутник — высокий поджарый мужчина, несмотря на седину, выглядел довольно опасным субъектом. И все-таки Зэ даже в голову не пришло, что Салисето и Боканьяно, этим патентованным убийцам, грозят хоть малейшие неприятности из-за появления в его баре этих двух типов. Однако мало-помалу в его памяти, сильно подпорченной постоянным употреблением самых разнообразных горячительных напитков, кое-что прояснилось, и, сообразив, что перед ним Великий Маспи, Зэ малость струхнул. Но у стойки торчало несколько клиентов, имевших на совести немало самых зловещих подвигов, а потому Зэ не рискнул тут же предупредить Тони. Он вовсе не хотел выглядеть пугливым идиотом.
Элуа и его отец подошли к стойке, и хозяин, стараясь говорить с совершенно несвойственной ему любезностью, спросил:
— Что вам налить?
— Ничего.
Зэ и Маспи посмотрели друг другу в глаза, и первым потупился хозяин бистро. Посетители, учуяв нечто необычное, разом повернули головы — никто из них не хотел упустить любопытное зрелище.
— Если вы не хотите пить, то чего ради сюда притащились? У меня бистро, а не ночлежка!
Маспи отвесил кабатчику пощечину, прозвучавшую в тишине, как удар бича, и Зэ, чтобы не упасть, вцепился в стойку.
— Странная у тебя манера принимать посетителей, Зэ, — пояснил Элуа. — Где Тони?
— А что вы от него хотите?
— Тебе-то какое дело, несчастный?
— Я… я его предупрежу.
И кабатчик скользнул было к двери за баром, но Маспи так резко схватил его за шиворот, что почти придушил.
— Не надо! Без тебя обойдемся! Пошли, отец!
— Я за тобой, малыш.
Тони Салисето и Луи Боканьяно погрузились, по-видимому, в какие-то сложные расчеты. Когда Элуа ногой распахнул дверь, оба бандита открыли рты от удивления. Больше всего их потряс вид старика с самострелом на плече. Наконец Тони, стряхнув оторопь, спросил:
— Что все это значит, Маспи?
— Я решил отдать тебе визит.
— На драку нарываешься? — И он полупрезрительно-полунасмешливо кивнул в сторону дедушки Сезара: — Вместе с предком?
Дед скинул ружьишко с плеча, и Боканьяно встал. Многообещающее начало…
— Тони, ты подонок!
— Тебе бы не следовало разговаривать со мной таким тоном!
— Ты убил Пишранда, потом Дораду…
— Это неправда, а если б даже и так, тебе какое дело? Уж не пристроился ли ты, часом, в полицию, как твой сынок?
— Нет, но ты пытался его прикончить и дорого за это заплатишь, Тони!
Великий Маспи вытащил из кармана нож. Почти одновременно в руке Салисето сверкнул точно такой же. Тони уже давным-давно не случалось бороться за свою жизнь, а потому он чувствовал себя не очень уверенно. Боканьяно, почувствовав легкую растерянность своего шефа, тоже достал нож. Как только Салисето и Элуа сцепились, он хотел броситься на помощь каиду, но наткнулся на дедушку. Луи грубо отшвырнул старика, и тот сел на пол. Не самый удачный поступок в жизни Боканьяно, ибо Сезар упал, так и не выпустив ружья, а поскольку палец он держал на курке, грохнул выстрел и весь заряд дроби угодил Луи в живот. На лице у него мелькнуло изумление, потом он поднес руки к животу, поглядел на Тони, как будто спрашивая, что это значит, и рухнул ничком. Потрясенный гибелью ближайшего друга и помощника Салисето на мгновение отвлекся, и нож Маспи отхватил ему пол-уха. Тони завопил от боли и спрятался под стол.
— Ма… Маспи… ты… же меня… не убьешь?
— А почему бы и нет?
На звук выстрела сбежались Зэ и его клиенты. Все они видели поражение Салисето, и с тех пор имя бандита навсегда стало пустым звуком в марсельском преступном мире. Почти сразу примчались предупрежденные каким-то осведомителем полицейские и увезли всю компанию, кроме покойника — до прибытия специальной бригады охранять его оставили двух ажанов. Впрочем, Боканьяно больше не требовалась никакая стража.
Дивизионный комиссар Мурато так бушевал, что едва не скончался на глазах у перепуганных Рэтьера, Великого Маспи и отца последнего.
— Посмешище! Вот во что мы превратились! Люди режут друг друга чуть ли не у нас под носом, а мы не в состоянии даже прекратить эту бойню! Ланчано, Пишранд, Эмма Сигулес, а теперь еще и Боканьяно! И это не считая того, что Маспи в больнице! Да тут хуже, чем в Чикаго прежних времен! И если вы, Ратьер, воображаете, будто начальство ломает голову, как бы нас поздравить и поощрить за такие успехи, вы жестоко заблуждаетесь!
Он вдруг резко повернулся к Элуа:
— А вам что — непременно понадобилось лезть не в свое дело?
— Честь нашего…
— Молчите лучше! Некоторые слова должны бы жечь вам язык!
— Позвольте…
— Нет, Маспи, на меня вам не удастся произвести впечатление! Стопроцентный проходимец, вот кто вы такой! Тюремная крыса! А вы, дедушка? Убивать ближних, вместо того чтобы спокойно есть дома кашку, — это просто черт знает что.
Маспи-старший выпрямился:
— Ну, знаете, я еще не выжил из ума! И вообще этот Боканьяно был полным ничтожеством!
— А вы?
— Я? Но я же никогда не пачкался в крови!
— А как насчет Боканьяно? Это не вы, случаем, помогли ему перебраться в лучший мир?
— Чистая случайность…
— Подумать только!
Дедушка с большим достоинством описал, каким образом Луи Боканьяно получил заряд дроби.
— Так что это несчастный случай, господин комиссар… Не могу сказать, что жалею о нем, но тем не менее…
— А на суде вы, вероятно, объясните присяжным, что прихватили ружье, собираясь на рыбалку?
— Предосторожность, господин комиссар, обычная предосторожность… И, когда б ружье не выстрелило, этот Боканьяно зарезал бы моего сына! Неужто вы поставите мне в вину отцовскую любовь, господин комиссар?
Совершенно измученный Мурато воздел руки к потолку:
— Да чем же я так провинился перед Матерью Божьей, что она послала меня в этот проклятый город? Ну а вас, Элуа Маспи, зачем понесло к Тони Салисето?
— Я хотел его проучить, господин комиссар.
— И за что же?
— За то, что он едва не прикончил мне сына и убил инспектора Пишранда, который был моим другом.
— Ну, это уж вы хватили через край!
— Во всяком случае, добрым знакомым.
— А у вас есть доказательства вины Салисето?
— Определенных — нет, но кто ж еще мог понатворить такого?
— Представьте себе, именно это мы и пытаемся выяснить!
— Ну, а я уверен насчет Тони.
— Ваше личное мнение никого не интересует… Кроме того, Бруно ранил преступника, а ни на Салисето, ни на Боканьяно нет ни единой свежей царапины. Из-за возраста, а также поскольку я вполне допускаю, что он убил Боканьяно не нарочно, до решения суда я оставляю дедушку на свободе, но пусть не пытается удрать, ясно?
Старик пожал плечами.
— Куда ж это я денусь?
Мурато, не обращая внимания на его слова, снова повернулся к Элуа.
— Что до вас, Маспи, то ради вашего сына я не отправлю вас за решетку, но попытайтесь угомониться. Если Салисето подаст жалобу, мне придется усадить вас в Бомэтт.
— Вы говорили, малыш ранил убийцу, господин комиссар. А куда?
— Надо думать, в руку, в плечо или в ногу, потому как ни из одной больницы о серьезных огнестрельных ранениях не сообщали.
Адолей выводило из себя поведение Пэмпренетты. Она отказывалась от любой еды, плакала или стонала, так что в конце концов довела мать до полного исступления. В отчаянии Перрин схватила дочь за плечи и, как следует встряхнув, заорала:
— Горе мне, несчастной! Ну, скажи, дурища упрямая, когда ты прекратишь строить из себя горькую вдовицу? Ведь не помер он, твой Бруно! Ему всего-навсего съездили по башке! И вряд ли от такой малости парень еще больше спятит!
Однако на это несколько своеобразное материнское утешение Пэмпренетта отозвалась заунывным воем, не очень громким, но настолько зловещим, что, слушая его, соседи испуганно поеживались. Перрин заткнула уши и, в свою очередь, заголосила, что, коли все будет продолжаться в таком духе, на нее скоро наденут смирительную рубашку. Дьедоннэ тщетно пытался склонить жену и дочь к более трезвому взгляду на вещи. Но на него только рычали. Одна обвиняла отца в равнодушии к ее судьбе, другая обзывала бездельником и кричала, что даже рыба, побывавшая во фритюрнице, обладает большей чувствительностью, нежели ее супруг. Адоль в раздражении удрал из дому и отправился в порт болтать с рыбаками.
Перрин до бесконечности проверяла счета, пытаясь сообразить, не сделала ли какой-нибудь ошибки из-за домашних неурядиц. А Пэмпренетта первой прибегала в больницу в часы посещений и уходила последней.
Бруно, отделавшийся сильным шоком и множеством швов на затылке, в присутствии девушки чувствовал себя гораздо лучше.
— Знаешь, моя Пэмпренетта, в глубине души я даже рад, что меня ранили.
— Иисусе Христе, ну что он говорит! А почему? И что бы со мной стало, если б ты умер? И, кроме того, мне не идет черный цвет…
— Зато теперь я точно знаю, что ты меня любишь!
— Ну, для этого вовсе не требовалось подставлять убийце голову!
Такого рода беседы продолжались каждый день и заканчивались страстными поцелуями, от которых у парня горели щеки и подскакивала температура. На следующий день после смерти Боканьяно в палату Бруно вошел Элуа. Великий Маспи заметил, как обрадовался сын, и на сердце у него потеплело. Тем не менее он старался не подавать виду.
— Я пришел узнать, как ты себя чувствуешь.
— Все в порядке. Послезавтра, наверное, выпишут. Но, правда, на работу я вернусь не сразу…
— Меня послала твоя мать… И чего она так изводится?.. Уже думала, ты созрел для кладбища… Как поживаешь, Пэмпренетта?
— Да ничего, месье Маспи, спасибо.
— Не знаю, прилично ли тебе тут сидеть…
— Бруно — мой жених. По-моему, вполне нормально, что я пытаюсь его поддержать, разве нет?
— Не переусердствуй, девочка! Сдается мне, он не так уж плох!
— Тогда зачем здесь вы?
— Потому что это мой сын, а я, хоть и терплю по его милости Бог знает какой позор, все же не чудовище! Но пришел я не из любви, а из чувства собственного достоинства! Пусть не болтают, будто Бруно Маспи лежал в больнице, а его отец и мизинцем не шевельнул!
— Короче, вы не любите Бруно?
— Тебя это не касается, приставучка!
— А у меня есть для вас новость: как только мы с Бруно поженимся — сразу уедем!
— Куда же это?
— Туда, где вы о нас больше не услышите! Мы не какие-нибудь побирушки! Раз семья Маспи от нас отказывается, справимся сами!
Элуа повернулся к сыну.
— Слыхал, как она со мной разговаривает? — обиженно проворчал он.
— Брось, папа, лучше поцелуй меня!
— После того, что ты со мной сделал? После того, как ты обратил во прах честь Маспи? После того, как ты испортил мою старость? Ну, ты и наглец!
— Как хочешь… но если мне вдруг станет хуже и я умру, тебя замучают угрызения совести…
Пэмпренетта тут же разрыдалась, а Элуа испуганно спросил:
— Ты что, неважно себя чувствуешь?
— Еще бы я хорошо себя чувствовал, если родной отец отказывается меня поцеловать!
— Отказывается не твой отец, Бруно, а Великий Маспи, которого ты обесчестил!
Пэмпренетта отвела оскорбленного родителя своего жениха в сторонку и томным голосом тихо шепнула:
— Месье Маспи, вы ведь не можете мне отказать в таком пустяке, а? Все, кого лупят по голове, либо умирают, либо становятся идиотами…
Элуа серьезно посмотрел на девушку.
— Думаешь, он останется идиотом?
— Возможно…
— Бедняга… но, если честно, Пэмпренетта, меня это нисколько не удивляет… у малыша всегда были странные заскоки… Ну кто, кроме полного кретина, пойдет работать в полицию?
— Я тоже так думаю, месье Маспи… Но, если человек малость не в себе, наверное, на него не стоит сердиться, как на нормального, верно? Так поцелуйте Бруно, месье Маспи, чтобы он не чувствовал себя таким покинутым…
Элуа немного поколебался.
— Ладно, Пэмпренетта… раз ты взываешь к моему человеколюбию, это совсем другое дело…
И Маспи подошел к сыну.
— Бруно… я немного виноват перед тобой за эту умственную отсталость… поэтому и согласен поцеловать тебя, но имей в виду: это не значит, что я все простил! Нет, я просто сам прошу прощения, что ты таким уродился…
Элуа склонился над сыном, но тот неожиданно резко его оттолкнул.
— Можешь засунуть свой поцелуй сам знаешь куда! — заорал он. — Это я-то идиот? Нет, да ты погляди на меня! А впрочем, даже если я совсем дурак, у меня хватило ума понять, что ты негодяй и бездельник и что ты сделал мою мать несчастной, а детям внушил горькие сожаления, что они не сироты… Из-за тебя нас воспитывали ворюгами, из-за тебя мы не могли уважать своих родителей, как нас учили в школе! Потому что невозможно уважать родителей, когда видишь, что их постоянно уводят из дома в наручниках! А теперь убирайся отсюда, Великий Маспи! Для меня ты больше не существуешь! Тебя же, Пэмпренетта, мне бы не хотелось принуждать к супружеству с умственно отсталым! Я вовсе не желаю, чтобы ты нарожала от меня маленьких идиотиков! Так что уходи вместе с ним! Вы одной породы, он найдет тебе подходящего мужа!
Облегчив таким образом душу, Бруно поглубже зарылся в постель и натянул на голову одеяло в знак того, что не желает больше иметь дело с людьми, внушающими ему глубокое отвращение. Под градом оскорблений Элуа совершенно оцепенел. Этот бунт и ужасные слова, которые родной сын бросил ему в лицо, заставили его усомниться в незыблемости собственных принципов. А Пэмпренетта, обиженная столь вопиющим непониманием со стороны жениха, бросилась к закутанной в одеяло фигуре с горестным воплем:
— Но я же просто хотела доставить тебе удовольствие!
Бруно в мгновение ока выскочил из укрытия.
— А, так ты думаешь, мне очень нравится, когда меня называют идиотом?
Равнодушный к ссоре, в исходе которой можно было, впрочем, не сомневаться, Великий Маспи вышел из палаты. Он брел, сгорбившись, не разбирая дороги, и пытался сообразить, что за беда на него свалилась. И вдруг, проходя мимо открытой двери какой-то палаты, Элуа узнал Тони Салисето. Он вошел к Корсиканцу. При виде своего недруга тот хотел позвать на помощь, но Маспи одним прыжком оказался рядом, заткнул ему рот рукой, а другой приставил к горлу нож.
— Ну, теперь говори, — прошептал он бандиту в самое ухо, — кто пытался убить моего сына? Кто прикончил Пишранда и Дораду? Кто отправил на тот свет итальянца и стибрил драгоценности? Если ты крикнешь, Тони,
клянусь Богоматерью, что прирежу тебя, как цыпленка!
По лицу насмерть перепуганного Салисето струился холодный пот. Маспи отпустил руку, и больной (после схватки с Элуа у него началась еще и желтуха) простонал:
— Поверь мне, Маспи… Я сейчас в таком виде, что врать просто ни к чему… Боканьяно мертв, Бастелику так надолго упрячут в тюрьму, что мы наверняка больше не увидимся… Я мог бы сказать, что убийца — Боканьяно, но это неправда… Клянусь тебе, я сам ничего не знаю, Маспи… клянусь головой моей покойной матери… Более того, я сам чертовски хотел бы выяснить, какой сукин сын переколошматил столько народу и стянул драгоценности, потому что это из-за него на нас обрушились все беды! Если бы не он, Бастелика не угодил бы в кутузку на веки вечные, потому что полиция так бы не расстервенилась! Боканьяно остался бы жив, а мои уши — целехоньки, ты не стоял бы здесь и не угрожал меня зарезать, у меня не колотилось бы сердце так, что, кажется, весь барак ходуном ходит!
— И у тебя нет никакой мыслишки на сей счет?
— Ни единой! И я просто подыхаю от злости! Ох, попадись мне тот подонок!..
— Ну, мне-то он рано или поздно обязательно попадется, и в тот день…
Вечер на улице Лонг-дэ-Капюсэн прошел тоскливо. Сгорбившись в кресле, Элуа курил трубку, а остальные, чувствуя по необычному молчанию главы семьи, что случилось что-то серьезное, не осмеливались с ним заговаривать. Фелиси рано ушла спать в надежде, что ей приснится Жером Ратьер, старики тоже не задерживались в гостиной, и Великий Маспи остался вдвоем с женой. Селестина долго сидела молча и наконец тоже поднялась.
— Я сегодня немного устала… Пойду-ка лягу. Тебе ничего не нужно, Элуа?
Маспи не ответил. Она вздохнула и пошла к двери в спальню.
— Селестина!
Жена обернулась.
— Что?
— Скажи, это правда, что я сделал тебя несчастной?
Мадам Маспи настолько не ждала подобного вопроса, что на мгновение оторопела.
— Несчастной? — только и могла повторить она.
— Да… несчастной… Сегодня один человек заявил, будто я всю жизнь был плохим мужем, дурным отцом… короче, просто злодеем…
Селестина немного растерялась и, быть может, впервые в жизни, подойдя к мужу, взяла его за руку.
— Кто тебе наговорил таких ужасов?
Элуа поднял голову, и Селестине показалось, что взгляд его туманит легкая дымка.
— Бруно…
Жена чувствовала, какую боль переживает Элуа, но, несмотря на это, немедленно встала на сторону сына.
— Ну, раз Бруно, это совсем другое дело…
— Конечно, ведь твой сынок всегда прав, да? — обычным резким тоном бросил Великий Маспи.
Но тут он сделал ошибку, ибо ядовитое замечание избавило Селестину от привычной робости.
— Ну, если хочешь знать, Элуа… Да, это правда… Жизнь меня не баловала… но я сама виновата не меньше тебя…
— А почему ты была несчастна?
— Потому что я любила тебя, Элуа, и постоянно дрожала от страха… Подумай хотя бы, сколько лет мы прожили в тюрьмах, в разлуке? У нас же не было молодости… Тебя посадили через две недели после свадьбы… А я родила Бруно в больнице Бомэтт… Детей мы, по сути дела, не видели… и не заметили, как они повзрослели… Разве не естественно, что они не чувствуют к нам особой благодарности? Какие уж мы с тобой родители, Элуа?.. Но больше всего разбивает мне сердце, что Эстель уехала и будет вести такое же существование… а если Бруно сам не займется воспитанием Илэра, он вырастет преступником, как…
Селестина вдруг умолкла, и муж договорил за нее неоконченную фразу:
— …как я, да?
— Как мы оба.
Они помолчали. Теперь уже все было сказано. Селестина хотела поцеловать Элуа, но тот ее мягко отстранил:
— Иди ложись, Селестина…
Жена ушла, а Великий Маспи еще долго сидел в кресле. Последние звуки на улице стихли, и скоро в ночной тишине слышался лишь храп его отца — убийство Боканьяно явно не мешало старику сладко спать. Правда, в его возрасте неловеческая смерть — не такое уж важное событие.
В шесть утра Элуа очнулся от все же сморившей его дремы. Все тело затекло. Маспи с трудом встал, тщательно привел себя в порядок, но в душе все равно царил невообразимый хаос. В пятьдесят лет нелегко подводить итог жизни, если всегда считал ее блестящей, а на поверку оказалось, что ты просто неудачник. Это слишком жестокое потрясение. Быстро позавтракав сливками, колбасой и черным кофе, Маспи почувствовал настоятельную необходимость излить свои печали человеку, который бы его понял, утешил и сказал, что Бруно лжет. И, вполне естественно, в первую очередь Элуа подумал о старом друге Дьедоннэ Адоле.
Наступало чудесное новое утро. Марсель стряхивал сон и снова начинал жить и смеяться. Только комиссар Мурато оставался мрачным. Он уже почти достиг пенсионного возраста и никак не хотел заканчивать карьеру провалом, да еще каким! Три трупа и бесследно исчезнувшие драгоценности на миллион франков! Более чем достаточно, чтобы неблагодарное начальство забыло о долгих годах честного служения закону. В Министерстве внутренних дел, как и в любой администрации, прежние заслуги быстро улетучиваются из памяти. И уход в отставку представлялся комиссару почти бегством, жалким дезертирством, а потому у него сжималось сердце и совсем разошлась печень.
Жером Ратьер как будто вовсе не разделял тревог своего шефа. Завязывая галстук, он лихо насвистывал модный мотивчик. Жерому было решительно наплевать и на Ланчано, и на Дораду, а если мысль о гибели Пишранда и отдавалась болью, то молодого человека настолько переполняло счастье, что он не мог не стать хоть чуточку эгоистом и, следовательно, неблагодарным. Сейчас все затмевало одно великое событие: Фелиси наконец скажет отцу, что намерена выйти замуж за Жерома Ратьера!
Тони Салисето вернулся домой и не без тревоги думал о будущем. Никаких иллюзий он не питал: имя Салисето больше ни на кого не производило впечатления. Без обоих помощников, десять лет неизменно составлявших его свиту, Тони чувствовал себя ужасно одиноким и беспомощным. С возрастом Корсиканец привык к определенному комфорту и теперь не мог с легкостью отказаться от прежних привычек. Доля от награбленного в ювелирной лавке его никак не спасет — полиция строго следит за всеми скупщиками, и те не желают даже слушать никаких предложений. К убийству же Ланчано Салисето не имел ни малейшего отношения, но многие думали иначе, и Тони, чувствуя, что, худа ни повернись, дела его выглядят очень плохо, впервые с тех давних пор, как приехал в Марсель, начал с завистью думать о своем кузене Антуане — тот работал таможенником и бестрепетно ждал часа, когда сможет уйти на пенсию и вернуться домой.
Бруно Маспи проснулся очень рано. Ему не терпелось поскорее собрать вещи и привести себя в порядок, чтобы, когда принесут больничный лист, не терять ни минуты. Молодой человек не сомневался, что у входа его обнимет Пэмпренетта… Пэмпренетта… Стоило произнести это выдуманное имя, и все существо Бруно охватывала теплая волна.
С самого рассвета в доме Адолей все шло кувырком. Пэмпренетта то и дело бегала вверх-вниз по лестнице, пела, задавала вопросы, отпускала более или менее дурацкие замечания, жаловалась, благодарила, стонала над прошлыми огорчениями, распространялась об ожидающем ее ослепительном будущем. После двух часов таких испытаний даже Перрин, при всей ее крепости, пришлось сесть на стул и взмолиться:
— Ради Бога, Пэмпренетта, остановись на минутку, у меня голова идет кругом!
Но Пэмпренетту слишком занимала любовь, и чужие страдания ее не интересовали. Что до Дьедоннэ, то он, как всегда, сохраняя полную невозмутимость, держался подальше от семейных треволнений и спокойно готовил сети, ибо в этот день обычно ловил рыбу. Через час месье Адоль сядет в моторную лодку и поедет к замку Иф. Там, между небом и морем, он весь день будет ловить рыбу (во всяком случае, Дьедоннэ надеялся на удачный клев) и наконец-то насладится покоем, которого так не хватает дома.
— Ты бы не мог приказать своей дочке немного успокоиться? — едко заметила ему жена.
Дьедоннэ только пожал плечами в знак того, что не желает вмешиваться в эту историю. Перрин, не понимавшая столь эгоистичного отступничества, мгновенно вскипела:
— Ну конечно, тебе-то совершенно наплевать! Пэмпренетта скоро совсем рехнется, а ты уходишь на рыбалку! Это стало бы для тебя прекрасным уроком, моя крошка, будь ты в состоянии хоть что-нибудь соображать! Но мадемуазель витает в облаках! Мадемуазель уверена, что нашла несравненную жемчужину! Да он такой же, как все, твой Бруно! И однажды он взвалит на тебя все хозяйство и заработки, а сам уйдет ловить рыбу!
— Неправда!
Пэмпренетта раскраснелась и подступила к матери, готовая, если понадобится, силой защищать своего Бруно. Перрин хотела напомнить ей о почтении к старшим, но вдруг махнула рукой:
— Да ладно… Валяй, попробуй… теперь твоя очередь… а поплакать всегда успеешь потом…
Жером торопливо шел по залитым солнечным светом улицам, надеясь повидаться с Фелиси, пока она еще не вошла в свою парикмахерскую. Пэмпренетта караулила у дверей больницы и провожала сердитым взглядом каждого выходившего только за то, что это не ее Бруно. Дивизионный комиссар рассеянно пил кофе, заботливо сваренный ему женой. Тони все еще прикидывал, чем бы ему заняться сегодня. Селестина, мучаясь угрызениями совести, готовила своему Элуа особое лакомство в надежде, что он простит ей вчерашнюю откровенность. Перрин Адоль, тяжело вздохнув, снова принялась за счета, а ее муж заканчивал приготовления к рыбалке. Великий Маспи с озабоченным видом поднимался на Монтэ-дэз-Аккуль просить утешения у своего друга Дьедоннэ Адоля.
Было около полудня, Дьедоннэ давно выключил мотор и вместе с Элуа ловил рыбу. Вытягивая небольшую сеть, которую они забрасывали больше для развлечения, чем в надежде поймать рыбу, Маспи раздумывал, почему несколько часов назад Адоли приняли его так холодно. Ну, насчет Перрин более или менее ясно. Дурное настроение можно объяснить перегрузкой: она работает с утра до вечера, а если надо принять контрабандный груз, то и ночью. Но Дьедонна? Мадам Адоль, хмыкнув, сказала, что ее супруга мучает ревматизм, — ссылаясь на ноющее плечо, он помогает ей еще меньше обычного и при этом еще капризничает — не желает, видите ли, чтобы жена его полечила. А ведь у Перрин остались от матери рецепты самых надежных средств от ревматизма! Элуа немного удивился, что, несмотря на боль, Дьедоннэ все-таки хочет идти на рыбалку, но Адоль ответил, что свежий воздух и солнце сразу облегчат его муки. Однако больше всего Маспи озадачило каменное выражение лица приятеля, когда он предложил порыбачить на пару. «Знаешь, у меня сейчас отвратное настроение… От боли я то и дело на всех ворчу… Заботы — не лучшая тема для разговора…» — и так далее и тому подобное. В конце концов отец Бруно рассердился.
— Тебе неприятно мое общество, Дьедоннэ? — закричал он. — Тогда скажи сразу — по крайней мере это будет честно!
Адоль стал возражать, но без особого убеждения в голосе, и его поведение настолько заинтриговало Элуа, что тот решил, плюнув на самолюбие, все-таки навязаться в спутники.
— Да ну же! — заметил он, хватая Адоля за больную руку. — Прекрати валять дурака и пошли ловить рыбу!
Уходя, Маспи спросил, как поживает Пэмпреннета.
— Она в больнице, — сухо ответила мать девушки.
— В больнице? Господи помилуй! Пэмпреннета больна?
Перрин пожала мощными плечами.
— Да, больна, мой бедный Элуа, но совсем не так, как вы подумали. Мадемуазель влюблена! Мне, родной матери, никогда не удавалось поднять ее раньше восьми часов, но сегодня еще не успело и рассвести, как Пэмпренетта устроила в доме настоящий цирк. И чего ради, спрашивается? Да чтобы бежать к больнице и встретить своего Бруно!
Элуа с облегчением вздохнул.
— Ну, так оно лучше! А то вы меня чуть не напугали, Перрин!
— Сами знаете, Маспи, как я вас уважаю, но, по правде говоря, меня просто изводят эти шуры-муры между моей Пэмпренеттой и вашим Бруно…
Мужу Селестины очень не нравились такого рода замечания. Он тихонько отодвинул Дьедоннэ, который, видимо передумав, теперь жаждал побыстрее увести приятеля на рыбалку.
— Минутку, Адоль!.. Что вы хотели этим сказать, мадам Перрин?
— Что Бруно — не самая подходящая пара для моей дочки!
— Я тоже так думаю, но, раз дети любят друг друга, не стану проявлять чрезмерную разборчивость.
— Что? Еще того не легче! Можно подумать, это вы делаете нам милость! А по-моему, так моя Пэмпренетта стоит десяти таких, как ваш парень!
— Десяти?
— И даже ста!
Элуа долго смотрел на старую подругу.
— Вот что, мадам Адоль, только память о слишком давнем знакомстве мешает мне высказать в лицо все, что я о вас думаю, и призвать к большему смирению!
— Да за кого ж вы себя принимаете, хотела б я знать?
— За человека, которого всегда уважали, мадам Адоль, чего, как ни печально, не могу сказать о вас!
— Осторожнее, Элуа!.. Я терпелива, но всему есть предел! И, что бы вы там ни говорили, а ваш сын все-таки легавый!
— Ну и что?
Спокойный вопрос Маспи слишком смахивал на вызов, и Перрин вдруг растерялась.
— Ну, легавый — он и есть легавый, — тупо повторила она.
— Бруно — полицейский? Верно. Но имейте в виду: не какой-нибудь там завалящий. Представьте себе, я недавно разговаривал с комиссаром Мурато, и он по-приятельски…
— По-приятельски???
— Совершенно точно, и даже по-дружески признался, что просто и не знает, как выкручивался бы без Бруно…
— И по-вашему, это нормально? Да разве хорошо, когда старший сын семейства, где…
— Я не позволю вам судить о моей семье!
— Так я ж — не от большой радости! Но коли этой дурище Пэмпренетте втемяшилось туда войти…
— Это — если я ее приму!
— И вы бы отвергли мою единственную дочь? Да при виде ее все рыдают от восторга! А парни так и падают на колени, когда она идет по Канебьер, вот так!
— И тем не менее Пэмпренетта — всего-навсего мелкая воровка!
— Мелкая? Несчастный! Да она все свое приданое стянула на набережных!
— Вот именно, мадам Адоль, вот именно! И я далеко не уверен, что как раз о такой супруге должен мечтать полицейский инспектор с блестящим будущим!
— Элуа, вы меня хорошо знаете! Если вы запретите сыну жениться на моей девочке, она покончит с собой, и это так же верно, как то, что я жива! А коли Пэмпренетта наложит на себя руки, клянусь Матерью Божьей, я пойду на Лонг-де-Капюсэн и учиню там резню! А ты, Дьедоннэ, молча позволяешь оскорблять свою дочь?
— Я иду на рыбалку.
— Он идет на рыбалку! Слыхали? Меня обливают грязью, попирают ногами Пэмпренетту, а он, видите ли, идет рыбку ловить! Господи, да когда ж ты сделаешь меня вдовой?
Эта мольба, по-видимому, нисколько не взволновала Адоля, он только постарался убедить Маспи поскорее отправиться в порт.
И они пошли бок о бок к моторной лодке Дьедоннэ. По дороге Адоль лишь пробормотал себе под нос:
— Перрин — славная женщина, что верно, то верно… но иногда с ней чертовски тяжело… чертовски…
А потом приятели ловили рыбу.
Время от времени Элуа, украдкой наблюдая за Дьедоннэ, замечал, как подергивается его лицо. Адоль, вне всяких сомнений, сильно страдал, а Великий Маспи терпеть не мог смотреть на чужие страдания.
— Эй, Дьедоннэ, может, перекусим?
— Если хочешь…
— Я проголодался как волк!
Элуа достал пакет с едой, приготовленный его другом, разложил припасы на скамье и протянул Адолю колбасу. Тот покачал головой.
— Я совсем не хочу есть… только пить…
— Так ты серьезно болен, Дьедоннэ?
— Эта проклятая рука…
— Тебе бы надо сходить к врачу.
Пока Адоль утолял мучившую его жажду, Элуа спокойно жевал с видом человека, для которого всякая трапеза — священный ритуал, не терпящий никакой спешки.
— Слушай, Дьедоннэ, а тебе не интересно знать, зачем я пошел с тобой сегодня?
— Зачем?
— Чтобы поговорить!
— А-а-а…
— Вчера вечером Селестина наговорила мне кучу престранных вещей…
И Великий Маспи подробно изложил приятелю мнение своей супруги об их общих заблуждениях.
— Селестина не шибко, умна, — заключил он, — но здравого смысла у нее не отнять… Как, по-твоему, она права, Дьедоннэ, и мы с самого начала здорово промахнулись? Эй, Дьедоннэ, я с тобой разговариваю!
Адоль с видимым трудом вернулся к действительности.
— Я… прости… пожалуйста… но… но…
Элуа сразу встревожился.
— Да что с тобой, Дьедоннэ? Надеюсь, ты не хлопнешься в обморок?
— Ка… кажется, да…
Элуа едва успел перескочить через разделявшую их скамью и подхватить Адоля на руки.
— Господи Боже! Невероятно, чтобы ревматизм причинял такие муки!
Он похлопал приятеля по щекам.
— Эй, Адоль, встряхнись! Сейчас мы вернемся, и ты ляжешь в постель… а я сбегаю за врачом… если тебе совсем худо, он сделает какой-нибудь укол…
И тут он заметил струйку крови, стекавшую по тыльной стороне руки Дьедоннэ, оставляя за собой черно-красный след. Маспи на мгновение остолбенел, потом, перевернув по-прежнему бесчувственного Дьедоннэ, снял с него пиджак. Резким движением он оторвал рукав рубашки и при виде грязной повязки, стягивающей руку Адоля, в ужасе замер.
— Хорошенький ревматизм…
Маспи размотал бинт, и его чуть не стошнило. От раны исходил такой тяжкий дух, что ошибиться было невозможно: уже началась гангрена… За долгую жизнь Маспи не раз видел тех, кто побывал в перестрелке, и отлично знал, как выглядят пулевые ранения… Итак, Адолю прострелили руку… Элуа вернулся на свою скамейку и, наблюдая за раненым, мало-помалу прозревал чудовищную истину. Дьедоннэ… бедняга Дьедоннэ, с которым давно никто не считался… его лишь жалели… Дьедоннэ, вечно сидевший под каблуком у жены… Весь привычный Маспи мир вдруг разлетелся вдребезги. Как будто вместе с повязкой на руке старого друга он сорвал покрывало, с давних пор скрывавшее от него правду… Селестина была права… а вместе с ней — и Бруно… и Фелиси… Адоль заставил его сделать два одинаково тяжких открытия: во-первых, он, Великий Маспи, загубил собственную жизнь, а во-вторых, его лучший друг оказался последним мерзавцем. И Элуа даже не знал, за что больше сердиться на Дьедоннэ.
Жгучее полуденное солнце привело Адоля в чувство. Сообразив, что произошло, он инстинктивно прикрыл рану рукой, словно еще надеялся спрятать ее от Элуа.
— Брось, Дьедоннэ… нет смысла…
Постанывая и отдуваясь, муж Перрин с трудом взгромоздился на скамейку. Смотреть в глаза Маспи он не осмеливался.
— Странный ревматизм, а?
— Это… это несчастный случай…
— Ага, я и так уже догадался, что не ты сам влепил себе в лапу пулю развлечения ради! Так кто это сделал, Дьедоннэ?
— Не знаю…
— Еще как знаешь! Да и я могу назвать тебе имя: Бруно Маспи! И он стрелял уже почти в отключке, в тот день, когда ты, сволочь этакая, пытался его убить! Да-да, ты хотел прикончить моего сына, подлец!
Понимая, что отнекиваться бесполезно, Адоль совсем сник.
— Мне пришлось…
— Потому что ты убил Дораду?
— Да.
— Боялся, как бы она не заговорила?
— Да.
— И по этой же причине пырнул ножом Пишранда?
— Да.
— Просто не верится… ты — и вдруг все эти убийства…
— Я не виноват… так получилось…
— Выкладывай!
— Перрин послала меня встречать один из наших баркасов. Он возвращался из Генуи… Капитан честно сказал, что взял на борт пассажира… и его, похоже, разыскивает итальянская полиция… Я пришел в бешенство, потому как всегда был против таких перевозок — от них одни неприятности… Ну а потом я пошел домой… Вдруг вижу, на Монтэ-дэз-Аккуль какой-то парень стоит, прислонившись к стене и, видать, едва держится на ногах. Ты ведь меня знаешь, Элуа? Я слишком жалостлив… Ну и подошел. Оказалось, итальянец. Он спросил меня, не знаю ли я Богача Фонтана. Представляешь, как мне стало любопытно? Короче, через несколько минут я уже понял, что передо мной мой подпольный пассажир, и назвался Фонтаном. Я отвел парня к себе, вернее, в маленькую контору за домом — там раньше была прачечная… и там… о Господи!.. макарони снял пояс и сунул мне под нос такую кучу драгоценностей, что я чуть не ослеп от их блеска! Целое состояние… Элуа, целое состояние… около миллиона франков… И я мог бы начать жизнь заново…
— С Эммой Сигулес?
— Да… у нас с Перрин уже давно ничего нет… Я знал, что Пэмпренетта вот-вот выйдет замуж и уйдет из дому… и сказал себе, что в Америке смог бы стать человеком, а не прозябать, как тут, в Марселе… Потом я отвел Ланчано на липовый склад товаров — якобы спрятать от полиции… Там я его и убил, а труп бросил в воду… Ну а драгоценности припрятал…
— Где?
— Да там же, в бывшей прачечной, в старом котле… Наутро я все объяснил Эмме… Но этой дуре непременно понадобилось лезть на глаза Пишранду… Поняв, что за ней следят, Дорада предупредила меня… Остальное ты знаешь… Когда я избавился от Пишранда, девчонка струсила. Я понял, что она меня выдаст… Вот и пришлось убить… хотя я очень любил Дораду…
— А Бруно?
— Он хотел отомстить за своего друга Пишранда… И я понимал, что рано или поздно парень до меня доберется — он ведь не из тех, кто бросает дело на полпути… Но я рад, что не убил Бруно, Элуа…
— Не по своей воле ты оставил его в живых, подонок!
Адоль поднял голову, и Великий Масли увидел залитое слезами лицо.
— Помоги мне выпутаться, Элуа… только ты один можешь…
— Послушай меня, Дьедоннэ: Перрин не заслужила мужа-убийцы, Пэмпренетта выходит замуж за Бруно, а я не хочу, чтобы в мою семью вошла дочь человека, запятнанного кровью…
— Так ты считаешь, я должен уйти?
— Да, ты уйдешь, Дьедоннэ.
— Куда?
— Это уж мое дело.
— С драгоценностями?
— Без.
— Ты хочешь меня ограбить?
— Нет, на этих побрякушках чересчур много крови, Дьедоннэ.
— Но на что же я тогда стану жить?
— Там, куда ты отправляешься, такие вопросы уже никого не волнуют.
— Я не понимаю…
Элуа подобрался, напряг все мускулы и нанес в подбородок Адолю самый сокрушительный удар из всех, что ему когда-либо приходилось раздавать в жизни. Дьедоннэ буквально взмыл над лодкой и без чувств плюхнулся в воду. Маспи наблюдал, как он камнем идет на дно, потом быстро включил мотор, чтобы, когда тело обреченного всплывет на поверхность, оказаться подальше отсюда.
Смертельно бледная Перрин, окаменев на стуле, слушала рассказ Маспи о гибели мужа.
— Он мне все выложил, бедняга… Имея столько покойников на совести, Дьедоннэ просто не мог больше жить… да еще эта рана на руке… там уже все начало гнить… Несчастный так быстро прыгнул за борт, что я даже шевельнуться не успел!
— И вы не пытались…
— Нет.
— А я-то считала вас его другом!
— То-то и оно, Перрин… Я вовсе не хотел, чтобы однажды утром Дьедоннэ повели на гильотину… И каким бы это стало бесчестием для вас… для Пэмпренетты… По-моему, я поступил правильно, Перрин…
— Я тоже так думаю, — немного поколебавшись, ответила она.
— Пусть все думают, что мы вернулись вместе, вы предложили нам перекусить… потом я пошел домой, а Дьедоннэ снова куда-то понесло… А в полицию заявите послезавтра.
— Послезавтра…
— Может, его найдут, а может — и нет.
— Но как же драгоценности?
— Я сделаю так, что полиция найдет их не у вас дома, а совсем в другом месте… Не падайте духом, Перрин… у каждого в жизни бывают трудные минуты… Дьедоннэ просто бес попутал… А вы теперь переберетесь к нам, и заживем одной семьей…
— Элуа… насчет этой девки… Эммы… он что, и вправду хотел уехать с ней?
— Забудьте об этом, Перрин… Мертвым надо прощать… всем мертвым…
Она упрямо покачала головой.
— Нет, никогда я ему не прощу, что хотел меня бросить!
Маспи спускался вниз по Монтэ-дель-Аккуль, раздумывая, что каждому дается печаль по его мерке. Перрин, несомненно, огорчило, что ее муж оказался убийцей и грабителем, но по-настоящему потрясла только его измена… Несчастная!
По правде говоря, когда Перрин сообщила об исчезновении мужа, никто особенно не рвался разыскивать Дьедоннэ Адоля. Ее заверили, что проведут расследование и обо всем сообщат, а потом вежливо выпроводили. И память о Дьедоннэ погрузилась в лавину бумаг еще надежнее, чем его тело — в воды Средиземного моря.
Больше всего забот эта история доставила опять-таки Великому Маспи. Снимать пояс с драгоценностями итальянца он не решался и с каждым часом все тревожнее обдумывал проблему, как принести все это в полицию, не навлекая на себя подозрений в убийстве Ланчано. Не говоря уж о том, что, если его вдруг арестуют под тем или иным предлогом и обнаружат пояс, на будущем можно ставить крест.
Спасение неожиданно явилось к Элуа в образе Тони Салисето. С тех пор как исчезли его подручные, корсиканец маялся, как грешная душа. Ему так хотелось кому-то выплакаться, что обрадовала даже встреча с Маспи. Каид предложил ему выпить. И вот, когда Тони стал вспоминать Боканьяно, Элуа вдруг посетило озарение.
— Славный был малый этот Луи… и преданный… верный как пес… Эх, и зачем твой папаша прихватил с собой ружье?.. Надо ж было пристрелить моего единственного друга… Заметь, я на старика не в обиде, но все же… Разве это достойная смерть для Луи? Он заслуживал лучшего…
— Гильотины?
— Не шути над мертвыми, Маспи! Это не принесет тебе счастья!
— Боканьяно жил вместе с тобой?
— Нет… снимал комнату на улице Мариньян, в доме двести пятьдесят четыре… Но вообще-то ходил туда не часто… Так, пристанище, где можно отдохнуть часок-другой…
— А родственники у него есть?
— Нет… по сути дела, я был его единственным родичем…
Хозяйка дома, у которой снимал комнату Боканьяно, встретила Великого Маспи не слишком любезно.
— Вы ему родня?
— Да, двоюродный брат, приехал прямиком из Аяччо. Луи заплатил вам за комнату?
— Да, до следующей недели, так что вам надо бы забрать оттуда барахло…
Элуа вытащил несколько тысячефранковых банкнот.
— Это вам за беспокойство.
Домовладелица тут же заулыбалась и рассыпалась в благодарностях.
— Ах, как приятно встретить понимающего человека…
— Вы позволите мне заглянуть в комнату? Очень хочется взглянуть, как жил мой бедняга кузен…
Женщина хотела проводить Элуа, но он вежливо отказался, скорчив печальную мину.
— Нет, мне надо побыть одному и собраться с мыслями… мы ведь вместе росли…
Хозяйка отступила, растроганная видимым волнением гостя.
— Я… я понимаю вас. Простите…
Маспи недолго пробыл в комнате корсиканца. Вниз он вернулся с легкой душой, но напустил на себя скорбную задумчивость человека, которому только что довелось размышлять о смерти и бренности человеческого существования.
— Бедный Луи… — вздохнул он. — В глубине души он был не таким уж дурным…
Чужое волнение заразительно, и женщина охотно согласилась:
— О да, несомненно!
— Стоит поглядеть на вас, мадам, и послушать — сразу ясно, что вы хорошо знаете жизнь…
Она попыталась гордо выставить вперед то, что и в лучшие времена не отличалось пышностью, и глубоко вздохнула, показывая всю меру своей усталости от вечных столкновений с самыми разнообразными проявлениями порока.
— Что верно — то верно… Мало кто столько всего повидал…
— Вряд ли я открою вам секрет, сказав, что мой несчастный кузен имел довольно своеобразные представления о том, что мы с вами называем порядочностью?
Женщина стыдливо потупила глаза.
— Да, я я впрямь кое-что слышала… И потом, хак он умер? Разве это достойная смерть для приличного человека, а?
— Увы!.. К несчастью, я на государственной службе… И мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то проведал о моем родстве с Луи Боканьяно… на работе таких вещей не любят… Поэтому, если сюда придет полиция, очень прошу вас, сделайте такую любезность — не говорите им, что я сюда заглядывал. Хорошо?
Несколько новых банкнот окончательно усыпили возможные сомнения хозяйки. Провожая Маспи, она поклялась всеми своими предками, а также обитателями небесной тверди, что скорее позволит разрубить себя на кусочки, чем причинит хоть малейшие неприятности такому любезному и щедрому господину.
Возвращаясь на улицу Лонг-дэ-Капюсэн, Элуа был очень доволен собой: теперь, избавившись от изрядной тяжести как в прямом, так и в переносном смысле слова, он явно повеселел. Но дома Великий Маспи застал Пэмпренетту. Селестина утешала ее, как могла. Не успел муж закрыть за собой дверь, мадам Маспи крикнула:
— Дьедоннэ исчез!
Элуа с непроницаемым видом человека, давно привыкшего к любым передрягам, стал расспрашивать о подробностях, а потом тоже постарался облегчить горе Пэмпренетты, уверив, что ее отец достаточно стар и хорошо знает, что делает. Наконец пришел Бруно. Он сразу понял, что лучший способ отвлечь девушку от печальных мыслей — обнять ее покрепче. Селестина приготовила всем аперитив, и Великий Маспи, воспользовавшись небольшой паузой в разговоре, небрежно бросил:
— А как насчет всех этих убийств? Вы там у себя в полиции уже разобрались, что к чему?
Бруно с довольно жалким видом пришлось признаться, что, как и его коллега Ратьер, он по-прежнему топчется на месте. И это, разумеется, сильно влияет на настроение дивизионного комиссара…
— Ну, я-то не полицейский, и все же… — не глядя на сына, заметил Элуа.
— Все же — что?
— По-моему, вы… как бы это сказать?.. Короче, ищете не там, где надо.
— А ты мог бы предложить что-нибудь получше?
— Я? Да откуда ж мне что-либо знать об этом грязном деле? Тем не менее у меня есть свои догадки, и на вашем месте… ну, да вам, профессионалам, виднее…
— Нет, ты все-таки скажи!
— Хочешь — верь, а хочешь — не верь, малыш, но я не сомневаюсь, что убийцу надо искать в окружении Салисето!
— Боканьяно мертв, а Бастелика — в тюрьме.
— Бастелику вы сцапали первым, а вот Луи дедушка пристрелил через много дней после убийства итальянца…
— Но мы же обыскали все его вещи!
— Знаешь, Бруно, у таких, как эта парочка, наверняка должны быть надежные норы по всему Марселю… Кстати, не далее как вчера я встретил Тони… Он все никак не может переварить смерть Боканьяно… Так вот, в разговоре он сказал мне, что Луи снимал комнату на улице Мариньян, в доме двести пятьдесят четыре… А я даже и не подозревал об этом!
— И мы тоже! — удивленно воскликнул Бруно.
Элуа вновь чувствовал себя Великим Маспи, поэтому он лишь чуть насмешливо улыбнулся сыну.
— Кто бы мог подумать?
Вечером, ложась спать, Маспи представлял себе, какую физиономию скорчит Салисето, узнав, что его ближайший помощник припрятал целое состояние и после смерти Луи он мог бы безбедно жить на эти деньги, причем никто бы никогда не докопался до правды. Есть с чего навеки потерять покой. Великолепная месть за пощечину… И в эту ночь Элуа уснул с легким сердцем и спокойной совестью.
Ни разу за все время службы в полиции дивизионный комиссар Мурато не испытывал такого изумления, как в тот момент, когда инспектор Бруно Маспи высыпал ему на стол целый поток сверкающих драгоценностей. Он долго рассматривал украшения, потом вскинул глаза и недоуменно пробормотал:
— Это они?
— Да, шеф… Драгоценности Томазо Ланчано!
— Ну и ну! И где ж ты их нашел?
— В комнате, которую Луи Боканьяно снимал на улице Мариньян.
— Но тогда… значит… это он убийца?
— Вне всякого сомнения!
— Вы мне подробно объясните, каким образом добились такого успеха, мой юный друг, но в первую очередь я хочу сказать, что горжусь вами, как гордился бы Пишранд… А ваш дедушка Сезар, ненароком подстрелив Боканьяно, сам того не ведая, отомстил за нашего друга и, кроме того, избавил государство от затрат на судебный процесс и прочее… Семейство Маспи, надо отдать ему должное, заслуживает величайших похвал!
Как и предполагал Элуа, Тони Салисето, узнав, что полиция нашла драгоценности итальянца в комнате Луи Боканьяно, от огорчения слег в постель. Там Корсиканца и арестовали, ибо комиссар Мурато предъявил ему обвинение в соучастии с покойным приятелем. Выбрав меньшее из двух зол, Тони признал, что это он организовал экспедицию в ювелирную лавку на улице Паради, и присоединился к Бастелике и Ипполиту Доло в Бомэтт.
Селестина сияла, как наседка, которой наконец удалось собрать вместе всех цыплят и старого петуха — мужа. Бруно рассказывал родителям о том, как блестяще он разрешил загадку, так долго мучившую лучших ищеек департамента. Молодой человек обнимал Пэмпренетту, а дедушка и бабушка так и пожирали его глазами, и Селестина с веселым удивлением подумала, что, похоже, старики гордятся Бруно. Фелиси, блаженно улыбаясь, очевидно, витала где-то очень далеко от улицы Лонг-дэ-Капюсэн. Элуа делал вид, будто слушает рассказ сына, но не придает ему особого значения. И мать семейства решила, что, наверное, ее супруг немного ревнует к славе сына.
Но самое главное Бруно приберег под конец.
— Дивизионный намекнул, что такой успех принесет мне немалые выгоды… в смысле продвижения по службе, конечно… Нет, честное слово, вы ни за что не угадаете!.. Так вот, комиссар считает, что, ухлопав такого ужасного бандита, как Боканьяно, пусть даже случайно, наш дедуля оказал правосудию огромную услугу! Так что он у нас просто герой!
Старик тут же заважничал.
— Я вам не хотел говорить… но вообще-то я прикончил того корсиканца не то чтоб совсем дуриком, — гордо заметил он. — Я даже думаю, что спустил курок с некоторым знанием дела…
Элуа с трудом терпел, что его обошли почестями, хотя без него из этой истории ровно ничего хорошего не получилось бы, и наконец не выдержал:
— Да ну же, дед, не болтай чепухи!
Сезар очень плохо принял замечание сына. Он встал и, выпрямившись, объявил всему семейству:
— Какое несчастье быть героем и при этом выслушивать от родного сына всякие пакости! Фу! Я иду спать.
— Без ужина?
Дед секунду колебался, но самолюбие взяло верх.
— Да, я не стану есть!
И тут уж всем стало ясно, что старик не на шутку разобижен. Только Фелиси, погрузившись в блаженные грезы, ничего не замечала. Решив немного разрядить атмосферу, Селестина подошла к мужу и обняла его за плечи.
— Да ну же, Элуа! Почему ты не хочешь честно сказать, что гордишься сыном?
— Не могу гордиться легавым, Титин![349]
— Даже если он самый лучший из всех?
Слова жены, видно, тронули Элуа.
— Разумеется, это несколько меняет дело…
Но Селестина довольно неловко продолжала настаивать:
— Бруно теперь не позор, а гордость нашей семьи!
Элуа тут же ощетинился:
— А кто тогда, по-твоему, я?
— Ты? Ты — Великий Маспи!
И это было сказано с такой нежностью в голосе, с такой любовью, что Элуа оттаял. А поскольку он и вправду чувствовал себя великим, то лишь коротко заметил:
— Это верно.
Селестина, Пэмпренетта, Бруно и бабушка расцеловали главу семейства, и Маспи, стараясь скрыть, как он растроган, заявил:
— У каждой семьи есть какая-нибудь тайна… все что-нибудь скрывают… Вот мы и не станем особенно распространяться, что мой сын — полицейский. И благодаря покровительству Матери Божьей в какой-то мере это даже немного лестно… если принять в расчет обстоятельства… Скажем, это просто случайность, и ничего подобного никогда больше не повторится… Пэмпренетта, поклянись мне, что твои дети никогда не пойдут работать в полицию!
Но девушка не успела найти подходящий ответ, потому что Фелиси вдруг опустилась на колени рядом с отцом. Щеки ее горели, глаза сверкали.
— Папа, я должна кое-что тебе сказать…
— Что именно, моя голубка?
— Я хочу выйти замуж…
— Ну? И ты тоже?.. А ты об этом не догадывалась, Селестина?
— Немного…
— Ага, понятно! Женские секреты и шушуканья, а? И как зовут того, кто надеется украсть у меня дочь?
— Жером…
— А чем он занимается в жизни, сей молодой человек, которого ты называешь просто по имени?
— Он полицейский инспектор, папа.
Селестина вовремя успела оторвать пуговицу на воротнике Элуа, иначе Великого Маспи наверняка хватил бы удар.
 МЫ ЕЩЕ УВИДИМСЯ, ДЕТКА!
МЫ ЕЩЕ УВИДИМСЯ, ДЕТКА!
Моей дочери Клер
Ш.Э.
Глава I
Сэм Блум, хозяин «Нью Фэшэнэбл», самой жалкой гостиницы в Сохо, что на Варвик-стрит, нисколько не сомневался, что новый постоялец со второго этажа — наркоман. Сэм так давно имел дело с наркотиками, что распознавал даже самые незначительные признаки их действия. Сам он, однако, ничего подобного не употреблял — ограничивался тем, что подсказывал клиентам, способным хорошо заплатить, где можно раздобыть героин наилучшего качества. Но оказывать услуги такого рода этому типу со второго этажа Сэм вовсе не собирался. Стоптанные башмаки, чистый, но лоснящийся и несколько обтрепанный костюм, сомнительного качества рубашка достаточно красноречиво свидетельствовали о том, что их владелец переживает далеко не блестящий период. Сэм уже неделю внимательно следил за ним, зная, что торчок на кумаре[350] способен пойти на что угодно, лишь бы раздобыть хоть капельку своего зелья. Приехав в гостиницу, парень сообщил, что он профессиональный актер из Ливерпуля. Короче, с точки зрения Сэма — полное ничтожество. Блум всерьез раздумывал, как бы освободиться от нежелательного постояльца, когда тот появился на верхней площадке и начал нетвердым шагом спускаться с лестницы. Казалось, у него мучительно кружится голова. Добравшись до конторки Сэма, он спросил:
— Для меня нет писем?
— Нет, мистер Карвил.
Молодой человек пожал плечами и вышел на улицу. Блум наблюдал, как, оказавшись на тротуаре, Карвил остановился и некоторое время стоял в нерешительности, потом повернул направо. По-видимому, он собирался бродить по улицам просто так, без определенной цели, лишь бы хоть немного устать и отвлечься от навязчивой мысли. Хозяин гостиницы покачал головой: скоро его постоялец начнет чудить белым светом, а на финал загремит в больницу и выпьет полную чашу всех ужасов дезинтоксикации. Но ему-то, Сэму, какое, в конце концов, до этого дело?
Ближе к полудню Блум давал распоряжения Эдмунду — лет пять назад он подобрал в Сохо этот жалкий человеческий обломок, служивший теперь козлом отпущения в «Нью Фэшэнэбл» за мизерную плату, жалкую еду и немного скверного виски. В это время в гостиницу впорхнула ослепительная блондинка, и холл окутал приятный аромат дорогих духов. При виде молодой женщины Сэм воскликнул:
— Племянница! Каким добрым ветром?
— Просто захотелось вас повидать, дядюшка.
Перегнувшись через стол, дядя и племянница обменялись поцелуем. Поскольку поблизости больше никого не было, Эдмунд позволил себе заметить:
— Если это представление только ради меня, зря вы так стараетесь!
Блум пришел в дикую ярость.
— Когда мне понадобится твое мнение, я тебя позову. И вообще, еще одно замечание такого рода — вылетишь за дверь! Ступай-ка лучше прибери комнату мистера Карвила, чем считать тут ворон!
Старик вышел, бормоча ругательства, но Сэм, при всем своем изощренном слухе, так и не смог разобрать их смысла.
Едва Эдмунд исчез из виду, Сэм тревожно спросил:
— В чем дело, мисс Поттер?
— Я от Джека. Он советует вам быть крайне осторожным. Ходят слухи, что Ярд всерьез принялся за наш квартал. Так что держите ухо востро, и никаких случайных клиентов.
— Не беспокойтесь сами, мисс Поттер, и успокойте Джека. С этого дня и до тех пор, пока он не подаст сигнала, я не приму ни одного новенького… А что все-таки стряслось?
— Да ничего особенного, просто на днях Джек должен получить довольно большую партию, вот и нервничает. Как ему кажется, возле «Гавайской пальмы» бродит слишком много инспекторов.
— Но откуда же им знать, что ваша лавочка — нечто вроде распределительного центра?
— Не мне вам объяснять, Сэм, что, когда имеешь дело с наркоманами, невозможно быть спокойным. Они отца и мать продадут за щепотку своей мерзости.
Это замечание тут же вызвало в памяти Сэма образ мистера Карвила.
— Кстати, мисс Поттер, скажите Джеку, что уже восемь дней у меня тут живет вполне специфичный образчик. Явный торчок…
И Блум рассказал мисс Поттер все, что знал о Карвиле.
Если бы Патриция Поттер не предупредила Сэма о грозящей ему опасности, появление участкового констебля Майкла Торнби не нарушило бы его душевного равновесия.
— Привет, Блум!
— Здравствуйте, мистер Торнби.
— Карвил… Гарри Карвил… Вам это имя что-нибудь говорит?
— Конечно! Это один из моих постояльцев.
— У вас есть его данные?
— Еще бы!
Констебль переписал формуляр, заполненный Карвилом в день приезда.
— Он вам заплатил?
— Вчера.
— А багаж у него есть?
— Довольно жалкий.
— Можно взглянуть?
— Не знаю, вправе ли я позволить такое без ордера на обыск…
Констебль выпрямился.
— Не валяйте дурака, Блум, или я всерьез рассержусь.
В потрепанных чемоданах Карвила не оказалось ничего подозрительного. Спустившись вместе с констеблем вниз, Сэм спросил:
— Надеюсь, этот Карвил не натворил ничего серьезного?
— Подрался с моим коллегой на площади Сахо. Теперь отдыхает в кутузке.
— Меня это нисколько не удивляет.
— Почему?
Поймав взгляд констебля, Блум прикусил язык. Неужели он так никогда и не научится молчать? Увы, желание блеснуть всегда было его слабостью. А полисмен между тем настаивал:
— Что вас навело на мысль, будто этот тип способен на такие дела, Блум?
Делать нечего, пришлось отвечать.
— Не хотелось бы окончательно топить парня, но мне показалось, что он колется.
— А!
— Не то чтобы я в этом очень разбирался, но в Сохо то и дело видишь столько всякого сброда…
Торнби расхохотался, и тем самым окончательно перепугал трактирщика.
— Разве я сказал что-нибудь смешное? — пролепетал Сэм.
— Скорее неожиданное… Истинная правда, что в Сохо встречается самая разнообразная сволочь, но вот что это заметили именно вы — очень смешно. Не так ли?
Сэм был далеко не дурак и тут же почувствовал скрытую угрозу.
— Может, выпьете стаканчик, мистер Торнби?
— Никогда не пью при исполнении, а в свободное время выбираю, с кем пить. Не думаю, чтобы вы когда-нибудь оказались в этой
компании, Блум.
Пока происходила эта сцена, Карвил действительно был в полиции, а точнее, в Ярде, в кабинете суперинтенданта Бойланда, шефа отдела по борьбе с наркотиками, ибо псевдо-Гарри Карвил был не кем иным, как инспектором Джеффри Поллардом.
— Говорят, вы отличились в схватке с констеблем Моррисом, Джеффри? Бедняга и не догадывался, в чем дело, — мы воздержались от предупреждений, чтобы он держался естественнее, — и в результате, по моим сведениям, парень так поработал дубинкой, что едва не вывел вас из строя?
— В следующий раз, будьте так любезны, предупредите, пожалуйста, всех действующих лиц, иначе я рискую начать расследование в больнице. Надеюсь, этот Моррис запишется на будущий чемпионат по боксу среди полицейских. Боже милостивый, да на мне живого места нет!
— Прекрасно. По крайней мере будет видно, что вам задали хорошую трепку в участке. А теперь, Джеффри, что, если вы перестанете скрытничать и расскажете, как идет расследование?
— Пока я не очень-то продвинулся, супер. Ясно одно: «Нью Фэшэнэбл», быть постояльцем которой мне выпала сомнительная честь, — один из центров снабжения. Там крутится слишком много народу. И достаточно взглянуть, что это за люди, — отребье!
— Хотите, организуем рейд?
— Ни в коем случае! Сэм Блум лишь мелкий посредник. А мне нужно докопаться до источника, до «зверя», ведущего всю крупную игру.
— И как вы собираетесь его искать?
— Точно еще не знаю, но одна мыслишка наклевывается. У Сэма есть племянница, состоящая с ним приблизительно в таком же родстве, как и со мной. Это Патриция Поттер, очаровательная молодая особа, певичка в «Гавайской пальме».
— А, в лавочке Джека Дункана?
— Вот именно.
— Ну, Джеффри, вот вам и ниточка. Дункан нам хорошо известен — он уже не раз сидел за торговлю наркотиками.
— Знаю. Но он парень не промах, тут надо брать с поличным. Я уверен: проведи мы сейчас самый тщательный обыск — ни пылинки не найдем.
— И что же вы предлагаете?
— Волей-неволей надо действовать через Сэма. Я уже несколько раз видел, как к нему приходила девчушка, по уши набитая наркотиками. Сэм при мне грубо вышвыривал ее за дверь. У бедняги явно больше нет денег, но я уверен, что она еще не раз явится туда. Можно будет проследить. Пока мне не хотелось обнаруживать излишнее любопытство. Я сам изображаю наркомана, и, думаю, небезуспешно — достаточно изучил эту публику. Жду, когда мне предложат услуги. Предложение может поступить либо от Сэма, либо от Эдмунда, гостиничного слуги. Бедняга готов сделать что угодно за гроши. Как видите, зацепка хорошая.
— Добро, Джеффри, но будьте осторожны. Вы ведь не хуже меня знаете — эти подонки не остановятся ни перед чем. Если вас раскусят, я недорого дам за вашу жизнь. Хотите, распоряжусь, чтобы Блисс и Мартин были у вас под рукой?
— Вряд ли это пойдет на пользу делу. Эти люди слишком недоверчивы, и при малейшем подозрении они меня выследят. Пусть лучше Блисс и Мартин наладят бесперебойное телефонное дежурство, чтобы я мог соединиться с ними в любое время дня и ночи.
— Рассчитывайте на меня.
Псевдо-Карвил явился на следующее утро в «Нью Фэшэнэбл» небритый, неумытый, в потрепанном костюме и грязной рубашке. С первого взгляда было видно, что человек провел ночь не в своей постели. Передавая ему ключ, Сэм заметил:
— Вчера вами интересовался легавый… Переписал формуляр, и мне пришлось позволить ему осмотреть ваши вещи. Я это говорю, чтобы вы не подумали…
— Сволочи все эти легавые… Я немного поцапался с одним из них, и меня до утра продержали в каталажке… я… я… мне чертовски нужно…
Блум заметил, что у его клиента сильно дрожат пальцы, и, когда тот замолчал, вкрадчиво осведомился:
— В чем же вы так нуждаетесь, мистер Карвил?
Инспектор сделал вид, будто готов признаться, но усилием воли заставляет себя сдержаться.
— В отдыхе, — пробормотал он.
— Ну так вот ваш ключ, мистер Карвил.
Да, это, конечно, наркоман, тут и сомневаться нечего, но еще недостаточно втянувшийся. Несмотря на инструкции, переданные Патрицией, Блум все-таки решил продать Карвилу несколько пакетиков порошка, разумеется, за изрядную сумму. Пусть только парень окончательно дозреет. Чего ради лишать себя выгодной сделки?
Через час мнимый Карвил спустился вниз.
— Не могу заснуть, — признался он. — Не знаю, что со мной…
— Вам нужно принять что-нибудь успокаивающее.
— Может быть, но его не так-то просто найти…
— О, способ наверняка найдется. В Сохо всегда можно отыскать все, что необходимо, но, разумеется, за соответствующую плату.
— Вопрос не столько в деньгах, сколько в том, чем рискуешь.
— Ну, мистер Карвил, тот, кто умеет выбрать верного человека, не рискует ничем.
— А вы знаете таких людей, мистер Блум?
— Могу навести справки, скажем так…
— Я был бы так вам обязан!
Разговор прервало появление девушки, о которой инспектор рассказывал суперинтенданту. Она как бы в полусне направилась к конторке Блума. Впалые щеки, постоянно подрагивающие руки, неверный шаг…
— Что вам здесь надо?! — завопил, увидев ее, Сэм. — Я вам уже сто раз говорил, у меня для вас ничего нет. Кажется, ясно?
— Но, мистер Блум, совсем капельку…
— Замолчите, сейчас же замолчите, черт бы вас…
— Мистер Блум, клянусь вам, я заплачу!
Сэм вскочил, схватил девушку за руку и с омерзительной грубостью вышвырнул за дверь. Инспектору пришлось напомнить себе о важности возложенной на него миссии, чтобы взять себя в руки и не броситься на Блума.
— Вот ведь пиявки! Честное слово, дай им волю, они бы высосали из меня все до последнего пенни. Вот что значит быть слишком добрым. — И с улыбкой, вызвавшей у инспектора жгучее желание надавать ему пощечин, хозяин гостиницы добавил: — Но в моем возрасте трудно с собой справиться.
Инспектору не терпелось броситься следом за несчастной девушкой, но ему важно было не возбудить у Сэма подозрений. Он поднялся, делая вид, будто не без труда удерживает равновесие.
— Я правда что-то очень неважно себя чувствую… Думаю, надо заставить себя немного пройтись. Может, это хоть отчасти освежит мне голову…
— Ладно… Но если все же ничего не выйдет, приходите посоветоваться со мной, мистер Карвил. Вы мне нравитесь, а я не люблю оставлять в беде хорошего человека.
К счастью для инспектора, девушка отошла от гостиницы всего на несколько шагов. Возможно, она еще надеялась как-то умолить Сэма Блума. Полицейский увидел, что она, поколебавшись, сделала было движение в сторону гостиницы, намереваясь вернуться туда, но тут же, одумавшись, нетвердым шагом побрела прочь. Он пошел следом. На каждом повороте девушка читала названия улицы. По-видимому, она знала, куда идет. Так, один за другим, они вышли на Бродвик-стрит, и там девушка вошла в дом, на котором висела табличка, извещавшая, что здесь живет доктор Хиллари Эдэмфис. Инспектор вошел следом, также позвонил в дверь и, оказавшись в зале ожидания, с облегчением обнаружил там ту, за которой следил. Когда подошла очередь девушки, она вскочила, едва доктор открыл дверь в кабинет, и, входя, почти оттолкнула его. Врач, казалось, несколько удивился, но он, очевидно, привык к странностям больных и не выказал ни малейшего неудовольствия. Эта сценка позволила Полларду получше рассмотреть врача. Красивый мужчина лет шестидесяти, с приятным серьезным лицом — явно из тех, кому, не колеблясь, поверяют все свои трудности, даже если признание стоит некоторого труда.
Когда врач вернулся в зал ожидания, инспектор откликнулся на приглашение войти, считая, что наверняка больше узнает о молодой наркоманке от обследовавшего ее врача, чем если просто отправится следом за ней. К тому же, раз девушка так упорно возвращается в «Нью Фэшэнэбл», значит, не знает, где еще можно добыть наркотики.
Врач усадил инспектора в кресло напротив себя.
— Вы пришли ко мне впервые, не так ли? — спросил он.
— Да, я здесь в первый раз, доктор.
— Назовите, пожалуйста, ваше имя.
Вместо ответа инспектор показал удостоверение Ярда. Эдэмфис долго рассматривал его, прежде чем задать следующий вопрос.
— Ваш визит вызван профессиональным интересом или?..
— Профессиональным.
— А-а-а…
— Я бы хотел, чтобы вы все рассказали мне о девушке, которая только что от вас ушла.
— Мисс Банхилл?
— Я не знаю ее имени. Спасибо, что вы мне его назвали. Не могли бы вы также дать мне ее адрес?
— Сент-Аннс-роуд, сто двадцать четыре.
— Это в Ноттинг-Хилле?
— Да, именно там. А могу я, в свою очередь?..
— На что она жаловалась?
— Вы должны понять, инспектор, что врачебная тайна…
— Какие могут быть врачебные тайны, когда речь идет о наркоманке, доктор?
— А, так вам это известно?..
Полицейский, не таясь, рассказал доктору Эдэмфису, как и где он встретил мисс Банхилл.
— Видимо, она не может достать наркотики. Что она вам сказала?
— Правду. Но это не такой уж тяжелый случай. Мисс Банхилл еще не успела как следует втянуться, и, думаю, если она доверится мне, я смогу вытащить ее из этого ада. Пока я дал ей успокоительное. Девушка должна снова прийти сюда завтра. Но придет ли? Если вы знаете наркоманов, инспектор, то вам не надо объяснять, как резко у них меняется настрой. Достаточно какой-нибудь подружке бесплатно предложить дозу — и все благие намерения пойдут прахом. Тут уж ни вы, ни я ничего не сможем поделать.
— Она не сказала, кто снабжал ее наркотиками?
— Нет, да я и не спрашивал, чтобы не спугнуть.
— Доктор, почему она пришла к вам?
— Не понимаю.
— Почему она выбрала именно вас? Или это случайность?
— В Сохо многие знают, что я все время борюсь с наркоманией. Наверное, ей об этом рассказали.
— И давно вы уделяете особое внимание наркоманам, доктор?
— С тех пор, как умерла моя дочь…
— Прошу прощения, но…
Доктор Эдэмфис сурово взглянул на инспектора.
— Руфь стала для меня всем, после того как я потерял ее мать. Как все отцы на свете, я считал ее лучшей из всех. Она училась в университете, и я гордился ее успехами, ее внешностью, ее знаниями. Но у меня почти не было времени наблюдать за ней, направлять, давать какие-то советы. Руфь мало бывала вне дома… Она собиралась преподавать восточные языки и очень много занималась. Как я гордился своей маленькой Руфью! А потом однажды заметил, что она худеет, а в глазах появился лихорадочный блеск. Я спросил, в чем дело, и впервые столкнулся с необычной сдержанностью, почти враждебностью… Я не стал настаивать, ограничился наблюдениями и тогда обнаружил, что она почти перестала есть. Я было рассердился, но натолкнулся на непроницаемую стену. Понимаете, инспектор, моя маленькая девочка ощетинилась против меня, как враг! Я был так поражен, так сбит с толку, что, помнится, в тот вечер просто встал из-за стола и ушел в свой кабинет, ожидая, что Руфь прибежит просить прощения. Но она не пришла.
У врача вырвался вздох, похожий на глухое рыдание, а полицейский в смущении не осмеливался вставить ни слова.
— Простите, но для меня эта драма все еще свежа, все еще причиняет боль… Вы догадываетесь, о чем я подумал в первую очередь, опять-таки как все отцы. Я попробовал вызвать Руфь на доверительный разговор, уговаривал, что она может все мне рассказать и, что бы она ни сделала, всегда найдет во мне друга… и что я меньше всего хочу, чтобы она отправилась за помощью к какому-нибудь шарлатану. Она изумленно посмотрела на меня, а потом воскликнула: «Уж не воображаешь ли ты, что я жду ребенка?» Руфь рассмеялась каким-то странным, истерическим смехом и, не сказав больше ни слова, вышла. Я не понял, в чем дело, инспектор, и, однако, мне показалось, что такой смех я уже явно когда-то слышал. Но где и когда? Только через два дня, разбирая старые бумаги, касавшиеся моей первой практики в больнице, я донял — подобный смех я действительно слышал, так смеялась одна наркоманка. И тут уже в памяти всплыли все явные симптомы этой болезни. Моя дочь колется! Это было для меня страшным ударом… нечеловеческим!.. Когда я сказал ей, что знаю, в чем дело, дочь повела себя вызывающе, инспектор. Руфь уже не была моей маленькой девочкой… Та исчезла, и я даже не заметил, как… Я потерял дочь, не сразу осознав, что случилось. Можете вы представить себе весь ужас моего положения?
— Но как врач вы не могли бы?..
— Я испробовал все, инспектор: дезинтоксикацию, общее лечение, психоанализ, переезд в другую страну — ничто не помогало. Стоило ей выйти из больницы, и Руфь тут же принималась за свое. Я не давал ей денег, но она все-таки доставала наркотики — какими способами, я даже не осмеливаюсь вообразить… Время от времени, однако, она снова становилась моей прежней Руфью, умоляла спасти ее, мы плакали в объятиях друг друга, я снова начинал верить в возможность исцеления, но на следующий день все возвращалось на круги своя…
— И… она умерла?
— Да… ее нашли в комнате, за баром… Руфь отравилась. Может быть, в момент трезвости рассудка ей вдруг стало нестерпимо стыдно за то, чем она стала, и этот стыд оказался непреодолимым?..
Глядя на искаженное страданием лицо старого врача, инспектор испытывал бесконечную жалость.
— И с тех пор вы лечите наркоманов?
— Да… особенно девушек, молодых женщин, потому что в них я вижу Руфь… Пытаясь спасти эти человеческие обломки, я каждый раз надеюсь уберечь Руфь от ее чудовищного падения. Ну вот хотя бы эта крошка, которая только что была здесь… Мне казалось, это моя дочь пришла доверить мне свою муку… Так что вы можете рассчитывать, я сделаю все… возможное…
— Благодарю вас, доктор. Но если вы привязаны к жертвам, то мое дело — бороться с теми, кто ответствен за их страдания. Я обязан лишить этих мерзавцев возможности причинять вред.
— Это очень трудно.
— Ничего, мы привыкли к сложным задачам.
— Мужества вам, инспектор, и еще — большой удачи.
— Что касается мужества — то, что вы мне сейчас доверили, только прибавило мне его.
— В таком случае я счастлив, что вам пришло в голову пойти за этой девушкой.
Инспектор решил, что мисс Банхилл должна чувствовать себя сейчас не блестяще и, следовательно, самое время попробовать получить от нее сведения, которые могли бы натолкнуть его на след крупных воротил. Поллард поймал такси и направился прямиком в Ноттинг-Хилл. Дом сто двадцать четыре по Сент-Аннс-роуд выглядел далеко не дворцом. Наркоманы мало заботятся об удобствах, поскольку большую часть времени проводят в мирах иных. Маленькая, бесцветная, как бы вылинявшая женщина, назвавшаяся домовладелицей, соблаговолила сообщить инспектору, что мисс Банхилл только что вернулась домой, но сочла нужным заметить, хихикнув, что состояние мисс Банхилл показалось ей не особенно располагающим к беседе.
Дверь комнаты не была заперта, и, поскольку ответа на стук не последовало, инспектор вошел. Запущенная комната. Повсюду валяются неубранные вещи, рядом с плитой — гора грязной посуды. Тяжелый, спертый воздух, пропитанный запахом кухни, свидетельствовал, что окно здесь открывается крайне редко. Что касается хозяйства, то, очевидно, никого не волновало, ведется оно или нет. Полицейский сразу узнал эту отвратительную беззаботность жертв наркотиков, теряющих всякое представление о человеческом достоинстве и не способных думать о чем-либо, кроме возможности снова впасть в подобное смерти, но зато успокаивающее забытье, которое несут с собой укол или горсть таблеток. Мисс Банхилл спала на разобранной постели одетая, даже не потрудившись снять башмаки. Но сон ее оказался гораздо менее глубок, чем можно было предположить, поскольку, почувствовав чье-то постороннее присутствие, девушка тут же открыла глаза. Сначала ее тусклый взгляд бессознательно скользнул по лицу Полларда, не задерживаясь, потом снова остановился на нем, и крохотные зрачки расширились. Мисс Банхилл попробовала приподняться, но ей это не удалось, и инспектору пришлось помочь девушке сесть.
— Что вам тут у меня надо? — с трудом выдавила она.
— Я вошел, потому что вы не ответили на мой стук, а дверь не была заперта.
— И чего вы от меня хотите?
— Поговорить.
— О чем?
— О наркотиках.
Мисс Банхилл подозрительно осмотрела инспектора с головы до ног и недоверчиво спросила:
— Вас послал Сэм?
— Нет.
— Вот как! А впрочем, плевать… У меня нет денег, а сама я не настолько аппетитна, чтобы вы согласились на другой вид оплаты. Так ведь?
— Значит, вы уже и до этого дошли, мисс Банхилл?
Она долго и непонимающе смотрела на него.
— Вы… не собираетесь… предложить мне… товар?
— Нет.
— Тогда я не понимаю.
— Я из полиции, мисс Банхилл.
Девушка содрогнулась от ужаса.
— Вы хотите меня забрать?
— Нет.
Поллард уселся у изголовья кровати.
— Послушайте-ка меня, мисс Банхилл. Я здесь не для того, чтобы добавить к вашим страданиям новые, я хочу попробовать спасти вас.
Она пожала плечами.
— Слишком поздно.
— Ошибаетесь. Сколько вам лет?
— Двадцать четыре.
— И вы, конечно, считаете себя старухой?
— Я на самом деле стара.
В ответе не слышалось ни малейшей иронии, а, напротив, убежденность, поразившая инспектора. И ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжить разговор.
— Не говорите глупостей! Уверяю вас, если вы захотите помочь мне, я вас вылечу, и вы снова станете такой же девушкой, как другие.
Она тихонько, беззвучно заплакала.
— Если бы только это было правдой…
— Так и будет, только надо меня слушаться. Как вы пришли к этому, мисс Банхилл?
Она, почти не колеблясь, рассказала Полларду свою историю, похожую на сотни других, уже слышанных им раньше. Безработица, одиночество, бары, вкус к легкому на вид существованию, а потом однажды — тоскливый вечер, когда, вдруг протрезвев, подводишь итоги и видишь такой жалкий результат, что испытываешь непреодолимое желание покончить счеты с жизнью. Тут появляется сердобольный друг и заявляет, что враз приведет вас в чувство — и всего-то одним пустяковым уколом. Вы, конечно, относитесь к этому скептически, но соглашаетесь, потому что раз уж решили умереть, то не все ли равно… И — о чудо! Наркотик оказывает волшебное действие. Все, что вас только что угнетало, кажется теперь пустяком, и вы снова верите в возможность жить. Но потом депрессия возвращается, и вы идете к услужливому другу, который на сей раз «вынужден» взять за укол деньги. Попались. И дальше вы уже не можете обходиться без наркотика, денег нет и так далее. И все это кончается проституцией, самоубийством или больницей.
Случай мисс Банхилл ничем не отличался от других. Поллард говорил долго, наступила ночь, а он все выискивал новые аргументы, способные побороть страх и неуверенность. Инспектор сумел найти верные слова, и в конце концов мисс Банхилл признала, что двадцать четыре года — еще не старость и что, выздоровев, она сможет прожить нормально еще много-много лет. Наконец девушка решила довериться Полларду и поехать с ним в больницу, где ее начнут лечить.
— А теперь, мисс, на примере того, что сделали с вами, попробуйте понять, как преступны люди, зарабатывающие деньги, много денег, на больных, ставших больными по их милости!
— Да, это гнусно!
— Они язва нашего общества. Вы должны помочь мне лишить их возможности творить зло. Кто доставал для вас наркотики?
— В первый раз?
— Да.
— Один знакомый… это не имеет значения. Сейчас я знаю, что он сам торчок. Его зовут Джон Уилби. Он, кажется, жил где-то в районе Хэмпстеда…
— Ну а потом кто вас снабжал и прикарманивал ваши деньги?
— Сэм Блум.
— Ну, этот-то точно окончит свои дни за решеткой. Но я уверен, что Сэм — только мелкая сошка. Вы не знаете, кто стоит за ним?
— Вы имеете в виду его хозяев?
— Да.
— Не знаю, но несколько раз я видела, что к Сэму приходил шикарный мужчина и говорил с ним так, как может говорить только большой босс.
— А имени его вы не знаете?
— Нет, но я думаю… знаете, я не могу утверждать точно, но, кажется, это владелец кабаре «Гавайская пальма».
Полларду захотелось расцеловать девушку, которая, сама того не подозревая, подтвердила его предположения. Элегантно одетый тип, конечно же, Джек Дункан, и все это прекрасно увязывается с визитами лжеплемянницы Сэма, Патриции Поттер, официальной любовницы Дункана.
— Мисс Банхилл, вы самая удивительная девушка, какую я когда-либо встречал! Прежде чем отправиться в больницу, мы заедем в Ярд и вы подтвердите суперинтенданту Бойланду все, что рассказали мне. Согласны?
— Согласна.
Поллард протянул руки, чтобы помочь девушке встать, но насмешливый голос приковал его к месту:
— Зато я против!
Отпустив мисс Банхилл, инспектор обернулся, но неизвестный включил свет, и Поллард вынужден был на мгновение закрыть глаза. Открыв их, он увидел перед собой мужчину, державшего в руке пистолет с глушителем.
— Не делайте глупостей, Питер!
— Глупость сделал ты, грязный шпик! А вот тебе, крошка, лучше было бы держать язык за зубами!
Не в силах шевельнуться или крикнуть, мисс Банхилл с ужасом смотрела то на Питера Дэвита, то на его правую руку. Поллард попытался остановить убийцу, разыгрывая полное спокойствие.
— Вы так спешите затянуть веревку на собственной шее, Питер?
— Да что вы говорите?!
— Неужели вы не знаете, что мы уже добрались до «Гавайской пальмы»?
— Ну-ну!
— Только что, выйдя от Блума, я звонил суперинтенданту и дал ему нужные сведения.
— А вот это уже нехорошо, совсем нехорошо… однако спасибо за информацию.
Инспектор, надеясь на свою счастливую звезду, неожиданно бросился на Питера, но тот держался настороже и тут же выстрелил. Получив пулю в лоб, Поллард упал лицом вниз. Мисс Банхилл зажала рот рукой, сдерживая рвущийся из горла крик. Убийца улыбнулся.
— Спокойно, крошка. Одним легавым меньше — ни тебе, ни мне от этого хуже не будет, а? А теперь, чтобы забыть все это, ничего нет лучше укольчика, ведь так?
— Я… я не хочу!
— Ладно, красотка, не создавай сложностей. Ты отправишься в страну снов, а когда проснешься, я уже очищу комнату от всего лишнего, и ты ни о чем не вспомнишь. Ну разве это не чудо?
Девушка почти сразу решилась. Она чувствовала, что укол даст ей возможность впасть в забытье, которого она изо всех сил жаждала столько времени. Правда, при мысли об искусственном покое мисс Банхилл вздохнула. Но как иначе не думать об этом, таком милом человеке, которого только что убили у нее на глазах? Девушка легла и засучила рукав.
— Я рад, что ты приняла разумное решение, крошка, и в награду, когда у тебя не будет денег, приходи ко мне в «Гавайскую пальму», я все устрою.
Он перетянул жгутом протянутую руку, достал из кармана шприц и, когда вена вздулась, ввел иглу. Девушка в ожидании закрыла глаза. Тогда, резко сорвав жгут, Питер Дэвит надавил на поршень. Но в шприце ничего не было…
Убийца спокойно распрямился, вытер шприц своим платком и положил на стол. Глядя на лицо мисс Банхилл, он прошептал:
— Жаль…
Только теперь Питер услышал легкий шорох в коридоре. Одним прыжком он метнулся к стене и встал так, чтобы дверь, отворившись, скрыла его от постороннего взгляда. В дверь постучали. Еще раз. Створка приоткрылась…
— Мисс Банхилл, мне послышалось… О Господи Боже!
Домовладелица как громом пораженная смотрела на распростертое на полу, головой в луже крови, тело полицейского. Она механически шагнула вперед и получила такой удар по затылку, что мгновенно потеряла сознание. Прежде чем уйти, Питер позаботился выключить свет.
Машина Питера Дэвита стояла довольно далеко от дома мисс Банхилл. Никто не заметил, как он сел за руль и спокойно отправился в «Гавайскую пальму». Джек Дункан и Патриция Поттер ждали его в кабинете директора.
— Ну? — тут же спросил красавец Джек.
Убийца, удобно устроившись в кресле, ограничился весьма лаконичным ответом:
— Поручение выполнено… Я бы сейчас с удовольствием пропустил стаканчик.
— Вас никто не видел?
— Уж не принимаете ли вы меня случаем за новичка?
— Ладно, не кипятись.
— Подробности? Легавый вздумал разыгрывать героя, ну я и отправил его продолжать представление пред очи Великого Фокусника.
— А девчонка?
— Последовала за ним в лучший мир.
Патриция вскочила.
— Вы убили эту девочку?
— Ну и что? Вас это шокирует?
— Вы подлец!
Джек встал и дважды ударил Патрицию по лицу.
Удерживая жгучие слезы, мисс Поттер в упор посмотрела на Дункана.
— Не мудрено, что вы так прекрасно ладите друг с другом! Оба одинаковые трусы и негодяи! Бить женщин, убивать беззащитных или в спину — вот ваши подвиги! И еще считаете себя мужчинами!
Новая пощечина заставила Патрицию замолчать, а Джек тем временем почти ласково ей выговаривал:
— Вы становитесь слишком болтливы, Патриция, и это начинает мне не нравиться. Если вам не по вкусу жить так, как вы живете здесь, я в любой момент могу найти ангажемент в одном из пансионов, принадлежащих моим друзьям в Ливерпуле или в Кардиффе… Отличная клиентура — матросы! Вы, несомненно, будете иметь большой успех!
Угрозы Дункана вызвали у молодой женщины дрожь омерзения. Не говоря ни слова, она направилась к двери и, обернувшись на пороге, смерила обоих мужчин оценивающим взглядом: Джек выглядел более породистым, Питер — грубее, но в обоих было что-то от хищных зверей одной масти.
— Когда-нибудь вы все-таки заплатите за свои преступления, и в тот день я буду долго и от души смеяться.
— Если будете еще в состоянии, дорогая!
— Что на нее нашло? — спросил Питер, едва Патриция скрылась.
— Девочка слишком чувствительна.
— Лучше бы ей молчать.
— Она и будет молчать.
— Не уверен.
— Патриция — это мое дело, Питер. Считайте, что я вас предупредил. Мне было бы неприятно прибегать к напоминаниям.
— Ладно… Ах да, чуть не забыл. Перед тем как отдать душу дьяволу, легавый сказал, что Ярд положил на нас глаз.
— Я об этом догадывался.
— И еще: готовится рейд.
— Ерунда. Они ничего не найдут.
— Если тот тип не бредил, мы увидим этих джентльменов, как только обнаружат тело.
— Встретим их как обычно — с улыбкой. Я дам приказ Тому не пускать ни одного торчка, а уж он-то узнает их безошибочно — сам когда-то был таким…
— Да? А я и не знал.
— Я не обязан докладывать вам обо всем, Питер. Единственное, что меня сейчас волнует, — это чтобы ни одна ниточка не привела к вам.
— Ну, тут можете быть спокойны.
Питер Дэвит ошибался.
А ошибался он потому, что как только хозяйка дома, где жила несчастная мисс Банхилл, пришла в себя, ее душераздирающие крики переполошили весь дом и возбудили любопытство констебля Мак-Говерна, обходившего квартал. Меньше чем через полчаса суперинтендант Бойланд узнал о смерти инспектора Джеффри Полларда и немедленно вызвал его коллег Блисса и Мартина. Бойланд был человеком хладнокровным — никто не помнил, чтобы он хоть раз повысил голос. Гнев его хоть и не выражался бурно, но был еще более страшен. Бледный, с подергивающимся от нервного тика лицом, суперинтендант объявил подчиненным о своем твердом намерении отомстить за Полларда и поклялся, что схватит убийцу Джеффри, сколько бы времени ни ушло на поиски. Блисс и Мартин настолько верили в Бойланда, что им и в голову не пришло усомниться в возможности успеха.
Инспектор Мартин допрашивал владелицу дома мисс Банхилл. Та лежала вся забинтованная и, причитая, уверяла, будто удар по голове что-то «сломал в мозгу». Но инспектора это, видимо, не волновало, и тогда она, всхлипнув, стала вслух размышлять о том, что просто чудом не оказалась третьей бездыханной жертвой в комнате мисс Банхилл. Мартин терпеливо слушал. Приехав на место, он распорядился немедленно увезти тело Полларда, а медэксперт тут же на месте зафиксировал у мисс Банхилл признаки хронической наркомании. По его заключению, полицейский был убит выстрелом в голову, а мисс Банхилл умерла от инъекции воздуха в вену левой руки. Мартин в свою очередь поклялся, что не уйдет в отпуск, пока не отправит убийцу на виселицу. В конце концов под градом вопросов домовладелица была вынуждена вернуться к реальности и припомнить, что слышала, как мужской голос в комнате мисс Банхилл крикнул: «Не делайте глупостей, Питер!» Она услышала это, когда была на нижней площадке лестницы, и очень удивилась. А потом она ставила банки старой мисс Крампетт, больной гриппом, и уловила какие-то странные шорохи наверху. Любопытство заставило почтенную даму пойти наверх. Но в ее-то возрасте, да еще при астме, можно ли идти быстро? Пришлось останавливаться и переводить дух на каждой ступеньке. А дальше она помнит только, как открыла дверь, увидела два трупа и потеряла сознание от такого страшного удара, что ей показалось, будто голова провалилась в грудную клетку.
То, что помощника Дункана, на личности которого после сообщения Полларда шефу сконцентрировалось внимание полиции, зовут Питером, заметил инспектор Блисс. В кабинете ненадолго воцарилась тишина. Потом суперинтендант Бойланд тихо произнес:
— Благодарю вас, Блисс. Нынешней ночью я сам возглавлю рейд в «Гавайскую пальму».
Когда Питер Дэвит вошел в «Нью Фэшэнэбл», Сэм Блум с меланхоличным видом подсчитывал прибыли. Сэм боялся и не любил Питера. Но он заставил себя улыбнуться.
— Привет, Питер!
Однако от ледяного взгляда убийцы у Сэма холод прошел по позвоночнику.
— Мистер Дэвит, Блум, не забывайте!
— Х-хорошо, х-хорошо, мистер Дэвит!
— Мы с Джеком не очень довольны вами.
— Это… это невозможно, мистер Дэвит!
— Уж не хотите ли вы сказать, что мы лжем, Сэм?
— Нет! О нет, мистер Дэвит!
— Что это за тип тут у вас поселился? Некто Карвил?
— Карвил? Торчок на кумаре.
— И вы ему собирались продать кое-что?
— Со всеми обычными предосторожностями, мистер Дэвит.
В ту же секунду кулак Дэвита врезался Сэму в переносицу. Ослепнув от слез, в полной панике, Блум задыхался от боли, но прежде чем он упал, убийца Полларда сгреб его за манишку, так что ткань порвалась, и, приблизив лицо к перепуганной физиономии хозяина гостиницы, рявкнул:
— Знаешь настоящее имя Карвила?
— Нет!
— Поллард! Инспектор Джеффри Поллард!
— Со… создатель!
Питер отшвырнул Сэма, и тот вцепился в край конторки. Страх перед полицией оказался сильнее боли.
— Что… что он искал у меня?
— А ты совсем не догадываешься?
— Но вчера он ночевал в участке!
Дэвит бросил на Блума презрительный взгляд и пожал плечами.
— Болван! Ты не дал ему никакого, хоть крошечного, намека, который мог бы потянуть след к нам?
— Клянусь вам, нет!
— Ради тебя же надеюсь, что это правда, Сэм!
— И что же мне делать, мистер Дэвит, когда эта сволочь вернется?
— Он никогда не вернется.
Блум с трудом проглотил слюну.
— А?
— Да, кстати. Крошка Джанет Банхилл тоже больше не придет сюда. Еще одна ошибка такого рода, Блум, — и ты сам уже никогда не сможешь никуда пойти. Привет!
Вскоре после ухода Питера Эдмунд, не говоря ни слова, положил на стол, прямо перед носом хозяина, вечернюю газету с фотографиями Полларда и мисс Банхилл. Сэм понял, что Питер Дэвит отнюдь не блефовал, и почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Он прихватил с собой бутылку виски и пошел к себе наверх.
Около восьми часов вечера Бойланду сообщили, что некий доктор Эдэмфис хочет видеть полицейского, расследующего убийство инспектора Полларда и мисс Банхилл. Суперинтендант приказал провести врача к нему.
Доктор Эдэмфис рассказал, что инспектор Поллард приходил к нему в середине дня сразу после мисс Банхилл и что это он сообщил полицейскому имя и адрес своей пациентки. Теперь, узнав, как развернулись события, он об этом сожалеет.
— Поллард погиб, исполняя свой долг, доктор, — успокоил его суперинтендант. — Мы все скорбим о нем — это был настоящий парень. Но вам не в чем упрекать себя, напротив. Благодаря вам мы, быть может, скорее схватим убийцу.
— Я был бы счастлив, окажись это так. Ваш коллега мне очень понравился, и я обещал помочь ему, чем только смогу.
— Благодарю вас, доктор, и прошу, чтобы эту помощь вы теперь оказали нам. Вы ведь лечите в основном наркоманов?
— Не то чтобы в основном, но в Сохо знают, что в случае крайней нужды я могу выручить, не говоря никому об этом ни слова.
— Почему?
Эдэмфис рассказал о судьбе своей дочери, и суперинтендант понял, что врач принял на себя поистине апостольское служение.
— Я вам признателен за доверие, доктор. Однако вы должны знать, что мы, в Ярде, не можем смотреть на это под тем же углом зрения. Для нас главное — схватить торговцев наркотиками, которых я считаю самой гнусной разновидностью преступников.
— Понимаю, но и вы должны согласиться, что судьба доверившихся мне больных для меня важнее, чем наказание виновников их несчастий.
— Конечно. Но прошу вас, подумайте, ведь уничтожить этих мерзавцев — тоже способ помочь вашим больным, и, главное, это значит спасти тех, кто рискует стать новыми жертвами. Поэтому, если случайно вы узнаете что-нибудь такое, что может навести нас на след, умоляю вас не колеблясь сообщить об этом. Не думаю, что своей просьбой я вынуждаю вас хоть в малейшей мере нарушить профессиональный долг.
Прежде чем ответить, доктор Эдэмфис на мгновение задумался.
— Я тоже так не думаю, — сказал он наконец.
Когда Патриция Поттер в строгом черном платье с глубоким вырезом и бриллиантовой брошью на левом плече пела «Жизнь в розовом свете», Том позвонил в кабинет Дункана и сообщил, что, судя по внезапному оживлению в окрестностях кабаре, полицейская облава, должно быть, на подходе.
— Спасибо, Том. В заведении наркоманов нет?
— По правде говоря, не думаю, чтоб были, патрон. Я вышвырнул штук двадцать… Если кое-кто и просочился, значит, у них нет никаких признаков, по которым их могли бы засечь легавые.
— О'кей, Том. И полное хладнокровие, а?
— Можете на меня положиться, патрон.
Джек повесил трубку и невозмутимо сообщил Питеру:
— Фараоны.
— Здесь?
— Идут.
Дэвит встал.
— Пойду встречать.
Убийца появился в вестибюле в тот момент, когда Бойланд, резко отстранив Тома, делавшего вид, будто пытается его задержать, вошел в кабаре в сопровождении Блисса и Мартина. Одновременно дюжина полицейских, согласно приказу, оцепила все выходы. Это вторжение вызвало некоторое замешательство среди клиентуры, но суперинтендант по улыбке бармена понял, что облаву ожидали и найти ничего не удастся. Быстрый взгляд на завсегдатаев и случайных посетителей подтвердил, что среди них нет ни одного хронического наркомана. Все это попахивало тщательно продуманной инсценировкой.
Оставив подчиненных проверять бумаги слушателей Патриции Поттер, суперинтендант поднялся в кабинет Дункана. Тот встретил его с иронической любезностью:
— Меня только что предупредили о вашем приходе, суперинтендант. Иначе я сам встретил бы вас.
Бойланд терпеть не мог такого рода юмора.
— Довольно, Дункан!
— Что-нибудь не в порядке, суперинтендант?
— Не делайте из меня идиота! Нам обоим отлично известно, что вы крупнейший из торговцев наркотиками в Сохо.
Дункан нисколько не смутился.
— Вам повезло, что мы разговариваем без свидетелей, супер. Иначе это заявление принесло бы мне кругленькую сумму в виде возмещения за причиненный моральный ущерб…
— Думаю, что в один прекрасный день оно принесет вам изрядное число лет заключения.
— Сомневаюсь.
— Разве что вы попадете на виселицу.
— За торговлю наркотиками?
— Нет, за убийство инспектора Полларда!
— Вот так новость!
— Вы напрасно смеетесь надо мной, Дункан. Придет час, когда я заставлю вас дорого заплатить за это, очень дорого.
— У меня такое впечатление, что вы выдаете желаемое за действительное, мистер Бойланд. Могу ли я осведомиться о причине вашего визита?
— Наркотики.
— Так ищите их где угодно и сколько угодно. Надеюсь, после обыска ваше предубеждение против меня рассеется.
— Убирайтесь отсюда, Дункан, и живо.
— Позвольте вам напомнить, что я нахожусь у себя.
— Пожалуйста. И что дальше?
— Ничего… Уступаю вам место.
— И пошлите ко мне мисс Поттер.
Дункан прочувствовал удар.
— Чего вы от нее хотите?
— Это вас не касается.
— Ах нет, позвольте…
— Не позволю!
Дункан весь подобрался, как для прыжка, но взгляд Бойланда заставил его подчиниться. Желая хоть как-то успокоить уязвленное самолюбие, он небрежно заметил:
— Я повинуюсь, супер, лишь потому, что вы олицетворяете Закон, но посоветовал бы вам…
— Я не спрашиваю совета у бандитов, Дункан!
На бледном лбу хозяина «Гавайской пальмы» заблестели капельки пота. Он так сжал челюсти, что почувствовал, как их сводит от боли, но все-таки сумел спокойно проговорить:
— Вам бы очень хотелось, чтобы я на вас набросился, правда?
— Да, действительно, это доставило бы мне большое удовольствие.
— Вам так не терпится засадить меня за решетку?
— Нет… я бы убил вас, Дункан. Видите ли, от некоторых приемов спасения нет, и мне они известны.
Джек, ничего не ответив, вышел.
Суперинтендант видел Патрицию Поттер только на фотографиях. Он нашел, что она не только красива, но и прекрасно держится. В ее манерах, в тембре голоса, в выборе выражений была какая-то утонченность.
— Вы хотели меня видеть, сэр?
— Как поживает ваш дядя, мисс Поттер?
Девушка явно не ожидала подобного вопроса и смутилась.
— Мой дядя? — машинально повторила она.
— Да, эта милая старая гнида Сэм Блум?
Патриция покраснела и в полном замешательстве пробормотала:
— По правде говоря, Сэм мне не дядя.
— Вот удивительно!
Однако в тоне полицейского звучала скорее насмешка, чем изумление. И Патриция это тут же уловила.
— Сэм был очень добр ко мне, когда я приехала в Лондон, поэтому я и привыкла называть его дядей. Глупо, правда?
— Ладно бы глупо, но это еще и вранье!
— Однако, сэр…
— Прекратим игру, мисс Поттер. Откуда вы приехали в Лондон?
— Из небольшого села близ Уэлшпула… Я из Уэльса. Мои родители — фермеры.
— Значит, остаться в деревне и выйти замуж за фермера вы не захотели?
— Нет.
— Жаль. Сколько вам лет, мисс Поттер?
— Двадцать три.
— Мне на двадцать пять больше, и это позволяет сказать вам, ради вашего же будущего, что лучше бы вы вышли замуж за простого батрака, чем жить с Дунканом, который в лучшем случае окончит дни в тюрьме.
Мисс Поттер восприняла эти слова далеко не так, как ожидал супер.
— Я это поняла всего несколько часов назад.
— Почему несколько часов? Говорите, мисс Поттер! Прошу вас! Вы можете очень облегчить нашу задачу.
В ответ она прошептала:
— Я ничего не знаю, сэр, ничего… и я не хочу умирать.
— Но…
Патриция поднесла палец к плотно сжатым губам и кивком указала суперинтенданту на дверь. Тот одним прыжком подскочил к двери и резко дернул ручку на себя. Подслушивавший разговор Питер Дэвит едва не растянулся посреди комнаты. Полицейский повернулся к молодой женщине и ледяным тоном произнес:
— Я просто поражен, что здесь так плохо ведется хозяйство и что в заведении такого класса прямо за дверью валяются отбросы!
Дэвит в ярости надвинулся на суперинтенданта.
— Ну, вы…
Питера пригвоздило к месту скорее удивление, чем боль от пощечины, которой от души наградил его Бойланд.
— Я не позволю, чтобы со мной разговаривали в таком тоне, — отчеканил полицейский.
И, не обращая больше внимания на Дэвита, Бойланд повернулся к певице:
— До свидания, мисс Поттер… И это не просто формула вежливости.
Как только Патриция вышла, суперинтендант взял шляпу и тоже направился к двери.
— Ну а я? — почти закричал Дэвит. — Меня вы не хотите допросить?
Полицейский смерил его взглядом.
— К чему терять время?
— Но…
— Я отлично знаю: это вы убили инспектора Джеффри Полларда, за что и будете повешены. Тут всего-навсего вопрос времени. Известно мне также, что вы убили мисс Банхилл… Этого более чем достаточно — надеюсь, вы отдаете себе в этом отчет, — чтобы однажды утром палач набросил вам на голову черный капюшон, а потом затянул на шее петлю… Воспользуйтесь же днями, которые у вас остались. Дэвит.
— У вас нет доказательств! — счел нужным возразить встревоженный убийца.
— Вам следовало убить заодно и хозяйку дома, где жила мисс Банхилл. Вы сделали непростительную ошибку, Дэвит. И исправить ее невозможно — если с этой женщиной что-нибудь случится, вы подпишете свой смертный приговор. До скорого.
Сам того не подозревая, инспектор Бойланд этим последним замечанием насчет дамы с Сент-Аннс-роуд спас жизнь Сэму Блуму, в котором Питер уже начал было подозревать возможного иуду.
Естественно, несмотря на то что обыск был проведен самым тщательным образом, полиция не обнаружила в «Гавайской пальме» даже намека на наркотики. В течение трех месяцев за кабаре велось пристальное наблюдение, а потом, поскольку Ярд не располагал лишними людьми и не мог позволить себе до бесконечности тянуть дело, в котором не появилось ни малейшего просвета, хочешь — не хочешь пришлось ослабить хватку. Четыре месяца спустя стало очевидно, что Дункан и Дэвит, сознавая нависшую над ними опасность, либо ограничиваются доходами с кабаре, либо куда хитрее тех, на ком лежала обязанность поймать их за руку. И это последнее предположение было ближе к истине, поскольку наркотики продолжали распространяться в Сохо с прежней интенсивностью. Наконец пришел день, когда суперинтендант Бойланд вызвал к себе в кабинет инспекторов Блисса и Мартина.
— К сожалению, придется оставить Дункана и Дэвита в покое, — сообщил он. — Я получил приказ.
Блисс, отличавшийся бурным темпераментом, взорвался:
— Значит, эти сволочи выйдут сухими из воды?
Суперинтендант пожал плечами.
— Там, наверху, решили, что мы напрасно теряем время.
— Если бы не жена и малыш, я бы подал в отставку! — в ярости прорычал Блисс.
— Ну, Блисс, не надо так переживать. Мы должны подчиниться. Я знаю, это не всегда весело, а порой кажется и вовсе несправедливым, но приказы есть приказы, и, поступая сюда на работу, мы обязались их выполнять. Раз там считают, что мы зря тратим время, следя за Дунканом и Дэвитом…
Даже миролюбивый
Мартин и тот не выдержал:
— Значит, Поллард погиб просто так…
Бойланд не ответил — сказать ему было нечего.
Глава II
Сидя в машине у вокзала Сент-Панкрас, водитель такси Джон Эрмитедж кипел от негодования. Ну почему он должен торчать на стоянке под надзором агентов компании как раз сейчас, когда его жена Мэдж вот-вот произведет на свет четвертого ребенка, а он, Джон, с ума сходит от волнения! Трое предыдущих родов прошли самым благополучным образом, и на сей раз тоже ничто не предвещало каких-либо осложнений. Во всяком случае, таково было мнение врача. Но Джон отличался крайней нервозностью и к тому же любил Мэдж. Воображение пессимиста рисовало будущее, каким оно станет, если Мэдж… От сознания такой перспективы холодный пот заструился по позвоночнику Джона, но он ничего не мог с собой поделать (натура сильнее!), и избавиться от ожидания предполагаемой катастрофы не удавалось. В больнице считали, что новый маленький (или маленькая) Эрмитедж никак не окажется в нашей юдоли скорби раньше полуночи, а то и рассвета. Пробило семь часов. Джон на мгновение встрепенулся, но тут же снова погрузился в черную меланхолию. Ему казалось, что эта кошмарная агония никогда не кончится. Джон подумал было, не оставить ли на минутку машину и сбегать в соседний бар позвонить в роддом, но там его уже дважды за это сурово отчитали, и он не решался снова беспокоить перегруженных работой людей.
В это время у выхода с платформы началась толчея, и Джон сказал себе, что, должно быть, прибыл поезд из Шотландии. Вскоре появились первые путешественники, и Эрмитедж сразу же обратил внимание на одетого в юбочку колосса. Тот ошарашенно озирался, держа в руках два чемодана невероятных размеров. Таксист решил, что их наверняка делали по заказу. Забыв на мгновение о Мэдж, Джон забавлялся, наблюдая за шотландцем, который, видимо, пребывал в полной растерянности. Таксист подумал, что, хоть природа на редкость щедро одарила молодого горца, он станет легкой добычей для любого отребья, живущего за счет наивности тех, кто приезжает в Лондон впервые. Другой водитель, Уильям Уолнот, крикнул Джону:
— Ой, Джон, глянь-ка, какого паренька мамаша выпустила прогуляться! Его явно ждут неприятные встречи!
Как будто нарочно, чтобы подтвердить слова шофера, двое из тех подонков, что таскаются по вокзалам в надежде стянуть чемодан, подошли к молодому гиганту с обеих сторон и, взявшись за ручки его чемоданов, вступили в беседу, очевидно убеждая путешественника предоставить им заботу о багаже. Эрмитеджу стало не по себе.
— Оставим их в покое, Уильям, или вмешаемся?
Вместо ответа тот указал ему пальцем на полисмена, который, пристроившись за колонной, готовился взяться за дело. Однако необходимость в этом отпала, потому что шотландец вдруг рассердился. Отзвук его ругательств достиг стоянки такси, и почти одновременно оба ловца легкой наживы, совершив головокружительный полет, рухнули в двух-трех метрах от предполагаемой жертвы. По молодости лет грабители поддались самолюбию и единодушно кинулись на горца. Полисмен выскочил из-за колонны, но, как ни быстро он бежал, все-таки появился слишком поздно. Более крупный из нападавших, получив прямой удар правой, валялся без сознания, а тот, что помельче, подхваченный за талию, уже летел к своему приятелю, не способному пошевелиться. Полисмен не смог сдержать восхищения:
— Вот это работа, сэр!
Колосс пожал плечами.
— У нас, в Томинтуле, таких маленьких не бывает.
— Не хотите ли подать жалобу, сэр? — осведомился констебль, краем глаза наблюдая за распростертыми воришками.
Шотландец крайне изумился:
— Мне? Подавать жалобу? На кого?
— Вот на этих двоих.
Человек в юбочке от души расхохотался.
— Представьте себе, если в Томинтуле узнают, что я подал жалобу на этих двух моллюсков! Да надо мной будут издеваться до конца моих дней! До самого Инвернесса не дадут проходу. Нет уж, это скорее им следует на меня жаловаться! Будь мы в Томинтуле, старина, я предложил бы вам выпить стаканчик хорошего виски у моего приятеля Ангуса. Но мы не в Томинтуле, так ведь?
— Нет, сэр, мы не в Томинтуле.
И со вздохом сожаления, выразившим всю тоску лондонца, вынужденного довольствоваться пятью квадратными метрами стриженой травы перед дверью дома, которые олицетворяют все его мечты о жизни на природе, полисмен принялся поднимать обоих жуликов, получивших такую потрясающую взбучку.
Как всякий уважающий себя британец, Эрмитедж любил спорт. Он сейчас уже не думал о своей Мэдж — в такой восторг привела его манера шотландца избавляться от чужой навязчивости.
— Что ты об этом думаешь, Уильям?
— Прекрасный был бы нападающий для «розы»![351]
— Да, только это «репейник».[352]
— Обидно… Внимание, Джон, он направляется к нам. Если он выберет тебя, мой мальчик, советую не передергивать со счетчиком, этот парень способен превратить твою тачку в груду металлолома да еще заставить проглотить по кусочку.
Немного поколебавшись, шотландец направился к машине Эрмитеджа.
— Привет! Вы знаете, где Сохо?
Джон был готов к чему угодно, только не к такому вопросу. На мгновение он просто потерял дар речи. Ну, это как если бы у него спросили, кто сейчас носит корону Англии. Сперва Эрмитедж было подумал, что парень издевается над ним, и бросил на него довольно мрачный взгляд — нельзя же все-таки допускать, чтобы какой-то несчастный горец насмехался над чистокровным кокни! Но тут же он сообразил, что вопрос задан на полном серьезе, и чуть иронически улыбнулся:
— Более-менее, а что?
— Мне говорили, там можно повеселиться. Это мой друг, Гугус Мак-Гован… Он был в Лондоне лет десять назад.
— Слушайте, сэр, вы садитесь или нет? Мой счетчик не работает, пока я болтаю. А мне надо зарабатывать деньги. Вы хотите ехать в Сохо? Согласен, едем в Сохо. Годится?
— Годится.
— Тогда давайте чемоданы.
— Предпочитаю держать их при себе.
— Не очень-то вы доверчивы, а? Устраивайтесь сами, и едем.
— Скажите сначала, сколько это будет стоить.
— Что?
— Доехать до Сохо.
— Понятия не имею. Посмотрите на счетчике. Там указывается цена.
Колосса это, кажется, не слишком убедило.
— А она действительно работает, эта штуковина?
— С чего бы это ей не работать?
— Не знаю, но я бы предпочел сначала обсудить цену. Так всегда делают у нас в Томинтуле.
Джон не отличался особым терпением.
— Но мы же не в Томинтуле, черт возьми! Мы в Лондоне, а в Лондоне такси работают по счетчику. Понятно?
— Так вот, по правде говоря, мне это не нравится!
— Тогда вам остается только отправиться в Сохо пешком!
— Почему у вас такой скверный характер? Вы здесь все такие?
Эрмитедж готов был от ярости проглотить руль, но больше всего его злило то, что его коллега Уолнот буквально помирал со смеху.
— Так едем мы или нет?
— Ладно, едем. И чего вы так торопитесь? У нас в Томинтуле…
— Хватит говорить об этой дыре, сэр! Я не знаю, что такое Томинтул, и плевать я хотел на Томинтул, дьявол его раздери!
Зажатый двумя чемоданами, как ветчина между двумя кусками хлеба, шотландец мог не опасаться тряски на ухабах. Удобно расположившись на сиденье, он пробормотал:
— Честное слово, не понимаю, что вы можете иметь против Томинтула…
Эрмитедж так рванул с места, что машина чуть ли не прыгнула. Но это вызвало только насмешливое замечание Уильяма Уолнота:
— Джон, мой мальчик, уж не собираешься ли ты принять участие в Большом кроссе Ливерпуля на этой консервной банке?
Эрмитедж счел за благо не отвечать — он терпеть не мог площадной ругани, а ответить вежливо сейчас был не в состоянии. Понемногу его нервы стали приходить в норму, он признал, что был не прав, разозлившись из-за пустяка, и тут же почувствовал угрызения совести: зря он так скверно принял этого симпатичного парня. В виде извинения шофер вежливо осведомился:
— Все в порядке, сэр?
— Угу, скажите-ка, старина, а ведь это дьявольски большой город, а?
В наивности горца было что-то трогательное.
— Очень большой город, сэр…
И вдруг Джон представил себе, что Мэдж затерялась в этом огромном городе с его тысячами и тысячами жителей, число которых она собиралась увеличить по крайней мере на одного! И снова его охватила тревога, и захотелось хоть с кем-нибудь поделиться, успокоить взбудораженные нервы.
— Не стоит сердиться на меня, сэр, если я сегодня несколько резковат, сэр, но… дело в том, что я жду ребенка… то есть я, разумеется, хочу сказать, моя жена…
— Поздравляю, старина!
— Спасибо… Но это очень тяжелый момент.
— Правда?
— У вас нет детей, сэр?
— Ни жены, ни детей.
— В некотором смысле это хорошо. Я имею в виду заботы. Но, с другой стороны, это немного грустно, разве нет?
— Мне никогда не бывает грустно, старина.
— Кроме шуток? И как вам это удается?
— Когда я чувствую, что мне вот-вот станет тоскливо, я просто накачиваюсь и засыпаю. А проснувшись, снова оказываюсь в прекрасном настроении. Вы хотите мальчика или девочку, старина?
— Мальчика, у нас уже три дочери.
— Ну что ж, успокойтесь, у вас будет мальчик!
— Почему вы так думаете?
— У нас в Томинтуле кто угодно скажет, что только Малькольм Мак-Намара, осматривая беременную овцу, может определить, какого пола будет приплод.
Эрмитедж не ответил, поскольку не был уверен, не оскорбляет ли этот тип достоинство Мэдж, сравнивая ее с беременной овцой. Поэтому он только вздохнул.
— Да услышит вас небо, сэр!
— Не волнуйтесь, старина, сейчас мы это устроим!
Джон не понял смысла этого заявления. Понимание пришло через несколько минут, когда, выехав на Нью Оксфорд-стрит, Эрмитедж едва не попал в первую серьезную аварию за всю свою шоферскую жизнь. Он вел машину, внимательно следя за движением, очень оживленным в это время — кончился рабочий день. И вдруг у него за спиной, в нескольких сантиметрах от уха, раздались мощные гнусавые звуки волынки, играющей «Бэк о'Бэнахи». От неожиданности, смешанной с испугом, не понимая, в чем дело, Джон на мгновение выпустил руль из рук. По счастью, ему удалось спохватиться прежде, чем машина врезалась в автобус, водитель которого свирепо выругался. Такси вильнуло вправо, едва не задавив мотоциклиста, потом быстро дернулось влево и проскочило на волосок от грузовика. Эти странные курбеты сопровождались воем, скрипом тормозов, отчаянной руганью, и Эрмитедж, чье лицо заливал холодный пот, а глаза выдавали состояние, близкое к помешательству, был почти благодарен полисмену, когда тот, явно будучи не в восторге от всего этого содома, издал резкий свисток, требуя, чтобы таксист остановился. Все это время шотландец с полной невозмутимостью продолжал дуть в свою волынку, причем виртуозные маневры шофера нисколько не потревожили его вдохновения.
Полисмен подошел. Вид у него был не слишком любезный.
— Ну? В чем дело? Пьяны вы, что ли?
Джон через правое плечо указал большим пальцем на своего клиента. Обращаясь к энтузиасту игры на волынке, констебль вынужден был пустить в ход всю мощь своих легких:
— Не могли бы вы прекратить это?!
Мак-Намара перестал играть и с изумлением спросил:
— Вам не нравится, как я играю? Однако у нас в Томинтуле…
Эрмитедж всхлипнул.
— Я больше не могу, — пробормотал несчастный таксист, — пусть он выйдет!.. Заставьте его выйти, умоляю вас, заставьте его выйти!
Полисмен, совершенно не понимая, что происходит, начал нервничать.
— В конце концов, соберетесь вы рассказать мне, в чем дело, или нет?
Голосом, скорее напоминавшим хрип, Эрмитедж объяснил, что мирно вел машину, как вдруг у него над ухом грянула эта дикая музыка, и под действием шока он чуть не врезался в автобус.
Констебль бросил на Джона подозрительный взгляд.
— Что, рефлексы слабеют? Надо будет проверить вас, мой мальчик… Ну а вы, сэр, могу ли я узнать, почему вам вздумалось играть на волынке в такси?
— В честь его будущего ребенка!
Джону повезло. Оказалось, что полисмен только что стал отцом и сейчас чувствовал себя в ореоле этой новой славы. Узнав, что Мэдж вот-вот должна родить, он ощутил прилив братских чувств к шоферу.
— Согласен, это тяжелый для вас момент. Надо взять себя в руки, мой мальчик. А вы, сэр, подождите, пока вернетесь в свои края, и там продолжите этот концерт. Так всем будет гораздо лучше.
Эрмитедж хотел теперь только одного: как можно скорее высадить пассажира в первом попавшемся отеле и смыться. Он спустился по Черринг-Кросс, проскользнул на Олд Комптон-стрит и остановился у гостиницы «Каштан».
— Ну вот, — повернулся он к шотландцу. — Можете выходить, вы в Сохо. Но… Где же ваш инструмент, то есть я имею в виду волынку?
— В чемодане, старина.
Теперь Эрмитедж понял, почему багаж его пассажира выглядит так внушительно, и сказал себе, что если все обитатели Томинтула похожи на этого, то жизнь там, должно быть, полна неожиданностей. Шотландец, стоя на тротуаре, спокойно изучал фасад отеля.
— Решитесь ли вы наконец войти туда сегодня или так и будете стоять до завтра?
— Подождите меня, старина, я должен посмотреть, что делается там внутри.
И он решительным шагом направился в гостиницу. При виде улыбающегося гиганта портье аж подскочил.
— У вас есть комната?
— Вы… вы уверены, что вам достаточно одной?
— Не улавливаю.
— Простите, сэр. Да, у нас есть одна свободная комната с туалетом. Стоимость — фунт и десять шиллингов в день. Естественно, в счет входит и завтрак.
— Вы в самом деле сказали, что я должен платить фунт и десять шиллингов за ночевку и завтрак?
— Именно так, сэр.
— Боже милостивый! В Томинтуле на фунт и десять шиллингов можно прожить неделю.
— Везет тамошним жителям! Но мы-то в Лондоне, сэр.
Не отвечая, Мак-Намара повернулся и направился к такси.
— Скажите, старина, — обратился он к Эрмитеджу, — вы что, принимаете меня за миллиардера? Фунт и десять! Видно, в Лондоне легко зарабатывают денежки!
— Только не я! — простонал шофер.
Они снова пустились в путь, и на Лексингтон-стрит Джон решил, что в «Элмвуд-отеле», судя по его довольно обшарпанному виду, цены могут оказаться более приемлемыми для его пассажира. Здесь потребовали фунт и два шиллинга за комнату и завтрак. Шотландец не стал вступать в споры и вернулся к такси. Джон начал уже всерьез верить, что никогда не избавится от неудобного клиента. Рассердившись не на шутку, он рванул с места, вспомнив о жалкой гостинице на Варвик-стрит, носившей гордое название «Нью Фэшэнэбл». Если она и была новой, как того требовала логика вещей, то это относилось к столь отдаленным временам, о которых никто из жителей квартала уже и не помнил. Испещренный дырами ковер прикрывал пол крошечного холла, где похожий на слизняка человечек, примостившись за конторкой, по-видимому, поджидал не слишком взыскательную добычу. Не ожидая решения шотландца, Эрмитедж схватил чемоданы и скорее волоком, чем неся их, пошел к гостинице.
— Надеюсь, это вам подойдет, — сказал он пассажиру, — потому что во всем Лондоне вы не найдете ничего дешевле.
После этого Джон вернулся в машину. Узнав, что может получить комнату за восемнадцать шиллингов, Мак-Намара заявил, что это его устраивает, и добавил с тонкой улыбкой:
— Те, другие, хотели меня облапошить, но надо очень рано встать, чтоб обскакать парня из Томинтула.
Хозяин, недоверчиво глядя на гостя, попросил уточнить:
— Это место находится в Великобритании?
— В Шотландии, старина, в графстве Банф.
— И чем там занимаются?
— Разводят овец, старина. У меня их почти восемь сотен. Второе стадо после Кейта Мак-Интоша.
Джон Эрмитедж прервал эти объяснения, бросив с порога:
— Вы расплатитесь со мной, чтобы я мог уехать?
Шотландец рассмеялся:
— И еще говорят, будто это мы любим деньги? Я вижу, в Лондоне то же самое, а?
Таксист предпочел ответить молчанием. Мак-Намара вышел за ним на обочину.
— Сколько с меня?
— Фунт и восемь.
— Что?
— Фунт и восемь шиллингов. Это на счетчике.
— Послушайте, старина, я дам фунт. Согласны?
Эрмитедж прикрыл глаза, вверяя себя святому Георгию и моля избавить его от апоплексического удара.
— Сэр, я обязан взять с вас сумму, указанную на счетчике, иначе мне самому придется доплачивать разницу.
— И вы, естественно, этого не хотите?
Джон мучительно стиснул зубы, чтобы не выругаться.
— Вы угадали, сэр, я этого не хочу.
— А ведь, получив фунт, вы еще, по-моему, выгадаете!
Сэм Блум, хозяин «Нью Фэшэнэбл», не желая упустить такое зрелище, выбрался из-за конторки. Он появился на улице как раз вовремя: шофер бросил на тротуар свою фуражку и принялся бешено ее топтать. Он проделывал это до тех пор, пока не вернул себе хладнокровие, после чего снова надел ее на голову и заявил:
— Я не служил в армии. Меня освободили из-за не шибко крепкого сердца. Мне бы не хотелось умереть, не повидав новоявленного младенца и не дав ему отеческого благословения. Вы меня поняли, сэр? Тогда расплатитесь, и я уеду.
— Ну, раз вы взываете к моим чувствам…
Мак-Намара вытащил громадный черный кошелек с медной застежкой и дважды пересчитал деньги, прежде чем отдать требуемую сумму Эрмитеджу.
— И все-таки это чертовски дорого… Вот, старина, и поцелуйте от меня бэби.
— Прошу прощения, сэр, а чаевые?
— Вы считаете, что фунта и восьми шиллингов мало?
— Эти деньги для хозяина. А мне?
Вокруг начала собираться толпа.
— В Томинтуле никто никогда не требует чаевых.
Несмотря на все усилия взять себя в руки, Джон все-таки не смог не взорваться:
— Черт возьми! Плевать на Томинтул! Мы не в Томинтуле! Мы в Лондоне! А Лондон — столица Соединенного Королевства! Сечете? И в Лондоне водителям платят чаевые!
Какой-то служитель культа счел долгом вмешаться в это дело и обратился к Эрмитеджу:
— Дитя мое, ругаться так, как вы себе только что позволили, — постыдно. Подумайте, какой дурной пример вы подаете.
Но Джон был совсем не в настроении внимать гласу добродетели.
— Шли бы вы, пастор…
И он добавил ругательство.
— Бандит! Безбожник! Атеист!
— Слушайте, вы, часом, не хотите схлопотать по носу?
— Попробуйте только тронуть меня — живо попадете в суд!
Какой-то дарбист[353], оказавшийся свидетелем перепалки, решил, что пора воззвать к Всевышнему:
— Настало время пришествия Христа, дабы он водворил порядок в этом безумном мире! И Он грядет, братья! Он здесь! И приход Его будет гибелью вашей церкви-самозванки! Так возвестил Джок Дарби!
Теперь вся ярость служителя церкви обрушилась на сектанта:
— Ах вы еретик несчастный! И вы еще осмеливаетесь выступать публично?!
— Нет, это вы блуждаете во тьме, а все потому, что отдалились от Господа!
— Так как же мои чаевые? — снова вступил Эрмитедж.
Но в бой уже ринулась уличная торговка, сторонница унитаристской доктрины[354].
— Посмотрите, до чего доводят дикие выдумки о Боге в трех лицах! Бог един, Бог единствен, и десница Его повергнет вас во прах!
Священник и дарбист немедленно объединились против унитаристки:
— Прочь отсюда, безумица! Ад плачет по твоей грешной душе!
Сэм Блум вместе с новым постояльцем ушли в гостиницу. Что касается Эрмитеджа, то он никак не мог понять, каким образом его законное требование вызвало столь бурную теологическую дискуссию. Тут к нему подошла женщина из Армии Спасения.
— Брат мой, подумайте о тех, кто страдает от голода и холода. Подать страждущему — значит открыть сердце Всевышнему!
Не думая о том, что делает, Джон протянул два шиллинга, и женщина, поблагодарив, исчезла. Появление полисмена утихомирило метафизическую бурю. Толпа рассеялась. Только Джон остался стоять на тротуаре, тупо глядя на собственную ладонь, в которой теперь было всего фунт и шесть шиллингов… Его зациклившийся мозг тщетно пытался сообразить, почему же все-таки он не только не получил чаевых, но еще остался в убытке.
— Вы кого-нибудь ждете? — осведомился констебль.
— Нет.
— Так нечего тут стоить!
— Согласен, сейчас уеду, но сначала скажу вам одно: здорово все-таки получается, что Марии Стюарт отрубили голову! Чертовски досадно только, что такая участь не постигла всех шотландцев!
Малькольм Мак-Намара поведал Сэму Блуму обо всех своих приключениях, с тех пор как высадился на вокзале Сент-Панкрас. Сначала два грабителя, потом полусумасшедший таксист, который чуть было не устроил аварию только из-за того, что в честь его будущего ребенка сыграли на волынке «Бэк о'Бэнахи»!
— Так вы что, таскаете с собой волынку?
— Всегда! В Томинтуле говорят: «Малькольм без своей волынки — все равно что безногий без протеза — ничего не стоит».
— И где же она у вас?
— В чемодане.
— Вче…
В доказательство Мак-Намара открыл один из своих гигантских чемоданов и торжествующе извлек оттуда волынку, а заодно и бутылку виски.
— Не выпить ли нам, старина, за знакомство?
— Охотно, да вот стакана нет под рукой.
— Чепуха! Делайте, как я.
С этими словами шотландец поднес к губам горлышко бутылки и, к величайшему восторгу Сэма, одним глотком опустошил ее на треть.
— А потом этот злосчастный псих отвез меня в «Каштан», где имели наглость потребовать за ночлег фунт и десять шиллингов. В этом притоне меня явно приняли за дурака-провинциала. Потом таксист пытался подсунуть мне «Элмвуд» — там дерут фунт и два шиллинга. Я им даже ничего не ответил, этим ворюгам. О Господи!
Сэм, размышлявший в этот момент, действительно ли его новый клиент полный идиот или только притворяется, подпрыгнул от неожиданности:
— Что такое?
— Самая прекрасная женщина, какую я когда-либо видел в жизни! В Томинтуле ни одной такой нет!
Блум обернулся и увидел, что по лестнице спускается Люси Шеррат, которая, несмотря на свои сорок пять лет, считалась одной из самых отважных среди дам, прогуливающихся вечерами по тротуарам Сохо.
— Вот как? Ну, значит, вы там не избалованы по части прекрасного пола.
Люси, подошла к конторке.
— Привет! Сэм, не забудь напомнить Эдмунду, что в моей комнате подтекает кран. От этого постоянного шума можно рехнуться, а я, как знаешь, нуждаюсь в отдыхе. Так я могу на тебя рассчитывать, Сэм?
Прежде чем хозяин гостиницы успел ответить, шотландец воскликнул:
— В честь самой прекрасной девушки в Сохо!
И тут же заиграл на волынке «Полевые цветы».
Люси, вытаращив глаза, поглядела на Мак-Намару и тихо спросила Сэма:
— Кто этот тип?
— Поклонник, моя дорогая! — И, обращаясь уже к шотландцу: — Эй, дружище, вы не могли бы на минутку перестать играть?
Малькольм согласился прервать поток излияний волынки только для того, чтобы сообщить о принятом решении:
— Я буду следовать за этой дамой на расстоянии пяти шагов, играя «Эйтсом рил»! Мы всегда так поступаем в Томинтуле, если тебе девушка нравится и ты хочешь познакомиться с ней поближе.
Заставить его отказаться от этого плана стоило неимоверных усилий. Пришлось объяснять, что подобный шум может сильно повредить работе мисс Шеррат. Затем, повинуясь повелительному жесту Сэма, Люси исчезла. Впрочем, сделала она это не без сожаления — бедняга уже так давно ни у одного мужчины не вызывала восхищения! В сорок пять лет ей хотелось вкусить спокойной жизни, а этот шотландец — такой видный мужчина! Да вот беда: есть мечты, в которые как будто веришь, чтобы хоть как-то себя утешить, но до конца в них поверить так и не можешь. Для Люси, как и для многих других таких же товарок, было уже слишком поздно. Зато совершенно незнакомый, да еще и красивый парень исполнил в ее честь «Полевые цветы», и она никому об этом не расскажет. Это будет ее тайной.
Шотландец все больше и больше заинтересовывал Сэма. Сам не зная почему, хозяин гостиницы чувствовал, что тот может принести ему весьма ощутимые барыши. Уж не послал ли Сэму сего уроженца гор его ангел-хранитель? Похоже, Блум считал своего небесного покровителя таким же мошенником, каким был сам.
— Так, значит, сэр, у вас восемьсот овец?
— По меньшей мере.
— Надо думать, к концу года это приносит солидный доходец, а?
— Не жалуюсь.
— И вы приехали в Лондон повеселиться?
— Не совсем. Первым делом мне надо кое-что прикупить… Я ведь казначей нашего Сообщества… Так вот, говорят, австралийцы придумали какие-то сногсшибательные машинки для стрижки овец. Ну и наш председатель Грегор Фрезер сказал: «Только Малькольму Мак-Намаре из Томинтула можно доверить такую кучу денег, не дрожа со страху, что их украдут».
— Кучу денег?
— Пять тысяч фунтов, старина. У вас в Лондоне это не считается кучей денег?
— Еще бы! Конечно, считается! И вы, разумеется, сдали их в ближайший банк?
— Ну нет, у нас, в Томинтуле, не очень-то доверяют всем этим банкам. У вас забирают деньги, а взамен дают какую-то бумажку. По-моему, это ненормально. Я предпочитаю, чтобы деньги лежали у меня в кармане, и отдаю их только в обмен на товар.
У Блума пересохло в горле.
— Вы… вы хотите сказать… что… что эти деньги у вас с собой?
— Ну да, в моем зеленом чемодане.
За свою долгую жизнь жулика Сэм повидал немало простофиль, но такой ему попался впервые. И Блум никак не мог уверовать до конца в то, что наивность в такой степени вообще возможна.
— Но… не кажется ли вам, что это несколько… неосторожно?
Малькольм пожал широченными плечами.
— Тот, кому взбредет в голову меня ограбить, может заранее заказать место в больнице или на кладбище. На вид я добрый малый и в глубине души согласен с тем, что так оно и есть, но не всегда, понятно? Так… А что, если я сейчас отправлюсь в свою комнату? Надо же привести себя в порядок с дороги!
— Конечно.
Сэм позвонил, и появился Эдмунд.
— Приготовь номер семнадцатый для мистера Мак-Намары.
При виде двух огромных чемоданов слуга открыл рот от изумления и тихо спросил:
— Такелажник я, что ли?
Сэм разозлился.
— Держи язык за зубами, Эдмунд, и живо отнеси багаж в номер.
Эдмунд взялся за ручки чемоданов, но, как ни старался, так и не смог приподнять их больше чем на несколько сантиметров, да и то был вынужден тут же их отпустить.
— Знаете, что я вам скажу, хозяин? Будь я в состоянии оттащить эти штуки на третий этаж, живо побежал бы в федерацию тяжелоатлетов и записался на ближайшие Олимпийские игры.
Шотландец сам взял чемоданы и сказал слуге:
— Покажите мне дорогу, старина.
Не успел Мак-Намара подняться на несколько ступенек, как Блум окликнул его:
— Мистер Мак-Намара!
Колосс обернулся.
— Я хочу сказать вам, как я счастлив, что вы выбрали именно мою гостиницу. Вы мне очень нравитесь!
Как только Сэм увидел, что слуга спускается по лестнице вниз, он буквально набросился на телефон.
— Алло! Том? Это Сэм… Позовите Дункана. Это очень срочно. Мистер Дункан? Это я, Сэм… Послушайте, здесь у меня поселился потрясающий феномен. Явился из Томинтула, это какая-то дыра в Шотландии. И имейте в виду, прогуливается с пятью тысячами фунтов в кармане, просто потому что не доверяет банкам. Невероятно, да? Собирается купить машинки для стрижки овец на весь свой кооператив, он там у них казначей… Как он сюда попал?.. Очень забавно. Объехал несколько гостиниц, но счел их слишком дорогими. Слышали бы вы его перебранку с таксистом! И парню удалось-таки не дать на чай! Нет, Джек, это не тот тип, с которым можно сцепиться один на один, разве что у тебя в каждой руке по пистолету да еще в зубах тесак. Представляете, что я имею в виду? Но, Джек, ведь это пять тысяч фунтов! Двадцать пять процентов за комиссию, согласны? Проще всего отправить сюда Патрицию, она его в одну секунду обработает. Ну да, этот парень совсем младенец! Клянусь вам! Слушайте, Джек, вы помните старуху Люси Шеррат, да? Ну так вот, он счел ее самой красивой женщиной на свете! И собирался идти за ней по всему Сохо, играя на волынке, потому что, видите ли, у них в Томинтуле принято так ухаживать за девушкой. Так что, когда он увидит Патрицию… Согласен, Джек, я думаю, это будет удачный денек, но, самое главное, выбирайте ребят покрепче и, пожалуй, не меньше троих.
Когда шотландец спустился в холл, Патриция еще не пришла. Блуму надо было как-то задержать гостя.
— Мистер Мак-Намара, я надеюсь, вы, по крайней мере, не оставили деньги наверху?
— А что? У вас есть воры?
— Не думаю. Но не могу же я ручаться за всех. К тому же искушение…
— Но ведь кроме вас, старина, никто не знает, что у меня в чемодане пять тысяч фунтов!
— И все-таки мне было бы спокойнее…
Малькольм дружески хлопнул его по плечу.
— Не беспокойтесь. Я совсем не дурак и деньги свои ношу при себе. Не люблю с ними расставаться. Вот самый лучший сейф! — И он постучал по могучей груди.
Как раз в этот момент вошла Патриция.
— Добрый день, дядюшка! — улыбнулась она Сэму. — Я проходила мимо этой паршивой улочки и решила взглянуть, жив ли ты еще.
Будь Малькольм понаблюдательнее, он бы заметил, что поцелую дяди и племянницы явно не хватает сердечности и что он скорее напоминает ритуальное соприкосновение официальных лиц при вручении какой-нибудь награды, чем свидетельствует о нежных родственных чувствах. Но шотландец был абсолютно не в состоянии что-либо замечать. Он смотрел на молодую женщину, открыв рот и вытаращив глаза. Блум следил за ним краем глаза и с удовлетворением констатировал, что девушка сработала на совесть.
— Мистер Мак-Намара, позвольте мне представить вам мою племянницу Патрицию Поттер.
Патриция сделала вид, будто только что заметила гиганта, и довольно холодно произнесла:
— Добрый день, мистер Мак-Намара.
Но вместо ответа шотландец опрометью кинулся к лестнице и исчез наверху.
— Ну и ну! Что это с ним? — удивленно спросила Патриция.
— Я, кажется, догадываюсь… Самое главное, не теряйте хладнокровия.
Несмотря на предупреждение, Патриция вздрогнула, услышав грянувшие на верхнем этаже тягучие звуки «Дремучего леса в горах». Она еще не совсем пришла в себя, когда на лестнице появился Малькольм, во всю силу своих могучих легких дующий в трубку волынки.
— Это гимн в честь вашей красоты, дорогая моя, — шепнул Блум.
Патриция расхохоталась, и, видимо, это еще больше воодушевило Мак-Намару, потому что он ни разу не перевел дух, пока не извлек последней оглушительной ноты.
— Можно ли мне узнать, каковы причины этого очаровательного концерта?
— У нас в Томинтуле не очень-то умеют складно выражать свои мысли. Поэтому вместо нас говорит волынка. Вы ужасно красивы, мисс Поттер!
— Спасибо.
— Вы живете здесь?
— Моя племянница поет в «Гавайской пальме» на Флит-стрит, — ответил за Патрицию Сэм.
— Это далеко?
— Вовсе нет. Здесь же, в Сохо.
— А мне можно пойти вас послушать?
— Я буду очень рада, мистер Мак-Намара, — ответила «племянница» и повернулась к Сэму: — Дядя, мне пора идти. Через два часа мой номер. Я едва успею пообедать и приготовиться. До свидания. — Она улыбнулась и шотландцу: — До свидания, мистер Мак-Намара. И, быть может, до скорого?
— Уж это точно!
Когда Патриция ушла, Малькольм сказал Сэму:
— Ну старина, у вас чертовски красивая племянница. Господи благослови! Да будь у меня в доме такая жена, мне бы больше ничего и не нужно было!
— Я вижу, Патриция произвела на вас сильное впечатление.
— Она меня просто потрясла! Я думал, такие красотки бывают только в кино. Ах, не будь я простым овцеводом, сразу предложил бы ей руку и сердце. Как вы думаете, старина, она бы согласилась?
— Честно говоря, мистер Мак-Намара, меня бы очень удивило, если бы Патриции вздумалось похоронить себя в Томинтуле.
— Ну не скажите! У нас бывает кино раз в неделю в овине Нейла Мак-Фарлана. По крайней мере летом, потому что зимой можно примерзнуть к скамейке… Она хоть не обручена?
— По-моему, нет. Знаете ли, моя племянница — очень хорошая девушка. Согласен, она поет в кабаре, но ведь нужно же как-то зарабатывать на жизнь, правда? А ей очень не повезло. Родители погибли в автомобильной катастрофе, девочка осталась сиротой в двенадцать лет…
— К счастью, у нее были вы!
— Что?
— Вы ведь ее дядя?
— Разумеется, если бы не я, не знаю, что с ней сталось бы, с бедной крошкой… Но мой образ жизни не очень-то подходит для воспитания молодой девушки… Вы меня понимаете? Я отправил ее в пансион, в Йорк. После учебы она пробовала зарабатывать на жизнь, с моей помощью, конечно… И вот как-то однажды приняла участие в любительском конкурсе. Ее заметили. О, это, ясное дело, совсем не то, что можно назвать настоящим певческим голосом, но поет она приятно… И тут же сразу получила ангажемент. И теперь Пат уже несколько месяцев поет в «Гавайской пальме», насколько я понимаю, с большим успехом.
Целых три месяца Дункан и Дэвит, зная, что за ними пристально следят, вели себя тихо и скромно. Тот, кто держал в руках всю торговлю наркотиками в Сохо, приказал им затаиться, и оба бандита с ума сходили от злости, подсчитывая, сколько денег прошло за это время мимо их носа. И только это вынужденное, выводящее из себя бездействие заставило их взяться за незначительную операцию, предложенную Сэмом Блумом. После разговора с Сэмом Дэвит, развалясь в кресле, заметил:
— Пять тысяч фунтов — приличная кучка милых маленьких банкнотов, Джек. Что вы об этом думаете?
— Думаю, что они мне понадобятся — одними доходами с «Гавайской пальмы» сыт не будешь…
— Угу… И как вы собираетесь это обстряпать, Джек?
— Как можно меньше народу, Питер. И так придется дать двадцать пять процентов Сэму…
— Хватит и десяти, если вы позволите мне убедить его вести себя разумно.
— Даже поручаю вам это, Питер… Итак, десять процентов Сэму. Я думал о Блэки и Торнтоне. Они привыкли к такого рода делам. Каждому надо будет дать десять процентов. Но, судя по тому, что сказал Сэм, пожалуй, разумнее присоединить к ним Тони.
— Еще десять процентов?
— Естественно…
— Как всем мокрицам, Сэму всюду мерещатся супермены.
— Подождем, пока не посмотрим своими глазами. Предупредите Блэки, Торнтона и Тони, чтобы они весь вечер были под рукой. Этот парень явится сюда аплодировать Патриции — она уже успела его очаровать.
— Я знаю, вы этого не любите, Джек, но раз уж она его охмурила, не проще ли было бы…
— Нет!
— Ну ладно…
— Да, Дэвит, и еще не забудьте позвонить в эту дыру, Томинтул!
— Чего?
— В Томинтул, графство Банф, Шотландия. Позвоните в почтовое отделение и спросите, знают ли там типа по имени Малькольм Мак-Намара… Да постарайтесь сделать так, чтобы вам его описали. В нашем положении никакие предосторожности не повредят.
Сидя за конторкой, к которой он, казалось, прирос, Сэм Блум с улыбкой слушал, как его новый постоялец насвистывает в предвкушении приятного вечера. Сэм умилялся. Было что-то почти греховное в намерении ограбить такого простака… но это послужит ему уроком… В конце концов, проучив этого дикаря из Томинтула, Блум и его приятели только окажут услугу британским банкам. Сэм попробовал представить, как будет вести себя шотландец в «Гавайской пальме», и решил, что зрелище должно получиться незаурядное.
Незадолго до начала номера Патриции Поттер Питер Дэвит сообщил Дункану сведения, не без труда полученные от телефонистки Томинтула.
— Судя по настроению, похоже, я помешал ей пить чай. Однако, узнав, что я звоню из Лондона, девица стала несколько благожелательнее. Наверное, это ей польстило. Зато когда я спросил про Малькольма Мак-Намару, тут уж полились сироп и мед. Эта особа явно неравнодушна к парню. И самый-то лучший, и самый красивый, и самый любезный из всех овцеводов графства Банф, и пользуется почтением и доверием сограждан, поскольку, похоже, он и впрямь важная шишка в тамошнем синдикате.
— Она вам его описала?
— Я бы сказал: живописала. Сперва мне даже показалось, что она набрасывает портрет Бога-отца! Его рост, цвет волос, цвет глаз, рот, мускулы, походка, короче — все! И сдается мне, это описание вполне соответствует впечатлению Патриции.
— Значит, нам его послало само Небо!
Питер покатился со смеху.
— Ну и странные же намерения вы приписываете Всевышнему, Джек!
Несмотря на полученное предупреждение, при виде Мак-Намара швейцар Том слегка оторопел.
— Скажите-ка, старина, — спросил посетитель, — она еще не начала петь? Я имею в виду мисс Поттер?
Том решил, что нужно срочно предупредить Тони, потому как Блэки и Торнтон, при всем своем богатом опыте, ни в жизнь не справятся с таким колоссом.
— Вот-вот выйдет на сцену, сэр, — вежливо ответил он.
— Отлично.
— Прошу прощения, сэр, но что у вас в чемодане?
— Успокойтесь, старина, там вовсе не пулемет, а только моя волынка.
Так получилось, что Малькольм и Патриция предстали взорам посетителей «Гавайской пальмы» одновременно: первая — на сцене, второй — в зале, и оба в равной мере привлекли к себе внимание. Мисс Поттер, не желая портить свой выход, воскликнула:
— Добро пожаловать, Малькольм Мак-Намара, гордость графства Банф!
Все немедленно повернулись к симпатичному гиганту в парадной юбочке и пиджаке неброской расцветки. И весь зал неожиданно разразился аплодисментами. Мак-Намара смущенно улыбнулся, обводя всех доверчивым взглядом, и Дэвит, следивший за событиями из кабинета Дункана, поспешил устроить шотландца за отдельным столиком в глубине зала.
— Надеюсь, вам будет здесь удобно, а если вам понравится пение мисс Поттер, мы предоставим вам исключительную привилегию поздравить ее за кулисами. Что вы желаете пить?
— Виски.
— Прикажете подать двойную порцию?
— Нет, бутылку.
Дэвит поежился. Этот тип равно поражал простотой и несоразмерностью. Увидев чемодан, который Мак-Намара поставил под стол, он предложил:
— Не хотите ли оставить его в гардеробе?
— Я никогда не расстаюсь со своей волынкой, старина!
Питер почел за благо не вмешиваться в дальнейший ход событий и отправился сообщить Джеку, что клиент прибыл.
— Так я свистну парням сбор?
— Нет.
— Что на вас нашло? Может, вас больше не интересуют пять тысяч фунтов?
— Не мелите чепуху, Питер. Том сказал, что в окрестностях ошиваются инспекторы Блисс и Мартин. Стало быть, момент неподходящий.
— Значит, он так и уйдет с набитым карманом?
— Подождем, пока вернется.
— А с чего вы взяли, что он вернется?
— Патриция.
Блисс и Мартин, несмотря на приказ суперинтенданта, по-прежнему считали месть за убийство Полларда делом личной чести и продолжали проявлять пристальный интерес к «Нью Фэшэнэбл» и «Гавайской пальме». Им немедленно стало известно о появлении там шотландца. Полицейские тут же решили, что здесь что-то кроется — уж очень персонаж выпирал из всех привычных рамок. Может, это какой-то новый трюк Дункана? Привлечь внимание к человеку, которого хочешь закамуфлировать, может оказаться очень выигрышным ходом, и такой маневр вполне в духе изобретательного Джека. Более того, полицейские узнали, что в Лондон как раз прибыл морем значительный груз героина. Но даже самые тщательные обыски не дали никаких результатов. Оставив коллег из службы порта тратить нервные клетки на бесполезные поиски, Блисс и Мартин решили, что рано или поздно наркотики протекут по протоптанной дорожке через «Гавайскую пальму», поэтому, как только официальная служба заканчивалась, оба инспектора занимали позицию в окрестностях кабаре и наблюдали. Увидев, как шотландец вошел в «Пальму», Блисс и Мартин сочли, что их гипотеза, пожалуй, не так уж невероятна, как может показаться на первый взгляд. Этот колосс вполне может быть связным между портом и Дунканом. Они решили прощупать его под каким-нибудь предлогом, как только тот выйдет из кабаре. Оказавшись в их руках, ему волей-неволей придется заговорить.
Было ли тому причиной присутствие почитателя из Шотландии, но, во всяком случае, в тот вечер Патриция выступила во всем блеске и сорвала бурные аплодисменты. Однако настоящего триумфа она удостоилась за грустную ирландскую песню «Молли Мелон», и Малькольм, не зная, как еще выразить свой восторг, ко всеобщему радостному изумлению, исполнил «Нас сто волынщиков». При этом он маршировал по всему залу, как на параде. Последнюю ноту Малькольм выдал у самой сцены и, не мудрствуя лукаво, схватил Патрицию в охапку, посадил к себе на плечо и уже вместе с ней продолжал шагать меж столиков, к неописуемому восторгу публики. Мисс Поттер, зардевшись как маков цвет, умоляла своего поклонника опустить ее на грешную землю. Дункан и Дэвит, наблюдая из окна кабинета, не упустили ни единого мига этого невиданного зрелища. Но если Питер хохотал до слез, то Джек с ума сходил от бешенства. Патриция была его собственностью, и он не мог допустить, чтобы к ней прикасался кто-то другой.
Наконец шотландец решился отпустить мисс Поттер. Он осторожно поставил ее снова на сцену и, взяв за руку, объявил:
— Вот так у меня дома, в Томинтуле, показывают, что девушка тебе нравится.
Зал просто взревел от восторга, Мак-Намара стал гвоздем программы всего вечера. Старый мерзавец швейцар Том и бармен Герберт держались за бока. И забавнее всего им казалось то, что шотландец, видимо, был совершенно искренен. Все еще держа Патрицию за руку, он громко воскликнул:
— Вы просто сногсшибательны, мисс! Я бы хотел иметь такую жену у себя в Томинтуле. Хотите выйти за меня замуж?
Это необычайное предложение было встречено всеобщим гулом. Только Патриция уже не смеялась. Резко вырвав руку, она бросилась за кулисы. Малькольм на мгновение удивленно застыл, но быстро пришел в себя и кинулся следом. Он небрежно отшвырнул двух-трех человек, оказавшихся на пути, и, даже не подумав постучать, влетел в комнату Патриции. Она сидела, опустив голову на скрещенные руки, и горько плакала. Мак-Намара помрачнел. Аккуратно закрыв за собой дверь, он тихонько подошел к молодой женщине.
— Мисс, я не хотел вас огорчить, знаете ли…
Патриция подняла залитое слезами лицо и попыталась улыбнуться.
— Знаю…
— Вы мне правда очень нравитесь.
— Я бы тоже не сказала, что вы мне неприятны.
— Меня зовут Малькольм.
— А меня — Патриция.
Успокоенный, он взял стул и уселся на него верхом.
— Я уверен: если бы вы увидели Томинтул, он показался бы вам райским уголком.
— Не сомневаюсь…
— Так почему же вы не хотите туда
поехать?
— Это невозможно.
— Вам нравится Лондон?
— О нет!
— Значит, вас удерживает работа?
— Я ее ненавижу.
— Но ваш дядя сказал мне…
— Послушайте, Малькольм, вы — самый славный парень, какого я когда-либо видела. Сэм Блум мне не дядя… Он вам все наврал, вам все врут. Будьте осторожны, Малькольм, я не хочу, чтобы с вами что-нибудь случилось…
— А что может со мной случиться?
— Да, в самом деле, что с ним может случиться?
Они обернулись. Питер Дэвит, улыбаясь, стоял на пороге. Патриция быстро взяла себя в руки:
— Он такой беззащитный…
— …Что пробудил в час материнские чувства? Это вполне естественно… но я не думаю, что Джек будет очень рад этому, Патриция.
— А вы ему обо всем доложите?
— Должен был бы… но Джек что-то уж слишком разыгрывает большого босса, на мой взгляд. Я уже давно подумываю, что нам с вами неплохо было бы заключить договор…
— …который бы исключал…
— Разумеется!
— Об этом стоит подумать.
— Однако не советую слишком уж затягивать размышления. Кстати, мистер Мак-Намара, я думаю, мисс Доттер необходимо передохнуть перед следующим выходом.
— Вы хотите сказать, я должен уйти?
— Вот именно.
— Ну ладно.
Дэвит поклонился.
— Вы удивительно понятливы, мистер Мак-Намара. Будьте любезны…
Питер открыл дверь, пропуская шотландца. Патриции показалось, что она никогда больше не увидит этого добродушного гиганта, и голос ее дрогнул.
— Прощайте, Малькольм, и… удачи вам!
Мак-Намара изумленно оглянулся.
— Прощайте? Как бы не так! Мы еще увидимся, детка!
Глава III
В зале «Гавайской пальмы» Малькольма встретил взрыв веселой доброжелательности. Однако шотландец выглядел озабоченным. Он направился прямиком к бару, и Герберт принял его с особой теплотой.
— Ах, сэр! Здесь, в Сохо, что бы там ни говорили, редко выпадает случай повеселиться по-настоящему. Давно я так не смеялся, как сегодня благодаря вам. Спасибо, сэр, и если вы не сочтете это нескромным, могу я предложить вам стаканчик?
— Охотно принимаю угощение, старина. У нас в Томинтуле говорят: один человек стоит другого.
— Хотя бы ради этого имеет смысл жить в Томинтуле. Вам повезло, сэр.
Шотландец слегка наклонился над стойкой:
— Послушайте, старина, надо, чтобы вы мне объяснили… Все вы, кажется, сгораете от желания жить подальше отсюда, и при этом ни у кого, видно, не хватает мужества сменить обстановку. Почему?
Бармен пожал плечами:
— Не знаю, сэр… Может, потому что мы слишком прогнили? Не могу объяснить вам… Говоришь себе: «Конечно, пора менять пластинку», но стоит зажечься огням Сохо — и ты бредешь туда. В глубине души все мы жалкие ничтожества, сэр, вот что мы такое. Я еще никогда никому не говорил об этом, но, должно быть, вы и впрямь славный малый, раз меня потянуло на такого рода признания. И все-таки странно, что хочется говорить вам такое, в чем и самому себе-то не решаешься признаться… Думаю, мне пора пропустить еще стаканчик, с вашего позволения, сэр.
— На этот раз угощаю я, старина.
Они выпили, и Мак-Намара, ставя на стойку пустой бокал, неожиданно заметил:
— Этот парень, который меня здесь принимал…
— Мистер Дэвит?
— Ага… не нравится он мне, старина.
— А?
— Да-да, совсем не нравится. У него рожа предателя и лицемера, и мне очень хочется стукнуть по ней хорошенько.
— Не советую вам этого делать, сэр! Когда мистер Дэвит сердится, он становится… очень опасен… Вы понимаете меня, сэр?
— Еще бы! Но я тоже в случае чего могу быть опасен, и даже чертовски опасен. Он хозяин этой лавочки?
— Мистер Дэвит? О нет! Только управляющий, «Гавайская пальма» принадлежит мистеру Дункану… — Герберт понизил голос. — И если вас интересует мое мнение, сэр, то по сравнению с мистером Дунканом мистер Дэбит просто ягненок!
Возвращение Патриции на сцену прервало задушевную беседу шотландца с барменом. В зале наступил полумрак, и, освещенная единственным прожектором, молодая женщина запела что-то нежное и печальное. Все слушали с волнением, в полной тишине, тем более что крепкие напитки располагают англосаксонские сердца к сентиментальности. Когда Патриция допела знаменитый «Край моих отцов» — национальный гимн жителей Уэльса, — зал приветствовал ее настоящей овацией. Что до Малькольма, то он, к глубокому изумлению бармена, плакал.
— Что случилось, сэр?
— Старина, эта девушка станет женщиной моей жизни, и это так же верно, как то, что меня зовут Малькольм Мак-Намара!
— Насколько я понимаю, сэр, она произвела на вас дьявольски сильное впечатление?
— Впечатление? Слабо сказано, старина… Если я не привезу ее в Томинтул, то буду считать себя обесчещенным! Мы поженимся там, и Брюс Мак-Фарлан нас благословит, а потом закатим обед на целых три дня! Приглашаю вас, старина. Я сам приготовлю хаггис[355], и вы расскажете потом, доводилось ли вам пробовать что-нибудь лучше.
Герберт, похоже, смутился до глубины души.
— Сэр, я уже говорил вам, — пробормотал он, — вы мне симпатичны, и я не хотел бы, чтобы у вас были неприятности.
— Неприятности? С чего вы взяли, что они у меня будут?
— Я сейчас вмешиваюсь в то, что меня не касается, сэр, но мисс Поттер… быть может, не так… не так свободна, как вы себе представляете…
— А что ей мешает быть свободной?
— Хозяин… Дункан, — еле слышно шепнул бармен. — Они не женаты, но все равно что так.
— Ну, раз она не замужем, я имею право попытать счастья, разве нет?
— Я вас предупредил, сэр.
Герберт вернулся к своим бутылкам, а шотландец продолжал пить, пока к нему не присоединился Питер.
— Мистер Дункан слышал вашу игру на волынке и хочет лично поблагодарить за содействие успеху программы.
— Ага, но я-то сам хочу повидать певицу. Она мне очень нравится.
Бармен грустно покачал головой. Бедняга шотландец сам нарывается на всякого рода осложнения. Дэвит улыбнулся.
— Думаю, вам представится возможность пожелать ей спокойной ночи.
— В таком случае иду, старина.
Дункан встретил шотландца с изысканной любезностью и сказал, что глубоко оценил динамизм и непринужденность, с которыми ему удалось подогреть публику.
— Я считаю, мисс Поттер отчасти обязана своим сегодняшним успехом вам, — заметил он улыбаясь.
— Вы хорошо знаете мисс Поттер?
— Полагаю, что да.
— Как, по-вашему, она согласится поехать со мной в Томинтул?
Дункан прекрасно умел владеть собой, но тут он, казалось, был несколько выбит из колеи. Питер подавился виски.
— Я не вполне уверен, что правильно понял смысл вашего вопроса, мистер Мак-Намара.
— Я хотел бы жениться на мисс Поттер и увезти ее с собой в Томинтул.
Джеку пришлось напомнить себе о пяти тысячах фунтов, чтобы не вышвырнуть этого кретина за дверь.
— Затрудняюсь вам ответить… По-моему, этот вопрос вам следовало бы задать ей самой, и, кстати, мисс Поттер призналась мне, что была бы счастлива снова увидеться с вами.
— Ничего удивительного.
— Правда?
— Она, конечно, поняла, что я говорил искренне и что из меня получится хороший муж.
— Возможно… Вы очень уверены в себе, не правда ли?
— Да, довольно-таки.
— Настолько, что способны на весьма… неосторожные поступки?
— Не понимаю!
— По-видимому, вы убеждены, что можете противостоять хоть всему Лондону?
— Скажу вам одно, старина: в Томинтул порой забредают всякие типы, ну и… пытаются мутить воду… Так это я их утихомириваю. И ни один еще не вернулся обратно своим ходом.
Дункана слегка покоробила фамильярность обращения этого верзилы, но он все же не смог удержаться от улыбки — каково самодовольство!
— Могу ли я позволить себе дать вам совет, мистер Мак-Намара? Будьте осторожны… У меня такое ощущение, что наши бандиты куда опаснее томинтульских… Когда возвращаетесь слишком поздно, как, например, сегодня, берите лучше такси.
— Такси? Но я же не болен!
— Ну… Разве что у вас с собой нет ничего такого, что могло бы привлечь грабителей…
Шотландец рассмеялся и, похлопав себя по грудной клетке, тщеславно заявил:
— При мне пять тысяч фунтов, старина, и тому, кто захочет у меня их отобрать, надо поторопиться!
— Я остаюсь при своем мнении, мистер Мак-Намара: это крайне неосторожно!
— Не тревожьтесь за меня, старина, скажите-ка лучше, можно мне повидать мисс Поттер?
Питер Дэвит, который внимательно наблюдал за реакцией хозяина, заметил, как побелели его пальцы, сжимавшие бокал.
— Будьте любезны, Дэвит, предупредите мисс Поттер, что ее почитатель, прежде чем покинуть нас, хочет пожелать ей спокойной ночи.
Питер отправился на поиски Патриции. Наблюдать то, что Дункан едва сдерживает бешенство, доставляло ему огромное удовольствие. Молодая женщина была у себя. Она казалась печальной и, судя по опухшим глазам, недавно плакала.
— Огорчения, Пат?
— Я сама себе противна.
— Все мы приходим к этому — стоит лишь позволить себе роскошь поразмыслить. А потому разумнее принимать жизнь как есть и не оглядываться на прожитый день. Это шотландец вас так расстроил?
— Я уже совсем забыла, что на свете существуют такие ребята…
— И больше не вспоминайте, Пат, лучше скажите себе, что зато у вас остаются такие, как я.
Питер нежно наклонился к молодой женщине и шепнул:
— Вы же знаете, что в любом случае можете рассчитывать на меня, Пат…
Мисс Поттер выпрямилась и, в упор глядя на Дэвита, отчеканила:
— Вы мне столь же омерзительны, как и Дункан. Оба вы негодяи, преступники!
— Дорогая моя, позвольте вам напомнить, вы прекрасно пользуетесь плодами того, что называете нашими преступлениями!
— Вы заставляете меня пользоваться ими! Вам же прекрасно известно, что Джек не даст мне возможности уйти, иначе…
— Ну если бы вам действительно хотелось уйти…
— Может быть, я просто трусиха… но Дункан внушает мне ужас. Он вполне способен меня изуродовать в отместку… И что тогда со мной будет?
— Дункан не бессмертен. Стоит вам захотеть — и он быстро исчезнет с вашего пути.
— Для этого надо уступить вам?
— Вот именно.
— Не вижу, какой прок принесет мне эта перемена!
Дверь бесшумно отворилась, и на пороге появился Дункан. Он был по-прежнему изысканно вежлив, но чувствовалось, что его нервы напряжены до предела.
— Я вынужден был оторваться от дел и оставить гостя одного, чтобы прийти за вами, Патриция. А вы, Питер, чего вы ждали?
— Она… она была не готова…
— Ваше поведение мне не нравится, Дэвит!
— А мне ничуть не меньше — ваше, Дункан!
— Вы напрасно позволяете себе говорить со мной в таком тоне. Болван, что торчит сейчас в моем кабинете, уже достаточно взбесил меня сегодня.
— Разве вам не известно, что ревность — глупейший порок?
Пощечина, которой Дункан наградил своего подручного, звонко отозвалась во всей комнате. Питер опустил было руку в карман, но Дункан уже навел на него дуло пистолета.
— На вашем месте, Дэвит, я бы не рыпался!
Оба смотрели друг на друга с нескрываемой ненавистью.
— Вы совершили ошибку, Дункан…
И Дэвит вышел из комнаты.
Джек повернулся к Патриции:
— Что вы здесь вдвоем замышляли?
— Ничего особенного.
— Зарубите себе на носу, Патриция, — еще никому не удавалось посмеяться надо мной, и не вам начинать. И вы жестоко заблуждаетесь, коли воображаете, будто Дэвит у удастся вырвать вас из моих рук.
— Я одинаково презираю вас обоих.
— Если бы шотландец и его пять тысяч фунтов не ожидали вас в моем кабинете, я бы заставил вас на коленях молить у меня прощения. Но это можно отложить на потом. Ну, вперед!
— Нет!
— Вам бы не следовало раздражать меня, Патриция!
— Я не стану помогать вам грабить этого парня!
— Вы будете делать то, что я прикажу!
— Нет.
Дункан улыбнулся, но лицо его выражало свирепую ярость.
— Вы забыли, что в конце концов всегда слушаетесь?
— Ну так вот, представьте себе, мне это надоело!
— Вы заплатите мне за это, Патриция, и очень дорого!
— Плевать!
— Кто это вас так накрутил? Дэвит?
— Возможно…
— Этот тип начинает мне надоедать…
— То же самое он говорит о вас!
— Правда? Что ж, постараюсь сделать так, чтоб он больше не испытывал пресыщения. Можете на меня положиться!
— Питер не ребенок.
— И я тоже. Но все это к делу не относится. Сейчас мне нужны пять тысяч фунтов, которые этот идиот из Томинтула таскает с собой.
— Пойдите и возьмите их у него!
— За меня это сделают другие, и в первую очередь вы.
— Даже не рассчитывайте.
— Ну-ну…
Дункан вернулся в кабинет, напустив на себя сокрушенный вид.
— Мисс Поттер очень сожалеет, мистер Мак-Намара, но она слишком устала, чтобы присоединиться к нам, и просит вас извинить ее… У бедняжки разболелась голова.
Шотландец глубоко вздохнул:
— Скажите ей: я не смогу спокойно спать, зная, что она страдает… Я ее полюбил, эту крошку… Ну да ладно. Я вернусь. Спокойной ночи, джентльмены!
— Минутку, мистер Мак-Намара, вы не дали мне договорить… Мисс Поттер просила передать, что будет счастлива отужинать в вашем обществе, если, конечно, вас это устраивает.
— Еще бы не устраивало! Но… ужин… а как же ее номер?
— Завтра у нас выходной.
— А! Тогда все просто замечательно!
— Мисс Поттер просила также передать, что ей бы хотелось видеть вас в «Старом капитане» в восемь — в половине девятого.
— В «Старом капитане»? А где это?
— В квартале Биллинсгейт, неподалеку от рыбного базара, очень живописное место.
— Не сказал бы, что очень люблю рыбу, но ради мисс Поттер готов проглотить любую гадость.
Разговор прервал телефонный звонок. Том спрашивал, можно ли уже гасить свет и закрывать заведение, а заодно предупредил, что заметил инспекторов Блисса и Мартина, которые, по всей видимости, кого-то поджидают. Дункан на мгновение задумался, потом приказал швейцару закрыть главный вход, поскольку шотландский джентльмен воспользуется служебным. Положив трубку, Джек обратился к Мак-Намаре:
— Том сообщил мне, что вокруг бродят всякие подозрительные субъекты… Учитывая, что при вас такая крупная сумма, не лучше ли переночевать здесь?
Шотландец громко расхохотался.
— Я сумею за себя постоять!
Он подхватил свой чемодан и распахнул дверь.
— Будьте осторожны, сэр, — посоветовал Том.
— Не мечите икру, старина…
Однако предосторожности ради, прежде чем выйти, житель Томинтула на мгновение замер в тени у входа и внимательно оглядел улицу, желая убедиться, что на его пути нет опасности. Инспекторы Блисс и Мартин, заметив, со своей стороны, маневр шотландца и отметив его позднее возвращение, окончательно решили, что он несет что-то чрезвычайно ценное. Поэтому, как только Мак-Намара поравнялся с ними, оба инспектора одновременно набросились на него. Дункан и Дэвит сквозь ставни наблюдали за сценой. Том тоже не желал упустить такое потрясающее зрелище. Блисс так и не понял, что с ним произошло и почему он уткнулся в угол дома и каким образом его ноги оказались выше головы. Что до Мартина, то, получив мастерский удар в солнечное сплетение, он стоял на мостовой на коленях и тщетно пытался снова обрести способность дышать нормально. Хохот Мак-Намары взорвал тишину лондонской ночи. Спрятавшиеся за ставнями Дункан и Дэвит оторопело поглядели друг на друга, а Том чуть не завопил, как болельщик на стадионе. Шотландец же, дабы отпраздновать победу над лондонскими бандитами, достал свою волынку и направился к «Нью Фэшэнэбл», играя «Колыбель горца». Это было ошибкой, потому что Блисс, едва придя в себя, достал полицейский свисток и издал резкий свист. Патрулировавшие невдалеке полицейские поспешили на помощь и быстро нагнали человека, на которого им указали инспекторы. Им это удалось без труда, потому что Малькольм и не думал торопиться — совесть его была чиста. Когда его окружили полицейские, он вежливо пожелал им доброго вечера и не оказал ни малейшего сопротивления.
В Ярде, несмотря на пламенное желание взять реванш, инспекторы вынуждены были признать полную невиновность своего победителя. Собираясь арестовать шотландца, они не сообщили, что служат в полиции, и томинтульский герой имел полное право защищаться. Когда полицейские поинтересовались причинами его чрезмерно долгого пребывания в «Гавайской пальме», Мак-Намара поведал о своей внезапной страсти к Патриции Поттер и тут же восторженно описал ее портрет. Блисс успокоился.
— Послушайте, Мак-Намара, — сказал он, — я не сомневаюсь, что вы честный человек, так послушайтесь моего совета: покупайте машинки для стрижки и как можно скорее возвращайтесь в Томинтул к своим драгоценным овцам!
— Без Патриции?
— Эта девушка не для вас! Во-первых, она живет с мерзавцем Дунканом, а во-вторых, мы подозреваем, что она замешана в убийстве, одного из наших коллег.
— Такого не может быть, старина!
«Старина» вовсе не обрадовался подобной фамильярности.
— Вас не очень затруднит называть меня «инспектор»?
— Нисколько, старина.
Блисс кинул сердитый взгляд на Мартина, который с трудом подавлял нестерпимое желание расхохотаться. Малькольм же ничего не замечал — все его мысли витали исключительно вокруг мисс Поттер.
— Я лучше вас знаю Патрицию. Ей этот образ жизни не нравится.
— Почему же она его не изменит?
— Боится Дункана.
— Пусть подаст нам жалобу!
— А вы уверены, что сумеете защитить ее, старина?
— А вы?
— Что я?
— Вы не можете помочь ей?
— По правде говоря, старина, если я рассержусь по-настоящему, то рискую зайти слишком далеко и прикончить Дункана, а заодно и второго гнусного типа, того, что все время ошивается рядом. Но у меня нет ни малейшего желания болтаться на веревке, потому что, во-первых, это слишком огорчит мою мать, а во-вторых, не доставит никакого удовольствия мне самому…
— Тогда возвращайтесь в Томинтул.
— Без Патриции не поеду.
— Ладно… Во всяком случае, не говорите потом, что вас не предупреждали.
Сэм Блум не пожелал ложиться спать, пока не узнает, удался ли план и получит ли он обещанное вознаграждение. При виде шотландца он подскочил, да так и застыл, изумленно уставившись на жизнерадостную физиономию постояльца.
— Все еще бодрствуете, мистер Блум? — весело спросил тот.
— Я… я волновался из-за того, что вы так задержались, я боялся, не заблудились ли вы.
— Вовсе нет, старина. Зато на меня тут напали два человечка. Пришлось их проучить, чтобы больше не приставали.
— А кто же… кто были эти… люди?
— Полицейские инспекторы.
— Что?!
— Только как же я мог это знать?
— А… потом?
— Потом они, конечно, позвали на помощь констеблей. Не очень спортивно, а? И все мы оказались в Ярде. Пришлось объясняться. И знаете, что они мне посоветовали?
— Что?
— Вернуться в Томинтул!
— Правда?
— Ну а я ответил, что не поеду в Томинтул без Патриции!
— Моей племянницы?
— Вы большой шутник, старина, да? Патрицию я люблю, а все остальное не имеет значения…
— Но вы же с ней едва знакомы!
— И что с того?
— Вы… вы говорили о своих планах с ней самой?
— Даже предложение сделал посреди зала «Гавайской пальмы».
— Но почему вы выбрали такое место?
— Потому что я играл там «Нас сто волынщиков».
— Представляю, какую радость это доставило Дункану!
— По-моему, все были довольны, кроме Патриции, которая барабанила по моей голове.
— По голове? Почему по голове?
— Потому что я нес ее на плече. Спокойной ночи, старина… Я не жалею, что выехал из Томинтула. Лондон — веселый город!
Слегка затуманившимся взором Сэм смотрел, как шотландец поднимается по лестнице. Вот это шотландец, который лупит инспекторов Ярда, играет на волынке в «Гавайской пальме» и сажает на плечо Патрицию, Патрицию — зеницу ока Дункана!
На следующий день в восемь часов вечера Малькольм Мак-Намара переступил порог «Старого капитана». Он не обратил внимания на трех верзил, не спускавших с него глаз, зато эти трое бандитов — Блэки, Торнтон и Тони — разглядывая свою будущую жертву, очень жалели, что не потребовали от Дункана большей мзды. Пока шотландец выбирал столик, Тони пробормотал:
— Кажется, мы влипли…
Торнтон, самый крепкий из всех, пожал плечами.
— Ба! Эти великаны на деле сплошь и рядом оказываются просто тряпками.
— Не думаю, чтобы это был тот случай, — заметил Блэки, старший из троицы.
В ожидании Патриции шотландец съел три порции сарделек и выпил полбутылки виски. Необычный посетитель вызвал у хозяина кабачка, Джима-Совы, жгучее любопытство, и он подошел к его столику.
— Вы здорово проголодались, как я посмотрю, сэр.
— Проголодался? Поговорим об этом попозже, когда мы с моей дамой будем ужинать.
— Как? Вы собираетесь еще и ужинать?
Теперь удивился шотландец.
— Вы что, шутите, старина? Это же просто легкая закуска. Надо ведь как-то убить время… А что у вас сегодня в меню?
Мак-Намара заказал ужин, которым можно насытить четверку хороших едоков, и снова принялся поглощать сардельки и виски. В половине девятого появилась Патриция — Дункан заставил-таки ее выполнить его волю. Малькольм поспешил навстречу, взял девушку за руку и подвел к столику.
— Ну вот, детка, видеть вас — настоящее удовольствие, а я уж боялся, вы не придете.
— Почему?
— Потому что вы такая изящная, шикарная дама… а я? У меня на этот счет, знаете ли, мало иллюзий. Только ведь когда любишь…
Несмотря на терзавшую ее тревогу, девушка улыбнулась:
— Бедный мой друг, что бы вы стали делать со мной в Томинтуле?
— Вы бы стали матерью моих детей, что же еще?
— Скажите честно, Малькольм, вы представляете себе меня там?
— Может, не такой, какая вы сейчас… Если бы вы поехали со мной, мы пошли бы от поезда пешком… Не доходя до моего дома есть фонтан. Там я умыл бы ваше лицо, смыл бы всю эту краску… угу… и вы после этого стали бы совершенно чистой. И мы начали бы все сначала.
Патриция разрыдалась, и все посетители повернулись к гиганту. Он обхватил ее своей могучей рукой, прижал к себе и стал укачивать как ребенка.
— Это все — волнение, — объяснил он любопытным.
Джим-Сова, все еще мучимый сомнениями, опять подошел к столику.
— Так будете вы ужинать или нет?
— Еще как будем!
— Но, учитывая состояние дамы…
— Вот именно, старина, вот именно… В ее положении нужно как можно больше есть!
Кабатчик на секунду замер в недоумении, потом в его глазах блеснул огонек понимания, и, улыбаясь, он поклонился мисс Поттер.
— Вы позволите выпить за здоровье вашего будущего малыша, мэм?
Патриция аж задохнулась и покраснела до корней волос, Малькольм рассмеялся, а трое убийц отчаянно пытались понять, что бы все это могло значить.
— А теперь, Патриция, расскажите-ка мне, что с вами?
— То, что вы говорили… а тут еще этот дурак…
— Да, согласен, он малость поторопился.
Девушка накрыла его руку своей.
— Малькольм, не надо меня любить, я этого не стою…
— Ну, об этом судить мне.
— Как только вы узнаете…
— Я ни о чем не спрашиваю.
— Я родилась не в Лондоне, а в Уэльсе. Мои родители были крестьянами, до того нищими, что в шестнадцать лет мне пришлось уйти из дому и зарабатывать на жизнь. Я сменила много мест, одно тяжелее другого, а потом, год назад, встретила Дункана… и это было настоящим падением. Дункан — отъявленный негодяй, а Дэвит — убийца.
— Но если Дункан дорожит вами, почему он позволил вам встретиться со мной?
Он увидел, что Патриция мучительно борется с собой.
— Не могу… он меня убьет… не могу, — наконец пробормотала она.
— А вы, случаем, малость не преувеличиваете?
Патриция прошептала:
— Однажды такое уже было… полицейский, следивший за Дунканом… а потом девушка… я им говорила… тогда он меня ударил.
Ей хотелось набраться мужества и объяснить ему все, описать окружение, в котором страх заставляет ее жить. Рядом с этим человеком, простым и ясным, привыкшим к освежающему ветру Шотландии и уверенным, что в жизни нет и не может быть ничего сложного, Патриция испытывала острое желание очистить свою совесть. Да, он прав, таких, как она, никогда не видывали в Томинтуле, и в этом его счастье. Этот большой ребенок очарован ее внешностью, но если бы он заглянул внутрь и увидел, что кроется за фасадом… Патриция сердилась на Малькольма, так как он заставил ее ощутить всю глубину своего падения. Он натолкнул ее на воспоминания, что когда-то она дышала чистым воздухом, бегала по холмам и смеялась вместе с другими девушками и юношами. И мисс Поттер вдруг почувствовала себя старой… бесконечно старой… А этот идиот смотрит на нее с обожанием и наверняка воображает, будто и она отвечает пылу его чувств. Но ведь на самом-то деле ее подослали, и только для того, чтобы задержать его до одиннадцати или половины двенадцатого, а потом передать наемникам Джека! Патриция была отвратительна себе самой, но у нее не хватало мужества предупредить шотландца. Если она все ему расскажет, то станет ему противна, он вернется к себе в Томинтул, а она, она останется одна давать объяснения своим хозяевам. Представив, какая ей тогда будет уготована судьба, девушка содрогнулась от ужаса.
— О чем вы думаете, Патриция?
Она посмотрела на шотландца так, будто он был далеко, очень далеко, вне пределов ее мира.
— Ни о чем.
— Так вот, вы чертовски красивы, когда думаете ни о чем!
Джим-Сова начал расставлять заказанные блюда, и это избавило мисс Поттер от необходимости отвечать. При виде такого обилия пищи молодая женщина удивленно воскликнула:
— Вы ждете кого-нибудь еще?
— Я? Я ждал только вас. Слишком большое счастье — побыть с вами вдвоем.
— Но… все эти блюда?
— Я так влюблен, что мне хочется есть еще больше, чем обычно!
Когда в «Гавайской пальме» бывал выходной, Питер Дэвит имел обыкновение заниматься личными делами, то есть размышлять, каким бы образом занять место Дункана подле большого босса, того, кто заправляет торговлей наркотиками в Сохо. И все же он понятия не имел, кто бы это мог быть. Питер из кожи вон лез, пытаясь раскрыть инкогнито и получить возможность проявить инициативу. Под предлогом обхода мелких поставщиков он прощупывал почву то здесь, то там, но похоже было, что вся эта мелкота не знает никого, кроме Дункана. Несколько раз Питеру приходило в голову, что Дункан и есть этот всемогущий мистер Икс, но тут же возникала куча всяких соображений, обращавших эту гипотезу в прах, более того, он не мог найти ни единого аргумента «за». Ко всему прочему, будь Дункан в самом деле большим боссом, он не оказался бы в таком тяжелом финансовом кризисе, как сейчас.
Дэвит собрался было уходить, как вдруг зазвонил телефон. Никто, кроме Джека, не знал его адреса. Питер снял трубку:
— Ну?
— Питер, мне необходимо немедленно вас видеть.
— Но…
— Я сказал: немедленно!
И не успел Дэвит возразить, как в трубке послышались гудки. Бандит в бешенстве отшвырнул ее. Как ему осточертело такое обращение Дункана! Пора с этим кончать, и чем раньше, тем лучше. Однако когда два человека знают друг о друге слишком много, их альянс не может быть нарушен без серьезного столкновения, и Питер всеми силами души призывал этот момент, но собирался спровоцировать противника только тогда, когда это будет выгодно самому Питеру, и только приняв все возможные меры предосторожности.
Патриция уже давно покончила с сдой. Она закурила, наблюдая, как шотландец продолжает спокойно поглощать одно блюдо за другим. Зрелище это вызывало у нее восторг, смешанный с легким испугом. Впрочем, завидный аппетит горца пробудил подобные чувства не только у нее. Трое наемников Дункана, как завороженные, млели от восхищения, да и прочие посетители «Старого капитана» со знанием дела оценили дарованный им случаем великолепный аттракцион. Патрицию немного смущало всеобщее внимание.
Блэки шепнул приятелям:
— Жаль, что нам придется уничтожить такое чудо…
— Да ты, кажись, становишься сентиментальным, — хихикнул Торнтон.
— Нет, просто во мне силен спортивный дух.
Наконец Малькольм со вздохом удовлетворения отодвинул от себя тарелку. Патриция не удержалась, спросила:
— И вы всегда так едите?
— Да, если не считать праздников в Томинтуле — тогда случается и переесть.
— Какие же вам доходы надо иметь только для прокорма!
Шотландец добродушно рассмеялся.
— Ну, все необходимое у меня есть. Не беспокойтесь, Патриция, поедете со мной в Томинтул — ни в чем нуждаться не будете.
Он говорил с такой уверенностью, что девушка даже размечталась, забыв о своем мрачном настоящем.
— Расскажите мне о Томинтуле.
На минуту Малькольм задумался, потом с сокрушенным видом покачал головой.
— Забавно… но я не могу.
— Почему?
— Потому что трудно говорить о том, что любишь. К примеру, когда я вернусь к себе в Томинтул и скажу ребятам, что встретил самую красивую девушку в Лондоне, они мне, конечно, не поверят, начнут посмеиваться и спросят: «Какая же она, эта девушка?» А я, как я сейчас понял, не смогу им ответить… потому что не найду слов. Понимаете?
— Не очень.
— Ну вот священник, когда говорит о Боге… ему никогда не приходит в голову описывать Всевышнего. Бог заполонил его целиком, и этого достаточно. Если его спросят о Боге, я хочу сказать — о его внешнем виде, священник тоже не сможет ответить. Так и я. Все, что я смогу сказать ребятам: «Ее зовут Патриция». Они начнут смеяться, я разобью физиономию одному или двоим, и тогда остальные мне поверят, потому что они знают меня и знают, что я никогда не полезу в драку без серьезной причины.
Немного помолчав, он продолжил:
— Томинтул — это холмы и скалы… овцы… множество овец… источники с вечно ледяной водой… и сильный, продувной ветер в течение всего года… и еще — наслаждение идти в полном одиночестве на этом чертовом ветру… вот что такое Томинтул. Как вы думаете, вам там понравится? — добавил он робко.
— Да… — Патриция говорила искренне. — Но это невозможно.
— Вы боитесь, да?
— Боюсь.
— Дункана?
— Да.
— Нечего его бояться, я ведь здесь!
— Бедный мой Малькольм…
Войдя в кабинет Дункана, Дэвит не стал скрывать скверного настроения.
— Неужели вы не можете оставить меня в покое хоть на один вечер в неделю?
— Звонил патрон.
— Ну и что? Мне противны люди, которые вечно прячутся.
Джек посмотрел на него долгим, изучающим взглядом.
— Не знаю, что на вас нашло в последнее время, Питер, но вы идете по опасной дорожке. Вы, я полагаю, еще не устали от жизни?
— А что?
— Да то, что если бы патрон узнал, какого вы о нем мнения, я недорого бы дал за вашу шкуру.
— Уж не вы ли при случае сведете со мной счеты?
— А почему бы и нет?
Дэвит осклабился.
— И вы не подумали, что я буду защищаться?
— Нет… Дэвит. Вы — наемный убийца, и только. И зарубите себе это на носу! А наемный убийца меньше чем кто-либо еще способен размышлять… Поэтому подчиняйтесь и молчите. Больше вы ни на что не годитесь.
Питера перекосило от вспыхнувшей злобы.
— Сволочь! — прохрипел он.
Дункан спокойно ударил его ребром ладони по губам.
— Это чтобы научить вас уважать старших по положению, Дэвит.
— Клянусь, я…
— Хватит! Инцидент исчерпан, но напоминаю вам, что это ухе второй за последние сутки. Третьего не будет. А теперь слушайте: мне звонил патрон. Десять кило чистейшего героина ожидают в порту, чтобы за ними пришли.
— Десять кило!
— Давненько не было такой хорошей партии, и выручка сулит целое состояние, даже учитывая необходимость дележа… только все это очень опасно. Тот, кого сцапают с таким грузом, может попрощаться со свободой до конца своих дней…
— Догадываюсь.
— Патрон хочет, чтобы мы поторопились…
— Почему бы ему не прогуляться самому?
— Опять начинаете, Дэвит! К тому же вы сказали глупость: если бы он делал все сам, мы бы ничего не получали.
— Согласен, но на меня не рассчитывайте!
— Знаю… и за вами, и за мной слишком пристально следят легавые… Но если бы удалось отыскать человека, способного оказать нам такую услугу, вы могли бы обеспечить его безопасность и… наблюдение?
— Само собой.
— Ведь было бы крайне прискорбно, если бы нашему посыльному взбрела в голову идея оставить все себе. К несчастью, по всему Соединенному Королевству найдутся люди, достаточно бесчестные, чтобы не следовать принятым правилам, и они купят товар, не задумываясь о его источнике.
Дэвит кивнул:
— Да, с моралью нынче плохо.
Патриция не замечала течения времени. Неловкие ухаживания шотландца навеяли воспоминания о ее первых воздыхателях из уэльской деревни: то же волнение, те же смущение и искренность, то же непонимание современного мира. Только в те времена она сама не знала жизни. Сегодня все было иначе. В голосе Малькольма Патриции слышались отзвуки голосов Дефайда, Аньорина, Гвилима, Овейна…
Пока Мак-Намара воспевал очарование Томинтула, молодая женщина вновь вспомнила уэльскую деревню, ее зимы и весны, казавшиеся тогда нескончаемыми, и глаза ее застлали слезы. Но вот, подняв голову, чтобы улыбнуться Малькольму, Патриция заметила наемников Дункана. Ей показалось, что Торнтона она уже видела у Джека, а по выражению физиономий двух остальных было нетрудно догадаться, что именно им поручено ограбить шотландца. И вот всем существом своим Патриция возмутилась. Теперь она и мысли не могла допустить о том, чтобы отплатить этому парню за его столь наивно выраженную нежность предательством, отдав его в руки убийц. Но как помешать этому, не скомпрометировав себя в глазах этих троих, которые не преминут доложить обо всем Дункану? Патриция лихорадочно перебирала в голове способы выкрутиться из этого скверного положения. Тщетно. А тут еще Джим-Сова объявил:
— Джентльмены, время закрывать!
Посетители послушно вышли. Трио отправилось дежурить на Клементс-Лейн, куда под предлогом вечерней прогулки мисс Поттер должна была заманить шотландца. Патриция, как могла, тянула время, но все-таки настал момент, когда уже нельзя было не уходить из помещения. Как осужденный на казнь старается воспользоваться последними минутами, она до бесконечности рассыпалась в любезностях Джиму-Сове и его кухне. Старый Джим, не приученный к таким комплиментам, поскольку его клиентуру составляли в основном неотесанные обитатели рыбного базара, расцвел как роза. Дабы не ударить в грязь лицом, он тоже пожелал счастья такой милой паре и, подмигнув с видом человека бывалого, закончил свою речь обращением к мисс Поттер:
— Уж вам-то никогда не придется тревожиться за своего муженька, мэм… Редко я встречал таких крепких молодцов, да еще с таким прекрасным аппетитом! А уж как он на вас смотрит, сразу ясно — влюблен по уши! Если позволите высказать мое мнение, мэм, вам обоим ужасно повезло, и я вам искренне желаю, чтобы ваш малыш был таким же красивым, как его папа и мама. — И, поскольку Джим-Сова был при случае не прочь пошутить, добавил: — Но все-таки пусть он не вырастет таким отчаянным едоком, как его папа, потому что ни одна семья в Соединенном Королевстве не сумеет насытить два таких аппетита — она просто разорится! — И Джим расхохотался над собственной остротой.
Но его примеру последовал только Малькольм. Патриция же почувствовала, что ей сдавило горло, и рассердилась на хозяина «Старого капитана» за то, что он заговорил с ней о мире, в котором ей больше нет места.
На пороге шотландец взял Патрицию под руку и шепнул:
— Видите, дорогая, вам непременно надо поехать в Томинтул.
Патриция прижалась головой к руке Мак-Намары (плечо оказалось слишком высоко) и расплакалась, чтобы хоть как-то облегчить душу. Он дал ей поплакать, а потом ласково спросил:
— Вы плачете, наверное, не без причины?
— Скажем, это из-за того, что нам скоро предстоит расстаться… Вы уедете в Томинтул… а я… я вернусь к тому, что ненавижу… и из-за вас буду еще несчастнее, чем прежде…
— Поехали вместе!
— Это невозможно, Малькольм, я не хочу, чтобы с вами случилось несчастье…
— Вы и вправду думаете то, что говорите?
— Клянусь вам!
Малькольм еще крепче прижал девушку к себе.
— Тогда не надо портить себе нервы! Мы еще увидимся, детка…
Теперь Патриция готова была перенести все наказания Дункана, что угодно — но она ни за какие коврижки не поведет своего спутника на Клементс-Лейн. В конце концов, Джек, конечно, может ее убить, да стоит ли та жизнь, которая ей предстоит, того, чтобы за нее цепляться? Но в тот момент, когда Патриция уже собиралась предложить взять такси, Малькольм сказал:
— Если вы не очень устали, дорогая, мне хотелось бы немного пройтись с вами… все-таки ночной Лондон — это кое-что, или нет?
И, не ожидая ответа, он повел ее по улице. Патриция не стала возражать. Со свойственным ей фатализмом молодая женщина уже не чувствовала себя в силах что-либо предпринять, и когда Мак-Намара свернул на Клементс-Лейн, она увидела в этом неотвратимый перст судьбы. Патриция брела почти в полузабытьи, не в состоянии произнести ни слова. И однако все нервы были так напряжены, что она скорее угадала, чем увидела три тени, притаившиеся у входа в дом метрах в ста пятидесяти от них. Патриция остановилась как вкопанная. Удивленный Мак-Намара тут же спросил, что с ней.
— Что это вы все время таскаете с собой в чемодане, Малькольм?
— Волынку.
— Такую, какой в Томинтуле приветствуют свою избранницу?
— Точно.
Мисс Поттер пришла в голову блестящая мысль, и, несмотря на мучительную тревогу, ей стало весело.
— Значит, вы обманывали меня, уверяя, что любите! Где концерт в мою честь?
— Кроме шуток? Вы этого хотите?
— Даже прошу вас об этом.
Мак-Намара не заставил себя ждать, он извлек из чемодана волынку и заиграл «С островов — в Америку».
В тихой лондонской ночи гнусавые звуки волынки разбудили громкое эхо, и молодая женщина улыбнулась, представив себе, как вытянулись физиономии убийц, которых этот неожиданный концерт должен был повергнуть в полную растерянность. Вскоре из раскрывающихся окон стали раздаваться крики и проклятия, но шотландец, не обращая на все это никакого внимания, продолжал что есть мочи дуть в свою трубку. После «С островов — в Америку» он переключился на «Лохабер не повторится», вызвав бурю негодования у обитателей квартала. Наемники Дункана не решились наброситься на шотландца при таком обилии свидетелей. Именно на это Патриция и рассчитывала. Полицейская машина прибыла как раз в тот момент, когда Мак-Намара заканчивал свой импровизированный концерт торжественной «Армией короля Георга».
Услышав от Торнтона о происшествии на Клементе-Лейн, Дункан пришел в исступление, зато Дэвит, хотя и был разочарован тем, что выгодное дело сорвалось, забавлялся бешенством своего шефа. Уверенный в своей полной невиновности, Торнтон защищался:
— Но, хозяин, это ж не наша вина! Мы точно выполнили все ваши приказания, тютелька в тютельку. Мы подождали, пока Джим-Сова прикроет лавочку, и вышли, оставив позади мисс Поттер и жирного голубка. Хотя, по правде сказать, шеф, нам было немного не по себе — очень уж не хотелось убивать этого парня…
— Вот как?
— Это правда, шеф, он нам понравился… Видели б вы, сколько он может съесть, глазам бы своим не поверили! И при этом все время шутит… Говорю вам, хозяин, если б мы не знали, что при нем большой кусок, мы бы с Блэки и Тони еще подумали — такой он симпатяга, этот шотландец!
— Решительно, этот малый обладает даром вызывать нежные чувства! Продолжайте! — нервно хихикнув, проговорил Дункан.
— Ну вот, значит, вышли мы, как было договорено, и спрятались на Клементс-Лейн… подождали маленько и видим: появляется мисс Поттер с парнем… все шло как по маслу, чего там… и вот ни с того ни с сего этот идиот вытаскивает волынку и устраивает концерт посереди улицы, да еще в такой час!
— А что в это время делала мисс Поттер?
— Что бы вы хотели, чтобы она делала? Пришлось ей стоять и ждать, пока ее шотландец прекратит это дело, потому как уж если этому парню что взбрело на ум — прости-прощай, не остановишь!
— А потом?
— Ну, потом произошло то, что и должно было случиться, весь квартал просто взбесился, вопили из каждого окна. Настоящий цирк! Время для нападения было не самое удобное — все равно как сделать это на сцене театра! Мы подождали, надеясь, что парень утихомирится и тогда мы его чуть подальше и обработаем. Какое там! Прикатили фараоны и загребли шотландца вместе с мисс Поттер… Такие дела…
Полицейский участок на Кеннон-стрит надолго сохранит воспоминание о ночи, которую провели там Малькольм Мак-Намара и Патриция Поттер. Начало было не из приятных — сержанта Брайана Фоллрайта терзал ревматизм в правой ноге, и он встретил виновников ночного переполоха довольно сурово. Шотландец и Патриция, даже не пытаясь спорить со стражами порядка, предстали перед Фоллрайтом, блаженно улыбаясь, что окончательно вывело сержанта из себя. Малькольм нашел это приключение довольно приятным, а Патриция была счастлива, что ей удалось спасти своего спутника от участи, уготованной ему Дунканом. Когда оба нарушителя покоя назвали свои имена, фамилии, профессии и прочее. Фоллрайт взорвался:
— Ну? И какого дьявола весь этот тарарам? Где вы, по-вашему, находитесь? И вообще, что это за дыра, Томинтул?
— Это деревушка в Шотландии, в графстве Банф!
— И чего вам там не сиделось?
— Я приехал купить машинки для стрижки овец.
— Среди ночи? На Клементс-Лейн? Играя на волынке? Вы там у вас в Томинтуле знаете, что полагается за издевательство над сержантом лондонской полиции?
В разговор вмешалась Патриция:
— Простите, сержант, но, я думаю, произошло недоразумение.
— Если это недоразумение, мисс, то в интересах вашего спутника уладить его как можно скорее!
Мак-Намара с напускной горечью заметил:
— Я вижу, сержант, что вы с предубеждением относитесь к Шотландии и шотландцам.
Сержант встал и угрожающе выпрямился.
— Не служи я в полиции Ее Величества, за такие слова я расквасил бы вам физиономию, хотя вы моложе меня и весите по крайней мере на двадцать кило больше! Знайте, что я обрел свою жену, Элспет Фоллрайт, в Инвернессе, и если бы
смерть не вырвала ее у меня, то я ушел бы в отставку в Бейли!
Вместо ответа Мак-Намара взял волынку и поднес ее к губам.
— Вы что, взбесились? — спросил совершенно ошарашенный сержант.
Перед тем как заиграть, шотландец объявил:
— В честь и в память Элспет Фоллрайт, которая была самой красивой девушкой Инвернесса!
И полились звуки «Ткачиха Дженни Данг». Удивление сержанта сменилось умилением, он невольно смахнул слезу, а в это время все присутствующие полицейские почтительно вытянулись по стойке «смирно», отдавая честь памяти усопшей. Когда шотландец опустил инструмент, Фоллрайт протянул ему руку.
— Спасибо, сэр… А теперь поведайте мне, как другу, почему все-таки вы решили устроить концерт на Клементс-Лейн в час, когда все порядочные граждане пользуются заслуженным правом на отдых?
Малькольм указал на Патрицию:
— Потому что я ее люблю.
По-видимому, сержант никак не мог уловить связь между ночным скандалом и изъяснением нежных чувств, от которого Патриция зарделась.
— Может, объясните поподробнее? — попросил он.
— У нас в Томинтуле, когда вам нравится девушка, надо рассказать об этом всем. А что может быть красноречивее волынки? К примеру, кто-то работает и вдруг слышит звуки волынки. Тогда он говорит себе: «Ага, вот влюбленный!» — и бросает все свои дела, чтобы поглядеть, кто же это, и видит: парень следует за девушкой, а та делает вид, будто ничего не слышит и не замечает. Если она не согласна, то велит ухажеру оставить ее в покое и играть где-нибудь подальше. И наоборот, если она позволяет ему следовать за собой, то вроде как при всех дает слово… Ну вот, я начисто забыл, что мы в Лондоне.
Сержант вздохнул:
— Если бы вы проторчали тут почти пятьдесят лет, как я, то не позволили бы себе роскошь забыть! Побудьте здесь до тех пор, пока заря не наберется мужества осветить этот проклятый город… Присаживайтесь вместе в уголке… говорите друг другу всякую нежную чепуху, и когда-нибудь вы вспомните с умилением и эту ночь, и старую скотину сержанта, задержавшего вас в участке.
Торнтон давно ушел. Дункан и Дэвит долго молчали. Наконец Питер, которому до смерти надоело сидеть сложа руки, заметил:
— Такое выгодное дело — и опять уходит из-под носа!
— От случайностей не застрахуешься!
— Кое-что сделать все-таки можно.
Дункан уставился на своего приспешника:
— Вы знаете такой способ?
Дэвит вытащил пистолет.
— Против этой штуки ни одна случайность не устоит. Я тихонько пойду за шотландцем, пристрелю в укромном уголке, заберу пять тысяч ливров, и ни с кем не придется делиться.
— Может статься, и со мной тоже? Хапнете денежки — и тю-тю!
— Я не позволю вам!
— Вы ничего не можете ни позволить мне, ни не позволить, Питер, я устал повторять вам это на каждом шагу. Все ваши великие замыслы — сплошная глупость. Полиции известно, что Мак-Намара бывает в «Гавайской пальме», за нами слишком пристально следят. И они не замедлят явиться сюда.
— Ну и что?
— А то, что к нам еще крепче прицепятся как раз в тот момент, когда необходимо, чтобы нас оставили в покое.
Дэвит пожал плечами:
— Если вас не интересуют пять тысяч…
— Нет, когда я могу заработать гораздо больше.
— Не секу.
— Я не знаю, Дэвит, Небо или Ад послали нам этого шотландца, но уверен, что это сделал наш благодетель.
— Это еще почему?
— Потому что если мы сумеем взяться за дело толково, то именно наш спец по кошачьим концертам сходит за героином и притащит его сюда под носом у джентльменов из Скотленд-Ярда.
Ни Малькольму, ни Патриции не хотелось спать. Они сидели, взявшись за руки и забыв обо всем на свете. Полицейские, в свою очередь, не обращали на них внимания. Мисс Поттер грезилось, что она навсегда покончила с миром дунканов и дэвитов и что теперь у нее свой, новый мир, в котором шотландец всегда будет держать ее за руку. А он рассказывал о Томинтуле. Можно было подумать, Мак-Намара вообще не способен говорить на другие темы.
— Не может быть, дорогая, чтобы вам хотелось остаться в этом городе, где так плохо дышится, а? Я, конечно, не говорю, что в Томинтуле масса развлечений, но когда как следует прогуляешься, ничего не хочется так, как вздремнуть… И притом там каждый раз все по-новому… я не очень-то умею объяснять… Вам надо поехать и посмотреть.
— Так, значит, все, что было до нашей встречи, вам безразлично?
— Да нет, не совсем так… только… это меня не касается. Если вы согласитесь поехать, я увезу с собой другую, новую Патрицию.
Она покачала головой.
— Это было бы нечестно с моей стороны.
Девушка чуть слышно заговорила, и один из полицейских, случайно взглянувший в их сторону, решил, что она нашептывает слова любви. Это напомнило ему молодые годы. Все мы одинаково глупы.
— Очень трудно бежать из среды, в которой я живу, Малькольм… Я слишком много знаю о них, чтобы меня отпустили…
— Кто?
— Дункан, Дэвит, а тот, кто стоит за ними, — особенно. И хоть я его не знаю, он-то наверняка меня знает.
Мак-Намара поиграл мышцами.
— Я бы посоветовал всей этой шушере сидеть тихо.
Пат умиленно улыбнулась:
— Бедняга Малькольм, ваша сила ничему не поможет… они нанесут удар в спину… как всегда…
— Вы думаете?
— Уверена.
— Простите, дорогая, но ведь людей все-таки не убивают просто так, ни за что ни про что!
— Мой побег с вами был бы достаточной причиной. Они бы испугались, что я все расскажу полиции!
— Но что особенного вы можете рассказать?
Патрицию так раздосадовала непонятливость наивного горца, что она забыла известную пословицу: молчание — золото.
— А то, что «Гавайская пальма» — центр торговли наркотиками в Сохо!
— Наркотиками?
— Морфием, героином и прочей мерзостью, которая приносит богатство тем, кто ею торгует, а тех, кто все это покупает, в конце концов вгоняет в гроб.
— Ладно, понял. А если вы пообещаете молчать?
— Они считают, что вполне надежны в данном случае только покойники.
— Сдается мне, все это только пустые угрозы! Ваши Дункан с Дэвитом строят из себя гангстеров, а на поверку, может статься, не способны свернуть шею даже курице! Нет, дорогая, по-моему, вы все это сочиняете нарочно, чтобы меня не огорчать.
— Не огорчать?!
— Да. Потому что на самом деле просто я вам не нужен.
Это заявление так потрясло Патрицию, что она решилась.
— Послушайте, Малькольм, клянусь, я уехала бы с вами, если бы могла. Но я не хочу, чтобы из-за меня стряслась беда. Вы не знаете, на что способны эти люди. Я расскажу вам кое-что, но, умоляю, сразу же забудьте мои слова — ведь стоит им только узнать, что я вам проболталась, и меня немедленно приговорят к смерти. Однажды — это было несколько месяцев назад — один инспектор из Ярда чуть не вывел на чистую воду все их махинации с наркотиками… Была одна несчастная девушка… наркоманка… Он пришел к ней домой, но Дункан проведал об этом и послал туда Дэвита. Питер убил их обоих — и девушку, и полицейского. Джек боялся, что от девушки — ее звали Джанет Банхилл — инспектор узнает, что он замешан в торговле наркотиками.
У шотландца был такой вид, будто он вдруг обнаружил, что некий особый мир, в реальность которого он до сих пор не верил, существует на самом деле.
— Так что же это… как в детективах?
— Инспектора звали Джеффри Поллард… Если вас интересуют подробности, зайдите в первую попавшуюся редакцию на Флит-стрит и полистайте подшивку газет… Теперь вы убедились, что вам лучше больше не видеться со мной и как можно скорее вернуться в Томинтул к своим овцам?
— У нас, дорогая, вовсе не принято бросать девушку в беде!
— Ну какой вы упрямый, поймите же наконец!
— Я понял, что вы влипли в историю и я должен помочь вам выкарабкаться. Я очень жалею и полицейского, и девушку, о которых вы мне рассказали, но это дело кончено и меня не касается… А вот вы — это совсем другое. Я увезу вас в Томинтул!
— Ну вот, как бы вам это объяснить, у нас были неприятности…
Стоя посреди кабинета Дункана, куда ранним утром он пришел вместе с Патрицией, Мак-Намара пытался рассказать Джеку и Питеру о ночных приключениях. Те молча таращили на него усталые от бессонной ночи глаза. Увидев Патрицию, хозяин «Гавайской пальмы» тут же послал ее наверх.
— Потом разберемся, — только и сказал он.
Как всегда, при виде Джека девушка почувствовала, что все ее существо охватывает ледяной ужас, поэтому она лишь улыбнулась шотландцу жалкой улыбкой и исчезла. Малькольм худо-бедно рассказал ночную одиссею и замолчал.
— Вам повезло, Мак-Намара, — сказал, подумав, Джек.
— В чем это?
— Что случайный свидетель подтвердил мне все насчет полиции. Кажется, вам очень нравится мисс Поттер?
— Очень.
— А вам известно, что она, в сущности, моя жена?
— Да.
— И вас это не смущает?
— Пожалуй, немного.
— Ах, все-таки, значит, это создает кое-какие неудобства?
— Потому что я хотел бы увезти ее в Томинтул и жениться на ней.
Джек ответил не сразу. Но даже Дэвит, хорошо знавший хозяина «Гавайской пальмы», лишь по его прерывистому дыханию определил, что тот едва сдерживает ярость.
— Вы считаете нормальным, чтобы она меня бросила?
— Готов возместить вам убытки, старина.
— Так вы очень богаты?
— Не жалуюсь.
— Послушайте, Мак-Намара, по правде говоря, в последнее время у нас с Патрицией не все ладно… и, право же, захоти она заново строить жизнь с парнем вроде вас… я, может, и не стал бы перечить… Только, сами понимаете, мне ведь недешево стоило сделать из нее звезду эстрады…
— Так чего же вы хотите?
— Мне нужен человек, готовый оказать услугу… очень важное дело… и довольно-таки опасное, откровенно говоря…
— А?.. Такое опасное, что…
— Совершенно верно!
Казалось, шотландец колеблется.
— Но если я окажу вам эту услугу, вы и вправду отпустите мисс Поттер?
— Даю вам слово.
— Стало быть, по рукам! Что надо сделать, старина?
— Приходите ко мне сюда сегодня вечером, и мы обо всем договоримся.
Убедившись, что Мак-Намара ушел, Дэвит в экстазе воскликнул:
— Невероятно! Неужели такие дураки еще водятся на свете?
— Вот и видно, Питер, что вы никогда не были влюблены!
— Во всяком случае, не настолько, чтобы поверить вам на слово, Джек!
— Это я и имел в виду.
Глава IV
Патриция прилегла отдохнуть — ночь, проведенная в полиции, немного истощила ее силы, — но спала плохо. Стоило закрыть глаза — и воображение начинало рисовать пейзажи Шотландии. Девушке грезилось, что она, в твидовом костюме и в сапогах, с трудом поспевает за Малькольмом, а он ведет ее на вершину холма «показать» ветер своей страны. Малькольм… Патриция даже не пыталась скрыть от себя самой, что влюбилась в могучего шотландца, но в то же время прекрасно понимала: ей не стать его женой, ведь Джек ни за что не даст ей ускользнуть! Бедняга Малькольм, воображающий, будто в Лондоне, как в Томинтуле, все можно решить ударом кулака… Мечтая о будущем, в котором ей было отказано, молодая женщина не могла не сравнивать его с тем, что обещает в дальнейшем ее вынужденное присутствие рядом с Джеком. Волна отвращения захлестывала ее, и Патриция всерьез задумалась о смерти: теперь, когда она встретила Мак-Намару, продолжать прежнее существование казалось невыносимым. Наконец Патриция погрузилась в тяжелое забытье, и ей снилось, будто Малькольм во главе шотландских кланов захватывает Сохо, чтобы освободить ее. Патриция с криком проснулась в тот самый момент, когда ее возлюбленный в разгаре сражения схватил Дункана за шиворот и занес над ним свой клаймор[356].
У постели стоял Дункан и слегка озадаченно смотрел на молодую женщину.
— Это… вы? — пробормотала она.
— Вас, кажется, мучают кошмары, дорогая?
— Эта ночь в полиции меня доконала.
— Сочувствую, но пенять вам следует только на себя.
— Почему?
— Если бы вы вели себя умнее, то уж, наверное, смогли бы помешать своему кавалеру столь эксцентрично выражать свое восхищение!
— С Малькольмом очень трудно справиться.
— Ах, он уже для вас Малькольм?
— Я хотела сказать…
— Я все отлично понял, Патриция… Вам безумно нравится этот парень, так ведь?
Мисс Поттер вдруг почувствовала, что не может больше постоянно дрожать и подчиняться.
— Да, безумно, — сказала она, глядя Джеку прямо в глаза.
— И, может быть, именно поэтому вы ничего не предприняли, чтобы облегчить его кошелек?
— Я не воровка!
— Кто вы и кем вам быть, решаю один я!
— А по какому праву?
Джек улыбнулся, разыгрывая добродушие.
— Неужели вы и в самом деле хотите, чтобы я вам это объяснил?
— Нет.
— Тем лучше… Вы снова становитесь разумны… Все это, конечно, нервы… И о чем же вы беседовали всю ночь среди джентльменов из полиции?
— О его родине.
— Естественно… и, несомненно, время быстро текло в мечтах о совместном будущем и жизни, начатой заново? — Он рассмеялся. — Честно говоря, Патриция, я плохо представляю вас в роли пастушки! К счастью, есть я, и я не позволю сделать глупость, которая испортила бы вам жизнь!
— Больше чем сейчас испортить уже невозможно.
— А ведь вы, кажется, неблагодарны, Патриция! Меж тем, у вас есть платья, драгоценности, деньги, вам сопутствует успех… Чего же вы еще хотите?
— Дышать чистым воздухом и избавиться от этой вони!
— Осторожно, Пат… На вашем месте я бы взвешивал слова… нынче утром я очень терпелив, но все же не стоит превышать меру!
— Джек…
— Да?
— Отпустите меня!
— Куда же это?
— В Шотландию.
— По-моему, вы теряете рассудок, дорогая моя! Уж не забыли ли вы, что я вас люблю?
— Какой смысл в этой лжи? Вовсе вы меня не любите, а я просто ненавижу вас!
— Врать очень гадко, дорогая! И если вы позволите мне говорить откровенно, признаюсь, что мне нисколько не мешает ваша ненависть, напротив — это даже придает некоторую пикантность нашему союзу! Вы не находите? Посмотрите на Дэвита… Он меня ненавидит. А меня это забавляет. Он только и мечтает, как бы меня прикончить, и знает, что мне это известно. Таким образом, наш альянс не рискует погрязнуть в однообразии…
— Когда-нибудь вы на секунду забудете об осторожности…
— И не надейтесь, дорогая. Я прошел суровую школу… А что касается вашего шотландца, то ему крупно повезло. Не будь он мне еще нужен…
— Что было бы с ним?
— В настоящий момент он сравнивал бы прохладу вод Темзы с атмосферой родных холмов.
— Неужели вы посмеете убить этого несчастного только за то, что он честен и наивен?
— Разумеется нет, дорогая, я убью его потому, что он осмелился поднять глаза на вас — такие вещи я не прощаю. У меня есть слабость держаться за свою собственность. Жаль, конечно, что его обожание не оставило вас равнодушной, иначе я ограничился бы хорошим уроком — поучить приличным манерам никогда не вредно. Короче, смотрите-ка, какая странная штука жизнь, — если с этим субъектом и впрямь случится что-то скверное, он будет обязан этим вам.
— Не позволю!
— Что мне нравится в вас, Патриция, так это ваша детская манера бурно реагировать, не заботясь ни о какой сдержанности… Когда я был в Оксфорде… Да-да, дорогая, я учился в Оксфорде, правда, ничем особенно не блистал среди студентов Магдалена-колледжа… А потом меня выгнали… так… за ерунду… Итак, когда я был в Оксфорде, нам постоянно внушали, что каждую проблему надо сначала обдумать со всех сторон, а уж потом принимать решение. Жаль, что вы не прошли через Оксфорд…
— Глядя на вас, я об этом не жалею!
— Я ценю ваше умение подавать реплики, Патриция, но если бы вам не предстояло петь сегодня вечером, то я показал бы вам, что за дерзость приходится платить… Досадно, что помятая физиономия может шокировать публику…
Патриции снова стало страшно: ироническое хладнокровие Джека пугало даже больше, чем прямое насилие. И все-таки из любви к Малькольму молодая женщина продолжала настаивать:
— Чего вы хотите от шотландца?
— Вы так за него волнуетесь? Пожалуй, даже слишком… но я не хочу, чтобы вы воображали невесть что… просто он сходит за пакетом, за которым сам я прогуляться не могу.
— А что в пакете?
— Любопытство — отвратительный порок.
— Наркотики?
Теперь и тон, и поведение Дункана резко изменились.
— Довольно! Не суйте нос в эти дела, Патриция! И послушайтесь моего совета, если дорожите своей мордашкой и жизнью! Иначе…
— Как Джеффри Поллард и Джанет Банхилл?
Ненадолго воцарилась тишина. Патриция понимала, каких бешеных усилий Дункану стоит сдержаться и не ударить ее. Наконец он глухо проговорил:
— Вот теперь вы можете быть совершенно уверены, дорогая, что не покинете меня никогда.
— Я избавлюсь от вас, когда вы попадете на виселицу!
— Случись такое несчастье, вам уже не придется радоваться… А теперь, когда мы вполне объяснились, отдохните хорошенько. Я хочу, чтобы к вечеру вы были в блестящей форме. До скорого, дорогая!
Уже на пороге Дункан обернулся и с улыбкой произнес:
— Право же, прискорбно, что на вас так сильно действуют звуки волынки…
Сэма Блума терзала неврастения. Он заболел ею, с тех пор как узнал, что западня, приготовленная для его шотландского постояльца, не сработала, и тщетно пытался лечиться с помощью виски. Сэм Блум верил предсказательницам судьбы, гадалкам и прочим прорицателям. Миссис Осбрейт, одна из самых известных ясновидящих в Сохо, сказала, что Сэм вступает в наиболее опасный период своего астрального бытия, а посему самое мудрое для него решение — вооружиться философским терпением. Это поможет противостоять ударам, которые готовит судьба. Сэм унаследовал от иудейской религии веру в карающего Бога, чьи законы преступать не рекомендуется. И хотя Блум считал себя атеистом, в его душе жили древние верования в проклятие и отмщение. После гибели Джеффри Полларда и Джанет Банхилл Сэму казалось, что гнев Господень вот-вот обрушится на его голову, и он заранее трепетал от ужаса. Но и в самом страхе Блум не мог почерпнуть последней капли мужества — мужества отчаяния и изменить образ жизни. Неудача покушения на шотландца, покушения, инспирированного им самим, казалась Сэму одной из вех в веренице грозящих ему катастроф. А что, если это всего лишь пролог? Поэтому, увидев входивших в гостиницу инспекторов Блисса и Мартина, Блум приготовился к наихудшему.
В отличие от суперинтенданта Бойланда инспекторы Блисс и Мартин решительно отказывались отнести смерть своего товарища Полларда ко второй графе списка побед и поражений Скотленд-Ярда. Как только служебные обязанности позволяли им выбраться в Сохо, оба инспектора возвращались туда и упрямо выходили на охоту. Они знали, что убийца их коллеги связан с «Нью Фэшэнэбл» и «Гавайской пальмой», и мечтали, прежде чем предать его королевскому правосудию, побыть с этим мерзавцем наедине. Инспекторы тщательно и терпеливо исследовали каждую ниточку, способную вывести на след. Они убедились, что ни Дункан, ни Дэвит не управляют подпольным бизнесом в Сохо и за ними стоит кто-то другой. Но дальше этого их сведения не шли. Местные информаторы только подтверждали уже известное и ничего нового добавить не могли. По счастью, Блисс и Мартин обладали огромным упорством и не теряли надежды. Они решили, что будут продолжать поиски до конца.
В тот день Блисс и Мартин сочли, что настало время всерьез объясниться с Сэмом Блумом, поскольку, в каком бы направлении ни шли поиски, инспекторы неизбежно натыкались на Сэма. В «Нью Фэшэнэбл» жил Поллард, и сюда же Джанет Банхилл приходила за наркотиками, наконец, здесь же поселился этот шотландец, на чей счет работники Ярда никак не могли составить определенного мнения: то ли это олух, которого Патриция Поттер водит за нос, то ли проходимец, изображающий наивного провинциала, чтобы тем легче облапошить всех и вся.
Блисс и Мартин подошли к конторке — жалкому убежищу хозяина гостиницы.
— Привет, Блум!
— Здравствуйте, господа! Каким добрым ветром?..
— Добрым? Мы что-то не очень в этом уверены, а, Мартин?
— И впрямь не очень, Блисс.
Сэм почувствовал, что с трудом сглатывает слюну. Блисс наклонился к нему и доверительно произнес:
— Видите ли, Сэм, Поллард был нашим другом…
Блум изобразил недоумение:
— Поллард?
— Не валяйте дурака, Блум, иначе вы немедленно об этом пожалеете! Вы явно не можете не знать, что под именем Гарри Карвила в вашей гостинице останавливался инспектор Джеффри Поллард.
— Уверяю вас, джентльмены…
От резкого удара в солнечное сплетение Сэм задохнулся, а Мартин невозмутимо продолжил:
— Так вы не читаете газет, Сэм? В противном случае вы бы непременно узнали своего постояльца, увидев фотографию убитого инспектора Полларда.
— Теперь, когда вы мне сказали об этом…
— Ну-ну?
— Я был так далек от мысли, что этот жалкого вида субъект мог оказаться одним из ваших коллег…
— В этом мы не сомневаемся, Блум, иначе вы бы не предлагали ему наркотики.
— Я?!
— Да, вы. Поллард успел сообщить нам об этом.
— Но это клевета!
На сей раз кулак Блисса пришел в соприкосновение с носом Сэма, тот жалобно взвыл, и слезы градом хлынули из его глаз.
— Вы… вы не имеете права!
Блисс повернулся к коллеге.
— Слышите, Мартин? Мы не имеем права. Что вы об этом думаете?
— Права на что, Блисс?
— Не знаю, какого такого права, мистер Блум?
— Бить меня.
— Вы били нашего гостеприимного хозяина, Мартин?
— Я? Ни за что бы себе такого не позволил!
— Вот и я тоже. — И с этими словами Блисс снова ударил Сэма. Тот рухнул на пол. Перегнувшись через конторку, Мартин схватил Блума за шиворот и рывком поставил на ноги.
— Не очень-то вежливо покидать нас так скоро!
Теряя рассудок от страха, хозяин «Нью Фэшэнэбл» пробормотал:
— Но что… что… что вам от меня нужно?
— Имя того, кто поставляет тебе наркотики!
Сэм быстро прикинул в уме: полицейские, конечно, могут здорово его помучить, но не убьют, зато стоит заговорить — и Дункан, уж точно, в живых не оставит. Решив молчать, Блум приготовился к жестокой трепке.
— Не понимаю.
— Ну, раз дело только за этим, мы сейчас живо тебе все объясним, и в подробностях.
Блисс уже занес руку для удара, как вдруг почувствовал, что взлетает. Врезавшись с лету в стену, инспектор потерял сознание. Мартин, в полном оцепенении, не успел пошевельнуться, как кулак Мак-Намара въехал ему в подбородок. Второй блюститель закона грохнулся на пол. Вытаращив глаза, Сэм Блум наблюдал за этим молниеносным сражением, но, вместо того чтобы радоваться, подсчитывал в уме, во что ему это обойдется. Тем временем шотландец, переведя дух, улыбнулся Сэму, несомненно ожидая слов благодарности.
— Теперь мне конец, — просто сказал Блум.
На сей раз удивился Мак-Намара:
— Ну и странные же вы люди тут, в Лондоне, старина! Я избавил вас от двух гангстеров — и это все, что вы можете мне сказать?
— Но, черт побери, это же вовсе не гангстеры!
И, показывая на обоих поверженных противников, Сэм жалобно добавил:
— Инспекторы Блисс и Мартин из Скотленд-Ярда!
— Боже милостивый! Я их не узнал!
— Если хотите послушаться доброго совета, вам лучше смыться!
— Еще бы!
Шотландец мгновенно испарился. Блум не успел подумать, как ему себя вести, чтобы смягчить последствия побоища, а на пороге гостиницы уже вырос констебль Майкл Торнби.
— Скажите-ка, Блум, — закричал он от двери, — что стряслось с этим типом в юбке, который сейчас вылетел отсюда как оглашенный?
Сэму не пришлось отвечать, потому что констебль и сам увидел распростертых на полу инспекторов.
— Что с ними? — спросил он.
— Нокаут.
— И это вы? — в голосе полисмена прозвучала нота почтения.
— Нет, шотландец.
— А почему?
— Решил, что налетчики.
— А что оказалось? Знаете, Блум, у вас изрядно-таки разбита физиономия.
— Обычный допрос.
— Вы что, пьяны, Блум?
Сэм, решившись, указал на по-прежнему недвижимых полицейских:
— Инспектор Блисс и инспектор Мартин из Скотленд-Ярда.
Малькольм Мак-Намара прогуливался по Сохо, раздумывая, где бы позавтракать, когда прямо перед ним остановилась полицейская машина. Выскочившие оттуда трое полицейских окружили шотландца.
— Вы Малькольм Мак-Намара?
— Да.
— Живете в гостинице «Нью Фэшэнэбл»?
— Да.
— Вас ожидают в Скотленд-Ярде.
— Но…
— Там вам все объяснят. Садитесь, сэр.
Войдя в кабинет Блисса и Мартина, шотландец тотчас же увидел скорчившегося на стуле и, казалось, совсем обессилевшего Сэма Блума.
— Глядите-ка, вот и Айвенго! — воскликнул Мартин при виде Мак-Намары и с угрожающим видом направился к Малькольму. — Скажите, вы, живая гора, у вас что, национальный спорт — колотить полицейских?
— Э-э-э, понимаете, старина, дело в том, что я не узнал вас…
— Правда?
— Я подумал, это ограбление.
— Черт возьми! И часто вы видели гангстеров, похожих на нас?
— Ну, старина, я с гангстерами не общаюсь… и потом… лицо мистера Блума… вы понимаете? У него шла кровь из носа… я не знал, что в Лондоне полицейским разрешается колотить кого попало…
— Умнее всех, да?
— Кто?
— Вы!
— В Томинтуле так не думают. Они там шепчутся между собой, будто у меня больше мускулов, чем мозгов.
— Да ну? Шепчутся, значит?
— Да, потому что знают: услышу — морду разобью.
Мартин с досадой повернулся к коллеге:
— Что вы об этом думаете, Блисс?
Тот пожал плечами:
— Тяжелый случай!
И Блисс в свою очередь подошел к шотландцу.
— Вы начинаете нам серьезно мешать, сэр.
— Поверьте, мне очень жаль.
— А ведь вам уже советовали вернуться в Томинтул!
— Успокойтесь, именно это я и собираюсь сделать.
— Лучше всего вам было бы сесть на поезд прямо сегодня, потому что…
— Что?
— …если мы еще раз столкнемся с вами, это может кончиться для вас весьма плачевно!
— Вы думаете?
— Уверен… старина!
Дункан, Дэвит и мисс Поттер пили чай. Зазвонил телефон, и Дэвит пошел к аппарату. Вернулся он встревоженный.
— Это шотландец, Джек…
Патриция резко подняла голову.
— Вас это, кажется, очень волнует, Пат? — насмешливо спросил наблюдавший за ней Дункан и, не ожидая ответа, повернулся к Питеру: — Ну? Чего он хочет?
— Парень только что из Ярда.
— Что?!
Дэвит рассказал о приключении Мак-Намары с полицейскими.
— Вы не находите, что он становится несколько… ну, скажем, слишком заметным, что ли?
— Да нет… чем больше этот тип чудит, тем меньше шансов, что его в чем-нибудь заподозрят.
— Вы уверены?
— Но его же отпустили!
— Да, зато оставили у себя Сэма…
Джек вскочил.
— И вы не сказали мне сразу! Черт возьми, вот это действительно паршиво! Я нисколько не доверяю Блуму. Если эти джентльмены начнут расспрашивать… с пристрастием, он не выдержит.
— Ну, не так уж и много он знает.
— Слишком много. Боюсь, с Сэмом все-таки придется покончить.
— Что ж, остается улучить удобный момент.
— Опять убийство? Еще одно… — застонала Патриция.
— На вашем месте я бы помолчал, дорогая, — сухо заметил Дункан.
— Иначе меня ждет судьба Сэма?
— А почему бы и нет? Питер, позвоните адвокату. Скажите, что я еду к нему. Только Билл Морс способен аккуратненько выдрать Блума из лап этих господ!
Оставшись вдвоем, Патриция и Дэвит долго молчали. Потом Питер вкрадчиво спросил:
— Похоже, у вас с Джеком сейчас нелады?
— И вы еще спрашиваете? Я никогда не скрывала от вас, что ненавижу Джека!
— Так почему же тогда не пытаетесь сбежать?
— Боюсь.
— Не понимаю.
— Я боюсь, что он найдет меня везде… куда бы я ни скрылась.
— А если он умрет?
Патриция изучающе посмотрела на Дэвита.
— И вы… это сделаете?
— А почему бы и нет?
— Хватит с меня крови, убийств… хватит… хватит… хватит!
Перегнувшись через стол, Питер взял девушку за руку.
— Я тоже устал от этой жизни, Патриция! Я люблю вас, вы давно об этом знаете… Бежим вместе? Клянусь, я сумею обеспечить вам вполне безбедное существование!
— А как же Джек?
— У нас с ним старые счеты, пора подвести итог.
— У меня нет ни пенни, если не считать драгоценностей, и вы сами, Питер…
— Мы сбежим, прихватив с собой много тысяч фунтов.
— Где же вы их возьмете?
Дэвит понизил голос.
— Послушайте, Патриция, я доверю вам все свои планы… Если предадите меня — подпишете мой смертный приговор. Но без вашего согласия я не стану ничего предпринимать.
— Я вас слушаю.
— Дункан вам наверняка рассказал, что прибыли десять кило героина… он отправит за ними шотландца… это целое состояние. Я должен буду следить за парнем и в случае чего — помочь. Если вы согласитесь бежать со мной, я перехвачу Мак-Намару…
— Что вы под этим подразумеваете, Питер?
— Не беспокойтесь, просто пугану как следует.
— Вы серьезно думаете, что способны его испугать?
— Ну, короче, найду способ отобрать пакет. И мы будем богаты!
— Неужели вы воображаете, будто Дункан…
— С Дунканом я справлюсь, бояться надо не его, а того, другого!
— Кого?
— Хозяина… если бы мне только удалось узнать, кто он такой! Я бы сдал голубчика в полицию, и путь был бы свободен!
— Вы законченный мерзавец, Питер!
— Патриция!
— Подлец! Можете не сомневаться, если я когда-нибудь и попытаюсь бежать из этого ада, то уж никак не с вами!
— Может быть, с этим овечьим сторожем? — злобно прорычал Дэвит.
— Если бы этот «овечий сторож» узнал, какое вы мне сейчас сделали предложение, он бы превратил вас в бифштекс!
— Запомните, Патриция, сильных мужчин я убиваю с особым удовольствием…
В конце концов под натиском адвоката Билла Морс инспекторам Блиссу и Мартину пришлось отпустить Сэма. Прожженный законник не пользовался особым уважением коллег, но никто не оспаривал его юридические познания, ум и ловкость. Блум вернулся в Сохо, мучимый самыми мрачными предчувствиями. Сэм не сомневался, что, невзирая на все ухищрения адвоката, Ярд теперь не будет спускать с него глаз и однажды какая-нибудь из бесконечных полицейских ловушек сработает. Блум знал, какими упорством и хваткой обладает полиция, и не видел ни малейшего шанса ускользнуть. Приближаясь к дому, Сэм с каждым шагом все горше оплакивал себя и свою судьбу. У него не было друзей, все его ненавидели и презирали. Ведь только потому, что никто не захотел протянуть руку помощи, Блуму пришлось бросить отцовскую лавку портного и пойти в услужение к торговцам наркотиками. Но и тут из-за невзрачности и хилости, из-за жалкого вида, унаследованного от многих поколений несчастных, избиваемых то теми, то другими, и, наконец, из-за того, что он привык жить в грязи и прекрасно себя там чувствовал, хозяева держали его вечно в черном теле, не доверяя никаких серьезных поручений. Сэм так всегда и оставался в подчиненных. Он с этим смирился, но в душе глубоко страдал и воображал всякие апокалипсические способы отмщения.
В «Нью Фэшэнэбл» хозяина встретил Эдмунд, как всегда усталый, погасший, сломленный.
— Так, значит, вас отпустили?
— Тебе какое дело?
— О, вы ведь знаете, а? Если я что говорю, то так только, чтобы что-то сказать, а на самом деле мне на все глубоко наплевать.
Сэм горько усмехнулся:
— Твоя преданность мне известна, Эдмунд!
— Она равна заработку, хозяин!
— А ну-ка, пойди сходи наверх да поищи меня там.
— Конечно, хозяин, с радостью, я ведь твердо знаю, что вас там нет!
Блум продолжал держать Эдмунда на службе, несмотря на его грубость и лень, во-первых, потому что почти ничего ему не платил, а во-вторых, только один Эдмунд и был еще жальче Сэма, лишь его одного на всем свете хозяин «Нью Фэшэнэбл» мог ругать в свое удовольствие. Ведь человек соглашается постоянно терпеть колотушки только в том случае, если ему есть на ком отыграться.
Добравшись до конторки и удобно устроившись, Сэм всерьез задумался о своем будущем. С одной стороны, полиция дала ему всего-навсего небольшую отсрочку, перед тем как посадить в тюрьму. С другой стороны, от предков, сумевших выжить исключительно благодаря выработанному ими умению постоянно предвидеть опасность, Блум унаследовал редкостную интуицию. Смерть Полларда, жившего в его гостинице, и Джанет Банхилл, постоянной клиентки, оправдали бы арест хозяина «Нью Фэшэнэбл» в глазах любого суда присяжных. Раз его оставили на свободе, значит, полицейские надеются, что от Сэма потянется ниточка к крупным воротилам, к тем, кто ведет всю игру. А эти последние в своем падении неизбежно увлекут за собой и Сэма. Сделав такой вывод, Блум стал воображать, не выгоднее ли попробовать выторговать у Ярда свободу в обмен на небольшое предательство.
В тот вечер Патриция показала себя не в лучшей форме. Нельзя сказать, что она пела плохо, скорее посредственно, и посетители «Гавайской пальмы» выразили свое разочарование вежливым молчанием. Не будь Джек Дункан занят более серьезным делом, он мог бы не на шутку рассердиться. Но в этот момент все мысли хозяина кабаре были заняты операцией, которую поручил ему патрон. Зато Дэвит не преминул заметить:
— Наша звезда сегодня не очень-то блистает… Явно этот шотландец…
Джек нервничал и потому резко оборвал его:
— Я буду вам премного обязан, Питер, если вы прекратите вмешиваться в личную жизнь мисс Поттер. Это касается только меня.
— И ее, конечно?
— Ее — нет. Но можете не беспокоиться. Если причина болезни — шотландец, то послезавтра она совершенно выздоровеет, и я рассчитываю, что лекарство поднесете вы.
— С удовольствием.
Едва Малькольм вошел в кабинет Дункана, тот немедленно спросил:
— Могу я узнать, мистер Мак-Намара, почему вы сочли необходимым позвонить мне после ареста Сэма Блума?
Шотландец недоуменно воззрился на него.
— Это же дядя Патриции, разве нет?
Джек закусил губу, а Малькольм продолжил:
— И ведь это вы поторопились помочь ему скорее выбраться оттуда, правда?
— Поговорим об этом потом. А сейчас, мистер Мак-Намара, посмотрите на этот план. Это маршрут, которого вы должны придерживаться как по пути туда, так и обратно. Доберетесь до Дроу-дока, а там на борту «Звезды Индии» вас будет ждать матрос.
— Может, мне на всякий случай лучше знать, как его зовут?
— Не нужно. Он будет ждать вашего прихода… и… не в обиду будет сказано, вас, кажется, довольно сложно с кем-нибудь спутать. Этот человек подойдет к вам и спросит: «Вы не знаете мою кузину Элспет из Стирлинга?», а вы ответите: «Нет, но очень об этом сожалею, потому что слышал, какая она красотка». После этого вам останется только выполнить то, что скажет моряк. Договорились?
— По рукам.
— Как я уже говорил, первый поход будет пустым. Надо выяснить, следят за вами или нет. Если все пройдет гладко, послезавтра отправитесь за настоящим грузом. Возражений нет?
— Нет, все в порядке. А с вашей стороны?
— С моей?
— Вы отпустите Патрицию?
— Я никогда не отказываюсь от своего слова, мистер Мак-Намара… Мистер Дэвит не спустит с вас глаз и, в случае чего, поможет.
— Стало быть, как ангел-хранитель?
— Вот-вот, только он способен скорее отправить в ад, чем в рай.
Шотландец расхохотался, видимо, очень довольный шуткой, и так дружески хлопнул Питера по плечу, что тот едва не грохнулся на пол.
— А что, ангел, не спуститься ли нам вниз и не опрокинуть ли стаканчик или два? — предложил он.
За Питера ответил Дункан:
— Не сейчас… Мистера Дэвита ждет срочная работа. Идите в бар, мистер Мак-Намара, и можете записывать расходы на мой счет.
— Вот спасибо! Ну и дорого же вам это обойдется!
Выйдя на маленькую сцену «Гавайской пальмы» после перерыва, Патриция заметила Малькольма и, тут же овладев собой, выступила с прежним блеском. Зал устроил ей настоящую овацию. Патриция раскланялась, одним кивнула, другим улыбнулась и направилась в бар, где шотландец, подхватив ее за талию, подбросил, как перышко, и усадил на табурет.
— Пат, вы чудо! Что будете пить?
— Джин с лимоном.
— Может, хотите шампанского? Платит Дункан!
— Я предпочитаю джин с лимоном от вас, Малькольм.
— Ай! Вы совсем забыли, что я шотландец! Делать нечего, придется раскошелиться, чтобы не выглядеть невежей. А между прочим, сегодня я весь вечер пью за счет Дункана!
Тут они заметили Дэвита. Он спустился из кабинета Дункана в зал и вышел из кабаре через служебный вход.
— Похоже, мистер Питер разыгрывает заговорщика!
— Не обращайте внимания на Питера, Малькольм. Пусть он занимает вас не больше, чем необходимо для вашей собственной безопасности.
— Почему же я должен его опасаться?
— Этот человек способен на все, кроме хорошего поступка!
— Не очень-то вы его любите, как я погляжу, а?
— А вы?
— Должен признаться, и мне он не шибко по душе.
Певица вздохнула.
— Вот среди кого мне приходится жить!
— Осталось потерпеть совсем немного.
Патриция с жалостью посмотрела на шотландца.
— Вы все еще собираетесь увезти меня в Томинтул?
— Теперь это зависит только от вас.
— Но ведь я же вам уже говорила, и не раз, что…
— Дункан согласен!
— Что?!
Тогда шотландец рассказал, какой договор он заключил с Джеком. Хорошо зная Дункана, Патриция отказывалась поверить своему счастью.
— Послушайте, Малькольм… может, на сей раз для разнообразия Джек и говорил правду… дайте мне еще немного подумать… завтра я дам ответ. Хотите, встретимся в Блумсбери, в саду около музея?
— Еще бы!
Патриция ушла, а Малькольм всерьез приналег на выпивку. «В Томинтуле, — пояснил он бармену, — всегда так делают, если очень счастливы». Что касается Гарри, воображавшего, будто он давным-давно знает о пределах поглощения алкоголя человеческим организмом решительно все, то в эту ночь он наблюдал зрелище, которое счел откровением. Часа в два уже сильно захмелевший шотландец, заметив вернувшегося Дэвита, предложил ему выпить. Питер, не видя причин отказываться, уселся рядом. Малькольм сразу обратил внимание на испачканную кровью манжету.
— Несчастный случай, старина?
— Да, наткнулся на урну и порезал руку. Не понимаю, как санитарная служба города терпит эти стеклянные бачки! В темноте о них можно споткнуться и порезаться насмерть!
— В Томинтуле нет урн… — шотландец, казалось, глубоко задумался, прежде чем добавить: — Правда, санитарной службы тоже нет…
И тут на глазах у совершенно обалдевших бармена и Дэвита Мак-Намара разрыдался. Питер похлопал его по плечу:
— В чем дело? Что-нибудь стряслось?
— Почему же это в Томинтуле нет санитарной службы, а?
— Готов парень, накачался по ноздри! — сказал бармен.
— Похоже на то… Пойдемте-ка, Мак-Намара, свежий воздух живо приведет вас в себя.
Взяв Малькольма за руку, Питер довел его до самой двери и, легонько подтолкнув вперед, напутствовал:
— Отправляйтесь домой, Мак-Намара, и отдохните как следует… Вы не забыли, что мы вас ждем завтра или, вернее, уже сегодня в четыре вечера?
— Угу… но тогда вы мне скажете, почему в Томинтуле нет санслужбы?
— Обещаю!
Прежде чем вернуться в «Гавайскую пальму», Дэвит долго следил глазами за пошатывавшимся шотландцем.
Чтобы проникнуть в «Нью Фэшэнэбл», Малькольму пришлось разбудить Эдмунда, который, помимо всего прочего, был еще и ночным сторожем — хозяин гостиницы слишком хорошо знал своих постояльцев и не доверял им ключи. Свежий воздух, по-видимому, совершенно протрезвил шотландца.
— Привет, старина, как жизнь? — весело осведомился он.
Эдмунд посмотрел на Мак-Намару довольно недружелюбно.
— А как, вы думаете, должен себя чувствовать мирный обыватель, когда его будят в такое время?
— Вам надо было бы поехать в Томинтул!
— Не премину… А пока, может, войдете? Если, конечно, не решили просто заглянуть и справиться о моем здоровье?
— Эдмунд, старина, вы мне нравитесь! — И, не дав слуге опомниться, Малькольм от души расцеловал его в обе щеки.
Эдмунд изумленно воззрился на него.
— Экий вы чувствительный парень, как я погляжу!
Малькольм остановился у конторки Сэма. Там еще горела лампа.
— Что, хозяин еще не ложился?
— Понятия не имею… он явился сюда какой-то чудной, ну, я пошел по всяким делам, а заодно пропустить стаканчик и выяснить, чем кончились скачки. Вернулся — его уже не было. Так и не видел с тех пор. Но, между нами говоря, не шибко переживаю, потому что, если хотите знать мое мнение, Сэм Блум — стопроцентная сволочь!
— А ведь странно, что он не погасил лампу, да?
— Что, ваш шотландский инстинкт экономии возмущен?
— Еще бы!
Мак-Намара перегнулся через стол, потянулся к выключателю и тут же отскочил — под столом, скорчившись, лежал Блум.
— Послушайте, старина, я не очень-то люблю такие шутки!
— Вы о чем?
— Вы ведь знали, что хозяин там?
— Где?
Мак-Намара большим пальцем указал на конторку. Эдмунд в свою очередь наклонился и, сильно побледнев, проговорил:
— Боже мой!.. Вы… думаете, он мертвый?
— По всей видимости… разве что мистер Блум великий колдун! — С этими словами шотландец обошел стол, взял лампу и приблизился к Сэму. — Ему размозжили голову бутылкой… убийца унес горлышко… наверное, из-за отпечатков пальцев…
— Но кто же… кто мог это сделать?
— Вот этого, старина, я совсем не… — слова замерли у него на губах. Мак-Намара вдруг отчетливо представил себе Дэвита, кровь на манжете рубашки и руку, порезанную осколком стекла.
— Нам остается только вызвать полицию, старина.
— Не очень-то мне это по душе.
— Мне тоже, если это вас утешит.
Констебль Майкл Торнби и его молодой коллега Стюарт Дом меланхолично прогуливались по кварталу, когда к ним подбежал запыхавшийся Эдмунд.
— Пойдемте скорее!
— Куда?
— В «Нью Фэшэнэбл»!
— Там что, пожар? — спросил Дом.
— Ну, если пожар, — проворчал его коллега, — то чем позже мы придем, тем лучше. Не стоит упускать прекрасную возможность избавиться от этого гнусного притона.
— Да нет, дело совсем не в этом. Сэм Блум умер.
— Правда? Что ж, вот, должно быть, дьявол радуется! Он сделал первоклассное приобретение. Ну, пошли за врачом.
— Но…
— Что?
— Мне кажется, его убили…
— Ах, кажется?
— То есть… я хочу сказать… я в этом уверен…
— Ага, так-то лучше. Пойдем, Стюарт.
Увидев шотландца, Торнби подскочил и, внимательно изучив голову Сэма, укоризненно произнес:
— Слушайте, сэр, не могли бы вы использовать свою силу как-нибудь иначе? Сегодня утром вы чуть не отправили на тот свет двух полицейских, а теперь вот прикончили этого старого негодяя…
— Но я не дотрагивался до мистера Блума, — возмутился Мак-Намара. — И вообще, уж если я рассержусь, так не стану переводить бутылку виски, да еще полную! Это при нынешних-то ценах!
Констебль не смог удержаться от смеха.
— Ах вы чертов шотландец! Кое в чем я с вами согласен: Сэм не стоил бутылки виски… Только вот дело в том, что его убили и мы должны выполнять свои обязанности… Стюарт, позвоните в Ярд и, если вдруг инспекторы Блисс и Мартин окажутся на месте, скажите, что мистер… мистер…
— Мак-Намара.
— …что мистер Мак-Намара замешан в этом деле!
— Но послушайте!
— Пока — как свидетель!
Случилось это в то время, когда на дежурстве был Мартин, и он, конечно, с радостью примчался в «Нью Фэшэнэбл». Оказавшись лицом к лицу с шотландцем, он не стал скрывать торжества.
— Ага, на сей раз, мистер Томинтул, вы стукнули слишком сильно?
— Да не трогал я его!
— Я не думаю, что в Шотландии, в отличие от Англии, убийцы сразу же во всем признаются!
— Вы имеете что-нибудь против меня, старина?
— С чего вы взяли?
— Да-да… я это чувствую… Вы пытаетесь впутать меня в темное дело. Но почему, старина? Что я вам сделал дурного? Надеюсь, это не связано с овцами?
— Нет, о шотландец моего сердца, к овцам это не имеет никакого отношения. Я принадлежу к клану отверженных, лишенных великого счастья знать Томинтул! Я всего-навсего несчастный англичанин, имеющий дерзость полагать, будто быть ежедневно битым каким-то неизвестно откуда взявшимся горцем — не его призвание!
— Так то ж по ошибке!
— Ах вот как? А в первый раз попав в Лондон, вы остановились в самом скверном притоне тоже по ошибке? И в первый же вечер поспешили в «Гавайскую пальму», которой заправляют два гнуснейших мерзавца из всех, кому дает приют наш несчастный город, — тоже ненароком?
— В гостиницу меня привез таксист… потому что я не хотел платить слишком дорого… а «Гавайская пальма» — из-за Патриции Поттер… Я ее люблю, инспектор, и хочу увезти с собой в Томинтул. Вы приедете к нам в гости?
Инспектор чуть не задохнулся.
— Да, я навещу вас, но не в Томинтуле, а в тюрьме Ее Величества, куда вас отправят поразмыслить над опасностями большого города. Хоп, ребята! В машину неудавшегося Тарзана!
Суперинтендант Бойланд, прочитав бумаги, которыми был завален его рабочий стол, вызвал в кабинет инспектора Блисса.
— Ну что, Блисс, вы опять задержали этого шотландского богатыря?
— На сей раз, супер, он у меня в руках!
— Нет, Блисс, ошибаетесь.
— Простите, не понял.
— Блисс… я испытываю к вам большое уважение… почитаю дружбу, соединявшую вас с инспектором Поллардом… Но это все же не повод преследовать несчастного, который в момент убийства вашего товарища находился в графстве Банф!
— Но он же…
— Нет, Блисс. Я прочитал рапорты и первые допросы по убийству Блума. Шотландец здесь ни при чем. По показаниям слуги Эдмунда, его не было с десяти вечера. Следствие в «Гавайской пальме», при всей его поверхностности, все же ясно показывает, что Мак-Намара не выходил из лавочки Дункана до двух ночи.
— Все сговорились!
— Даже если это так, Блисс, прежде чем держать шотландца под замком, надо его алиби опровергнуть, а вы отлично знаете, что из этого ничего не выйдет. К тому же с чего бы этому парню убивать Блума?
— Сведение счетов!
— Несомненно. Только я что-то плохо представляю Мак-Намару в роли кредитора. Я знаю, кто убил Сэма, Блисс.
Инспектор выпучил глаза.
— Вы знаете кто…
— Да. Это вы, Блисс.
Инспектор вскочил.
— Вы понимаете, что говорите, сэр?
— Спокойно, Блисс, сядьте на место, прошу вас. Вам следовало бы лучше владеть собой.
Обескураженный полицейский снова опустился на стул.
— Вы убили Блума, Блисс, тем, что арестовали его и привезли в Ярд. Сообщники, зная трусость Сэма, побоялись, что он не выдержит очередного допроса и выдаст имя убийцы Полларда и мисс Банхилл. Вот почему его убили этой ночью. Быстро отпустите шотландца, Блисс, у меня предчувствие, что именно он выведет нас на добычу, за которой мы так долго охотимся.
— Но почему?
— Потому что он влюблен в Патрицию Поттер.
Сколько бы Малькольм Мак-Намара ни гордился своей исключительной выносливостью, все же по возвращении в «Нью Фэшэнэбл» он имел довольно-таки неважный вид. Эдмунд встретил его без особых эмоций.
— Они вас отпустили?
— Как видите, старина!
— Повезло вам… обычно стоит только попасть к ним в лапы — пиши пропало.
— Но если я не виновен?
— Неужели вы думаете, их это может смутить? К тому же поставьте себя на их место. Вы все время толчетесь среди самого жуткого сброда.
— Вы так считаете?
— Черт возьми! Я здесь потому, что больше ни на что не годен. Мне ничего не нужно — только бы не подохнуть с голоду и не ночевать на набережной Темзы… поэтому все их мерзости мне безразличны… Но, поверьте, иногда даже я горько сожалею, что стал таким, как есть, ведь…
— Но я не понимаю почему…
— О Господи! Да потому что, когда я вижу всех этих несчастных, которых медленно травят… иногда совсем детишек… у меня сердце переворачивается… Сэм был подонком… теперь он помер… я не стану его оплакивать, наоборот!
— Но за что убили Сэма?
— Из-за наркоты.
— Не может быть! Да неужто все эти истории насчет наркотиков — не враки?
— Послушайте, вы там, в Томинтуле, похоже, здорово отстали от жизни!
— И это правда такая страшная штука, как говорят?
— Хотите составить представление — сходите выпить стаканчик в «Экю Святого Георга» на Ромилли-стрит, увидите, какие у них лица! И еще. Вы, кажется, славный малый, потому мой вам совет: оставьте «Гавайскую пальму» и мисс Поттер. Эта компания не для вас!
— Я люблю мисс Поттер.
— Любовь — не лучше наркотиков!..
Эдмунд разбудил Малькольма около одиннадцати. Проспав два часа, шотландец встал если и не совсем свежим и бодрым, то, по крайней мере, достаточно отдохнувшим, чтобы выполнить все намеченное на день. А денек обещал быть довольно напряженным. Незадолго до полудня, при всем своем отвращении к лишним тратам, Малькольм вынужден был сесть в такси — он чувствовал, что сейчас просто не дотащится до Блумсбери пешком. Когда Мак-Намара приехал в сад, Патриция уже ждала его там.
— Я опять провел ночь в полиции, — извинился он.
— Не может быть!
— Да. И на сей раз — в самом Скотленд-Ярде!
— Но за что?
— Убили Сэма Блума!
— Нет!
— Да…
Они молчали. Но каждый знал, о чем думает другой. Наконец Патриция чуть слышно проговорила:
— Это они… правда?
— Питер Дэвит.
— Откуда вы знаете?
Мак-Намара высказал ей свои соображения и в заключение добавил:
— Вы понимаете теперь, Патриция, что вам нельзя больше оставаться с этими людьми?
— Они убьют меня, как убили Сэма Блума.
— Этого я не допущу!
— Бедный Малькольм! Вы так наивны, так безоружны перед ними. Они нанесут удар прежде, чем вы успеете опомниться…
— Ну да?
— Я в этом не сомневаюсь.
— Во-первых, меня так просто не возьмешь, а во-вторых, Дункан обещал, что если я схожу в док за пакетом и принесу его им, то вас со мной отпустят.
— Он врет!
— Не думаю…
— Послушайте, Малькольм, вы же не знаете, что они замышляют… Это чудовища! Как только вы принесете пакет в «Гавайскую пальму», вас убьют.
— Но почему?
— В первую очередь — чтобы вы никому не смогли об этом рассказать, а кроме того, Джек никогда не согласится, чтобы я уехала с вами.
— Он вас любит?
— Он? Джек никогда никого не любил… он не способен любить кого бы то ни было… он любит только деньги.
— Но в таком случае…
— Дункан считает, что я ему принадлежу, и не потерпит посягательств на свою собственность.
Шотландец на мгновение смешался, потом покачал головой:
— Простите, Патриция, но я не могу в это поверить… Дункан мне обещал… Я уверен — он сдержит слово… В Томинтуле все всегда держат слово…
Патриция готова была поколотить его. Понимая, что не в состоянии растолковать упрямцу, насколько Лондон отличается от Томинтула, девушка не выдержала и разрыдалась. Мак-Намара же был так удручен, что мог только повторять:
— Ну… что с вами? Что случилось?
Пожилой джентльмен, уже некоторое время наблюдавший эту сцену, подошел к ним и обратился к Малькольму:
— Прошу прощения, что вмешиваюсь не в свое дело, сэр… но… лучше не заставлять их так плакать… потому что… когда они уходят из жизни… вас начинают мучить угрызения совести… Все эти слезы, на которые когда-то ты не обращал внимания, приобретают огромное значение… На вашем месте, сэр, я бы обнял ее и, если поблизости нет полисмена, крепко поцеловал бы, чтобы показать, как сильно вы ее любите, а все остальное — пустяки.
— Вы вправду так думаете?
— Убежден, сэр! — И старый джентльмен удалился.
Немного помявшись, Малькольм спросил:
— Вы слышали, Пат?
— Разумеется, слышала! И не понимаю, что вам мешает последовать его совету!
Так Малькольм и Пат обменялись первым поцелуем. Когда они отпустили друг друга, шотландец сказал:
— Мне очень жаль…
Патриция подскочила.
— Жаль?
— Да, что не захватил с собой волынку. Я бы сыграл вам «Танец с мечами».
Девушка не смогла удержаться от смеха.
— Будем считать, за вами долг. А теперь, Малькольм, мне надо бежать. Дункан и так, должно быть, ломает голову, куда я исчезла.
Мак-Намара проводил ее до такси. Уже садясь в машину, Патриция обернулась к шотландцу:
— Может, вы все-таки передумаете и откажетесь, Малькольм? Я так боюсь, что с вами случится беда!
Он улыбнулся.
— Не беспокойтесь за меня! Мы еще увидимся, детка!
Глава V
Инспектор Блисс вихрем ворвался в кабинет суперинтенданта Бойланда.
— Дело в шляпе, супер!
Бойланд, человек очень уравновешенный, ненавидел такого рода вторжения. Они не только беспокоили его, но и шокировали. Суперинтендант почти уже достиг пенсионного возраста и испытывал пристрастие к старым добрым традициям — корректному обращению, строгим костюмам и шляпам-котелкам. Бойланд едва терпел новые манеры, казавшиеся ему слишком фамильярными: обращение «супер» раздражало недостатком почтения, он клеймил современные нравы, усматривая в них тлетворное влияние американцев, которых не любил, продолжая считать мятежниками, взбунтовавшимися против Короны. Однако все это не мешало Бойланду быть прекрасным полицейским и в случае необходимости сотрудничать с коллегами из ФБР и ЦРУ.
— В чем дело, мистер Блисс?
— У меня есть доказательство, что шотландец ведет с нами нечестную игру!
— Вот это новость!
— Вы не хотели мне верить, супер, что этот тип связан с бандой Дункана, но я только что получил подтверждение этому.
Блисс не понял, почему суперинтендант улыбается, но это само по себе было настолько редким явлением, что инспектор на мгновение застыл в полной растерянности.
— Я вас слушаю, мистер Блисс, — произнес Бойланд.
— Около полудня я бродил возле «Нью Фэшэнэбл»…
— Вы что же, значит, никогда не спите, мистер Блисс?
— Редко, супер, особенно когда занят расследованием «мокрого» дела.
Суперинтенданта покоробил этот уголовный жаргон, к тому же, честно говоря, он не испытывал особой симпатии к инспектору Блиссу, хотя и ценил некоторые его качества.
— Ну и что же вы обнаружили?
— Как раз в это время шотландец выскочил из гостиницы, сел в такси и поехал. Мне посчастливилось поймать другую машину, и я отправился следом. Так, друг за другом, мы и приехали в Блумсбери, вернее, подъехали к Британскому музею.
— К Британскому музею?
— Еще точнее — в сад при музее. И там его ждали!
— Так… так… и кто же?
— Всего-навсего мисс Патриция Поттер собственной персоной!
Инспектор торжественно откинулся на спинку стула.
— Ну и что?
Блисс посмотрел на шефа с таким же недоумением, как нормальный человек — на умственно отсталого.
— Как так «ну и что»? Вы же в курсе, какую роль играет мисс Поттер в махинациях Дункана!
— То-то и оно, что нет, мистер Блисс, я об этом понятия не имею.
— В любом случае свидание шотландца с подружкой хозяина «Гавайской пальмы» — явная улика, что все они заодно и мисс Поттер просто-напросто пришла передать этому типу указания главаря.
— В Британском музее?
— А почему бы и нет? Никому бы и в голову не пришло искать их там!
— Кроме вас.
Полицейский кивнул.
— Да, кроме меня, — сказал он с таким видом, что было ясно, как крупно не повезло Малькольму и Патриции: они встретили на пути настоящего стража закона.
— Скажите, мистер Блисс… вы никогда не были влюблены?
— Все времени не хватало, супер!
— Очень жаль…
— Что?
— Это избавило бы вас от утомительных и совершенно ненужных действий. Тогда бы вы знали, что влюбленные имеют обыкновение назначать свидания в самых невероятных местах. А этот шотландец, по его же собственному признанию, так любит мисс Поттер, что хочет увезти ее с собой на родину. Только этому мешает Дункан… и вот, желая ускользнуть от его бдительного ока, влюбленные решили встретиться там, куда Дункан ни за что не явится.
— Это только предположение!
— А не заметили ли вы, мистер Блисс, в их поведении чего-нибудь такого, что подтвердило бы мои слова?
— То есть… ну… короче говоря, они целовались. Но это же ничего не доказывает!
— О, совсем наоборот, мистер Блисс… И позвольте дать вам совет: ни на шаг не упускайте из виду шотландца, потому что именно с этого момента ему грозит смертельная опасность! Я, по крайней мере, в этом не сомневаюсь.
— Ему грозит опасность?
— Да, мистер Блисс, и будет крайне прискорбно как для него, так и для вас, если случится несчастье. Вы меня поняли?
— Прекрасно, супер.
— Тогда все в порядке. Но, главное, оставьте его в покое и не предпринимайте никаких мер, не посоветовавшись предварительно со мной. У меня есть предчувствие, мистер Блисс, что этот овцевод, с его наивностью, попав в мир дунканов и дэвитов, обязательно вызовет там изрядное замешательство, а мы не преминем этим воспользоваться.
Уходя от Бойланда, Блисс размышлял, что надо бы отправлять людей в отставку раньше, чем они выживают из ума — ведь когда суперинтендант полиции впадает в маразм, это не может не сказаться на работе всего отдела.
Слушая Мак-Намару, Дункан мысленно благодарил Господа Бога за то, что он создал дураков ради вящего процветания всех прочих. Шотландец описывал свою будущую свадьбу с Патрицией, когда они приедут в Томинтул, перечисляя имена всех, кого пригласят. Джек испытывал к Малькольму что-то вроде насмешливого презрения и в то же время не мог удержаться от странной жалости к наивному горцу и его иллюзиям. Но Дункан знал и исповедовал только один закон — право сильнейшего, и он быстро прервал разглагольствования Мак-Намары.
— Мистер Мак-Намара, вам скоро идти. Вы хорошо помните инструкцию?
— Не дергайтесь зря, старина, у меня самая замечательная память во всем Томинтуле!
— Тем лучше… И самое главное, ни под каким видом не уклоняйтесь от намеченного маршрута, иначе… Короче, когда дело касается наркотиков, мы становимся крайне недоверчивы и склонны ко всякого рода ложным интерпретациям. Будет очень печально, если мои люди, которым поручено наблюдать за вами, вообразят, будто вы собираетесь прикарманить товар…
— А что бы я с ним делал?
Дункан вздохнул. Слышать от человека, что он не знает, куда девать целое состояние, которое тащит под мышкой, было почти нестерпимо. В комнату неслышно проскользнул Питер Дэвит.
— Вы, как обычно, слушали под дверью? — недобро усмехнулся Джек.
— Как же иначе я мог бы быть всегда в курсе дел?
Мужчины в упор взглянули друг на друга, и легкий смешок странно противоречил их горящим ненавистью взглядам. Дункан думал, что настало время расстаться с Дэвитом (на языке хозяина «Гавайской пальмы» это слово имело ужасающе конкретный смысл), а Питер, в свою очередь, представлял себе, какая рожа будет у его патрона, когда тот узнает, что героин увели у него прямо из-под носа. Не говоря уж о том, что Дункану придется объясняться с «большим боссом» Сохо и объяснение это очень даже может закончиться погружением на дно Темзы, и такая перспектива более чем радовала Дэвита.
— Вы, конечно, не будете спускать глаз с нашего друга, Питер?
— Разумеется.
— Но вы сумеете устроить так, чтобы ваша… дружеская забота не напоминала слежку?
— Я не новичок, Джек.
— Тогда, джентльмены, мне остается лишь пожелать вам удачи!
— Ну, сегодня мы ничем не рискуем. Это же просто проба!
— Она будет иметь смысл только в том случае, если вы, Питер, будете расценивать ее как настоящую операцию.
Когда Мак-Намара поднялся, Дункан заметил рядом с его креслом чемодан необъятных размеров. Малькольм взял его за ручку.
— Это еще что такое?
— Моя волынка.
— Но вы, надеюсь, не намерены тащить этот инструмент в Дроу-док?
— Это мой талисман. Без него я теряю половину способностей.
Как и было условлено, Мак-Намара вышел из «Гавайской пальмы» с видом туриста, болтающегося по Лондону без определенной цели, и пошел далее размеренным шагом. Он пересек Ромилли-стрит и Комптон-стрит, не обращая внимания на уличное движение. Это, естественно, вызвало яростную брань таксистов, а Малькольм, не желая оставаться в долгу, отвечал в том же духе. Все это происходило на глазах удивленного и перепуганного Дэвита, который следовал за шотландцем на расстоянии сотни шагов. «Решительно, у этого олуха довольно странные представления о способах не привлекать к себе внимания», — думал он. На углу Шафтсберри-авеню крыло какой-то машины зацепило юбочку шотландца, и тот счел своим долгом проучить наглеца шофера. Вынужденный вмешаться полицейский объявил, что Малькольм неправ, но Мак-Намара ответил, что у них в Томинтуле никто не гоняет с такой сумасшедшей скоростью. Полисмен оказался человеком миролюбивого склада.
— Где находится это место, о котором вы говорите, сэр?
— В Шотландии, в графстве Банф.
— Так, понимаю. И значит, в Граминтуле…
— В Томинтуле!
— Простите, сэр. Так в Томинтуле вас не научили, что желательно пересекать улицу по пешеходным дорожкам?
— Нет.
— Вы меня удивляете, сэр.
— Дело в том, старина, что в Томинтуле вообще нет проезжей части, а стало быть — ни машин, ни пешеходных дорожек. И все-таки Томинтул — очень неплохое место. Вам стоит туда съездить.
— При случае не упущу возможности, сэр.
Глядя вслед удаляющемуся шотландцу, полисмен приподнял каску и почесал голову, что служило у него признаком растерянности.
Добравшись до Черринг-Кросс, Малькольм спустился в метро, не преминув заметить контролеру, что цена кажется ему просто скандальной, сел на «Метрополитен энд дистрикт лайнз», сделал пересадку в Уайтчепеле и наконец добрался до Блумсбери, где его ожидало такси. Машина доставила его на перекресток Саундерс-Несс и Гленгарнок-авеню и остановилась как раз напротив Дроу-дока. Дальше шотландец пошел пешком. Он сразу же заметил «Звезду Индии» и матроса, со скучающим видом облокотившегося на борт. Малькольм увидел, как матрос, едва взглянув на него, быстро спустился по мостику и стал ждать. Вскоре моряк подошел к Мак-Намаре.
— Простите, сэр, но вы, конечно, шотландец?
— Точно!
— Тогда, может быть, вы знаете мою кузину Элспет из Стирлинга?
— Нет, но очень об этом жалею, потому что слышал, какая она красотка.
— О'кей, пошли опрокинем по маленькой.
И они бок о бок направились в «Разочарованного пирата», где, заказав две порции виски, матрос вышел в туалет. Оттуда он вернулся с объемистым пакетом и вручил его Малькольму.
— Мое дело сделано. Теперь очередь за вами, приятель.
Они вышли и стали прощаться. Уходя, матрос сказал:
— Завтра в это же время.
Чтобы вернуться в Сохо, Малькольм снова сел в ожидавшее его такси, потом спустился в метро и вышел на Черринг-Кросс. По-прежнему следовавший за ним Дэвит уже решил, что дела идут наилучшим образом, и стал прикидывать, как бы ему завтра уничтожить жителя Томинтула и отобрать драгоценный пакет. Но тут его размышления были нарушены самым неожиданным образом: на углу Шафтеберри-авеню Малькольм вытащил волынку и заиграл «Берега Аргайла». Это тут же вызвало в толпе взрыв самых разнообразных чувств. Одни, застыв, смотрели вслед шотландцу, другие двинулись за ним по пятам. Совершенно сбитый с толку Питер спрашивал себя, уж не рехнулся ли часом Мак-Намара. Наконец произошло то, чего и следовало ожидать. Перед Малькольмом, скрестив руки, вырос полисмен, тот самый, с которым он уже имел дело в начале прогулки.
— Пожалуйста, прекратите!
— Вы не любите «Берега Аргайла», старина?
— Поверите ли вы мне, сэр, если я скажу, что ровно ничего не имею против Шотландии и шотландцев…
— Поздравляю, у вас хороший вкус, старина!
— …и что я был бы счастлив поехать в Прагинтул?
— Томинтул.
— Простите, сэр, в Томинтул.
— Вас встретят как почетного гостя, старина!
— Так вот, это доставит мне огромное удовольствие там, но не на улицах Лондона, где я должен регулировать движение!
— Да?
— И я буду бесконечно признателен, сэр, если вы скажете, долго ли еще собираетесь издеваться надо мной!
— Я?! Да вы мне очень нравитесь, старина!
— И вы тоже, сэр, очень мне нравитесь, поэтому прошу вас пойти со мной в участок, там мы сможем познакомиться поближе. Но, по правде говоря, не поручусь, что сержант Бредли любит игру на волынке…
— Услышав, как я играю, он ее полюбит, старина!
Попросив коллегу заменить его, полисмен направился в ближайший полицейский пост вместе с шотландцем, который возглавлял процессию, продолжая играть «Эль-Аламейн». Что касается Дэвита, то он тщетно пытался понять, уж не попал ли он случайно в какой-то совершенно безумный мир. Считая излишним следовать за любопытствующими в полицию, где его могли бы узнать, Питер поспешил в «Гавайскую пальму».
Без всякого нетерпения ожидая возвращения Мак-Намары, Дункан пытался растолковать Патриции Поттер свою точку зрения.
— Вы просто разочаровываете меня. Патриция! Неужели вы действительно вообразили, что я могу отпустить вас с этим идиотом? Я слишком дорожу вами, милая!
— И к тому же я чересчур много знаю о ваших делишках…
Джек бесстрастно кивнул.
— Вы и впрямь знаете слишком много, чтобы я позволил вам состариться в компании кого-то другого.
— То есть пока я вам не надоем…
— Вы совершенно правы. Видите, как прекрасно мы понимаем друг друга? Разве это не лучшее доказательство, что мы созданы для этого союза?
— Вы негодяй!
— Забавно, что вы так и не избавились от старомодных выражений!
— Значит, моя жизнь, мое счастье — все это не имеет значения? И я должна от всего отказаться в двадцать три года?!
— Только не пытайтесь заставить меня поверить, будто внезапно открыли в себе призвание пасти овец!
— Нет, это нормальное желание вести честную жизнь с хорошим парнем.
— Противно слушать, до какой степени вы лишены честолюбия! Неужели вы могли всерьез увлечься этим громилой в юбке?
— И что с того?
— А то, что вы даете мне лишний повод поскорее от него избавиться.
Патриция в ужасе вскочила.
— Но вы же не…
— Сидите спокойно, дорогая!
Она бессильно упала в кресло.
— Скажите, Джек, вы ведь не убьете его?
— Убью.
— Но почему? За что?
— Потому что он тоже слишком много знает о том, что вы называете моими «делишками». Я даже расскажу вам, как я это сделаю. Судите же, как я вам доверяю! Завтра Дэвит устроит так, чтобы он вошел в эту комнату первым, и…
Дункан вытащил из ящика стола пистолет с глушителем.
— Эта игрушка рассчитана только на один выстрел, но я хороший стрелок, и одной пули хватит. Самым сложным будет убрать этот огромный труп.
— Вы чудовище!
— Я просто практичен, дорогая. Кроме того, уверен, что вы забудете о своем негодовании, как только я преподнесу вам норковое манто… Поразительно, до чего быстро мех этого зверька успокаивает самую мстительную память! Разумеется, если вам взбредет в голову попытаться воспрепятствовать моим планам, придется принять против вас крайние меры, и мне будет жаль…
Патриция хотела было возразить, но Дункан жестом заставил ее молчать. И тут на лестнице послышались шаги. Вскоре вошел совершенно запыхавшийся Дэвит. Дункан и Патриция удивленно наблюдали, как он переводит дыхание, не в силах сказать ни слова.
— Где шотландец? — спросил Дункан.
— В полиции!
— Черт возьми, все-таки замели?
— Нет.
— Так почему же его взяли?
— За то, что играл на волынке посреди Шафтсберри-авеню!
— Вы что, смеетесь надо мной?
Питер обрисовал невероятную сцену, разыгравшуюся у него на глазах. Когда он закончил рассказ, Дункан, не обращаясь прямо ни к кому из присутствующих, задумчиво проговорил:
— Что бы это могло значить?
— Да это просто какой-то чокнутый! Так я и знал, что этот придурок навлечет на нас неприятности!
— Помолчите, Питер, и подумайте хорошенько, прежде чем говорить. Если бы он нес героин, можно было бы подумать, что он нарочно привлек к себе внимание полиции. Ведь за это полагается огромная премия!
— Вот именно.
— Но в пакете же не было героина, и шотландец это знал!
— Так зачем же…
— Другое предположение: он нарочно попадает в полицию, чтобы на нас донести… но опять-таки не вижу, что он на этом выгадает сегодня, тогда как завтра…
— Так что же мы будем делать, патрон?
— Подождем.
— Но вдруг…
— Это мы узнаем, когда появится полиция.
— Нечего сказать — в самое время!
— Нет, Дэвит, время на этом остановится, и мы закончим наши земные приключения здесь — и вы, и я, потому что, представьте себе, у меня нет ни малейшего желания снова вкусить тюремных наслаждений.
— У вас — нет, но у меня…
Дункан вытащил пистолет и спокойно навел дуло на своего приспешника.
— Моя судьба будет вашей, Питер, независимо от того, нравится вам это или нет.
И, повернувшись с улыбкой к Патриции, Дункан добавил:
— Не рассчитывайте, что я оставлю вас одну, дорогая. Пожалуй, вы и в мире ином мне пригодитесь.
Телефонный звонок взорвал царившее в кабинете напряжение. Джек взял трубку левой рукой.
— Да? Прекрасно!.. Он один? Тогда пусть поднимется.
Повесив трубку, Дункан объявил:
— Мистер Мак-Намара, краса и гордость Томинтула, прибыл… в одиночестве…
Все замолчали, но чувства были настолько напряжены, что в наступившей тишине каждый ощущал приближение шотландца задолго до того, как на лестнице послышались его шаги. Наконец тяжелая поступь Малькольма, чуть приглушенная толстым ковром, стала слышна отчетливо. Дункан, Дэвит и Патриция застыли, устремив глаза на дверь. Дверь распахнулась, и на пороге показался Малькольм Мак-Намара.
— Что случилось? — спросил он, увидев бледные, напряженные лица. При этом у него был такой огорошенный вид, что все трое облегченно вздохнули.
— Вы один? — поинтересовался Дункан.
— Один? Что за вопрос? А кого бы вы хотели, чтобы я с собой прихватил? Вот, держите ваш бесценный пакет. Могли бы предупредить, что там конфеты. По вашей милости я выглядел в полиции круглым идиотом! Фараоны катались со смеху, они, видите ли, не думали, что шотландцы питаются леденцами, как лондонские ребятишки! Я даже чуть не рассердился, потому что, понимаете ли, должен же быть этому какой-то предел!
Из всех присутствующих, кажется, только Дэвит не поверил в искренность шотландца.
— Какого черта вам понадобилось дуть в эту чертову трубку посреди проспекта? Вы не нашли бы ничего лучшего, если бы очень хотели попасть в полицию!
— Но я и в самом деле хотел туда попасть, старина!
Питер выругался и хотел было излить все накопившееся негодование на голову Малькольма, но Дункан велел ему замолчать.
— На сегодня мы вас слышали достаточно, Дэвит!.. Мистер Мак-Намара, мисс Поттер и я будем счастливы выслушать ваши объяснения.
Шотландец опустился в кресло и в первую очередь обратился к Патриции:
— Еще двадцать четыре часа, детка, — и мы мчимся в Томинтул!
К великому удивлению Мак-Намары, Патриция разрыдалась. Он встал, подошел к ней, ласково положил руку ей на плечо и спросил:
— Вы чем-то расстроены, детка?
Эта сцена страшно действовала Дункану на нервы, и он с нетерпением ждал, когда же пролетят эти сутки и можно будет наконец отвести душу, раз и навсегда уничтожив эту сентиментальную гориллу. Да и Патриция свое получит! Тем временем Питер, от внимания которого ничего не ускользало, чувствовал себя на вершине блаженства.
Спокойный голос Малькольма, как покровом, окутывал Патрицию, и она вдруг почувствовала себя в безопасности. Девушка уже готова была все ему рассказать, но встретилась глазами с Дунканом и прочла в его взгляде готовность немедленно убить обоих, поэтому лишь устало пробормотала:
— Нет, уверяю вас… ничего не случилось… это нервно…
— Когда вы будете в Томинтуле…
Тут Дункан потерял свое обычное хладнокровие и грохнул кулаком по столу.
— Черт бы побрал все на свете! — заорал он. — Сейчас не время нашептывать нежности мисс Поттер, Мак-Намара. Я задал вам вопрос и прошу на него ответить, да побыстрее!
Шотландец медленно подошел к столу Дункана и, внимательно посмотрев Джеку в лицо, спросил:
— Вы что, старина, тоже страдаете нервами, а?
Дункан побледнел, что означало ту запредельную степень бешенства, когда он переставал отвечать за свои поступки, и Патриция испугалась, что, окончательно потеряв самообладание, бандит выстрелит в ничего не подозревающего Малькольма. К счастью, в ту долю секунды, которая отделяла вопрос шотландца от движения, необходимого Дункану, чтобы выхватить пистолет, Мак-Намара снова благодушно заговорил:
— Сказать по правде, старина, я малость волновался… Мне кажется, эти лондонские фараоны как будто слишком мной интересуются… Ну я и сказал себе, что завтра, когда понесу настоящий пакет, могу попасть впросак… вот и решил перенести это дело на сегодня.
— Зачем?
— Я подумал, что самое опасное место — на подступах к Сохо, и не ошибся, верно?
— Согласен.
— Идея была такая: мой вид и так привлекает внимание фараонов, а уж если я на улице заиграю на волынке — меня точно загребут. Там меня примут за последнего олуха, а я буду вести себя так, чтобы они открыли пакет. Все так и вышло. Как же они потешались надо мной, старина! Зато теперь никому в голову не придет меня заподозрить, наоборот — меня жалеют и очень дружелюбно ко мне настроены. Значит, завтра, когда я буду проходить мимо, полицейские подумают: «Глядите-ка, опять этот дурень шотландец!» — и если я не стану играть на волынке, то спокойненько пронесу у них под носом сверток. Я даже не удивлюсь, если мне скажут что-нибудь приятное!
— Я думаю, Питер, — обратился Дункан к Дэвиту, — вам стоят поучиться у нашего друга стратегии и тактике.
И, снова повернувшись к шотландцу, хозяин «Гавайской пальмы» заметил:
— А знаете, Мак-Намара, вы удивительно предприимчивы!
Малькольм самодовольно усмехнулся:
— В Томинтуле, если что не так, за советом всегда приходят ко мне. То есть — ясное дело — те, у кого хватает на это мозгов!
Вернувшись в «Нью Фэшэнэбл», где, несмотря на смерть Блума, все шло своим чередом, Мак-Намара увидел Эдмунда. Тот, видимо, был так сильно чем-то расстроен, что пытался утопить огорчение, беззастенчиво поглощая виски покойного хозяина гостиницы. Шотландцу без труда удалось вызвать его на задушевный разговор, тем более что старик — то ли под действием винных паров, то ли от сильных переживаний — и сам был склонен к излияниям.
— Жизнь — пресволочная штука, даже черт знает какая сволочная штука, сэр, если хотите знать мое мнение. — Вот только что приходил паренек… совсем еще зеленый… и, похоже, когда-то был вполне порядочным… Господи, как противно! С ним была жуткая истерика, хуже — припадок.
— Что это на него нашло?
— Он узнал, что Сэм помер.
— Родственник?
— Нет, клиент.
Шотландец недоверчиво взглянул на собеседника.
— Ну это вы загнули, старина! Неужели вы будете уверять меня, что постояльцы так любили Блума…
— Да нет же! Для Сэма гостиница была только вывеской, а на самом деле он торговал наркотиками. Понимаете? И этот сегодняшний паренек — наркаш.
— Как же он не знал о смерти Блума? Все газеты только об этом и пишут…
Эдмунд хихикнул.
— Наркоману чихать на газеты, сэр. Наркоман живет только ради наркотиков, а все остальное, простите за выражение, сэр, его не колышет! Как он меня умолял, этот парень, как плакал! Думал, это я прибрал запасы Сэма… но я лучше подохну, чем дотронусь до этой гадости. — Помолчав, Эдмунд добавил: — Три года назад меня мучил артрит, я попробовал — и стало легче, а потом очень быстро привык. И вот однажды я увидел, как одного типа кумарило… Страшное зрелище, сэр… Я не хотел, чтобы со мной случилось то же самое… вот и пошел к доктору Эдэмфису…
— Это еще кто такой?
— Святой человек, сэр. Он почти никогда не берет денег за консультации, по крайней мере у тех, кому нечем платить. Он уже много лет лечит наркоманов… потому что наркотики убили его дочь. И много есть таких, кто хотел бы, чтобы он умер как можно скорее, но полиция его защищает, и торговцы знают, что посягательство на доктора Эдэмфиса обойдется им очень дорого… только поэтому ему и удастся продолжать работать на Бродвик-стрит. Очень хороший человек, сэр. Потому что те, кто торгует наркотиками, по мне — самые подлые мерзавцы на свете.
На следующий день Мак-Намара в назначенный час явился в кабинет Дункана. Хозяин «Гавайской пальмы», видимо, пребывал в самом хорошем расположении духа. Патриция же, наоборот, не могла скрыть глубокой грусти.
— Ну, Мак-Намара, вы готовы?
— Я всегда в отличной форме, старина!
— Тем лучше! Все пойдет по вчерашнему сценарию… Я было хотел предложить вам другой маршрут, но уж очень мне понравился номер с волынкой на Шафтсберри-авеню. По-моему, вы это весьма ловко придумали. А следовательно, нет никаких причин менять маршрут. Конечно, в случае чего, Дэвит вас прикроет… Желаю удачи! Возвращайтесь с пакетом — и можете собирать чемоданы в Томинтул.
— С Патрицией?
— Разумеется, с Патрицией!
Она больше не могла терпеть эту наглую ложь. Надо было во что бы то ни стало крикнуть, предупредить Мак-Намару, что Дункан не только никогда не собирался отпускать ее, но и его самого убьет, как только получит свой проклятый пакет.
— Малькольм, не ходите! Они хотят…
Дункан набросился на девушку и, схватив за руку, резко встряхнул.
— Берегитесь!
Патриция поняла, что уже не сможет превозмочь панический ужас, который ей внушал Джек, но в душе надеялась, что Малькольм, получив предупреждение, будет осторожен. Но он, по всей видимости, счел это обыкновенной женской истерикой и только и сказал Дункану:
— Не надо обращаться с ней так грубо, старина, мне это не нравится…
— Пат всегда слишком нервничает перед серьезными операциями.
Мак-Намара доверчиво улыбнулся Патриции и, глядя на ее залитое слезами лицо, проговорил:
— Не стоит так терзаться… мне ничто не грозит, мы еще увидимся, детка…
Все произошло так, как и было задумано. Малькольм уже подходил к доку, когда услышал:
— Эй, кузен!
Обернувшись, он увидел на пороге кафе вчерашнего матроса. Тот делал ему знаки. Шотландец подошел. Матрос по-приятельски похлопал его по плечу.
— Я выбрался на берег раньше обычного. Выпьем?
— Если вы угощаете!
Матрос захохотал.
— Ну и чертов же вы шотландец! Даже больше, чем я! Пошли!
Они отправились в бар и, облокотившись на стойку, стали беседовать о родных краях, потом матрос, как и накануне, на минутку отлучился, вернулся со свертком и положил его на стойку рядом с Мак-Намаром. Оба шотландца выпили и распрощались. Малькольм взял под мышку сверток. Дэвит, спокойно стоя на улице, ждал его появления. Когда тот вышел, Питер зашагал следом, стараясь, однако, держаться на почтительном расстоянии, чтобы не привлекать внимания.
На углу Шафтсберри-авеню движение регулировал тот же полисмен. При виде Мак-Намары он широко улыбнулся. Шотландец подошел к нему.
— Сегодня я без волынки! — сказал он.
— Вы очень здраво рассудили, сэр!
Указывая пальцем на сверток под мышкой Малькольма, полисмен лукаво спросил:
— Опять леденцы, сэр?
— Люблю сладкое.
— Похоже, это идет вам на пользу, сэр.
Во время этого диалога Дэвит обливался холодным потом. Надо же набраться наглости сунуть под нос «бобби» десять кило героина! Питер снова смог дышать спокойно лишь после того, как, распрощавшись с полисменом, шотландец свернул на Дин-стрит. Дэвит ускорил шаг и догнал Малькольма на повороте Олд Комптон-стрит.
— Программа меняется, Мак-Намара.
— Вот как?
— Дункан ничего не сказал вам об этом из своей всегдашней недоверчивости… Мы встретимся в Хаунслоу, у перекупщика. Джек нас уже ждет.
— А как мы туда попадем?
— Не беспокойтесь, все предусмотрено.
В этот момент рядом с ними у обочины затормозила машина.
— Вот это точность, а, Питер? — сказал шофер, подмигивая Дэвиту.
— О'кей, Джим.
Дэвит пригласил шотландца в машину и сам уселся рядом.
— Вперед, Джим, да побыстрее, но все-таки не нарушай правил — сейчас не время привлекать внимание легавых.
Машина покатила на запад, и Дэвит больше не раскрывал рта. После Чисвика поехали вдоль Темзы к Кью-гарденс, потом, свернув с лондонской дороги, въехали в Сайон-Парк. Питер неожиданно приставил револьвер к боку удивленного Мак-Намары.
— Что это с вами?
— Со мной? Ничего! А вот с вами точно случится, если сейчас же не отдадите мне пакет! Притормози, Джим…
Шотландец все не мог прийти в себя от изумления.
— Но… но Дункан мне сказал…
— Плевать на Дункана! А ну живо! Или я стреляю!
— Патриция…
— Не дергайтесь из-за нее, все равно Дункан ни за что не отпустил бы девчонку! Так отдадите пакет, или мне самому забрать его у покойника?
— Неужто вы и вправду пойдете на такое?
— Еще бы! Честно говоря, вы мне противны, Мак-Намара!
— Да? Вот забавно-то как, потому что и вы тоже ни чуточки мне не нравитесь… Вы напомнили мне Брайана Мак-Коннота… тот тоже как-то попытался взять у меня то, что ему не принадлежало…
— И что же?
— Ну… — И тут, вытаращив глаза, шотландец завопил что есть мочи: — Осторожно, грузовик!
Думая, что хорошо изучил характер противника, Дэвит попался на эту удочку и на долю секунды ослабил бдительность. Этого оказалось достаточно, чтобы великолепный апперкот надолго избавил его от тревог и волнений — от боли Дэвит потерял сознание. Шофер, все еще под впечатлением ложной тревоги, не успел прийти в себя, как почувствовал, что ему в затылок упирается дуло пистолета. От ужаса он начал заикаться:
— Ч-ч-что… п-п-происходит?
— Просто-напросто на вашем месте, старина, я бы вернулся в «Гавайскую пальму»… Если по дороге нас остановит полиция и найдет в машине эту кучу героина, то меня засадят так надолго, что я предпочту умереть. Но сначала пристрелю вас. Понятно?
— Конечно-конечно… а могу я спросить… у вас нервы в порядке?
— В полном, а что?
— Слава Богу! Курок спускается так легко…
После того как Мак-Намара и Дэвит ушли, Дункан практически не разжимал зубов. Он ограничился тем, что пригрозил Патриции:
— Вы пытались предупредить своего шотландца, дорогая, а тем самым — предать меня. Как я отношусь к подобным действиям, вам должно быть известно. В наказание Тарзан из Томинтула умрет у вас на глазах. И имейте в виду: вздумаете кричать — он только скорее сюда войдет. Что вы хотите, дорогая, он обладает всеми достоинствами романтического героя, этот ваш возлюбленный!
А потом наступила тишина. Тяжкая, напряженная тишина, в которой Патриция тщетно пыталась найти способ предупредить Малькольма об опасности. Но она даже не представляла себе, как за это взяться, тем более что этот большой ребенок отказывается верить в существование зла. «Мы еще увидимся, детка», — вот и все, больше он ничего не мог сказать, так и не понимая, что как раз увидеться-то им больше не дадут. Дункан курил, не отводя глаз от циферблата. Когда время возвращения стало приближаться, он начал нервничать, а когда прошло — забегал из угла в угол. Еще через полчаса, не зная о прогулке, которую Дэвит заставил совершить Малькольма, Дункан взорвался:
— Провел! Провел меня, как школяра! Клянусь вам, Патриция, я из-под земли его выкопаю и заставлю расплачиваться дорого и мучительно!
— Вы о ком?
— О ком же еще, как не о Мак-Намаре?
— О Дэвите!
— С чего бы это вдруг?
— Потому что он вполне способен убить Малькольма и забрать пакет.
— Никогда он на это не решится.
— Разуверьтесь, Джек, он обещал мне сделать это, если я соглашусь с ним бежать.
Дункан недоверчиво посмотрел на девушку.
— Уж не пытаетесь ли вы, случаем, втереть мне очки? Смотрите, как бы это развлечение не обернулось для вас худо! А если говорите правду, то почему молчали раньше?
— Мне нет дела до ваших личных счетов.
— Дорогая Патриция, я приложу все усилия, чтобы вы горько пожалели о своей нелояльности. Можете на меня положиться! Что до Питера, то я этого мерзавца поймаю, куда бы он ни скрылся.
В это время они услышали, что около «Гавайской пальмы» остановилась машина. Дункан поспешил к окну и облегченно вздохнул, увидев высокую фигуру шотландца.
— Не знаю, на что вы рассчитывали, но вы осмелились солгать мне! — И с этими словами Дункан ударил Патрицию по лицу. Девушка едва сдержала стон. — Это еще цветочки по сравнению с тем, что вас ждет! А пока можете извиниться перед Питером, когда я покончу с шотландским приматом.
Дункан уселся на стол, вытащил пистолет, примерил к правой руке и
стал ждать Мак-Намару и Дэвита, успешно завершивших миссию.
— Осторожно, Малькольм, он… — вскрикнула Патриция.
Дверь шумно распахнулась, и Дункан выстрелил. Он действительно хорошо умел целиться, и Дэвит, с пулей в сердце, рухнул лицом вниз. Мак-Намара опустился на колени рядом с Питером и, осмотрев тело, сказал:
— Вот, значит, как… старина, вы его убили…
Дункан никак не мог опомниться. Какого черта Дэвит вошел первым? Малькольм положил на стол сверток с героином.
— Берите свой пакет.
Джек не знал, как ему себя вести. Поскольку он понятия не имел о попытке Питера обокрасть его, получилось, что он прикончил своего ближайшего помощника ни за что ни про что. И с шотландцем голыми руками не справишься — надо идти за другим оружием. Дункан уже собирался всерьез заняться этим вопросом, как вдруг Патриция налетела на Малькольма:
— Зачем вы отдали ему героин? Вы что, не знаете, для чего он нужен? Неужели вы и в самом деле настолько наивны? Или вы такой же бессовестный негодяй, как он?
Дункан кинулся на нее, изо всех сил ударил по лицу и вцепился в горло:
— Шлюха! Грязная шлюха! — орал он. — Уж я-то заставлю тебя замолчать!
Патрицию уже начало сильно раздражать бездействие Мак-Намары, как вдруг комнату заполнили звуки волынки. Сбитый с толку, Джек оставил девушку в покое и обернулся к шотландцу. Тот во всю силу легких раздувал меха. Это было и гротескное, и завораживающее зрелище: громадный детина, играющий на волынке над бездыханным трупом. Хозяин «Гавайской пальмы», вне себя от ярости, бросился к Малькольму и вырвал у него из рук инструмент.
— Вы совсем спятили?
— Я? С чего вы взяли?
— Зачем вам понадобилось музицировать в такой момент?
— У нас в Томинтуле всегда играют «Полковник вернулся домой», когда кто-то должен умереть.
— Оставьте свои дикие выходки для Томинтула, если, конечно, вам удастся туда вернуться. — И, указывая на Дэвита, добавил: — В любом случае для него это слишком поздно.
— А я вовсе не для него играл, старина.
— Тогда зачем же?
— Я играл вам.
— Мне?
— Да, вам. Потому что сейчас я вас убью, старина.
— Что вы несете? Может, больны?
— Видите ли, у нас в Томинтуле, если кто-то имел наглость поднять руку на вашу возлюбленную, долг чести — убить наглеца. А я люблю мисс Поттер.
— Думаете, меня это очень волнует, кретин несчастный…
Мак-Намара одним прыжком оказался рядом с Дунканом и схватил его за горло. Джек отчаянно пытался разжать душившее его кольцо, но безуспешно… Наклонившись над ним, шотландец зашептал:
— Патриция рассказала мне о той девушке… и о полицейском… которых Дэвит убил по вашему приказу… и еще рассказала, что вы заставляли ее переносить… так вот, значит, старина, рано или поздно за все приходится платить…
Эта сцена сначала парализовала Патрицию, но, очнувшись от оцепенения, она тут же повисла на руке Мак-Намары.
— Только не вы, Малькольм, только не вы! Я не хочу, чтобы вы тоже стали убийцей! Ради любви ко мне бросьте его!
Он, не выпуская жертвы из рук, улыбнулся девушке.
— Вы и вправду хотите, чтоб я его отпустил?
— Умоляю вас!
— Ладно…
Шотландец разжал руки, и Дункан опустился на ковер. Патриция попыталась привести его в чувство.
— Не думаю, что у вас это выйдет, — заметил Мак-Намара.
— Почему?
— Да я, как-то сам не заметив, должно быть, слишком сильно нажал и, кажется, слегка свернул шею…
— Значит, Джек…
Мак-Намара кивнул.
— Мертвее некуда.
И он, все так же невозмутимо, снял перчатки.
— А теперь, детка, мы можем ехать в Томинтул.
Патриция была в полной прострации, она не могла взять в толк, как получилось, что из троих мужчин, разговаривавших в этом кабинете несколько часов назад, в живых остался один Малькольм, а ведь он-то и должен был умереть… Девушка смотрела на шотландца почти с неодобрением. Такой сильный, такой спокойный, такой по-детски наивный… ребенок, убивающий, сам того не замечая…
— Малькольм… Почему?..
— Но ведь он вас ударил, а это, детка, мне, понимаете ли, не по нутру… даже совсем не по нутру…
Патриция ломала голову, как бы получше растолковать этому слишком большому младенцу, что убийство — страшное дело, но тут в дверь робко постучались, и неуверенный голос Тома спросил:
— Я не нужен вам, патрон?
Шотландец, не говоря ни слова, прижался к стене, а Патриция, все еще в шоке, была не в состоянии сосредоточиться на чем-либо, кроме только что пережитого. Том, явно удивленный, что никакого ответа не последовало, осторожно приоткрыл дверь и просунул в комнату сначала голову, а потом и плечи.
— Вы тут или нет, па…
Слова замерли на губах швейцара, когда он увидел тела Дункана и Дэвита, но отскочить и захлопнуть дверь не успел.
— Бо-бо-боже милостивый! — пробормотал Том и почувствовал, что взлетает. Позже он рассказывал, что подумал, не ураган ли начался в кабинете Дункана.
— Вам надо успокоиться, старина, — ласково сказал Мак-Намара, усаживая швейцара в кресло.
Тот, однако, никак не мог обрести желанное равновесие и взирал на Малькольма глазами, полными ужаса.
— Вы и… и меня тоже… убьете…
Гигант добродушно расхохотался, и этот смех лучше любых слов успокоил Тома.
— Дэвита застрелил Дункан… а я чуть крепче, чем надо было, сжал горло Дункана, когда тот колотил мисс Поттер.
— Совсем чуть-чуть, да?
— Видно, он оказался более хлипким, чем я думал.
— Да… похоже, что так…
Мак-Намара налил швейцару бокал виски, и тот залпом осушил его.
— Так что же все-таки тут произошло?
Малькольм доверчиво рассказал, как матрос со «Звезды Индии» передал ему сверток с героином, как Дэвит попытался этот сверток у него украсть, как Дункан расставил тут ловушку и какая произошла после всего этого свалка. Когда он замолчал, Том задумчиво проговорил:
— В конце концов, вы только защищали свою жизнь.
— Вот именно.
— Но героин? Где он?
— Да вот — на столе лежит!
Швейцар дрожащей рукой погладил сверток.
— И что вы собираетесь…
— Мы сдадим его в полицию, — быстро вмешалась мисс Поттер. — Правда, Малькольм?
— Конечно…
Том взвесил на руке сверток.
— Здесь тысячи и тысячи фунтов… это обеспечило бы нам хороший доход до конца жизни…
— Об этом я и не подумал!
— Нет, нет! — взмолилась Патриция. — Подумайте, сколько несчастья принесет этот героин! Если вы действительно меня любите, Малькольм, то никогда не сделаете такую подлость!
Мак-Намара глубоко задумался.
— Тысячи фунтов… можно было бы купить немало овец… Леонард Кент хочет продавать свою ферму, а она чертовски здорово оборудована…
— Если вы продадите этот героин, Малькольм, вы меня больше не увидите.
Шотландец нежно улыбнулся девушке.
— Да нет, нет, я увезу вас в Томинтул, Патриция… Но, Том, я же никого не знаю, кому можно продать эту гадость.
— Не тревожьтесь об этом… я беру все на себя, и, коль скоро вы согласны, мы станем богачами!
— Думаю, что согласен, Том.
И в ознаменование только что заключенного договора шотландец взял волынку и заиграл «Песню Моны». В это время Патриция, упав в кресло, горько оплакивала свои несбывшиеся мечты. Теперь уже никто и никогда не вытащит ее из этой среды, которая затягивает хуже болота.
Глава VI
Инспекторы Блисс и Мартин все меньше понимали поведение своего шефа, суперинтенданта Бойланда. Хуже всего было то, что он слушал их рапорты так, будто совершенно нс принимал всерьез. Первым не выдержал вспыльчивый Блисс.
— Но в конце-то концов, супер, мы следили за шотландцем днем и ночью. Мы видели, как он пришел в Дроу-док, встретился с матросом со «Звезды Индии» и как они вместе направились в «Разочарованный пират». Все это происходило под пристальным наблюдением Питера Дэвита, совершенно не подозревавшего, что мы не спускаем с него глаз. Мак-Намара вышел из бара со свертком, которого у него прежде нс было. А потом на Шафтсберри-авеню он принялся играть на волынке.
Суперинтендант засмеялся.
— Признайтесь, Блисс, этот парень — большой оригинал!
— Оригинал или нет, супер, но в первую очередь он торговец наркотиками. А меня, извините, все, что связано с этим делом, ничуть не смешит!
— Не надо нервничать, инспектор.
— Стараюсь, супер, но это нелегко… Наконец, его привели на пост, шотландец повел очень хитрую игру, и в результате сверток развернули…
— Что же там было? — поинтересовался Бойланд.
— Леденцы.
Суперинтендант аж заплакал от смеха, а Блисс едва сдерживал готовое сорваться ругательство.
— Вы себе представляете, Блисс, весь или почти весь Ярд приведен в полную боевую готовность из-за этого любителя конфет!
— Согласен, шеф, но все это слишком дико и нелепо, чтобы тут не крылось что-нибудь очень серьезное! И мы с Мартином уверены, что в свертке, который Мак-Намара получил от матроса на следующий день, было кое-что совсем другое!
— Очень возможно.
Ошеломленные инспекторы переглянулись.
— Так мы его арестуем? — спросил Мартин.
— Нет.
— Но ведь все-таки, шеф…
— Нет, мистер Мартин, как я уже говорил, ваш шотландец меня нисколько не интересует.
— Но…
— Прежде всего мне нужны Дункан и Дэвит, а затем тот, кто их покрывает и снабжает наркотиками весь Сохо. Видите ли, джентльмены, я убежден, что Мак-Намара — лишь орудие в руках известных вам людей. Всему этому должно быть какое-то объяснение, и рано или поздно мы его найдем.
— Ну а пока что прикажете делать?
— Не спускать глаз с шотландца, а главное — внимательно следите за посетителями «Гавайской пальмы». Если шотландец и впрямь притащил из дока героин, то его попытаются распределить. Вот тут-то и настанет время вмешаться. Ах да, можете доставить себе небольшое раз влечение — арестуйте и допросите того матроса по всем правилам!
Том и Малькольм ушли. Им надо было как-то отделаться от трупов Дункана и Дэвита. Сидя одна в запертой «Гавайской пальме», Патриция мучительно раздумывала, как ей избавить Малькольма от искушения и спастись самой. Девушке было ясно, что для Мак-Намары продажа героина — только способ получше устроиться вместе с ней в Томинтуле и идиллические картинки будущего счастья совершенно скрывают от него всю гнусность такого способа зарабатывать деньги. Если она, Патриция, ничего не предпримет, то шотландец обрушит на свою голову месть банды, промышляющей наркотиками, а это куда страшнее, чем попасть в полицию. Видимо, дурачок-горец даже представить не может, что убийцы доберутся до него и в Томинтуле! Но что делать? Проблема казалась неразрешимой, и, когда вернулись мужчины, Патриция так и не нашла выхода.
Мак-Намара ночевал, как обычно, в «Нью Фэшэнэбл». Утром его сон нарушил Эдмунд. Он сказал, что шотландца зовут к телефону, имени не назвали, но сказали, что звонят от Дункана. Малькольм, даром что шотландец, никак не верил, будто покойники пользуются телефоном для связи с живыми. Сильно заинтригованный, он спустился вниз и подошел к кон горке, где стоял единственный на всю гостиницу телефон.
— Мак-Намара слушает.
— Из каких краев вы приехали, мистер Мак-Намара?
— Из Томинтула, а что?
— Что вы пили в «Разочарованном пирате»?
— Вам какое дело?
— В ваших же собственных интересах — ответить мне, мистер Мак-Намара.
— Допустим… я пил мятную настойку.
— Теперь мне ясно, мистер Мак-Намара, что я ищу именно вас.
— Ищете меня?
— Да, чтобы сообщить, что нам все известно насчет Дункана и Дэвита.
— Вы их родственник?
— Нет, они были в моем подчинении, и это куда серьезнее…
— Для кого?
— Да для вас же, мистер Мак-Намара.
— Это еще почему?
— Потому что благодаря вам эти джентльмены получили одну вещь, принадлежащую нам, и эта вещь стоит очень дорого… Очень дорого, вы слышите меня, мистер Мак-Намара? Гораздо дороже, чем жизнь двух-трех людей.
— Трех?
— Третьим можете стать вы, мистер Мак-Намара.
— А знаете что, старина, я ведь не кисейная барышня!
— Нам это известно, мистер Мак-Намара, но и мы тоже не мальчики. И все же мы считаем разумным оплатить риск, которому вы подвергались… и не станем возражать, чтобы вы получили… допустим, половину комиссионных, полагавшихся Дункану. Согласны?
— Очень уж вы торопитесь… Во-первых, кто вы такой? Хозяин Дункана?
— Скажем, я его представитель, мистер Мак-Намара. Приезжайте в «Стегхаунд» на Саттон-стрит и спросите мистера Лайонела Брауна. Я буду ждать.
— Когда приехать?
— Немедленно.
Прежде чем отправиться на Саттон-стрит, Малькольм привел себя в порядок и позвонил Патриции. Ему хотелось ввести девушку в курс дела, а заодно тщеславный шотландец был не прочь показать, что он был-таки прав и скоро станет самым богатым овцеводом в графстве Банф. Патриция умоляла его подумать, объясняла, что это наверняка ловушка, но тот только смеялся: еще никому не удавалось обвести вокруг пальца Малькольма Мак-Намару! Мисс Поттер поняла, что спорить бесполезно, и повесила трубку. Ей было ясно, что тот, кому подчинялся Дункан, не позволит себя обокрасть безнаказанно. По мнению Патриции, Малькольм шел на верную смерть… Но ведь она любит его и не хочет, чтобы он погиб! И вот тогда-то мисс Поттер побежала в Ярд, где, как она знала, любые сведения о торговле наркотиками не оставят без внимания. Она надеялась выторговать свободу своему большому младенцу из Томинтула, рассказав полицейским, где они могут найти героин.
Появление Мак-Намары в «Стегхаунде» вызвало некоторое оживление. Официант сразу подбежал принять заказ, но шотландец ответил, что желает видеть мистера Лайонела Брауна. Едва Малькольм произнес это имя, как, отодвинув официанта, перед шотландцем с легким поклоном возник джентльмен.
— Мистер Мак-Намара, я полагаю?
— Он самый.
— Лайонел Браун — это я. Вы позволите?
С этими словами Браун уселся напротив шотландца, заказал выпивку и, прежде чем начать разговор, подождал, пока их обслужат.
— Мистер Мак-Намара, позвольте вам заметить, вы очень нехорошо поступили с господами Дунканом и Дэвитом.
— Только с Дунканом, потому что Дэвита застрелил как раз Дункан…
— Мы в курсе дела… но эти джентльмены были не только нашими друзьями, они работали на нас… То, за чем вас посылали, принадлежит нам. Вы это понимаете?
— Почему это я должен верить вам на слово?
— Прошу прощения, мистер Мак-Намара, но вы будете глубоко не правы, затевая такую опасную игру.
— А я люблю опасные игры, мистер Браун.
— Следует ли из этого, что вы отказываетесь от предложения, сделанного мной по телефону?
— Я стану говорить только с самим хозяином!
— Но это невозможно!
— В таком случае товар останется у меня.
— Это ваше последнее слово?
— Последнее.
— Жаль…
В Ярде Патриция сказала, что хочет поговорить с начальником отдела по борьбе с наркотиками насчет «Гавайской пальмы». Ей повезло: ни Блисса, ни Мартина не оказалось на месте, и девушку проводили прямо в кабинет Бойланда. Суперинтендант встретил ее с изысканной любезностью.
— Вы из «Гавайской пальмы», мисс Поттер?
— Да.
— Значит, вас послал Дункан?
— Дункан умер.
— Вот как?
— И Питер Дэвит тоже…
— Ого-го! Да это настоящая бойня! Может, вы знаете убийцу?
— Да.
— Его имя!
— Малькольм Мак-Намара.
Бойланд изумленно присвистнул.
— Вернее, он убил только Дункана, но тот сам пытался убить его! — быстро проговорила Патриция. — А Питера Дэвита убил Джек.
— Расскажите мне всю эту историю по порядку, мисс Поттер.
И Патриция рассказала все: от прибытия Мак-Намара в «Нью Фэшэнэбл» и до свидания, назначенного шотландцу в «Стегхаунде». Попутно она призналась, что это Дэвит убил инспектора Полларда, Джанет Банхилл и Сэма Блума. Суперинтенданту пришлось много писать. Когда Патриция закончила рассказ, он спросил:
— Скажите правду, мисс Поттер, почему вы решили прийти ко мне?
— Я не хочу, чтобы они убили Малькольма!
— Так вы любите этого шотландца? — благодушно поинтересовался Бойланд.
— Да, а кроме того, я не желаю, чтобы он ввязывался в торговлю наркотиками… Я даже предпочла бы, чтобы его ненадолго посадили в тюрьму… Скажите, вы ведь не дадите ему большой срок?
— Только при условии, что мы арестуем его раньше, чем он успеет продать героин. К тому же, как ни грустно мне об этом говорить, но и вам самой придется отвечать перед законом…
— Это мне безразлично, лишь бы удалось спасти Малькольма и он вернулся в Томинтул!
— Мисс Поттер… а где героин?
— В моей комнате.
— Отлично. Благодарю вас за помощь… Да, кстати, а где тела Дункана и Дэвита?
— Не знаю. Их унесли Малькольм и Том, швейцар «Гавайской пальмы». Наверное, бросили в Темзу…
— Я тоже так думаю. Не очень-то это облегчит участь вашего шотландца! Единственное, чем вы можете смягчить сердца судей, — это не говорить ему ни слова о нашей беседе. Можете во всем положиться на нас: что бы ни случилось и что бы вы ни думали обо всем этом, не сомневайтесь — мы сделаем все возможное для спасения вашего Мак-Намары. Договорились?
— Я согласна.
— Тогда возвращайтесь домой, мисс Поттер, и не теряйте доверия к Скотленд-Ярду. Для нас Мак-Намара — мелкая дичь по сравнению с тем, кого мы пытаемся выследить уже много лет. Вы, конечно, не знаете, кто стоит во главе торговли наркотиками?
— Нет, к сожалению…
Вернувшись в «Гавайскую пальму», Патриция обнаружила там сильно взволнованного Малькольма. Он рассказал ей о своей встрече с Брауном. Патриция попыталась было вразумить Мак-Намару, но он твердо стоял на своем.
— Поймите же, дорогая, если мне удастся добраться до самого таинственного шефа, короля наркотиков, я смогу получить половину всех денег, и мы будем чертовски богаты!
— Разве что вас сразу не убьют!
— Ну, об этом и речи быть не может!
— Малькольм… нам не нужны эти деньги!
— Да ведь глупо же бросать на дороге целое состояние!
— Но этот героин отравит сотни людей…
— А почему я должен беспокоиться за чужое здоровье?
— Малькольм… я вас полюбила потому, что считала совсем другим… Но сейчас начинаю думать, что вы стоите не больше тех… Делайте, что хотите, но на меня больше не рассчитывайте! Я не поеду в Томинтул. Прощайте, Малькольм, мы больше не увидимся!
— Да нет же, нет…
— Никогда!
— А я так уверен, что мы еще увидимся, детка…
Патриция ушла, с силой хлопнув дверью. Как только она вышла из комнаты, шотландец позвал Тома и объявил, что, с его точки зрения, непосредственные переговоры с шефом Дункана сулят наибольшие выгоды. Швейцар одобрил план.
— Но как добраться до этого типа? Его же почти никто не знает!
— В этом-то вся штука…
— Среди мелких торговцев у меня полно приятелей, но все они зависели от Дункана — он их снабжал. Никакой надежды, что кто-то из них хотя бы подозревает, где искать большого босса.
Оба погрузились в мрачные размышления.
— В таком случае, — сказал наконец Мак-Намара, — придется действовать через этого Брауна, хоть мне это и не очень по душе.
— Мне тоже! Но что еще мы можем придумать?
— Есть у меня одна мысль, Том… Эдмунд, слуга в «Нью Фэшэнэбл», говорил мне о враче, который будто бы спасает наркоманов. Есть такой?
— Да, Эдэмфис.
— Раз этот тип много лет выслушивает исповеди наркоманов, может, есть какая-то надежда через него добраться до того, кого мы ищем?
— Сомневаюсь… иначе эскулап давно перебрался бы на тот свет. Но все-таки почему бы не попробовать?
Мартин и Блисс предстали перед суперинтендантом с таким торжествующим видом, что Бойланд чуть не рассмеялся.
— Ну, инспекторы, что нового?
Блисс принялся рассказывать:
— Мы арестовали этого матроса со «Звезды Индии». Он не стал очень упрямиться и в конце концов признался, что передал Мак-Намаре десять кило героина.
— Десять кило? Черт возьми!
— Вот-вот, шеф, более того, этот матрос любезно сообщил нам, по чьему приказу передал это сокровище шотландцу. Так вот, приказ передал Питер Дэвит, а действовал он, само собой, от имени Дункана.
— Интересно!
— Еще бы! На сей раз, шеф, я думаю, они у нас в руках, и мы сможем наконец отомстить за Полларда.
— И что вы предлагаете, мистер Блисс?
— Мы с Мартином, прихватив несколько человек, двинемся в «Гавайскую пальму» и для начала арестуем Дункана и Дэвита.
— Это невозможно.
— Но почему?
— Они оба умерли. Кстати, позвоните в речную полицию, Мартин, и попросите поискать в Темзе два тела.
Блисс и Мартин долго не могли прийти в себя от удивления. Первым обрел дар речи Мартин:
— А как они умерли, шеф?
— Мистер Дункан по ошибке пристрелил мистера Дэвита, а мистер Мак-Намара преспокойно задушил мистера Дункана, который грубо обошелся с мисс Поттер. Кажется, он даже простер свою любезность до того, что сыграл в честь мистера Дункана небольшой гимн на волынке, а уже потом прикончил. Этот шотландец необыкновенно деликатен… вы не находите?
Блисс, который был совершенно лишен чувства юмора, вскричал:
— Деликатен он или нет, а мы его арестуем по обвинению в убийстве и торговле наркотиками! Этого достаточно, чтобы отправить его на виселицу или за решетку до конца дней! Позвольте заметить, шеф, я первый обратил ваше внимание на этого шотландца!
— Признаю, мистер Блисс.
— А вы не дали мне его арестовать!
— Я и теперь не позволю вам это сделать, мистер Блисс.
— Что?!
— Наша единственная возможность добраться до главаря банды — этот шотландец. И я запрещаю вам чинить ему какие-либо препоны. Вы меня хорошо поняли, мистер Блисс?
— Согласен, шеф, но… потом?
— Потом вы его получите.
— Тогда мы ничего не теряем от небольшой отсрочки.
— Не сомневаюсь. Но сейчас вы должны приложить все силы и способности и ни на шаг не упускать из виду Мак-Намару. И никто, слышите, никто не должен этого заметить! Если вы провалите дело, я вам не завидую, джентльмены! Да, кстати, можете закрыть дела Полларда, Банхилл и Блума. Всех их убил Дэвит, но его больше нет…
Мартин, хоть и был скромнее своего коллеги, не сдержался:
— А вы… уверены в этом, шеф?
— У меня нет никаких оснований не доверять сообщению мисс Поттер.
— Так это она…
— Да, она. Ей пришлось присутствовать почти при всех событиях с начала и до конца.
— Но, шеф, с чего ей вдруг вздумалось нам помогать? Чтобы самой выпутаться?
— Нет, потому что она любит Мак-Намару.
Блисс захихикал:
— В свадебное путешествие они поедут в тюрьму!
— А еще — потому что мисс Поттер очень славная девушка, просто ей крепко не повезло.
— Ну да, как же!
— Видите ли, мистер Блисс, мне кажется, вы не совсем правильно понимаете роль полиции. Придется мне как-нибудь выбрать время и объяснить вам, что к чему. Но это будет в тот день, когда вы не испортите мне настроение, а значит, не сегодня!
Когда Мак-Намара вошел в кабинет доктора Эдэмфиса, врач подскочил.
— Черт возьми! Только не говорите, что вы больны!
— Успокойтесь, доктор, я отродясь не болел… когда имеешь дело с овцами, просто нет времени…
Врач не совсем уловил связь между здоровьем своего пациента и овечьим племенем, но как человек, привыкший к любым странностям, не стал спрашивать объяснений.
— Однако если вы ничем не страдаете, мистер…
— Мак-Намара. Малькольм Мак-Намара из Томинтула.
— Так чем я могу быть вам полезен, мистер Мак-Намара?
— Можно присесть?
— О, прошу вас! Извините… слушаю вас, мистер Мак-Намара.
— Говорят, доктор, вы особенно интересуетесь наркоманами и пытаетесь вылечить их, с тех пор как ваша…
— Прошу вас, мистер Мак-Намара, не говорите мне об этом… я пытаюсь забыть… хотя бы на работе… Что вы от меня хотите? Вы ведь, конечно, не наркоман?
— По счастью, нет… Просто у меня возникли кое-какие осложнения… даже очень серьезные… с теми, кто заправляет всеми этими делами в Сохо…
— Тогда будьте осторожны! Это люди, совершенно не ведающие жалости… не способные ни на какие человеческие чувства… Их интересуют только деньги!
— Вот в деньгах-то все и дело.
Врач удивленно воззрился на шотландца.
— Но я, право же, не понимаю, почему вы сочли необходимым…
— Я подумал, раз вы столько лет возитесь с наркоманами, то должны были бы узнать или угадать, кто ведет всю игру и с кем мне необходимо встретиться, чтобы обо всем договориться.
Эдэмфис покачал головой.
— Нет… я ничего не знаю. Больные верят мне и приходят за помощью только потому, что знают: я не стану пытаться выведать их тайны. Очень сожалею, мистер Мак-Намара, ко… если бы я знал имя человека, погубившего мою дочь, то давно убил бы его собственными руками!
Немного расстроенный неудачей, шотландец направился в «Гавайскую пальму» рассказать о своих злоключениях Патриции. Но молодой женщины там не было. Том сказал, что она недавно у шла, поговорив с кем-то по телефону. Узнав от Малькольма, что доктор Эдэмфис не смог сообщить им ничего нового, швейцар покачал головой.
— Так я и думал… что ж, кажется, нам не остается ничего другого, как принять предложение этого Брауна… Да! Все равно каждый из нас получит кругленькую сумму. Лучше не зарываться и остаться живыми!
Зазвонил телефон. Том снял трубку, послушал и подозвал Малькольма.
— Это вас.
— Кто?
— Понятия не имею.
— Кто говорит? — спросил шотландец.
— Это вы, мистер Мак-Намара?
— Да. А вы кто такой?
— Тот, кого вы ищете.
— Вы… хотите сказать… самый главный босс?
— Если вам нравится так называть меня, то да. Браун рассказал мне о ваших требованиях, они смехотворны, мистер Мак-Намара!
— Я так не думаю!
— Ну что ж, вы ошибаетесь.
— Это по-вашему!
— Вот что: ваши претензии так же смешны, как поход к этому болвану Эдэмфису! Вам следовало бы знать, что, если бы старому дураку было хоть что-то известно, мы бы давно его убрали… и очень быстро.
— Как Полларда? Как Блума? Как Джанет Банхилл?
— Вот именно.
Шотландец судорожно соображал. При всей своей самоуверенности он должен был признать, что нарвался на слишком крепких противников.
— Послушайте…
— Кажется, я только этим и занимаюсь, мистер Мак-Намара.
— Я согласен на предложение Брауна.
Малькольм услышал ехидный смешок.
— К несчастью, не согласен я.
— Да? И сколько вы предлагаете?
— Ничего!
— Вы что, с ума сошли?
— О нет, мистер Мак-Намара!
— В таком случае героин останется у меня.
— А у меня — мисс Поттер.
— Что?
— Вы прекрасно слышали. У вас — героин, у меня — мисс Поттер. Предлагаю простой обмен.
— А если я откажусь?
— Мисс Поттер отправится к Дункану и Дэвиту.
— Ваша взяла.
— Я всегда говорил, что шотландцы — самые разумные люди на свете. Сегодня в восемь вечера идите туда, где вы встречались с мистером Брауном. Закажите бокал стаута, выпейте половину и идите в туалет. Мистер Браун будет ждать и отведет вас ко мне.
— А как вы докажете, что это не обычная ловушка?
— Хотите послушать мисс Поттер?
И почти сразу же в трубке послышался взволнованный голос Патриции:
— Не думайте обо мне, Малькольм! Меня все равно убьют! Если вы придете, прикончат и вас тоже… Так не приходите же!
— Никто меня не убьет, Патриция… да и у вас тоже нет никаких причин умирать. Ведь должен же я отвезти вас в Томинтул!
— Ах, Малькольм, умоляю вас, очнитесь же, посмотрите на вещи реально! Нельзя быть до такой степени ребенком. Я люблю вас, Малькольм, и именно потому, что люблю вас, прошу: не приходите! Прощайте, Малькольм… прощайте, дорогой… будьте счастливы!
— Мое счастье — это вы, Патриция… И не волнуйтесь, мы еще увидимся, детка…
Трубку снова взял главарь банды:
— Я слушал ваш разговор с мисс Поттер, Мак-Намара. Не обращайте внимания на ее слова. Мисс Поттер испугана, и страх мешает ей соображать. Вы поступите правильно, не поддаваясь на уговоры.
— Ну если я что решил, меня не так-то просто сбить, а я твердо решил забрать у вас Патрицию.
— И вернуть мне пакет?
— Да.
— Отлично. Сейчас рядом со мной как раз сидит наш американский покупатель, и он бы очень рассердился, узнав, что зря пересек Атлантику. До вечера.
— До вечера.
Шотландец повесил трубку. Том нетерпеливо спросил:
— Ну?
— Все полетело к чертям!
— Как так?
— Они похитили мисс Поттер.
— Очень досадно, но какое отношение это имеет к нашему договору?
— Они вернут Патрицию только в обмен на героин.
— И вы согласились?
— А что я еще мог сделать?
— Вы заплатите мою долю?
— Где же я возьму кучу денег?
— По-вашему, честно, чтобы я разорился из-за какой-то девчонки, до которой мне вовсе нет дела?
— Том, старина, вы начинаете действовать мне на нервы…
— Вот несчастье-то…
Швейцар вытащил из кармана револьвер.
— Самые лучшие шутки — короткие, мистер Мак-Намара. Вас этому не учили в Томинтуле?
— Да, конечно… а разве вас не предупреждали, что играть с огнестрельным оружием опасно?
— Только не для того, кто держит это оружие в руках! А ну хватит паясничать, проклятый шотландец! Пошли за пакетом, и живо!
— А ведь вы мне нравились, Том…
— Ну а вы станете мне куда милее, когда отдадите героин.
— А Патриция?
— Это ваши личные дела. Как человек скромный, не стану в них лезть…
Один за другим они направились в комнату мисс Поттер. Малькольм подошел к постели.
— Вы могли бы и без меня найти этот пакет, старина.
— А где он?
— Под кроватью.
— Ну и ну! Прятать такое сокровище под кроватью! Все-таки вы чокнутый, честное слово! Ну? Чего вы ждете? Давайте пакет!
Мак-Намара наклонился. Том имел неосторожность подойти слишком близко, и Мак-Намара, опершись об изголовье, нанес ему резкий удар. Швейцар отлетел, вопя от боли. Почти одновременно шотландец прыгнул и сделал молниеносный прямой выпад правой. Том оказался в нокауте. После этого Мак-Намара связал его по рукам и ногам и только тогда принялся приводить в чувство.
— Мне всегда советовали держать ухо востро с шотландцами, — с горечью заметил швейцар, приходя в себя.
— Не стоит пренебрегать добрыми советами, старина.
Мак-Намара подхватил связанного противника и уложил на кровать.
— Вот так-то, старина, мисс Поттер вас освободит…
— А если она не придет?
— Значит, ни она, ни я уже не будем принадлежать этому миру.
— Думаете, меня это утешит?
Блисс передал суперинтенданту Бойланду запись телефонного разговора Мак-Намары.
— На сей раз, шеф, мы захватим их всех с поличным!
— Благодаря шотландцу.
— Да ведь…
— Это значит, мистер Блисс, что если бы этот парень не прибрал героин и не будь он влюблен в мисс Поттер, у нас не было бы ни малейшего шанса добраться до того, кто нас интересует и кого до сих пор никак не удавалось поймать.
— Но разве ж это повод простить Мак-Намаре попытку торговать наркотиками?
— Разумеется, нет.
— В таком случае, шеф, я согласен!
— Вы меня просто осчастливили, мистер Блисс.
— Если удастся накрыть всю компанию, мы обязательно поблагодарим шотландца, прежде чем надеть на него наручники.
Перед уходом из «Гавайской пальмы» Малькольм накормил и напоил пленника. Покончив с этой процедурой, он похлопал Тома по щеке.
— Самое лучшее для вас сейчас — это заснуть, старина. И не забудьте хорошенько помолиться, чтобы Небо помогло нам с мисс Поттер выпутаться из этой истории.
Открыв дверь «Стегхаунда», Мак-Намара громко возвестил: «Привет, это опять я!» Завсегдатаи ответили улыбками. Малькольм, как ему и было приказано, сначала заказал и выпил полбокала стаута, а уж потом с пакетом под мышкой пошел в туалет. Он не сомневался, что в это время хозяин «Стегхаунда» звонит главарю банды и сообщает, что все идет по плану. В туалете шотландец успел тщательнейшим образом вымыть руки и от души налюбоваться собственным отражением в зеркале — мистер Браун не торопился. Наконец он пришел.
— Здравствуйте, Мак-Намара! Вы были не правы, отказавшись от моего предложения. Надо полагать, жители Томинтула считают себя намного хитрее лондонцев?
— Всякое бывает, старина, разве нет?
Ни тот, ни другой (по крайней мере, так казалось) не заметили, что дверь одной кабинки приоткрылась, будто кто-то хотел взглянуть на них, сам оставаясь невидимым.
— Пойдемте, Мак-Намара?
— Куда?
— Туда, где находится мисс Поттер. Ведь вы этого хотите, не так ли?
— Следую за вами.
— Ошибочка, мистер, первым пойдете вы!
Они спустились в погреб «Стегхаунда», крепко пропахший пивом, пересекли его и очутились у крохотной дверцы, через которую шотландец протиснулся с превеликим трудом. За дверью открывался сначала коридор, затем шла лестница. Спутники поднялись наверх, и Мак-Намара понял, что они попали в другое здание. Классический, но всегда оправдывающий себя трюк! Наконец мужчины остановились перед дверью. Браун толкнул ее. И скова лестница, ведущая в подвал, а потом — сводчатый погреб, освещенный электрической лампочкой.
— Свидание назначено здесь, Мак-Намара, — объявил Браун.
— Где мисс Поттер?
— Терпение!
— Малькольм, вы все-таки пришли? — Шотландец обернулся. Перед ним стояла Патриция.
— Хэлло, дорогая! Неужели вы умеете проходить сквозь стены?
— Нет, к сожалению… меня втолкнули вот в ту дверь… Ох, Малькольм, почему вы меня не послушались?
— По-моему, я все сделал чертовски хорошо, разве нет?
— Но неужели вы не понимаете, что нас никогда не выпустят отсюда живыми?
— Почему? Я же отдал героин, а ведь этого они и хотели, кажется?
Патриция разрыдалась.
— Малькольм, бедный мой Малькольм, вы так никогда и не узнаете, что в Сохо нельзя жить, как в Томинтуле!
— По-моему, уж очень вы все усложняете, детка… Ну вот, мистер Браун, я кладу пакет на стол… а теперь мы с мисс Поттер уходим.
Браун улыбнулся:
— Боюсь, что это невозможно, мистер Мак-Намара. — Продолжая говорить, Браун отошел на два шага и выхватил пистолет. — Жаль, конечно, но мы не можем позволить вам смыться. Уж очень много лишнего вы знаете… Я вынужден взять на себя тяжелую обязанность застрелить вас обоих, а такая перспектива, можете поверить, не доставляет мне радости…
— И мне тоже…
— У вас, оказывается, есть чувство юмора!
— В Томинтуле, если уж заключают договор, то выполняют условия.
— К несчастью для вас, мы не в Томинтуле.
— Я уверен, что ваш патрон ничего не знает о…
— Ошибаетесь, Мак-Намара, Браун никогда не действует без моего приказа!
Шотландец посмотрел на человека, вошедшего через ту же дверь, что мисс Поттер, и остолбенел.
— Так… значит, это вы… тут хозяин!
— М-м-м… да.
— Ну, знаете, и крепкий же вы орешек, доктор Эдэмфис!
— Благодарю.
— Стало быть, вся эта история с вашей дочерью… враки?
— Не совсем… она оказалась умнее, чем ищейки из Ярда… и догадалась, что это я кручу всеми делами… и дурочка стала моей клиенткой, а я и не догадывался… хотела, видите ли, забыть, кто ее отец… слабый дух! А я не люблю ни слабых, ни наивных! Потому и отправлю на тот свет и вас, и мисс Поттер.
— Как того полицейского, о котором мне говорила Патриция? И ту девушку?
Эдэмфис довольно рассмеялся.
— Ярд далек от того, чтобы заподозрить доброго доктора, который бросается на помощь всем наркоманам и старается их вылечить… на самом деле я рассылаю их к своим людям… И этот Поллард притащился ко мне за поддержкой, чтобы меня же самого и поймать! Забавно, правда? Я сразу понял, что Банхилл расколется, а потому, как только шпик вышел, дал сигнал Дункану… вот и не стало ни Полларда, ни мисс Банхилл…
— Какая гнусность!
— Ну уж это мне совершенно безразлично, мистер Мак-Намара. Как и Браун, могу сказать, что необходимость вас уничтожить меня огорчает… потому что вы оказали мне большую услугу — и не только забрав из дока героин, но и устранив от дележа Дункана с Дэвитом. Жаль, что вы так любите мисс Поттер… грустно за вас и… за нее.
Эдэмфис тоже вытащил пистолет.
— Я прекрасно стреляю, Мак-Намара, вы не будете мучиться.
Патриция бросилась между доктором и Мак-Намарой.
— Убейте меня, доктор, но не его… он уедет в Томинтул, к своим овцам… вы о нем больше никогда не услышите…
— Невозможно, мисс Поттер, я слишком дорожу своей свободой!
Малькольм ласково отстранил молодую женщину.
— Спасибо, дорогая, но не волнуйтесь, он никого не убьет.
Эдэмфис прицелился.
— Как хорошо умереть, сохраняя иллюзии, Мак-Намара.
— Минуточку! — В подвал все через ту же дверь проскользнул еще один человек.
Эдэмфис раздраженно повернулся к нему:
— Что на вас нашло, О'Рурке?
— Да то, что я вовсе не желаю быть замешанным в убийстве.
Он вытащил пачку долларов в крупных купюрах.
— Вот деньги, док, гоните товар и дайте мне пять минут на то, чтобы смыться. Потом делайте что хотите.
Эдэмфис пожал плечами.
— Ладно… Мак-Намара, передайте пакет нашему заокеанскому гостю. Только без глупостей, иначе мы с Брауном стреляем!
Шотландец взял со стола сверток и протянул О'Рурке. Тот подошел и уже было потянулся за героином, но встретился глазами с Малькольмом. Американец как ужаленный с воплем отскочил.
— О Господи!
Все испуганно смотрели на него, не понимая, что случилось.
— В чем дело, О'Рурке? — рявкнул врач.
— И вы еще спрашиваете! Вам известно, кто этот тип?
— Овцевод из Томинтула, графство Банф.
— Ну и хороши же вы!.. Ваш овцевод — это Малькольм Мак-Намара, самый опасный из агентов отдела по борьбе с наркотиками!
На мгновение все пришли в замешательство, и шотландец этим воспользовался. Одним прыжком он кинулся на О'Рурке. Эдэмфис выстрелил, но пулю получил не Малькольм, а американец, и подвал огласил его отчаянный визг. Браун тоже собирался спустить курок, но его остановила автоматная очередь с лестницы. Послышался лаконичный приказ:
— Бросьте оружие, Эдэмфис, или вам конец.
Доктор, секунду поколебавшись, отбросил пистолет. И тут же подвал заполнили полицейские.
— Вы чуть не опоздали, Бойланд! — только и заметил, поднимаясь с земли, Мак-Намара.
Глава VII
— Значит, вы возвращаетесь в Томинтул, Малькольм?
— Конечно… и притом надеюсь, что вы больше не явитесь туда за мной. Хочу жить среди своих овец, и только.
— Для нашей службы это очень печально, но я не могу не одобрить ваше решение и даже вам завидую.
И шотландец стал прощаться со своим другом, суперинтендантом Бойландом.
— Надеюсь, вы оставите в покое мисс Поттер?
— Она уже вернулась к себе. У меня нет ни малейшего желания хоть чем-то огорчить будущую миссис Мак-Намара. Я правильно вас понял?
— В самую точку, старина!
Патриция вернулась в «Гавайскую пальму» в сопровождении инспектора Мартина — тот счел нужным прочитать девушке душеспасительную лекцию и, таким образом, проводил до самой комнаты, где и обнаружил приятный сюрприз в виде крепко связанного Тома. Инспектору оставалось лишь вызвать машину и сдать голубчика с рук на руки. Потом он помог мисс Поттер уложить и погрузить в такси чемоданы. Девушка собиралась поехать на Паддингтонский вокзал, сесть на поезд и отправиться в родной Уэльс. А полицейский после ее отъезда принялся за тщательный разбор бумаг Дункана. За этим занятием и застал его Мак-Намара.
— Где мисс Поттер?
— Уехала.
— Уехала?
— Да, прихватив чемоданы… по-моему, это навсегда.
— А вы случайно не знаете, в какую сторону?
Мартин улыбнулся.
— Паддингтонский вокзал… и, если память мне не изменяет, поезд на Свенси отходит только через полчаса.
Когда поезд тронулся, Патриция почувствовала комик в горле. Она вспомнила о своей прежней наивной мечте завоевать Лондон с помощью Дункана и о том, что еще только вчера верила, будто на свете существуют такие люди, как Малькольм… Патриция не собиралась плакать, но это оказалось сильнее ее. Сердясь на самое себя, девушка глотала слезы, шмыгала носом и никак не могла открыть сумочку. Неожиданно платок оказался у самых ее глаз. Не обращая внимания на такую странность, Патриция взяла платок и, промокнув глаза, пробормотала:
— Спасибо.
— Всегда к вашим услугам, мисс…
Этот голос… Патриция подняла голову. Перед ней, загораживая весь проход, стоял улыбающийся Мак-Намара.
— Вы?
— По-моему, дорогая, вы выбрали довольно странный путь, чтобы добраться до Томинтула!
— Я никогда не поеду в Томинтул!
— Досадно… я уже взял билеты, а шотландцы, дорогая, не любят швырять деньги на ветер. Мы выйдем в Хединге и вернемся в Лондон.
— Нет.
— Да.
Малькольм вошел в купе, поставил чемодан на сетку и уселся напротив мисс Поттер.
— Почему вы решили сбежать, Патриция?
— Я не хочу больше вас видеть.
— Но почему? Я думал, вы меня любите…
— Я любила не вас, а того овцевода, который всему и всем верил.
— Так разве же я изменился?
— Вы оказались легавым! Вы обманули меня!
— Ошибаетесь… Долгое время я действительно был агентом бригады MU-5, но три года назад ушел в отставку. Это Бойланд приехал ко мне в Томинтул и уговорил помочь уничтожить банду торговцев наркотиками в Сохо. Я нисколько не изменился, Пат, и по-прежнему вас люблю.
— Но зачем вам понадобилось изображать такого невероятного персонажа?
— Во-первых, потому что я и вправду такой, а во-вторых, я точно знаю: хочешь действовать незаметно — привлеки к себе как можно больше внимания. В Ярде знали, что центр торговли наркотиками в Сохо — «Гавайская пальма». Мне требовалось проникнуть туда, не возбудив подозрений. Вот я и сочинил, будто таскаю с собой кучу денег — знал ведь, что у покойного Сэма Блума от этого слюнки потекут. Бойланд сказал мне, что «Нью Фэшэнэбл» и «Гавайская пальма» связаны, поэтому мне и надо было остановиться в этой жалкой гостинице… И тут моя роль наивного горца очень помогла. Я решил кататься на такси, пока не попаду куда надо. О вас я тоже знал и собирался изобразить безумную влюбленность… Но я не предвидел, что попадусь в собственную же ловушку!
— Хоть на этот раз, Малькольм, вы говорите правду?
— А иначе зачем бы я повез вас в Томинтул? Кстати, я просил Бойланда
не говорить обо мне ни одной душе — и какую же кучу неприятностей с полицией это навлекло на мою голову!
— Как вы узнали, что я еду на этом поезде?
— Разве я не обещал вам, что мы еще увидимся, детка!
Тут Патриция снова расплакалась, а Малькольму, естественно, пришлось обнять ее покрепче и успокоить.
Начальник поезда Дональд Стивенс мирно дремал и грезил о том, что его жена Мод приготовит на ужин. Но эти гастрономические мечты грубо нарушил контролер Джонсон. Джонсон был новичком, а Стивенс недолюбливал молодых людей, в которых чувствовал потенциальных конкурентов. На сей раз контролер выглядел совершенно ошарашенным.
— Мистер Стивенс! Мистер Стивенс!
— В чем дело? Что стряслось? Пожар?
— Нет, шотландец.
— Хоть я и не особенно доверяю этим горцам, мистер Джонсон, но все же не понимаю, почему присутствие одного из них заставляет вас опасаться аварии?
— Но… мистер Стивенс, дело в том, что он устроил скандал!
— Скандал?
— Ну да, сидит, нежно обнявшись с дамой, и играет на волынке. Пассажиры давятся в коридоре, чтобы взглянуть на это зрелище… и к тому же, в нарушение порядка, их набилось в купе двенадцать человек!
— А что он играет, этот ваш шотландец, мистер Джонсон?
— Кажется, «Дорни Ферри».
— И не фальшивит?
— По-моему, нет.
— Тогда оставьте его в покое, мистер Джонсон. Да и меня заодно, а?
 НОЧЬ СВЯТОГО РАСПЯТИЯ
НОЧЬ СВЯТОГО РАСПЯТИЯ
Страстное воскресенье[357]
Я чувствовал бы себя счастливейшим из смертных, сиди сейчас рядом со мной Рут, а ее муж и мой лучший друг Алонсо, устроившись сзади, ворчал бы о дурной подвеске корпуса французских машин по сравнению с теми, что носят клеймо «Made in USA». Ибо Алонсо, даром что родился в мексиканской деревушке неподалеку от Санта-Фе, считает себя большим американцем, нежели его супруга, появившаяся на свет в Чикаго. Но, увы, в это время Рут, должно быть, кормит овсяной кашкой своего сына и моего крестника Хосе, а Алонсо, не спуская глаз со стрелок часов у нас в конторе, наверняка подсчитывает минуты, отделяющие его от того вожделенного момента, когда государство наконец позволит ему вернуться домой, к жене и малышу.
А я очень далеко и от Рут, и от Алонсо, и от Хосе, и от своей квартиры на 12-й улице. И тем не менее я по-настоящему дома. Я только что проехал Монторо и самое большее через полчаса доберусь до Кордовы. Само собой, можно бы ехать гораздо быстрее — «ситроен-15», за рулем которого я сижу с самого Парижа, вполне позволил бы обогнать любого, но уж очень не хочется слишком быстро промотать столь драгоценные минуты — возможно, они больше никогда не повторятся. Едва увидев Гвадалквивир, я стал совсем другим человеком, точнее, вновь превратился в мальчишку, каким был лет двадцать назад. В Кордове я бы не стал даже останавливаться, не будь у меня там заранее назначена встреча. Мне просто не терпелось поскорее очутиться в Севилье, родном городе, который я так никогда и не сумел забыть. Ох и потешались же надо мной коллеги, когда я рассказывал им о Баррио Санта-Крус[358], о Хиральде, о Маэстрансе[359], где сам видел бой несравненного Бельмонте, или когда пытался описать им сумерки над Трианой… Они смеялись только потому, что не понимали. Да и как они могли понять? Надо родиться в Севилье, чтобы всю жизнь хранить в памяти ее свет и нежность. Какой иностранец согласится признать Сьерпес самой красивой улицей в мире, если там и машине-то не развернуться? Друзья добродушно подтрунивали над тем, что привыкли называть моим «испанским бредом», а Гарри Мерчинсон утверждал, будто я остался холостяком лишь потому, что слишком влюблен в город и в моем сердце не осталось места для женщины. Я не мешал ему болтать чепуху, вовсе не желая объяснять, что хоть и встретил девушку своей мечты, но на ней женился другой.
Рут я впервые увидел как-то в воскресенье, бродя по берегу Потомака. Она тоже скучала. Работала девушка в каком-то министерстве. Несколько раз мы встречались по вечерам. Все шло как нельзя лучше, и я уже подсчитывал, сколько долларов мне придется снять со счета в банке на свадьбу и свадебное путешествие к Ниагарскому водопаду, но однажды мне пришла в голову злосчастная мысль представить невесте Алонсо. В то время как мы познакомились, он был в Европе. Мой коллега и друг Алонсо Муакил — красивый парень и всегда одет по последней моде. Правда, зарабатывает он не больше меня, но, как методичный и трезвый игрок, по его собственному признанию, всегда ухитряется удвоить заработки с помощью букмекеров. В сравнении с таким блестящим кабальеро я, бесспорно, проигрывал, и, заметив, какими глазами смотрит на него Рут, сразу сообразил, что мои финансы не претерпят никакого урона. Дело обошлось самым благопристойным образом, без предательства и вранья. Как-то вечером Муакил, подождав меня у входа в офис, сказал, что влюбился в Рут и поэтому предпочитает больше с ней не встречаться. Я ожидал подобного разговора и сделал вид, будто разделяю точку зрения Алонсо. Та, кого я все еще мог мысленно называть своей будущей женой, удивилась, увидев меня одного, — в тот вечер Муакил обещал отвести нас в мексиканский ресторанчик полакомиться фрихолес и карнитас, запивая их пульке[360]. Я уже плохо помню, чем объяснил Рут опоздание нашего друга, но сказал, что тот непременно присоединится к нам попозже, в «Поблано» (так назывался ресторан). Когда мы устроились за столиком, заранее заказанным Алонсо, и похожий на Панчо Вилла официант налил нам по рюмке текилы[361], я неожиданно заговорил с Рут о Муакиле. Вопрос застал мою спутницу врасплох, она немного растерялась, но, будучи девушкой прямой и честной, из тех, на ком можно жениться без тревог и опасений, тут же призналась, что ей больше не стоит видеть Алонсо. Я не стал требовать более подробных объяснений, а лишь извинился, сказав, что вынужден оставить Рут на несколько минут — мне, мол, надо срочно позвонить в офис. Хорошо зная привычки Алонсо, я его без труда разыскал и потребовал, чтобы он немедленно приехал в «Поблано», если не хочет испортить нам вечер. Потом я незаметно забрал у «Панчо Вилла» свою шляпу и, не попрощавшись с Рут, удрал. Единственное, чем я себя утешал. — так это что теперь мы с Алонсо — друзья до гроба, а настоящая дружба дороже всех любовей на свете. Тем не менее я был глубоко несчастен. Уж очень я был влюблен в Рут…
На следующий день, когда Алонсо вошел в мой кабинет, я встал и мы долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. По правде говоря, это выглядело довольно смешно. А потом Алонсо обнял меня за плечи и поцеловал. Все это случилось пять лет назад. Я так и не женился, ибо по-прежнему любил Рут, и они с Алонсо заменили мне семью, особенно когда на свет появился Хосе, названный так в мою честь. Теперь у меня есть сестра, брат и крестник, которого я считаю племянником — впрочем, он так и называет меня: «tio Pepe»[362]. И меня вполне устраивает, чтобы так все и осталось навсегда.
Стоило мне с обычным пылом заговорить о Севилье, кто-нибудь из коллег всегда замечал, что, коли мой родной город настолько замечателен, напрасно я оттуда уехал. Я отлично понимал, что меня просто подначивают, но всякий раз попадался на удочку и начинал в сотый раз объяснять, что уехал не по своей воле — меня увезли родители, подыхавшие в Севилье с голоду. Андалусия прекраснейшее место на свете, но при условии, что у тебя есть деньги. Наша же семья отнюдь не отличалась достатком. Мой отец Рафаэль едва умел читать, а все образование бедняжки Долорес, моей мамы, заключалось в умении читать выученные наизусть молитвы к покровительнице Севильи Макарене[363]. Кроме того, она знала полдюжины песен фламенко[364] и напевала их низким голодом за стиркой и готовкой.
На холме Эль Карпио я сразу узнал замок герцога Альбы, выстроенный в стиле «мудехар»[365]. Я впервые побывал там в день конфирмации[366] — архиепископ Севильский поощрял таким образом лучших учеников по катехизису из всех кварталов города. Еще тридцать километров — и я доберусь до Кордовы. Двадцать один год я не возвращался в Испанию. Уехал я оттуда в двенадцать, а теперь мне скоро тридцать три. Узнаю ли я свою Севилью? Города ведь меняются, как люди… С самого Парижа я почти не выпускал баранку из рук. На границе таможенники, прочитав в паспорте, что я Хосе Луис Моралес, представитель торговой фирмы «Бижар и К°» на улице Плант, 127, заговорили со мной по-испански, и я чуть не расплакался от волнения. «Париж»! — сказали таможенники и подмигнули. Полицейские вели себя не так любезно. Один из них спросил, почему мне вздумалось взять французское гражданство, и я почувствовал, что парень воспринимает это как измену родине. Судя по узкому, как лезвие ножа, лицу и длинным тонким рукам, он, должно быть, арагонец. Я объяснил, что из-за работы в двадцать лет мне пришлось выбрать Францию. Полицейский пожал плечами и повернулся спиной.
В Мадриде я провел всего одну ночь. Кастилия — тоже Испания, но не моя. Я начинаю чувствовать себя как рыба в воде, лишь миновав Сьюдад-Реаль, у самой Сьерра-Морены. И все равно вот уже сорок восемь часов как меня снова начали величать «сеньором Моралесом», правильно ставя ударение на «а». Еще немного — и, пожалуй, кто-нибудь спросит: «Que tae, don Jose»?[367], тогда-то я стану по-настоящему счастлив. Хотя мне и сейчас отчаянно хочется кричать каждому встречному: «Это я! Я вернулся! Оле»!
По-моему, я не особенно изменился. Несмотря на американское воспитание и благоприобретенную привычку достаточно энергично работать локтями, чтобы обеспечить себе место под солнцем, я все тот же Хосе Моралес (для друзей — просто Пепе), родившийся майским днем в Севилье под сенью Сан-Хуан де Ла Пальма[368] и под покровительством Возлюбленной Святейшей Марии Армагурской. Для андалусца древнего рода я довольно высок — метр семьдесят пять, вешу семьдесят два кило, волосы и глаза — черные и смуглая кожа (поэтому, кстати, там, за океаном, меня частенько принимают за мексиканца).
Мне очень хотелось остановиться на мосту Алколеа и долго смотреть, как струятся воды Гвадалквивира. Как я люблю Гвадалквивир! Все мое детство прошло на его берегах! Но я даже не надеялся когда-либо снова его увидеть, потому что на перелег из Вашингтона в Севилью, да еще через Париж, нужно куда больше долларов, чем скопилось на моем банковском счету. Поэтому, когда Клиф Андерсон спросил, не хочу ли я провести Страстную неделю в Севилье, я чуть не бросился ему на шею. Но Клиф — человек отнюдь не сентиментальный, и я отлично знал, что предложение сделано не по доброте душевной — просто шеф считает меня одним из лучших агентов ФБР в подведомственном ему отделе по борьбе с наркотиками.
От Кордовы меня теперь отделяли двенадцать километров. Я ехал медленно, очень медленно, как будто для того, чтобы насладиться красотой пейзажа, но на самом деле — окончательно почувствовать себя человеком, чью роль мне предстоит играть. Это и я, и в то же время не совсем я: испанец, решивший навестить родину после долгого отсутствия. Мне следовало забыть, что я говорю по-английски, как уроженец Бруклина, и вообще выбросить Вашингтон из головы. Важнее всего было хорошенько усвоить, что все это время я безвылазно жил во Франции. К счастью, покинув Андалусию, мы с родителями два года провели в Париже, маме с папой там нравилось, и, вероятно, они так и остались бы там до самой смерти, не пригласи их один дальний родственник в Нью-Йорк, где он держал бакалейную лавку. В американской школе я продолжал заниматься французским и теперь знаю его как родной. Иначе Андерсон, надо думать, ни за что бы меня не выбрал. Ему в первую очередь требовался агент, владеющий испанским и французским не хуже английского. Впрочем, Клиф не стал полагаться ни на мои бумаги, ни на утверждения, а учинил суровый экзамен. Для начала мне пришлось битый час у него на глазах беседовать с бежавшим в Штаты уроженцем Мадрида. Потом шеф пригласил меня к себе ужинать, но опять-таки лишь потому, что принимал в тот вечер француза. Я выдержал оба испытания, благодаря чему и сидел сейчас за рулем «ситроена», глядя на первые дома в пригороде Кордовы, где в саду Виктории должен встретиться с Мануэлем Эскуарисом.
Я въехал в Кордову по древнему, выстроенному еще римлянами мосту, и, дружески помахав рукой статус Сан-Рафаэль, сразу же направился на Пасео дель Гран Капитан[369] — именно там всегда останавливаются туристы с туго набитым песетами кошельком, а потом пошел пропустить стаканчик в «Мадриде». Надо ж немножко навести порядок в мыслях и чувствах… А Мануэль пусть чуть-чуть подождет.
С фотоаппаратом, подпрыгивающим на груди на каждом шагу, я вполне похож на обычного любопытного путешественника, который приехал полюбоваться Большой мечетью, превращенной в собор[370]. Не забыть бы только время от времени щелкать фотоаппаратом, хотя вероятность, что за мной могут следить, очень невелика. Честно говоря, я сам толком ничего не знал о задании, поскольку наш патрон Клиф Андерсон настолько боится внушить своим агентам предвзятое мнение, что всякий раз посылает нас на дело почти как слепых котят. И уж мы сами должны, имея две-три зацепки, прояснить всю картину. Поэтому мне известно только, что дело связано с контрабандой наркотиков, которая уже довольно давно мешает Клифу спокойно спать. Чуть больше двух лет наркотики ввозят к нам (я имею в виду Соединенные Штаты) через мексиканскую границу, по крайней мере, мы так полагаем, и тем не менее еще ни разу не удалось перехватить хоть мало-мальски крупную партию. Можно подумать, что тот, кто заправляет этим делом, обзавелся надежными связями в Белом Доме, потому как он с поразительной ловкостью ухитряется избегать всех расставленных нами ловушек, да еще и потешается над незадачливыми охотниками из ФБР. А Клиф Андерсон терпеть не может, когда над ним смеются. Правда, Клиф обладает основным качеством, необходимым в нашей профессии, — терпением. Честно говоря, я вообще никогда не сталкивался с подобным спокойным упорством. Этот парень работает и составляет планы так, будто у него впереди целая вечность. Андерсон не желает уходить в отставку (хотя мог бы сделать это еще два года назад), пока не отправит нашего неуловимого противника в Синг-Синг или Алькатрас[371] до конца его дней. И, я уверен, так оно и будет, потому что Клиф Андерсон — это Клиф Андерсон. Поскольку нам не удавалось перекрыть поток на этапе распределения, Клиф решил приняться за дело с другого конца. Долгое расследование показало, что наркотики переправляют в Америку из Испании. Потому-то шеф и послал меня в Андалусию встретиться с одним из осведомителей — как раз Мануэлем Эскуарисом, которого я увижу через несколько минут, сообщившим, что, кажется, точно знает, в каком из андалусских портов идет погрузка наркотиков для Нового Света, и что штаб-квартира нашего противника — в Севилье. Никаких других подробностей Мануэль не рассказал, и Клиф велел мне разобраться на месте, причем из предосторожности назначил встречу не в Севилье, а в Кордове. Стало быть, мне предстояло узнать название перевозившего отраву судна и немедленно сообщить его в Вашингтон. А там уж сумеют переловить всю команду, независимо от того, под каким флагом она плавает. По крайней мере, такова официальная часть моей миссии. Но я-то прекрасно понимаю, чего на самом деле ждет от меня Андерсон: я должен попытаться разрушить саму организацию и, по возможности, уничтожить ее главу, некоего канадца по имени Боб Лажолет. При этом мне настоятельно предписывалось не привлекать внимания испанской полиции, которой может очень не понравиться, что иностранные агенты суются в ее дела, да еще на чужой территории.
Этот Лажолет — крепкий орешек. Приехав из Квебека и приняв американское гражданство, за десять лет он стал одним из могущественнейших королей наркобизнеса. Лажолет получил юридическое образование, великолепно знал законы и ловко умел обернуть их в свою пользу. Потому-то нашим службам ни разу не удалось поймать его за руку. Большинство конкурентов мало-помалу сдались и, радуясь возможности пользоваться советами столь квалифицированного босса, предпочли стать его подручными, а не вести в одиночку все более опасную игру. Тут-то в их жизнь и вошел Клиф Андерсон.
Не тратя времени даром, он вызвал к себе Лажолета, без обиняков выложил свое мнение о нем и поблагодарил за то, что теперь в его жизни государственного чиновника появилась вполне достойная цель: навсегда изъять Лажолета из обращения, а если удастся доказать его причастность к убийству — с величайшим удовольствием усадить на электрический стул. Канадец, похоже, воспринял предупреждение довольно спокойно, но, хорошо зная людей, конечно, сообразил, какую опасность для него самого и для наркобизнеса, в частности, представляет тип вроде Клифа Андерсона. В результате Лажолет еще глубже ушел в подполье, но размах его операций остался прежним. Клиф дышал ему в затылок, ожидая малейшего неверного шага, какой-нибудь самой незначительной оплошности. В конце концов у канадца сдали нервы, и в один прекрасный день мы узнали, что он уехал в Европу. Но Андерсон вовсе не обрадовался — он не желал, чтобы кто-то другой положил конец карьере его личного врага. Очень скоро мы выяснили, что Лажолет обосновался в роскошной вилле на склонах Тибидабо, неподалеку от Барселоны. Чтобы доставить удовольствие американским коллегам, местная полиция держала его под наблюдением, но не находила ровно ничего предосудительного в действиях почтенного иностранца, жившего на широкую ногу, щедро тратя доходы от денег, вложенных в фирмы с безупречной репутацией. Помимо всего прочего, Боб отлично умел вкладывать деньги — тут уж ничего не скажешь.
Клиф Андерсон — человек молчаливый и настолько холодный, что всех, кого он вызывает к себе в кабинет, мгновенно пронизывает ледяная атмосфера. Поэтому, когда мне срочно велели зайти к шефу, я чувствовал себя далеко не спокойно. И как же я удивился при виде раскованного и любезного господина, который с улыбкой предложил мне сесть, да еще и угостил сигарой! Я просто не верил своим глазам, и первые слова Клифа доходили до меня как сквозь туман. Однако я быстро взял себя в руки и стал внимательно слушать, ибо Андерсон — не из тех, кто бросает слова на ветер.
— Моралес, по-моему, на сей раз мы сможем-таки его накрыть!
Спрашивать, о ком речи, не имело смысла.
— Один наш испанский осведомитель передал мне, что, кажется, понял, каким образом действует Лажолет, но ему бы хотелось получить подмогу — в одиночку парень, конечно, не справится. Я еще не решил, кого отправить в Испанию — вас или Алонсо Муакила. Можете вы немедленно вылететь в Европу, если я выберу вас?
Я уверил Клифа, что это мое самое страстное желание, и вернулся к себе в кабинет. От одной мысли, что, возможно, скоро я снова увижу Испанию, внутри все пело. Несколько омрачало удовольствие лишь то, что мне снова предстояло соперничать с Алонсо, но, раз я честно ушел с дороги, уступив ему Руг, то теперь, по-моему пришла очередь друга доставить мне удовольствие, что я и высказал ему со всей откровенностью, Алонсо тоже очень дорожил этой миссией — несколько лет назад, как раз в то время, когда я познакомился с Рут, он уже ездил в Европу и побывал в Испании: сначала в Астурии, где когда-то жила его родня с материнской стороны, а потом в Андалусии и с тех пор спал и видел, как бы туда вернуться. И, вопреки моим ожиданиям, Муакил не пожелал отказаться от надежды получить назначение вместо меня. Я очень огорчился, боясь, как бы Алонсо не попросил вмешаться в это дело Рут: он знал, что я по-прежнему люблю его жену и, попроси она меня отказаться от миссии, я бы сдался. Но мой друг оказался лучше, чем мне подсказывала обида, и Рут не позволила себе ни единого замечания насчет возможной поездки мужа в Европу. Впрочем, ее подобная перспектива вряд ли бы очень обрадовала. По обоюдному согласию мы с Алонсо решили больше не обсуждать эту тему и предоставить окончательное решение Андерсону, тем более что никто из нас все равно не мог бы на него повлиять. И все же я невольно вздохнул с облегчением, узнав, что благодаря знанию французского языка выбор пал-таки на меня. Алонсо великодушно поздравил меня с победой и лишь попросил передать от него привет Андалусии. А я был так рад, что, попроси он меня расцеловать самого Каудильо[372], я охотно бы пообещал.
Ну а уж коли везет — так везет, и, пожалуй, очень многие коллеги здорово завидовали, узнав, что мне еще предстоит сначала провести полтора месяца в Париже. Клифу хотелось, чтобы ничто в моем облике и поведении не напоминало жителя Нового Света. Особенно он предостерегал меня от возможных ошибок в манере одеваться. К счастью, я никогда не любил жевать резинку и сигаретам предпочитал сигары.
Жизнь в Париже мало походила на каникулы — приходилось основательно изучать роль представителя фармацевтической фирмы «Бижар и К°», но были у нее и приятные стороны, о чем я с восторгом писал Рут. В ответ моя бывшая возлюбленная выражала тревогу, как бы я не вздумал опять переселиться в Европу, а ее муж в постскриптуме предостерегал меня против француженок. Время от времени каракули внизу страницы убеждали меня в том, что Хосе не забыл своего «дядю Пепе». Мы договорились, что из Испании мои письма в Вашингтон пойдут через фирму «Бижар и К°».
Официант в «Мадриде», поставив передо мной четвертую рюмку хереса, посмотрел с легким недоумением — надо вести себя осторожнее и никогда не забывать о присущей всем испанцам сдержанности. У официанта славное лицо, и мне захотелось испробовать на нем свое новое амплуа мирного обывателя, решившего провести отпуск на родине. Мой собеседник, похоже, верил каждому слову. Он расспрашивал меня о Париже, а я с радостью школьника, блестяще сдавшего экзамен и ожидающего поздравлений комиссии, отвечал на каждый вопрос. Забавно рассуждать о Елисейских Полях, о Лувре, Тюильри, Эйфелевой башне, Монмартре и Больших Бульварах в полуденной тишине древнего провинциального города, еще отмеченного явственной печатью мавританского завоевания, но официант, скорее всего не бывавший дальше Мадрида, упиваясь магией чужеземных названий, так надолго задерживался у моего столика, что другие посетители, потеряв терпение, начали сердиться. И верно, не мог же он обслуживать меня одного! Но для полноты впечатления я попросил разрешения сфотографировать парня на террасе кафе. Он с восторгом согласился, а потом записал мне свои имя и адрес, чтобы я мог прислать снимок, если не заверну в Кордову на обратном пути.
Неторопливо идя к садам Виктории, я и впрямь чувствовал себя туристом и был очень доволен первым испытанием. Время от времени я щелкал фотоаппаратом под восхищенными взглядами местной ребятни. Впрочем, подозреваю, что мое знание испанского жаргона потрясло мальчишек гораздо больше, чем угрозы и проклятия, когда они окружили меня, выпрашивая «una perra chica»[373]. Обогнув Пласа де Торос, я свернул на авенида[374] дель Генералисимо и вошел в сады Виктории. Стояла такая жара, будто давно наступило лето. На скамейках дремали старики с морщинистыми, словно уже отрешенными от мира сего лицами. Детишки играли в «полицейских и вора» и с громкими криками радостно гонялись друг за дружкой. На небольшой круглой площадке танцевали две деьочки. Ни одна из них не улыбалась, и было видно, что обе совершенно поглощены танцем и вовсе не воспринимают его как игру. Матери оживленно болтали, наблюдая за их движениями. Словно внимая только им одним слышной музыке, крохи то приближались, то отступали, то слегка касались друг друга, не забывая о знаменитых сапатеадос[375] андалусских танцовщиц. О моя прекрасная Испания, суровая и строгая даже в наслаждениях!
Я должен был узнать Мануэля Эскуариса по описанию, ибо Клиф Андерсон не смог показать мне его фотографию, как, впрочем, и Лажолета — последний никогда официально не сталкивался с полицией, поэтому в наших архивах не хранилось ни единого изображения канадца, а на то, чтобы газеты никогда не публиковали его снимков, тот явно не пожалел денег. Однако шеф дал мне настолько подробное описание, что я не сомневался: доведись мне увидеть бандита — я его сразу узнаю. С Эскуарисом дело обстояло еще проще. Они с Андерсоном условились, что на Мануэле будет жемчужно-серая шляпа с черной лентой, из-под которой должен торчать уголок билета лотереи для слепых. Второй опознавательный знак — красный галстук с двойной серой полоской. Наконец, Эскуарис обещал сидеть на одной из последних скамеек у выхода на авенида де Америка, читая иллюстрированный журнал. Но сколь бы внимательно я ни разглядывал мужчин, устроившихся на лавочках у выхода к авенида де Америка, ни один из них никак не мог быть Мануэлем Эскуарисом. Опаздывает он или устал меня ждать? Я предпочел бы первый вариант, ибо в нашем деле нетерпение — недостаток, который очень быстро теряешь к чаще всего — вместе с жизнью. Делая вид, будто любуюсь чудесными видами, я еще раз обошел парк. Черт возьми, я же отлично помню, где мы должны встретиться, так почему моего связного нет на месте?
Я уже почти подошел к площадке, где видел двух танцующих девочек, как вдруг послышался вопль ужаса. Сначала я замер, но тут же бросился на звук, доносившийся, похоже, со стороны той самой площадки. Кое-кто из гуляющих уже опередил меня, и вокруг одного из кустов стояло плотное кольцо зевак. Мамаши юных танцовщиц пытались успокоить девочек, бившихся в настоящей истерике. В это время подбежал полицейский и, отстранив любопытных, пробрался в центр круга. Я скользнул следом посмотреть, чем вызван такой переполох. Из-под ветвей виднелось плохо спрятанное тело мужчины. Полицейский за щиколотки вытащил его на свет. Выяснилось, что труп обнаружили игравшие в прятки девочки. Покойник, мужчина лет сорока, был прекрасно одет, но рубашку и верхнюю часть пиджака заливала кровь — вероятно, несчастному перервали горло. В нескольких шагах от куста валялась шляпа. Кто-то из зевак поднял ее и отдал полицейскому. Я заметил, что из-под черной ленты торчит уголок лотерейного билета, и тихонько отошел в сторону.
Теперь я никогда не узнаю, что собирался рассказать мне покойный Мануэль Эскуарис. Миссия моя началась — хуже некуда.
Те, кто ходят в кино на фильмы про гангстеров, воображают будто мы, агенты ФБР, — этакий батальон «суперменов», не ведающих страха, презирающих страдания и наделенных необыкновенной проницательностью. Это не совсем так. Да, конечно, стреляю я быстро и точно, и а схватке один на один у меня всегда есть шанс победить. Но только я предпочитаю как можно реже пускать в ход кулаки, а уж тем более огнестрельное оружие. Мы, агенты ФБР, скорее, люди спокойные и серьезные, и надо потратить немало усилий, чтобы вывести нас из себя. Ну, например, как в тот раз, когда банда Луиса Дертона долго пытала, а потом прикончила нашего коллегу Джеймса Вудхайта. Но это совсем другая история, и сейчас не лучшее время для таких неприятных воспоминаний.
По правде говоря, мне страшно.
О, разумеется, это не панический ужас, вынуждающий человека мчаться, не разбирая пути. И все же я чувствовал, что потерял самоконтроль и нервы немного сдали. Мне было настолько не по себе, что, возвращаясь на Пасео дель Гран Капитан, я то и дело оборачивался, как новичок. И вот я снова сижу на террасе «Мадрида». Заказав коньяк, я грубо отшил официанта, который, видно, надеялся продолжить недавний приятный разговор. Недалеко остановился парень и искоса посмотрел в мою сторону, словно раздумывая, что со мной стряслось. Ну а меня самого сейчас куда больше заботило не прошлое, а будущее… Я и так приехал в Кордову, не имея никаких путеводных нитей. Так как же мне прояснить эту историю с наркотиками, когда и Мануэль Эскуарис умолк навеки?.. Откуда убийца узнал о нашем свидании? Я изо всех сил старался сохранить хладнокровие. О моем путешествии в Севилью никто ничего не знал, а уж тем более — о встрече с Мануэлем в Кордове… Так что это значит? Раз они с такой легкостью устранили моего осведомителя, то почему точно так же не расправились со мной? Подобные мысли настолько не радуют, что я начал озираться и внимательно разглядывать сидящих за соседними столиками. Когда я подносил рюмку к губам, рука слегка дрожала. Это уж совсем никуда не годится! Я обязан привести в норму расшалившиеся нервы, да поживее! Хуже всего, что у меня нет никакого оружия. Таможенники наверняка сильно удивились бы, вздумай я приехать на Страстную неделю с револьвером…
Очень невесело беззаботно шататься по городу, прекрасно понимая, что в любом уголке может поджидать тип, твердо решивший отправить тебя в лучший мир. Но в конце концов я малость подбодрил себя, напомнив, что, пожелай я жить в полной безопасности, как любой нормальный обыватель, следовало подыскать другую профессию. В наказание за слабость я решил прогуляться в собор и нарочито медленно побрел по улице Сан-Фелипе, через площадь Рамона-и-Кайяль, по улице Вальядарес, вышел на площадь дель Индиано, свернул на улицу Буэн Пастор, потом на Данес. Руки я держал в карманах и старался выглядеть как можно непринужденнее, но внимательно смотрел по сторонам. И тем не менее, несмотря на внешнее спокойствие, когда кто-нибудь проходил слишком близко, я весь подбирался, готовый отпрыгнуть или отразить возможный удар. Но никто даже не попытался помешать моей прогулке, и я мирно добрался до собора. Возможно, мудрость древней мусульманской мечети объединилась с христианским смирением католической церкви, чтобы вернуть мне утраченное мужество? Не знаю… Но так или иначе, а на обратном пути от недавних страхов осталось лишь легкое чувство стыда.
После ужина я поднялся к себе в номер и написал через парижскую контору письма Клифу Андерсону и Алонсо. Первому я сообщил о гибели Мануэля Эскуариса и просил дополнительных инструкций, а второму описал атмосферу вновь обретенной Испании. Чтобы не беспокоить Рут, о личных неудачах я умалчивал — Клиф Андерсон сам расскажет Алонсо, если сочтет нужным, а это вовсе не обязательно. Покончив с писаниной, я спустился вниз и бросил конверты в ящик. Теперь я снова совершенно спокоен. Можно выкурить сигару и пропустить еще рюмочку коньяка. Да, разумеется, я блуждаю в потемках и пока не видно ни единого просвета. Как добраться до этих чертовых торговцев наркотиками? Понятия не имею, но зато я вполне доверяю опыту Клифа: либо он сочтет, что после такого неудачного начала лучше немедленно отозвать меня обратно, либо дает новые указания. В любом случае я твердо решил не уезжать из Севильи до конца праздников, ибо один Господь ведает, доведется ли мне побывать здесь еще хоть раз.
Страстной понедельник
Едва успев выехать за пределы Кордовы, я увидел первых быков. Они паслись на лугах по обоим берегам Гвадалквивира. Погода — волшебная, и в воздухе чувствовалась какая-то неуловимая, почти неземная нежность, нечто такое, что хорошо знакомо только андалусцам, но и они не в силах выразить природу этого явления тем, кто не бывал в здешних краях. Мне предстояло проехать всего сто тридцать два километра, и я никуда не спешил. Пока не пришли инструкции Андерсона, я мог вести себя, как в отпуске. В Пальма-дель-Рио я выпил первый за день кафе кон лехе[376], устроившись в патио маленькой таверны под сенью апельсиновых деревьев, и с жалостью подумал о своих коллегах и Рут — она наверняка никогда не увидит этого чудесного пейзажа, где теряется само ощущение времени. На правах старого друга я заговорщически подмигнул древней башне Пеньяфлор и ровно в десять часов с бьющимся сердцем въезжал в Севилью.
Пока я не хочу никого видеть. Я слишком тороплюсь в гостиницу «Сесил-Ориент» на площади Сан-Фернандо, где у меня заранее заказан номер. Мне не терпится поскорее переодеться и разобрать чемодан. Просто не могу поверить, что я снова в Севилье!
Свернув на Сьерпес, я окончательно забыл о своем статусе агента ФБР и о задании Андерсона. Теперь я опять почувствовал себя севильянцем, гуляющим по родному кварталу, где наверняка можно встретить друзей и есть с кем поболтать. В Кампане меня ждут тени отца и матери. Я отчетливо вижу, как они сидят на скамьях в последнем ряду ночью, когда по улицам проходят последние на Святой неделе процессии. Вот выходят братства: «Хесус дель Гран Подер»[377] — самое могущественное, за ним — Макарены, наиболее любимое в городе, дальше — Эсперансы[378] — здесь собрались самые ревностные почитатели. Я слышу, как матушка в очередной раз напоминает мне, что надо вести себя хорошо, а потом разворачивает бумагу и достает наш жалкий ужин. Об этой ночи со Святого четверга на пятницу говорили за много месяцев до того, как она настала. Это — единственная радость в жизни моих родителей, и весь год они по крохам собирали нужную сумму. Но я хорошо помню, что, чем сидеть на стуле, за который заплачено такой дорогой ценой, я предпочел бы бегать со своими сверстниками, но мой отец не понял бы, вздумай я признаться, что не разделяю его вкусов, его ревностного отношения к церкви. Правда, в первые годы я довольно быстро засыпал, и, когда первая процессия — «Молчаливые» — подходила к Кампане, а это случалось около двух часов ночи, я так крепко спал, что самые волнующие саэты[379] не могли вернуть меня в мир взрослых. Сейчас мок родители спят в чужой земле далеко, очень далеко от родной Андалусии… Глупая шутка — жизнь!
Грезя наяву о прошлом, я вглядывался в прохожих, но не из страха увидеть врага, а в надежде, что из юности всплывет забытое лицо какого-нибудь товарища прежних дней. Тщетно. Сьерпес немало обновилась, и лишь огромные стеклянные витрины, отделявшие завсегдатаев клубов от уличной толпы, по-настоящему напоминали о прошлом. Проходя мимо университета, я вспомнил, как в те далекие дни отец мечтал сделать из меня ученого. Что бы бедняга сказал, узнав, что его Пепе стал чем-то вроде полицейского? Какой удар для него, в душе немного анархиста (несмотря на глубокую религиозность), а потому искренне презиравшего все, что так или иначе связано с дисциплиной и стражами порядка? На рынке в ноздри мне ударили давно забытые запахи. Наконец по улице де Ла Регина я вышел на площадь Сан-Хуан де Ла Пальма — конечной цели своего путешествия. Выйдя на площадь и оказавшись перед церковью Святого Иоанна Крестителя, которую все жители Севильи называют просто Ла Пальма, я замер, словно у меня вдруг закружилась голова. И глаза как будто помимо моей воли начали искать жалкий домишко, побеленный чуть розоватой известью, где я прожил двенадцать лет. Он стоял на прежнем месте, и, несмотря на все попытки хоть перед Пасхой навести глянец, все такой же ветхий и обшарпанный. Так старая кокетка лишь на миг может создать иллюзию умелой подкраской, но уже в следующий непременно заметишь обман. Мы жили в двух комнатенках на первом этаже. Окна выходили во двор, весь день напролет наполнявшийся криками, пением, проклятиями, и лишь вечером гвалт стихал, словно тонул в молчании, пропитанном мощным ароматом жаркого и пряностей. Мое детство…
В церкви мне показалось, будто огромное покрывало опустилось мне на плечи, сковало и спеленало, сделав пленником воспоминаний. Я видел малыша, преклонившего колени у алтаря и читающего «Отче наш» в ожидании Дона[380] Доминго и его уроков катехизиса. Наверное, он уже давным-давно умер, наш добрейший наставник, который так мечтал, что я поступлю в семинарию. Дон Доминго воображал, будто знания катехизиса и молитв достаточно, чтобы стать одним из князей церкви, словно позабыв, каких усилий ему самому стоило получить место приходского священника в храме Хуан де Ла Пальма, святилище его обожаемой Армагурской Девы. Добряк искренне не понимал, что у мальчишки могут быть более честолюбивые стремления, нежели просто жить до конца дней своих под покровительством Богоматери. Под пристальным взглядом служителя, видимо, угадавшего во мне иностранца, я медленно и осторожно шел от колонны к колонне, и каждый уголок навевал воспоминания, от которых комок подкатывал к горлу. И лишь склонившись у алтаря, я впервые заметил того типа. Я слегка потерял равновесие, голова отклонилась чуть влево, и на долю секунды перед глазами мелькнула тень, сразу метнувшаяся за колонну. В первую минуту мне захотелось подойти и сразу выяснить, не соглядатай ли это, но это значило бы поддаться панике. Стоит почувствовать себя загнанной крысой — и нервы мигом полетят к чертям. И я продолжал медленно прогуливаться по церкви, стараясь выглядеть спокойным и равнодушным. Тем не менее, забредя в какой-нибудь тенистый уголок, я не упускал случая понаблюдать за возможным преследователем. Он тоже напускал на себя безразличный вид, но, когда я скрывался из глаз, явно озирался и нервничал и, лишь снова увидев меня, успокаивался. Да, теперь уж ясно как Божий день, что парень следит за мной… Хотя совершенно немыслимо, чтобы Лажолет мог проведать о моем приезде в Севилью. Меня терзало желание немедленно узнать правду, но для этого надо подловить преследователя и вытрясти из него признание, чего именно он от меня хочет.
Этот тип так действовал мне на нервы, что я больше не мог сдерживаться. Может, с моей стороны это и глупо, но я должен был проверить что к чему. Я вышел из церкви, но тут же спрятался в нише портика и стал ждать. Парень тут как тут. Похоже, мое внезапное исчезновение сбило его с толку и почти испугало. Он внимательно оглядел всю площадь, недоумевая, куда я мог подеваться. Наконец, когда незнакомец уже собрался уходить, я незаметно вырос у него за спиной и тихо проговорил:
— Вот он я, приятель…
Парень подпрыгнул, словно невзначай наступил на змею, повернулся и ошарашенно уставился на меня.
— Но… но, сеньор… я… я вас не знаю…
— Так вы, стало быть, очень хотели познакомиться, раз ходили за мной по пятам по всей церкви? А может, и с тех пор, как я вышел из гостиницы?
— Клянусь вам…
Но я взял парня за руку, так и не дав ему закончить фразы.
— А ну, пошли!
Он вяло попробовал сопротивляться, но быстро понял, что удрать не выйдет.
— Оставьте меня в покое, или я позову полицию… — жалобно заныл он.
— Черта с два!
Удар попал в цель. Незнакомец вдруг прекратил борьбу, по-видимому, смирившись с неизбежным.
— Куда вы меня поведете? — пробормотал он.
— Выпить по стаканчику.
Ответ, видно, совсем выбил его из колеи. Парень просто не в состоянии понять, что происходит. И вот, взявшись под ручку, мы пересекли площадь Ла Пальма и вошли в маленькое, затененное кафе. Там мы устроились за столиком подальше от двери, под самой афишей, оповещающей, что Мигель-Луис Домингин намерен участвовать в корриде в первое воскресенье ярмарки в севильской Маэстрансе. Хозяин кафе явно не расположен суетиться понапрасну, и, даже не поднявшись с табурета за стойкой бара, спросил:
— Господам не угодно чего-нибудь выпить?
По тону кабатчика совершенно ясно, что его бы ничуть не обидел ответ, что, мол, нет, мы зашли просто так. По крайней мере, это избавило бы его от необходимости шевелиться. Но я заказал херес. Хозяин кафе тяжело вздохнул и, как истинный андалусец, для которого время не имеет особого значения, ибо здесь принято считать, что торопиться не следует ни с работой, ни со смертью, довольно долго искал бутылку, потом два чистых бокала. Короче, мы проторчали в кафе уже добрых пять минут, пока хозяин, лениво волоча ноги, добрался до нашего столика. Очевидно, каждое лишнее движение настолько ему претило, что парень и не подумал нас обслуживать. Он лишь поставил на стол бутылку:
— Пейте, сколько хотите… потом скажете…
И веревочные сандалии тут же зашлепали обратно, к стойке. Видать, этому типу окончательно опротивело все на свете. Должно быть, печенка барахлит… И однако я ничуть не сомневаюсь, что, заглянув сюда либо в час, либо в восемь вечера, увидел бы его совершенно преобразившимся: с горящим взором кабатчик наверняка оживленно обсуждал бы с друзьями или противниками достоинства того или иного матадора или же пылко уверял, будто ни одно другое братство не сравнится в благочестии, богатстве и изяществе убранства с «Pontificia, Real et Illustre Hermandad Sacramental у Confradia de Nazarenos de Nuestro Padre Jesus del Silensio en el Desprecio de Herodes у Maria Santisima de la Armagura»[381], то есть его собственным.
Наполнив бокалы, я, вдруг подняв голову, встретился взглядом со своим невольным собутыльником. И тут же заметил, какие у него зрачки. И без особых познаний ясно, что это наркоман. Тут есть все привычные признаки, о которых нам рассказывали на лекциях в Вашингтоне. У меня слегка сжалось сердце. Наркоман… Неужто банда все-таки вышла на мой след? Я вспомнил об Эскуарисе, и по позвоночнику пробежала неприятная дрожь. От ярости и страха свело все мышцы. Не пройди я специальной тренировки, сразу бы вцепился парню в горло и заставил сказать, кто приказал следить за мной. Однако я заставил себя сделать несколько глубоких вдохов и, успокоившись, поднял бокал:
— Выпьете за мое здоровье?
Парень опять в полной растерянности. Он изо всех сил старается подавить дрожь в руках, но теперь я знаю, что его состояние объясняется не столько страхом, сколько привычкой к наркотикам. Мой незадачливый преследователь судорожно стискивает зубы, на висках у него выступают капельки пота, и я чувствую, что он совсем на пределе.
— А почему бы и нет, сеньор? — чуть дрогнувшим голосом говорит парень.
Мы чокаемся, и он пьет залпом. Потом, даже не спросив у меня разрешения, хватает бутылку и на одном дыхании осушает еще два бокала подряд.
— Простите, сеньор, но… — слегка покраснев, бормочет мой невольный гость.
— Я знаю, что такое ломка[382], — спокойно перебиваю я.
Вопреки моим ожиданиям, он даже не вздрагивает, а лишь со вздохом опускает голову.
— Я как будто задыхаюсь…
В Соединенных Штатах я достаточно долго охотился за наркоманами и порядком их навидался, так что прекрасно понимаю: мой новый знакомый готов на все, лишь бы раздобыть немного героина или кокаина… А Боб Лажолет тем временем живет в прекрасной вилле на склонах Тибидабо у Барселоны… Мысль о торговцах наркотиками, как всегда, приводит меня в дикое бешенство, так что глаза застилает кровавая пелена. Теперь я уже не злюсь на своего недавнего преследователя, напротив, мне его безумно жаль. Я бы попросил его рассказать мне свою историю, но уже не раз слыхал исповеди наркоманов, и все они удручающе схожи… Бедняга встает.
— Благодарю вас, сеньор… — робко лепечет он.
Парень явно надеется ускользнуть, но я беру его за руку и снова усаживаю на место.
— Никуда вы не пойдете, пока не расскажете, зачем следили за мной.
Наркоман удивленно таращит глаза.
— Так вы ж и так все знаете… На Сьерпес я принял вас за иностранца и решил, что вы согласитесь дать мне немного денег,
если я предложу показать вам Севилью… Но я в таком состоянии, что не осмеливался подойти… Думал, вы сочтете меня пьянчужкой-попрошайкой…
Выглядит правдоподобно. Само собой, я мог бы предложить ему кругленькую сумму в обмен на имя поставщика, но заранее уверен в отказе. В Европе, как и в Штатах, несчастные никогда не назовут своих мучителей, боясь не найти другого торговца отравой. А кроме того, для меня это значило бы выдать себя с головой — парень ведь сразу понял, что я не колюсь, не нюхаю кокаин и не курю марихуану. Ладно, пусть идет на все четыре стороны. Может, это и глупость, но я слишком рад уцепиться за слабую надежду, что банда еще не знает о моем присутствии в Севилье… Да и как бы они могли об этом проведать?
Ла Пальма залита ослепительным солнечным светом, и все контуры и тени поразительно отчетливы. Меня переполняют легкость и веселье. Причин — множество, но все они уходят корнями глубоко в прошлое. Однако любовь и память способны творить чудеса, и время вдруг обращается вспять, так что я даже слегка задыхаюсь. Нагруженные тяжелыми корзинами женщины торопливо возвращаются домой с рынка. Мужчины посреди площади вступают в громогласные беседы, другие, подпирая стены домов, молча наслаждаются теплом и светом этого чудесного весеннего утра. Детишки играют в бой быков, и я останавливаюсь, восхищаясь изяществом движений, природной грацией и тем священным трепетом, что превращает юнцов в истинных служителей древнего благородного культа. На меня они обратили внимание, только услышав приветственные возгласы «Оле!». И, почувствовав во мне благодарного зрителя, дети снова стали детьми, а потому тут же окружили меня и стали клянчить деньги. Мелочи у меня не оказалось, и я, поманив парня, только что изображавшего матадора, дал ему пять песет — пусть разменяет банкноту и поделится с приятелями. После этого мне не без труда удалось отделаться от горячих изъявлений благодарности.
Войдя в «свой» двор, я, сам того не замечая, вычеркнул из памяти два десятилетия, и, появись в окне квартирки первого этажа моя мать и прикажи она мне поторопиться в бакалейную лавку, я бы не особенно удивился. Проходя мимо закутка, где некогда трудился сапожник, мой учитель во всем, что касается андалусской тавромахии (то, что мне известно о быках и тореро, я услышал именно от него), я невольно крикнул:
— Buenos dias, tio Paco![383]
Но на пороге лавчонки старого Пако появилась огромных размеров дебелая матрона, и это вернуло меня к действительности. Женщина с любопытством оглядела меня с ног до головы.
— Вы кого-нибудь ищете, сеньор? — спросила она.
Я объяснил, что много лет назад жил в этом доме, а там, где она стоит, когда-то работал мой друг сапожник по имени Франсиско Альгин, которого все называли Пако. Женщина долго чесала в затылке.
— Да помер он, Пако-то… — наконец сказала она. — В день Всех Святых тому будет ровно семь лет… Я тоже хорошо знала старика. Мой муж и купил его лавчонку, только он не сапожник, а корзинщик… по крайней мере, когда не пьянствует… А это-то он наверняка сейчас и делает, проклятый, потому как ушел за хлебом битый час назад!
Не желая продолжать беседу, грозившую превратиться в нескончаемый поток жалоб на семейные неурядицы, я поклонился матроне, пожелал по обыкновению приятно провести день и уже собирался уйти, но женщина удержала меня за полу пиджака.
— Может, вам хотелось бы повидать детей Пако? Потому как его жена, донья Кончита, тоже умерла…
Сеньора Кончита… Та, что вечно совала мне кусочки кожи для моей рогатки… Сеньора Кончита, такая скромная и незаметная, что — да простит мне Господь! — я и забыл о ее существовании… А матрона, так и не дождавшись ответа, вышла на середину двора, сложила руки рупором и заголосила во всю мощь легких:
— Мария, голубка моя! Послушай-ка, Мария дель Дульсе Номбре!
Имя девушки настолько очаровало меня, что дурное настроение рассеялось и я перестал злиться на бесцеремонность новой знакомой, вынудившей меня идти к совершенно посторонним людям и говорить пустые и совершенно ненужные в подобных случаях фразы. Мария дель Дульсе Номбре — Мария Нежнейшего Имени[384].
Только в моей Испании крестные так поэтично нарекают девочек. Окно на третьем этаже приоткрылось, и кто-то, кого я лишь смутно различал в густой тени, осведомился:
— Что случилось. Долорес?
— Да вот, иностранец спрашивает о твоем бедном отце… Он искал Пако, потому что ничего не знал о его кончине… А ты куда лучше меня сумеешь рассказать, как отошел к Господу этот праведник!
Толстуха повернулась ко мне:
— Поднимайтесь вон по той лестнице, напротив… Там не шибко светло, но Мария уже ждет вас…
Приличия ради я окликнул стоявшую у окна девушку:
— Вы позволите, сеньорита?
— Да, прошу вас, сеньор…
На лестнице и впрямь оказалось очень темно, особенно после залитой солнцем улицы. Казалось, здесь вечно царит густой сумрак. Не пройдя и десяти ступенек, я совершенно перестал различать что бы то ни было и стал осторожно карабкаться вслепую, благо под рукой — перила. Скоро мне послышалось сзади чье-то едва уловимое дыхание; но, зная, как в темноте разыгрывается воображение, я даже не насторожился. И совершенно напрасно. Не успел я добраться до второго этажа, как мне показалось, будто весь дом вдруг обрушился на мою голову. Я вскрикнул и полетел во тьму как в прямом, так и в переносном смысле слова. Послышались восклицания, захлопали двери, потом — приближающиеся шаги… и больше я ничего не помню.
Открыв глаза, я увидел, что лежу на кровати в ярко освещенной солнцем комнате. Рядом, испуганно глядя на меня, стояла самая очаровательная девушка, какую мне когда-либо приходилось встречать. Не будь тут же толстухи, с которой я разговаривал во дворе, наверняка вообразил бы, что вижу сон. Однако присутствие Долорес несомненно указывало, что я еще не переселился в мир иной. Я улыбнулся, и девушка с облегчением вздохнула.
— Приходит в себя! Благословение Пречистой!
А матрона немедленно оповестила меня, что уже послала за врачом и полицией. Это мне совсем не понравилось.
— Полиция-то зачем? — не выдержал я.
Женщина так опешила, что на мгновение застыла, широко открыв рот.
— Но, Господи Боже мой! — воскликнула она. — Ведь вас же убили!
Это заявление было сделано с таким пылом, что я невольно расхохотался и тут же об этом пожалел — каждый звук мучительно отдавался в голове. Я поднес руку ко лбу и почувствовал, что на нем лежит мокрая тряпка. Я поглядел на девушку.
— Вы — Мария дель Дульсе Номбре, верно?
— Да, дочь вашего друга Пако, дон Хосе…
— Вы знаете, кто я?
— Когда вы с родителями уехали из Севильи, я была еще совсем маленькой, но прекрасно вас помню.
Теперь я тоже припомнил, что в лавчонке Пако вертелась девчушка, получавшая тумаки всякий раз, как тянулась к ведру с дегтем. Какое преображение! Я вдруг явственно увидел, как старый Пако трудится, латая изношенные подметки, рядом с ним егозит дочь, а донья Кончита… кормит грудью младенца.
— Кажется, у вас должен быть младший брат или сестра?
— Брат… Хуан… Ему только что исполнился двадцать один год, а мне уже двадцать семь…
— Замужем?
Вопрос прозвучал бестактно, и мне сразу стало стыдно. Но все же у меня камень с души свалился, когда я увидел, что Мария покачала головой. Однако супруга пьяницы-корзинщика не умела долго молчать и с обычной бесцеремонностью расстроила наш дуэт:
— Мария, дорогая, а может, ему лучше не очень-то разговаривать? С разбитой головой, сама понимаешь…
Девушка перекрестилась.
— Пречистая не допустит несчастья…
Я вполне разделял надежды девушки и дружески взял ее за руку.
— Расскажите хотя бы, что со мной случилось!
Радуясь возможности привлечь к себе общее внимание, толстуха немедленно затараторила:
— Ух, мне этот тип сразу же не понравился… Только вы пошли на лестницу — а он уже во дворе и, промчавшись мимо меня так, будто у него, простите за выражение, шило в заднице, шмыгнул следом! Если б я знала! Но, ясное дело, как же я могла догадаться? Так вот… Поворачиваюсь я, чтобы идти домой, как вдруг слышу крик и грохот… Я оборачиваюсь и что, как вы думаете, вижу? Опять этот прохиндей, он бежит обратно!.. Ну, я помогла Марии подобрать вас на лестнице и устроить в комнате ее брата. Ох и тяжелый же вы, сеньор! По-моему, мерзавец хотел вас убить, но в темноте не смог точно нанести удар…
Я догадывался, что еще помешало убийце. Наверняка тут дело не только в освещении. Но мне хотелось проверить догадку.
— А как выглядел этот тип, сеньора?
— Маленький, тощий, уже немолодой… и еще у него совершенно дикие глаза!
Да, именно так я и думал. Когда мы расстались, мой наркоман был в таком состоянии, что никак не мог ударить наверняка — отсюда и мое везение. Итак, он действительно следил за мной на Сьерпес, а то и от самой гостиницы. А я очертя голову сам бросился в ловушку. Однако больше всего меня расстраивала не столько собственная глупость, сколько теперь уже несомненный факт, что банда Лажолета вышла-таки на мой след, и мне нелегко (если вообще возможно!) будет избежать судьбы Мануэля Эскуариса.
К действительности меня вернула Мария, сказав, что нечто подобное происходит в Ла Пальма впервые. Вполне естественно, девушку очень интересовало, что я думаю о причинах нападения. Я с напускным безразличием предположил, что бандит, вероятно, принял меня за богатого американца и только мужество обеих дам помешало ему стянуть кошелек.
Маленький энергичный доктор объявил, что удар нанесен тупым предметом и повредил лишь кожу на затылке. А потому пара скобок и две таблетки аспирина вполне уладят дело и избавят меня от головной боли. Я послушно разрешил наложить скобки и проглотил аспирин. Врач удалился, радуясь, что ему попался такой кроткий и, главное, щедрый пациент, ибо я втройне заплатил ему за визит. Богатые не живут в квартале Пальма.
Полицейский, приятного вида толстяк, внимательно выслушав показания жены корзинщика, спросил, собираюсь ли я подать жалобу. Ко всеобщему изумлению, я решительно отказался, объяснив, что накануне Святой недели, по-моему, нельзя не прощать прегрешения ближних, а кроме того, мне не хотелось бы, едва успев вернуться на родину, создавать полиции осложнения и преследовать соотечественника. Полицейский добросовестно записал каждое слово и попросил подписать показания, а женщины восхищались моим милосердием и громко изъявляли радость, что в глубине души я остался настоящим андалусцем. Чтобы доставить им еще большее удовольствие, я рассказал о своей мнимой парижской жизни, но честно признался, что еще никогда не чувствовал себя таким счастливым, как теперь, когда мне снова довелось вдохнуть воздух родной Ла Пальма. И мы распрощались, очень довольные друг другом. Полицейский ушел вместе с супругой корзинщика, а я остался наедине с Марией дель Дульсе Номбре.
Мы проболтали около часу. Я рассказывал Марии о своей жизни, вернее, о том, какой она могла быть, если бы я и в самом деле обосновался во Франции. Все это время я сидел в довольно потрепанном кресле — единственном украшении этой бедной комнатушки. На стенах красовались фотографии знаменитых тореро и не менее известных футболистов. Я успел узнать, что Мария работает у торговцев тканями в Куне, которые любят ее как родную дочь. Например, сегодня девушка не пошла на работу только потому, что в субботу показалась хозяевам слишком утомленной и те велели ей хорошенько отдохнуть в воскресенье и в понедельник утром. Зато Хуан, похоже, не слишком радовал сестру. Парень явно считал, что за любую работу платят чересчур мало, а потому не стоит тратить на нее время. В результате он занимался всякой ерундой, водил по городу туристов, оказывал разные услуги то тому, то другому, но я сильно подозревал, что в основном Хуан кормится на черном рынке. Так что, похоже, брат стал для Марии не столько поддержкой, сколько постоянным источником тревог и забот. Мне так нравилось разговаривать с девушкой, что потихоньку из головы совсем вылетело, что за мной охотятся и уже едва не прикончили головорезы Лажолета. Мария говорила о Париже, как о какой-нибудь сказочной стране. Она и в Мадриде-то не бывала. А время бежало незаметно. Мне давно следовало возвратиться в гостиницу, иначе соседи скоро начнут судачить. Наконец я все же решился встать, но в это время вошел Хуан. Сестру напоминают лишь такие же чудесные глаза, но на лице уже появился легкий налет, какой я не раз видел у бесконечных мелких злоумышленников и жуликов, которых мне приходилось и до сих пор приходится допрашивать. Пока Мария рассказывала брату о происшествии тот смотрел на меня довольно странно. Наконец, когда девушка закончила рассказ, парень спросил:
— Вы знаете этого типа?
— Нет.
Он долго рассматривал меня.
— Чертовски непонятно все-таки… — пробормотал Хуан.
Малый явно не дурак. Мне с огромным трудом удалось уговорить Марию принять за беспокойство несколько песет. С Хуаном в этом плане было гораздо проще. Потом, сославшись на благодарность и старое знакомство, я пригласил обоих поужинать вместе завтра вечером. Мы договорились, что я буду ждать Марию у выхода из магазина и Хуан подойдет туда же. Молодой человек проводил меня на лестницу.
— Только не ошибитесь насчет моей сестры, сеньор, — тихонько заметил он. — Надеюсь, вы меня поняли?
Сразу по возвращении в «Сесил Ориент» я составил кодированную телеграмму в Париж для Андерсона с сообщением, что меня обнаружили и уже пытались убить. Пусть сам решает, как быть дальше. Когда я диктую текст телефонистке, служащий сообщает, что офицер полиции Фернандес из квартала Ла Пальма просил меня заглянуть к нему в комиссариат. Плохо дело. Клиф особенно настаивал, чтобы я ни под каким видом не вмешивал в наши дела испанскую полицию. А сейчас я далеко не в лучшей форме для разговора с Фернандесом. Стало быть, лучше сходить к нему завтра, а сейчас самое разумное — лечь в постель. Мне и двадцати часов не хватит, чтобы прийти в себя, во-первых, и обдумать дальнейшие планы — во-вторых.
Страстной вторник
Полицейский в слишком плотно облегающей форме, услышав, что его шеф хочет меня видеть, бросился показывать дорогу, гордо выставив грудь колесом. Комиссар Фернандес — мужчина лет пятидесяти, стройный и элегантный, к тому же — и это не доставило мне ни малейшего удовольствия — несомненно умен. Меня он встретил с любезностью вельможи. Впрочем, это природное свойство любого андалусца, какое бы скромное положение он ни занимал. Комиссар предложил мне сигару и лишь после того, как мы оба закурили, объяснил, почему просил зайти.
— Я уже десять лет возглавляю этот комиссариат, сеньор. Не раз мне приходилось останавливать сведения счетов, разнимать драчунов, ловить воришек, однажды — даже арестовать убийцу, но никогда — слышите? — никогда еще я не сталкивался с такой непонятной историей, как та, что вчера случилась с вами. Все это настолько невероятно, сеньор, что я ничего не понимаю, а мне очень хотелось бы понять. Почему вы не подали жалобу?
— Я уже все объяснил полицейскому, который…
Фернандес изящно взмахнул рукой, словно отметая подобные возражения.
— Знаю, сеньор, я читал рапорт и как раз поэтому вызвал вас сюда. Нет, меня интересуют истинные причины вашего великодушия… довольно своеобразного в подобных обстоятельствах, вы не находите?
— Что бы вы ни думали, господин комиссар, но я не могу дать никаких объяснений, кроме тех, что уже сообщил вашему подчиненному…
— Сеньор Моралес, полагаю, я тоже добрый католик, но, если бы кто-то напал на меня с явным намерением убить, вряд ли я сумел бы с таким благородством следовать заповеди о любви к ближнему…
Этот Фернандес начинает чертовски действовать мне на нервы, а потому мой ответ звучит довольно сухо:
— Всяк волен поступать по-своему!
— Бесспорно, сеньор, однако при условии, что он не вступает в противоречие с законом.
— А я, по-вашему, это делаю?
— Честно говоря, не знаю…
— Ну да?
— Увы, сеньор, ваше стремление во что бы то ни стало следовать Евангелию и нежелание создавать полиции лишние трудности (за что, впрочем, я вам искренне благодарен) привели к тому, что на свободе остался крайне опасный тип, убийца… А вдруг он прикончит кого-нибудь другого? Разве вас не будут терзать угрызения совести?
— Честно говоря, о такой возможности я как-то не подумал…
Некоторое время Фернандес молча смотрит на меня сквозь облачко дыма.
— Если только вы не убеждены, что преступник не станет нападать на других…
— Почему?
— Это мне и хотелось бы выяснить, сеньор… Так вы не знаете нападавшего?
— Я его даже не видел!
— Верно… но при вас его достаточно подробно описали… И это не пробудило в вашей памяти никаких воспоминаний?
— К тому времени я провел в Севилье всего несколько часов. Маловато, чтобы завести знакомства, как, по-вашему?
— Разумеется… и однако, представьте себе, сеньор, с этими свидетелями — просто беда… вечно они противоречат друг другу…
У меня вдруг возникает явственное ощущение, будто все, что он говорил до сих пор, — просто болтовня. Фернандес хотел заманить меня в ловушку, а потому нарочно старался усыпить подозрения. Зато теперь начнутся настоящие неприятности. А комиссар, словно угадывая мое беспокойство, насмешливо продолжал:
— Видите ли, как ни странно, хозяин кафе «Лас Флорес»[385] на Ла Пальма утверждает…
Здорово он меня подловил! Заранее зная продолжение, я слушал вполуха, думая только о том, как парировать удар.
— …что незадолго до вашего… несчастного случая вы заходили к нему в заведение и пили херес с незнакомцем, по описанию очень похожим на того, кто ударил вас на лестнице.
Мне оставалось лишь разыграть наивного дурачка.
— Но, послушайте, это же просто невероятно! — стараясь, чтобы мой голос звучал как можно искреннее, воскликнул я.
— Что именно, сеньор?
— Так это несчастный, которому я предложил выпить рюмку, потом на меня же и…
По-моему, я совсем неплохо справлялся с ролью.
— Значит, вы с ним знакомы?
— Вовсе нет!
— И однако вы вместе пили?
Я, слегка изменив факты, рассказал о приключении в церкви и как, пожалев робкого пьянчужку, угостил его хересом.
— Право же, вы поразительно добры, сеньор… но, по правде говоря, теперь ваша история выглядит еще более странно… Мы, андалусцы, вообще не робкого десятка, а уж те, кто привык водить туристов по городу, — тем более…
Полицейский мне явно не верил.
— Заметьте, сеньор, я не сомневаюсь, что вы сказали мне правду, иначе зачем бы вам понадобилось выгораживать того, кто вас же чуть не убил?
— Вот именно! Не понимаю…
— Я тоже, сеньор, я тоже… Так вы приняли французское подданство, не правда ли?
— Да.
— А в Севилью приехали…
— Во-первых, я хотел провести здесь Святую неделю, а во-вторых, вспомнить детство.
Фернандес встал, и я последовал его примеру.
— Что ж, сеньор Моралес, надеюсь, ваше пребывание у нас закончится лучше, чем началось… Счастлив был с вами познакомиться и искренне желаю, чтобы нам больше не пришлось столкнуться — по крайней мере на профессиональной почве… А так, если вам вздумается меня повидать, — не стесняйтесь, я всегда с огромным удовольствием вас приму.
Да, тут нечего строить иллюзии — Фернандес потеряет интерес к моей особе далеко не так скоро, как мне на мгновение показалось. Мое поведение его, несомненно, заинтриговало, а интриговать полицию я бы никому не посоветовал.
Агент ФБР на задании рано или поздно начинает мучительно раздумывать, по каким бредовым, необъяснимым причинам он избрал такую работенку. Клянусь вам, что, гуляя по городу, в толпе, когда любой прохожий может молниеносно выхватить нож и отправить вас к праотцам самым отвратительным образом, хочется выдрать себе все волосы от одной мысли, что другие, ничуть не хуже оплачиваемые государственные служащие в это время спокойно возятся с бумажками и болтают с приятелями, порой поглядывая на часы и соображая, что через несколько минут смогут вернуться домой, к спокойно ожидающим их женам и детям — уж их-то малыши твердо знают, что папе ничто не помешает прийти ни сегодня, ни завтра… Терпеть не могу подобных размышлений — они меня угнетают. Обычно в таких случаях я стараюсь переключиться на воспоминания о Рут. Это своего рода противоядие, поскольку, думая о своей загубленной любви, я начинаю лучше относиться к работе. Будь я нормальным чиновником, вряд ли смог бы спокойно возвращаться по вечерам домой, зная, что Рут живет с другим всего в нескольких кварталах от моего дома. Я бы просто-напросто сдох от тоски. А потому в конечном счете очень возможно, что мое гнусное ремесло охотника за бандитами — своего рода лекарство от несчастной любви. Я очень любил Рут и, когда ее отнял Алонсо, хотел умереть, как мальчишка от огорчений первой любви. Но в том-то и дело, что Рут была моей первой любовью. До того мне приходилось так туго, что на романтические грезы не оставалось ни времени, ни сил. И Рут стала для меня Избранницей, той, с кем мне предназначено строить будущее, но вдруг явился Алонсо и…
Обычно, стоит мне подумать о Рут, ставшей теперь просто сестрой, сердце сжимается от горечи, но сейчас, поднимаясь по Сьерпес, я не испытываю ничего подобного. Интересно, почему — из-за убийц Лажолета или же потому, что сегодня вечером у меня свидание с Марией дель Дульсе Номбре? Что за красавица эта Мария! И мы с ней — одной крови… Я не сомневаюсь, что, полюби меня Мария, все Алонсо на свете могли бы увиваться вокруг нее без всякого ущерба для нашей любви. Эй, Пепе, дружище, ты соскальзываешь на очень опасную дорожку! Разве можно думать о любви, когда ты заперт в городе, где какие-то неизвестные твердо решили тебя убить!
Осторожность подсказывала, что разумнее всего сидеть в номере «Сесил-Ориента» и поджидать известий от Клифа, но, клянусь Святой Девой, я не для того приехал в Севилью, чтобы торчать тут запертым, как пойманная в ловушку крыса! По натуре я человек спокойный и терпеть не могу свары, но палку перегибать не стоит, а Лажолет именно это и делает. Теперь вопрос стоит так: либо он, либо я… Паршиво только, что его люди меня знают, выслеживают и наблюдают за каждым шагом, а я о них понятия не имею. Чертовски трудное положение!.. Вот что, Пепе Моралес, сейчас самое время показать Андерсону, на что ты способен и какую выгодную сделку совершили Соединенные Штаты, предоставив тебе гражданство!
Но все это — просто треп… А на самом деле мне вовсе не хочется иметь дело с убийцами. Я выглядываю в окно. Людей полно: одни куда-то спешат, другие просто прогуливаются… Кому из них велено меня прикончить? Может, вон тому типу, что, полуприкрыв глаза, курит на лавочке «пуро»[386]? Или вот этому элегантно одетому молодому человеку? Действительно он читает газету или только делает вид? Я не трусливее других, но и не смелее тоже. Невозможно много лет проработать в ФБР и не огрести кучу шишек. Я свою долю уже заработал, но еще никогда мне не случалось угодить в такой густой туман, как тот, что, невзирая на знойное андалусское солнце, сейчас словно окутал Севилью. Во всяком случае, для меня… Я привык выступать в роли охотника, а сейчас впервые в жизни чувствую себя добычей и, должен сказать, это чертовски неприятное ощущение. Кроме того, меня злит, что я совершенно не понимаю, каким образом Лажолет узнал о моем приезде. Почему он не велел зарезать меня одновременно с Эскуарисом? Нарочно ли не добил меня наркоман в Ла Пальма? Куда ни повернись — глухая стена, а я это ужасно не люблю. Видели б меня сейчас друзья, те, с кем я когда-то играл на улицах Севильи! Взглянув, как я, помирая от страха, мечусь из угла в угол по красивой и удобной комнате, они бы начали подталкивать друг друга локтями и хихикать: «Американцы испортили нашего Пепе!» И вдруг, словно вызванный моей тревогой из самых глубин детства, танцующей походкой приближается силуэт Карлоса, Карлоса Лампаро по кличке Цыган. В свои семнадцать лет он казался нам стариком. Карлос, мечтавший стать знаменитым тореро… По вечерам на Базарной площади возле отцовской бакалеи он рассказывал нам, как истратит миллион песет, заработанных в Испании и Мексике. Карлос каждую ночь удирал на берег Гвадалквивира сражаться в загоне с каким-нибудь быком, и его настолько сжигала страстная вера, что однажды в Пасхальное воскресенье на арене Маэстранса, обманув бдительность полицейских, он прыгнул за барьер в тот момент, когда вывели третьего быка (с ним должен был сражаться Лаланда). Цыган жаждал показать андалусской толпе, какие чудеса способен творить, не имея в руках ничего, кроме красной тряпицы, и, быть может, привлечь внимание одного из импресарио, таким образом заработав приглашение на новильяду[387]. Карлос получил удар рогом в грудь и умер прямо на песке прежде, чем удалось оттащить быка. Тело юного цыгана перенесли в больницу, и публика тут же забыла о нем. Лишь мы, мальчишки, оплакивали гибель эспонтанео[388], которого Макарена не захотела взять под покровительство. Я настолько погрузился в прошлое, что, казалось, Карлос и вправду стоит тут, рядом. Я вижу его нервную, гибкую фигуру и слышу голос: «Так тебе страшно, hombre[389]? Я тоже боялся быков, пока не оказывался с ними лицом к лицу… Надо сражаться, Пепе, и ты забудешь о страхе… Помнишь того быка? Это был миуриец… Слишком большой, слишком тяжелый для меня… Мне бы следовало держаться поосторожнее, но я струсил… Поэтому он меня и прикончил… Слышишь? Потому что я струсил!.. Не забывай об этом… Vaya con Dios, Pepe!»[390]
Я отлично знаю, что это лишь видение, но так же твердо знаю и еще кое-что: я выйду из гостиницы и, наплевав, понравится это Клифу Андерсону или нет, огорчит или нет комиссара Фернандеса, при первой же возможности сцеплюсь с подручными Лажолета.
При виде меня хозяин кафе «Лас Флорес» на Ла Пальма удивленно моргает. Значит, узнал, так что хитрить бесполезно и я сразу перехожу в наступление:
— Вы сказали полицейским, что вчера утром я пил у вас с одним человеком…
— Я не хотел сделать ничего дурного… — перебивает меня кабатчик. — И потом, ходили слухи об убийстве…
— Вы знаете того типа?
— Нет, сеньор…
Врет он или не врет?
— Мне бы хотелось его разыскать… Я уверен, что это не он меня ударил…
Кабатчик протер бокал и тщательно оглядел стекло на свет.
— Кто знает? — пробормотал он.
— Вы думаете по-другому?
— Я вообще ничего не думаю, сеньор, я продаю вино и прохладительное… Если хочешь жить спокойно, лучше всего заниматься своим делом… иначе…
— Ну?
— Иначе рискуешь нажить крупные неприятности, сеньор.
Что это — его личный взгляд или предупреждение?
— На свете нет ничего прекраснее весны в Севилье, сеньор, — добавляет кабатчик, по-прежнему не глядя на меня. — И было бы чертовски досадно провести всю Святую неделю в больнице…
Теперь уже все четко и ясно.
— Вам поручили мне это передать?
— Не понимаю, сеньор, о чем вы?
Он и впрямь, кажется, не понимает, или же — замечательный актер.
— А с чего вы взяли, будто мне грозит больница?
— Разве не на вас напали там, на другой стороне Ла Пальма?
— Это еще не причина!
— Для меня — да, сеньор.
Кабатчик взирает на меня с невозмутимым спокойствием, и, чтобы поддержать игру, я предлагаю ему выпить со мной портвейна. Парень не возражает. Выпив за мое здоровье, он вытирает губы тыльной стороной кисти и удовлетворенно вздыхает.
— Жизнь — дьявольски сложная штука для всех, кроме того, кто умеет сидеть в своем уголке и не высовываться.
— Как вы?
— Да, как я, сеньор.
— А зачем вы рассказали обо мне полиции?
Он пожимает плечами и, прежде чем ответить, снова наливает в обе рюмки вина.
— Человеку моей профессии полиция может причинить немало хлопот, сеньор. Так что лучше оставаться с ней в хороших отношениях. А потому, узнав, что с вами случилось, я тут же пошел к комиссару Фернандесу. Он мой земляк — тоже родился в Чипионе…
— А как вы узнали о несчастном случае?
— От Хуана Альгина.
И, как будто я мог не знать, кто это, кабатчик уточнил:
— От брата Марии дель Дульсе Номбре.
Я совершенно запутался и во всей этой истории понимал только одно: что чуть-чуть не отправился на тот свет. Может, юный Хуан, парень без определенных занятий, но с очень вострыми глазками, принадлежит к банде преследующего меня Лажолета? Возможно ли, что это он напал на меня? Во всяком случае, я не сомневался, что Мария тут ни при чем, хотя и не мог бы привести ни единого довода в пользу подобной уверенности. Неужто я успел по уши влюбиться в девушку, которой совсем не знаю? Осторожно, Пепе, осторожно! Вспомни, как Клиф Андерсон упорно вдалбливает новичкам: «У нас, господа, не было и не будет врага опаснее, чем женщина… разумеется, я имею в виду исключительно службу!»
— Так вы и в самом деле никогда прежде не видели того типа, что сидел со мной за столиком?
— Нет, сеньор, но вам бы надо поостеречься!
— Почему?
— У него глаза убийцы.
Я протягиваю кабатчику руку.
— Меня зовут Хосе Моралес.
— А меня — Пако Санчес. Вы бывали в Чипионе?
— Нет. А что, красивые места?
— Не знаю, сеньор, ведь там моя родина…
В память о Карлосе Лампаро я иду обедать в один из маленьких ресторанчиков Трианы. На Базарной площади больше нет бакалейной лавки отца Карлоса. Ожидая, пока мне принесут заказанные жареные бокеронес[391], я разглядываю тощих бронзоволицых мужчин, сидящих за соседними столиками. С какой жадностью они поглощают дежурное блюдо — турецкий горох с жалким кусочком рыбы! Жевать они перестают, только когда говорят. И как громко! Посторонние всегда думают, что цыгане ссорятся и вот-вот дойдет до рукопашной. А мне забавно думать, что всего через несколько дней все эти задиристые петухи, облачившись в платье насаренос[392], или просто так, с величайшим благоговением последуют за пасо[393] Эсперансы или Младенца. По правде говоря, в Триане я чувствую себя не совсем дома. Возможно, потому что и теперь, двадцать один год спустя, помню категорический запрет родителей переходить на другой берег Гвадалквивира. Для таких чистокровных андалусцев, как мои мама с папой, здешние цыгане всегда были племенем, состоящим в родстве с дьяволом.
Затем с видом мирного обывателя Севильи, который привык жить в ладу с Богом и людьми, а потому со спокойной совестью готов встретить Святую неделю, я неторопливо иду вдоль Сан-Хасинто до Пахес-дель-Коро — его деревья для всех нас, и даже для бесстрашного Карлоса Лампаро являли собой непреодолимую границу. Я собирался повернуть налево, в сторону площади Кубы, а оттуда по мосту вернуться в Севилью (мне хотелось заскочить в гостиницу и немного привести себя в порядок перед свиданием с Марией). Стояла восхитительная погода. От нежной синевы неба и прозрачности воздуха на душе делалось так хорошо, что хотелось петь и всю душу переполняла удивительная радость жить на этом свете. Куда уж тут размышлять о смерти, о преступлениях и вообще обо всех уродствах и подлостях, существующих в нашем мире и в сердцах ближних! Что ни говори, а полицейским тоже случается думать точно так же, как и прочим смертным. И совершенно напрасно!
В Вашингтоне, да и в любом другом городе, выполняя задание и зная, что меня вознамерились убить, я бы непременно держал ухо востро. Многие уверены, что у нас есть какое-то шестое чувство, предупреждающее о близкой опасности. Чистой воды литература! Верно лишь, что мы настолько привыкли никогда не расслабляться, что, даже когда думаем о чем-то другом или мечтаем, подсознание продолжает бодрствовать за нас и вовремя подает сигнал тревоги. А нередко и быстрота реакции сбивает с толку — противник воображает, будто мы успели подготовиться. Полная ерунда. Просто привычка со временем становится второй натурой, и мы действуем автоматически. Кое-кто усматривает в этом невиданную способность быстро соображать, а на самом деле срабатывает самый обычный рефлекс. Но, очевидно, андалусский климат очень вреден для агентов ФБР, ибо лишь дикий вопль женщины на углу Корреа заставил меня инстинктивно отскочить и покатиться в сторону, так что капот летевшей прямо на меня машины успел задеть только полу пиджака. Автомобиль въехал на тротуар и ободрал крыло, влепившись в дерево, за которым я стоял. Прежде чем неловкий водитель дал задний ход и высвободил свою тачку из дерева, я подскочил к нему и распахнул дверцу. Лихач-давитель бросил на меня полный ненависти взгляд и продолжал возиться с переключателем. Но, видно, от злости или страха руки плохо повиновались. Воспользовавшись этим обстоятельством, я ухватил парня за шиворот и рванул к себе. Водитель попробовал было сопротивляться, но — не та весовая категория, а я в тот момент поднял бы с сиденья и молодца весом в центнер. Нас уже окружили прохожие и зеваки. К месту происшествия гимнастическим шагом приближался полицейский. Мой противник чувствовал, что проиграл партию, и, прекратив сопротивление, сдался.
— Ну, в чем дело? Несчастный случай может произойти с каждым, разве нет? — поглядев на меня, насмешливо хмыкнул он.
В ответ я изо всех сил съездил ему по физиономии. Нос под костяшками пальцев хрустнул, хлынула кровь, глаза закатились, и мой противник начал медленно оседать на землю. Я удержал его одной рукой, а второй, еще до того как успел вмешаться полицейский, привел личико парня в такое состояние, что он надолго сохранит воспоминания о нашей встрече. Кто-то из зевак восхищенно крикнул: «Оле!» — как на бое быков. Постовой, вцепившись в мои плечи, с трудом оторвал меня от противника.
— Вы что, хотите его прикончить? — задыхаясь, спросил он.
Я отпустил водилу, и тот упал на землю, как тряпичная кукла. Полицейский — еще совсем юный — побледнел от волнения. Он долго смотрел на раненого, которого кто-то из сердобольных зрителей пытался привести в чувство, и наконец дрожащим голосом сказал:
— Это вам дорого обойдется!
— Если бы ему удалось отправить меня к праотцам, это обошлось бы еще дороже!
Паренек буквально подскочил на месте.
— Он хотел убить вас?
Тут в разговор вмешалась женщина, чей крик, без всяких сомнений, спас мне жизнь.
— Верно-верно! Я все видела!
Все это совершенно превосходило и компетенцию, и умственные возможности бедняги полицейского. Поэтому он поднял на ноги уже потихоньку приходившую в себя мою жертву и устроил рядом с собой на заднем сиденье, а мне велел взять руль. Свидетельница устроилась возле меня, и так, всей компанией, мы поехали в комиссариат Пуресы, где господа полицейские, охраняющие покой в Триане, мирно дремали под сенью Санта-Анна.
В полицейском участке все заговорили разом, устроив невообразимый шум, так что местному комиссару пришлось установить спокойствие, заорав еще громче, чем все мы, вместе взятые. Постовой доложил, что видел лишь машину, стоявшую на Пахес-дель-Коро не слева, как положено, а справа, и кучку любопытных. Подойдя поближе, он разглядел, что какой-то тип с остервенением лупит другого. Но тут опять с величайшим пылом в разговор встряла женщина, видевшая развитие драмы с начала до конца, и полицейским волей-неволей пришлось ее выслушать. Свидетельница назвалась Кармен Муньос, прислугой у сеньора Гонсалеса-и-Паральта, живущего в доме на улице Падре Марчениа. Она возвращалась к себе на калле[394] Эвангелиста, закончив дневные труды, как вдруг с угла Пахес-дель-Коро заметила, как бульвар пересекла машина и помчалась прямо на вон того сеньора (Кармен Муньос кивнула в мою сторону), а он, бедняжка, шел себе спокойно, ни о чем не догадываясь. Ну вот, она и закричала изо всех сил и теперь благодарит Святую Деву, подающую Надежду, за то, что та помогла ей спасти христианина от верной гибели. Свидетельница в высшей степени одобряла трепку, которую я устроил этому шоферу, едва не отправившему человека в мир иной без покаяния. Начав говорить, сеньора Муньос никак не могла остановиться, и комиссару в конце концов пришлось стукнуть по столу, дабы остановить поток ее мстительного красноречия. В свою очередь водитель сказал, что его зовут Педро Эрнандес, определенных занятий он не имеет, а живет в верхней части улицы Кастилья. Машину он одолжил у приятеля. По словам Эрнандеса, внезапное недомогание помешало ему справиться с управлением. Парень якобы помнил лишь, что, теряя сознание, он хотел остановить машину, но вместо тормоза нажал, видимо, на акселератор. Эрнандес заявил еще, что глубоко сожалеет о происшествии и твердо намерен немедленно сходить к врачу — не только из-за нанесенных мной ран, но, главное, выяснить, не страдает ли он какой-нибудь болезнью, при которой категорически не рекомендуется водить машину. Комиссар живейшим образом посоветовал ему никогда больше не садиться за руль. Тем не менее наглец-водила заметил, что совершенно не понимает причин такого зверского избиения. При этом он с мерзкой ухмылкой поглядывал на меня — даром что нос распух, а глаза почти не открывались. Он-то отлично знал, что у меня нет и тени сомнений в намеренности покушения.
Со мной комиссар разговаривал особенно сурово. Поглядев на бумаги, он заметил, что я приобрел во Франции довольно странные привычки и, если моя жертва сочтет нужным подать жалобу (а он, комиссар, от души советует так и сделать), мне придется отвечать перед судом за тяжкие телесные повреждения. Однако, к величайшему удивлению полицейских, Педро Эрнандес отказался. Он заявил, что, вероятно, моя нервозность объясняется пережитым страхом, а потому согласен забыть об инциденте, если я оплачу ему лечение.
И что мне еще оставалось делать, кроме как поблагодарить? Заговори я о попытке убийства, никто бы мне не поверил, кроме, возможно, Кармен Муньос, но кто бы посчитался с ее мнением? Комиссара обуревали противоречивые чувства: с одной стороны, раздражение, что его побеспокоили просто так, с другой — он явно испытывал облегчение от того, что не надо заводить дело и возиться с лишними бумажками. Поэтому он ограничился коротким, но энергичным внушением, адресованным главным образом мне, и выпроводил нас из участка. Больше всех такой конец разочаровал милейшую Кармен Муньос — та уже видела себя героиней приключения, которое по крайней мере на несколько дней прославило бы ее на весь квартал.
На тротуаре мы с Эрнандесом остановились и молча поглядели друг другу в глаза. Наконец, уже садясь в машину, мой противник решился:
— Вам придется заплатить куда дороже, сеньор… Счетом от врача вы не отделаетесь…
— Кто тебе приказал меня сбить?
Парень пожал плечами и взялся за руль.
— Наслаждайтесь воздухом Севильи, сеньор, — бросил он, уже трогаясь с места. — Говорят, те, кто здесь умирает, особенно сожалеют, что никогда больше не увидят этого города!
Я с легкой тревогой думаю, что скажет обо мне Клиф Андерсон, когда я сообщу ему, что менее чем за сорок восемь часов дважды привлек к своей особе внимание полиции, хотя он строжайшим образом приказал мне действовать незаметно. Правда, это все же не моя вина, что меня пытались убить при всем честном народе. Вот только Клиф не слишком интересуется доводами логики, когда она противоречит его инструкциям.
Я, конечно, записал номер машины Эрнандеса, но пытаться разыскивать ее истинного владельца бесполезно. Лажолет не так наивен, чтобы дать одному из наемных убийц машину, по которой можно было бы добраться если не до него самого, то хоть до кого-то из его ближайшего окружения. А мелкая рыбешка меня не интересует. Я приехал в Севилью вовсе не для того, чтобы очистить ее от шантрапы, нет, для меня главное — обнаружить цепочку, по которой наркотики текут из Испании в Соединенные Штаты. И то, что меня так ожесточенно преследуют, даже не скрываясь, белым днем, на глазах изумленной публики, доказывает правоту Эскуариса. Похоже, Севилья и вправду занимает важное место в махинациях Лажолета, и, судя по тому, как он спешит со мной разделаться, мое присутствие здесь все более и более нежелательно. Почему? Надо думать, я приехал в самый неподходящий момент — в ближайшее время они собираются отправить груз по назначению и вовсе не жаждут, чтобы я стал свидетелем. В отличие от нападения в Ла Пальма то, что произошло на Пахес-дель-Коро, меня успокоило. Теперь я не сомневался, что накануне остался в живых отнюдь не по воле нападавшего, и, если Лажолет так спешит, значит, считает меня крайне опасным субъектом. Вот и все. С романтическими иллюзиями покончено, Пепе. Теперь придется держаться настороже двадцать четыре часа в сутки.
Скорее всего, я больше не увижу Эрнандеса, равно как и второго убийцу — наркомана с жуткими глазами. Надо полагать, в распоряжении Лажолета достаточно народу, чтобы подослать ко мне еще незнакомого бандита с приказом навсегда избавить Севилью от моего присутствия. Само собой, не очень-то веселенькая перспектива! Но, в конце концов, такая уж у меня работа. А кроме того, от судьбы все равно не уйдешь — чему быть, того не миновать. Два раза покушения сорвались, так почему бы не сорваться и третьему? Во всяком случае, народная мудрость — на моей стороне.
Решив пока ничего не предпринимать, я остановился передохнуть на площади Кубы. Когда-то, мальчишкой, я приходил сюда глазеть, как, пропуская грузы, открывается и закрывается проход по мосту Сан-Тельмо. Именно здесь я впервые понял, что мир простирается далеко за пределы пригородов Севильи, и аромат приключений защекотал мне ноздри. Скажи кто-нибудь тогда малышу Пепе, что он поедет в Америку, мальчуган расхохотался бы прямо в глаза, и однако двадцать лет спустя я вернулся из той самой Америки на площадь Кубы искать приключений в родном городе. Круг замкнулся.
Проходя мимо больницы Санта-Каридад на калле Темпрадо, я невольно подумал, что без вмешательства Кармен Муньос лежать бы мне сейчас тут, на больничной койке, а то и в морге. Ласковый прием блудного сына, ничего не скажешь! Рут и Алонсо будут долго потешаться, узнав, как тепло соотечественники встретили меня в родном городе!
Зато на площади Сан-Фернандо я вздохнул с облегчением — гостиница «Сесил-Ориент» стала для меня своего рода спасительной гаванью. Хотя бы в ближайшие несколько часов меня не потревожат ни убийцы, ни полиция. Увы, я ошибся, ибо первый, кого я увидел в холле, был комиссар Фернандес. По-моему, этот тип уж слишком навязчив. В первую минуту, надеясь, что, возможно, он меня не заметил, я почувствовал острое искушение удрать, но, судя по тому, как старательно комиссар отводил глаза, стало ясно, как тщетны мои надежды. А впрочем,
возможно, он явился сюда не из-за меня… И все же, когда я проходил мимо, Фернандес встал.
— Добрый вечер, сеньор Моралес…
— Добрый вечер, господин комиссар. Вы, случайно, не меня ждете?
— О, это далеко не случайность! Представьте себе, сеньор Моралес, ни один человек в Севилье сейчас не интересует меня больше, чем вы!
— Это что, комплимент?
— Честно говоря, не знаю…
Оба мы улыбаемся с самым любезным видом, но ни того, ни другого такая чисто внешняя вежливость нисколько не обманывает.
— Вы позволите угостить вас рюмкой хереса, сеньор комиссар?
— Я пришел сюда не затем, чтобы пить, сеньор Моралес.
— Правда?
Я вижу, как он стискивает зубы.
— Да, я хотел просить вас уделить мне немного времени, сеньор Моралес.
— Просить? Вы что же, пришли сюда как частное лицо?
— Совершенно верно, сеньор… и только от вас одного зависит, чтобы разговор не принял официального характера.
— И что я должен для этого сделать?
— Просто согласиться на мою просьбу.
Разумеется, я мог бы послать его ко всем чертям, но это значило бы нажить нового врага, и к тому же очень серьезного, а сейчас я чувствовал, что Фернандес еще не составил определенного мнения на мой счет. Я несколько нарочито поклонился.
— Я почту за честь, если вы согласитесь зайти ко мне в номер, сеньор комиссар.
Фернандес в тон мне отвешивает поклон.
— О, напротив, сеньор Моралес, это я почту за честь сопровождать вас.
В номере он с той же изысканной вежливостью спрашивает разрешения закурить сигару и, опустившись в кресло, вкрадчиво говорит:
— Я позволил себе побеспокоить вас здесь, сеньор Моралес, только потому, что мне стало известно о происшествии в Триане…
— Да, я и в самом деле едва не попал в серьезную аварию.
— Вам ужасно не везет… Вчера на вас напали, а сегодня чуть не сбила машина… Две попытки убийства за столь короткий срок — это уж слишком. Вы не находите?
Я немного принужденно смеюсь.
— Ну, в Триане произошел обыкновенный несчастный случай…
— Однако полицейскому, который помешал вам добить неловкого водителя, вы дали совсем другое объяснение. Так ведь?
— Не стоит преувеличивать, господин комиссар! Я готов признать, что вел себя слишком грубо, хотя и сам не понимаю почему…
— О, об этом нетрудно догадаться, сеньор!.. Просто вы отлично поняли, что вас в очередной раз хотели прикончить.
Фернандес помолчал, но я благоразумно воздержался от возражений.
— Так кто же так упорно стремится лишить вас жизни, сеньор Моралес? — продолжал полицейский. — И… почему?
Этот Фернандес становится все обременительнее. И как убедить его оставить меня в покое?
— Не сердитесь на меня, сеньор комиссар, но, по-моему, вы несколько сгущаете краски. В Ла Пальма мне хотел обчистить карманы самый обыкновенный вор, а только что — я просто чуть не попал под машину человека, который за рулем потерял сознание. Обычная невезуха… Неприятно, конечно, но это еще не трагедия.
— Кстати, о невезухе… вас ведь вполне могли бы обвинить в убийстве.
— Меня?
— Кажется, вы колотили этого… больного с невиданной жестокостью. А ведь водителю стало плохо… вероятно, у него слабое сердце… Удивительно, как это вы не убили его с первого удара! Вы не согласны со мной?
— Боже мой! Если вдуматься…
— В таком случае, сеньор, вам придется признать, что никакого приступа у водителя не было и он просто-напросто хотел вас убить.
Мы оба помолчали. Я плохо представлял себе, что можно возразить, а комиссар чувствовал, что загнал меня в угол. Право же, этот Фернандес почти пугал меня, но я невольно проникался к нему симпатией. Очень люблю умных и честных полицейских. Но мне ничего другого не оставалось, как прикинуться дурачком.
— Да, конечно… если посмотреть на дело под таким углом зрения… А знаете, сеньор комиссар, вы меня всерьез встревожили!
Он взглянул на меня с такой иронией, что я невольно покраснел. А комиссар, словно не заметив моих слов, спросил:
— И теперь, когда вы поняли, как обстоит дело, надо думать, подадите жалобу?
Вот жучина! Нет, такой ни за что не оставит меня в покое.
— Я уже говорил вам, сеньор комиссар, что не хочу связываться с испанским правосудием. Я приехал в Севилью не затем, чтобы создавать вам лишние трудности.
— Ах да, верно, прошу прощения. Я запамятовал о благотворном влиянии Святой недели… Вы и представить себе не можете, сеньор Моралес, как я счастлив видеть, что ваше редкостное благочестие утихомиривает страсти! Ведь ваша жертва там, в Триане, тоже не пожелала жаловаться! Узнай об этом господин архиепископ Севильский, он бы гордился вами. Но я не священник, а потому не склонен верить, будто небо имеет хоть какое-то влияние на души преступников… А кроме того, я, как ни странно, знаю Педро Эрнандеса.
— Да?
— Очень опасный тип… Позвольте заметить, сеньор Моралес, у вас престранные знакомые…
— Знакомые? Это уж слишком! Я, что ли, искал с ними встречи?
— Согласен, но… зато они искали встречи с вами. Следовательно, вы их интересуете. А почему?
— Буду рад, если вы сумеете мне это объяснить.
Фернандес с большим достоинством встал.
— Положитесь на меня, сеньор, я сделаю все возможное, чтобы удовлетворить ваше любопытство.
Он пристально поглядел мне в глаза.
— Педро Эрнандес — торговец наркотиками, а я ненавижу тех, кто так или иначе связан с наркотиками, откуда бы эти люди ни приехали. Слышите, сеньор Моралес? Не-на-ви-жу! — отчеканил комиссар.
— И вы совершенно правы, но я не понимаю, почему…
— О, разумеется! Моя ненависть продиктована тем, что эти люди опасны для общества, но в конце концов мне всегда удается их обезвредить. Спокойной ночи, сеньор Моралес.
И полицейский вышел так быстро, что я даже не успел его проводить. Да, видать, этот Фернандес здорово осложнит мне работу… Решительно, я добиваюсь все более выдающихся успехов! Мало того, что сразу же привлек внимание полиции, теперь еще вывел ее на след торговцев наркотиками! Можно не сомневаться, что, узнав об этом, Клиф Андерсон быстро прервет мой андалусский отпуск. Разве что Лажолет первым поставит точку на моем путешествии.
Мария дель Дульсе Номбре работала в «Агнце Спасителя» на площади Куна, довольно крупном магазине, специализировавшемся на торговле готовым платьем, но продававшем и просто ткани. Я приехал немного раньше и, делая вид, будто разглядываю витрины, пытался сквозь стекло увидеть девушку. Само собой, я вел себя как школьник, но не испытывал при этом ни тени раскаянья, лишь воспоминание о Рут еще вызывало легкую тоску. Хотя, если хорошенько подумать, больно мне было не оттого, что исчезла романтическая привязанность к жене Алонсо, нет, просто я прощался с юностью, которую она символизировала. Там, на берегах Потомака, я мог бы поклясться, что на свете нет ничего прекраснее белокурых волос и бело-розовой кожи; но здесь, на берегу Гвадалквивира, ко мне вернулись прежние, естественные склонности, и я с радостью признал в глубине души, что позолоченная андалусским солнцем кожа севильянки куда милее и ближе сердцу.
— Я вижу, вы приехали заблаговременно, сеньор?
Я резко обернулся. Хуан. Он не улыбался и явно следил за моей реакцией.
— Я плохо помнил, во сколько мне назначили встречу… Но вы-то какими судьбами оказались здесь так рано?
Он пожал плечами.
— О, я целыми днями брожу по Куне, Сьерпес, Альварес Кинтеро и Тетуану… Мария появится не раньше, чем через полчаса…
— Ну, значит, мы вполне успеем промочить горло.
В самом низу Сьерпес, у Кампаны, есть небольшой тупичок. Туда, в старинное кафе тореро, я и повел Хуана. Мы сели за столик, и я заказал мансанилыо и тапас[395]. Судя по всему, я не вызывал у парня особого доверия. Надеясь умаслить Хуана, я сказал, как завидую ему, что он остался в Севилье, и как жалею, что уехал из родного города. Хуан хмуро выслушал мои излияния, не проронив ни слова. Упоминать о его сестре я не рискнул, но парень сам завел разговор на эту тему.
— Сеньор Моралес, почему вы решили пригласить нас с сестрой ужинать?
— Потому что это доставит мне большое удовольствие.
Ответ сбил Хуана с толку. Он явно не ожидал такой прямоты.
— Я не понимаю, что вы имеете в виду, сеньор, — честно признался он.
Мне пришлось рассказать, с каким волнением я снова увидел Севилью, Ла Пальма и дом, где когда-то жил. Я напомнил, что очень любил его отца, и поклялся, что Пако, увидев нас всех вместе, был бы безумно счастлив. Удар попал в цель. Как все андалусцы, Хуан немедленно складывал оружие, как только противник призывал на помощь небо и тени усопших.
— А я-то воображал, будто у вас дурные намерения насчет моей сестры… И мне это ужасно не понравилось!
Я возразил с тем большим жаром, что ничуть не лукавил. Мария, бесспорно, не из тех, кто согласится стать подружкой на час. Эти слова его тронули, и парень пробормотал, что сестра для него — все на свете. Конечно, он хочет, чтобы Мария нашла хорошего мужа, и, желательно, богатого. Тогда они наконец покончат с нуждой, терзающей обоих с самого раннего детства, но, по правде говоря, даже не представлял себе, что станется с ним самим без сестры.
Выходя из кафе на встречу с Марией, оба мы были настроены на самый дружелюбный лад. Из сбивчивых объяснений и уклончивых ответов Хуана я понял, что большую часть своих более чем случайных заработков парень извлекает из мелких операций на черном рынке или оказывая небольшие услуги всяким важным шишкам (правда, он старательно воздерживался от уточнений и не стал объяснять, к какому кругу принадлежат его клиенты). Сообразительный, энергичный и ловкий, Хуан казался типичным андалусцем тех времен, когда футбол еще не начал вытеснять из сердец юношей страсти к тавромахии и каждый юнец просто не мог мечтать ни о чем другом, как о судьбе тореро. Если мне понадобится помощник, пожалуй, лучшего не найдешь.
Не успели мы подойти к «Божьему агнцу», как появилась Мария. Девушка очень обрадовалась, увидев нас вместе. И я повел их ужинать в ресторан «Кристина» в парке того же названия. Еще ни разу в жизни молодые люди не видели такой роскоши. Сначала они держались немного скованно, чувствуя, что их бедная одежда не очень гармонирует с окружающей средой и может вызвать насмешливое любопытство, но мало-помалу риохийское вино сняло напряжение, и мои спутники снова превратились в жизнерадостных детей, а я провел в их обществе один из лучших вечеров в жизни.
Потом я проводил новых друзей в Ла Пальма. Я уже называл обоих по имени, а они, из уважения к возрасту, величали меня доном Хосе. Наконец, оставшись один и вдыхая полной грудью теплый и пронизанный светом ночной воздух, я всеми фибрами души почувствовал себя частицей этой страны, этого города. Мудрость и осторожность требовали поискать такси, а не тащиться на площадь Сан-Фернандо пешком, давая таким образом наемникам Лажолета новую возможность расправиться со мной. Но честь севильянца не позволяла допустить, чтобы какой-то выходец из Канады навязывал свои законы здесь, у меня дома. И я лишь снова пожалел, что приехал безоружным, а потом, напевая «Эль Эмигранте», песню, которую нам только что играли в «Кристине», направился в сторону крытого рынка. Там я почуял первый сигнал тревоги: при моем приближении две тени скользнули под портик благоухающего специями здания. Я замедлил шаг и вышел на середину улицы. Но те, кого я принял за врагов, были просто влюбленными и сами испугались, что идет полицейский. Избегая старинных улочек, ведущих к церкви Спасителя, я пошел вдоль Лараны, спустился в Кампану и вышел на Сьерпес, оттуда — на площадь Сан-Франциско и, миновав ратушу, оказался на площади Сан-Фернандо. Так я благополучно достиг безопасного порта.
Страстная среда
Разбудил меня громкий стук в дверь. Из осторожности я сначала спросил, кто это, и, лишь узнав, что на мое имя пришла телеграмма, решился приоткрыть дверь. Я твердо решил впредь постоянно держаться настороже и больше не попадать впросак. На телеграмме стояла подпись моего парижского «патрона», но лаконизм сообщения выдавал манеру Клифа Андерсона: «Испания. Севилья. Гостиница «Сесил-Ориент». Моралесу. — Продолжайте искать клиента. — Посылаем новые образцы товара. — Бижар». Самое скверное в посланиях Клифа — то, что он слишком любит сжатый слог, и нисколько не заботится, поймут его или нет. Ну что означают эти «новые образцы»? Разумеется, человек посторонний (не важно, враг или просто равнодушный), прочитав такую телеграмму, не почерпнет никаких полезных для себя сведений. Беда лишь, что и адресат обычно оказывается в подобном положении, а это уже гораздо неприятнее. Правда, для меня сейчас имело значение только одно: Клиф не отзывает меня обратно, в Вашингтон. Ну а насчет остального: поживем — увидим. Начав бриться, я невольно рассмеялся. Ну что за прелесть этот Андерсон! «Продолжайте искать клиента»! А, каково? Только на сей раз у меня такое ощущение, что, вопреки всем правилам торговли, сами клиенты ищут меня…
В любом уголке света я вряд ли бы согласился играть роль затравленной мыши, за которой охотится целая стая котов. Ощущение временной беспомощности и вполне естественного страха испортили бы мне цвет лица и заставили взирать на будущее в довольно мрачном свете. Но в Севилье мне было наплевать и на Лажолета, и на его убийц, и на мерзкий характер Андерсона, и на ребусы, которые он посылает мне через Париж. Главное — я в Севилье, и стоит восхитительная погода. А еще — у меня свидание с Марией дель Дульсе Номбре. Все остальное не имеет значения.
А о встрече я договорился вчера в «Кристине», воспользовавшись тем, что Хуан на минутку отлучился и оставил нас вдвоем.
— Мария… Я бы очень хотел увидеться с вами завтра… но наедине…
Девушка покраснела до корней волос.
— Дон Хосе!
— Я хочу сказать вам кое-что важное…
— Разве вы не можете сделать это при моем брате?
На мгновение я растерялся, не понимая, то ли она действительно дурочка, то ли прикидывается, но, должно быть, у меня был такой ошарашенный вид, что Мария рассмеялась.
— Я догадываюсь, что во Франции женщины куда свободнее, чем у нас… Здесь, дон Хосе, девушки не встречаются наедине с едва знакомыми мужчинами…
— То есть как это «едва знакомыми»? Да мы увиделись впервые больше двадцати лет назад!
Мария снова рассмеялась.
— Честно говоря, об этом я не подумала!.. Но что, если узнает Хуан?
— Не узнает.
— Мне не хотелось бы его обманывать.
— Молчание — вовсе не обман.
Хуан уже возвращался, но, чтобы добраться до нашего столика, ему надо было перейти через весь зал.
— Вот он! Решайтесь же, Мария…
Девушка, еще немного поколебавшись, потупила глаза.
— В два часа я пойду смотреть на пасо Девы Армагурской…
Да, только в Испании девушки назначают свидание в церкви!
Я проснулся очень поздно, вновь обретя привычки типичного андалусца. Здесь не любят обременять себя строгим расписанием. Поэтому, когда я вышел из «Сесил-Ориента», было уже заполдень. Для начала я решил выпить аперитив в кафе на углу улиц Веласкеса и Караваса. Официант принес мне рюмку хереса и две креветки под майонезом и оставил размышлять о том, в каком незавидном положении я оказался. Во-первых, я по-прежнему даже не представлял, каким образом добраться до Лажолета, так что проще всего, пожалуй, было подождать нового нападения и попытаться поймать очередного убийцу. А уж потом я так или иначе заставлю его говорить. Но как и где? Во-вторых, ситуацию осложняли подозрения Фернандеса — тот явно принимал меня за какого-нибудь короля наркобизнеса и ждал малейшей оплошности, чтобы застукать с поличным. Кроме того, не стоило забывать о Марии и Хуане. Имел ли я право впутывать их в свои приключения? Я никогда не прощу себе, если Лажолету вздумается в пику мне навредить этим двум несчастным. Но, с другой стороны, у меня не хватало мужества отказаться от Марии. Нечего и пытаться себя обманывать — я полюбил Марию дель Дульсе Номбре. В конце концов, Рут уже устроила свою жизнь, так почему бы и мне не сделать то же самое? Но согласится ли Мария поехать со мной в Штаты? Как она расстанется с братом? Честно говоря, я плохо представлял Хуана в Вашингтоне, где ужасно не любят легкомысленного отношения к жизни. Положа руку на сердце, лучше бы Клиф меня отозвал — так было бы лучше для всех.
В кафе стоял невообразимый шум. Севильцы не умеют говорить вполголоса. Прислушавшись, я разобрал, что речь идет о первой корриде года, той, что назначена на Пасхальное воскресенье, хотя знатоки никогда не придают ей особого значения, ибо настоящие мастера выходят на арену Маэстрансы лишь позже, в дни Ферии[396]. Стоит прикрыть глаза — и я как будто слышу голос старого Пако, посвящавшего меня в тайную прелесть «вероник» и «натурелл»[397] или толковавшего о величии «momento de verdad»[398], когда матадор готовится убить быка или умереть. Стараясь стряхнуть чары, опутавшие меня с той минуты, как я вернулся в Севилью, я пробрался сквозь толпу афисьонадос[399] и пошел умыть лицо. Но, вернувшись за столик, обнаружил засунутую под рамку записку. Даже не читая, я заранее знал ее содержание. Прикинувшись, будто разворачиваю бумажку, я резко обернулся, следя за реакцией посетителей кабачка, надеясь уловить пристальный взгляд или, наоборот, подчеркнуто равнодушный. Напрасная затея. Никто не проявлял ко мне ни малейшего интереса. Я прочитал записку: «Для вас самое лучшее — вернуться в Вашингтон ближайшим самолетом, сеньор Моралес, и спокойно сидеть у себя в кабинете в ФБР. В противном случае вы рискуете остаться в Севилье».
Красноречивее — некуда. Как ни странно, мне вдруг полегчало. Паршивее всего — что на столе лишь мои карты, и гораздо больше любых угроз меня волновало, каким образом Лажолет получил обо мне настолько точные сведения. Парижское «прикрытие» не сработало, и я вполне мог теперь впрямую позвонить Клифу Андерсону. Я очнулся от раздумий, лишь когда из-за соседнего столика поднялся какой-то толстяк и громко крикнул: «Va son las dos menos cuarte!»[400] Значит, до свидания с Марией — всего пятнадцать минут, и я поспешил в Ла Пальма.
В церкви Иоанна Крестителя, несмотря на дневной час, собралось немало народу. Лихорадка Святой недели уже охватила наиболее ревностных верующих, и члены братства Армагурской Девы суетились возле двух пасос, заблаговременно извлеченных из хранилища. Скоро на них набросят покровы, поставят канделябры, разложат цветы и, главное, водрузят на первую — статуи Армагурской Девы и Иоанна Крестителя, а на другую — Иисуса, римского легионера, двух фарисеев-лжесвидетелей и, наконец, Ирода. Мария дель Дульсе Номбре преклонила колени перед изображением своей святой покровительницы и, видимо, любовалась складками одеяния отлитой из серебра статуи. Я видел девушку в профиль, и глубокое благочестие, написанное на лице Марии, тронуло меня едва ли не больше ее красоты. И как я мог надеяться, что она покинет ради меня родной город? Если честно, я плохо представлял себе Марию на улицах Вашингтона. Разве долг не повелевал мне потихоньку уйти и больше никогда не встречаться с девушкой? Мария создана для жизни в Севилье, а я теперь не мог приехать в этот город иначе чем туристом или по заданию начальства, но последнее было очень маловероятно. Заранее печалясь о разлуке, я уже хотел незаметно выскользнуть из церкви, но Мария обернулась и с улыбкой посмотрела на меня. Значит, так суждено. Девушка встала, подошла ко мне, и мы вместе вышли на Ла Пальма.
Марию отпустили до четырех часов, когда магазин открывался после перерыва. Мы, не сговариваясь, пошли прочь от квартала, где девушку хорошо знали, и повернули к северной части города. Мы шли быстрым шагом, словно чувствуя себя немного виноватыми и даже не догадываясь, что излишняя торопливость только привлекает внимание прохожих. Я молчал, поскольку мысли мои еще занимала проблема слишком рано раскрытого инкогнито. Марию моя внезапная немота, видимо, несколько удивила, и она первой завела разговор, когда мы проходили мимо дворца герцога Альбы.
— И какую же важную новость вы хотели мне рассказать, дон Хосе?
— Право же, не знаю, стоит ли теперь об этом толковать…
Девушка слегка замедлила шаг и кротко взглянула на меня.
— Предоставьте судить об этом мне, дон Хосе…
Боже, ну что мне оставалось делать? Я ужасно смутился.
— Ну так вот… Понимаете, Мария, не стоит на меня сердиться, если я… короче, немного подзабыл андалусские обычаи. Я ведь приехал из страны, где на такие вещи обращают очень мало внимания…
— Знаю… Падре не устает повторять, что Франция давно лишилась и морали, и религии…
— Франция? Ах да!.. Но, вообще-то, он преувеличивает… Во Франции, как и везде, есть порядочные юноши и девушки, которые искренне любят друг друга и очень счастливы вместе.
Я снова умолк, словно язык проглотил. Видел бы меня сейчас Алонсо! И вдруг я заметил, как за угол дома на улице Доньи Марии юркнула какая-то тень. Мне показалось, что я узнал Хуана.
— Мария, вы не говорили брату о нашей встрече?
— Я бы никогда не посмела!
— Послушайте, Мария, с моей стороны, наверное, очень смешно вести себя как мальчишка… но вот в чем дело… С тех пор как увидел вас, я уверен, что холостая жизнь — ужасная глупость. Для меня вы — олицетворение всего, что я с детства любил, а потом считал навсегда потерянным. Вы не рассердитесь, если я скажу, что люблю вас, Мария?
— Но, по-моему, вы это уже сделали, дон Хосе?
Мы оба рассмеялись, и на душе у меня посветлело.
— Я уверена, что вы говорили совершенно искренне, дон Хосе, — вдруг посерьезнев, заметила Мария. — Иначе это было бы слишком грустно и слишком гадко. Возможно, из-за отца и вообще из-за прошлого я сразу поверила вам. Однако от этого — до любви…
Разумеется, это было бы слишком прекрасно. Я решил великодушно избавить ее от утешительных речей.
— Ладно, Мария, ничего страшного, забудем об этом… Я все отлично понял. Я свалился как снег на голову, и вы, конечно, уже давным-давно успели устроить свою жизнь…
— Если вы имеете в виду, что я собираюсь замуж за другого, то ошибаетесь. Я еще не встречала человека, которого могла бы полюбить. Только любовь — это очень серьезно… Семья, дети… и еще надо всю жизнь прожить рядом, не расставаясь… Да, дон Хосе, это очень серьезно…
Короче, мне оставалось убедить ее, что из меня получится неплохой муж, и небо как будто еще больше прояснилось.
Мы заглянули в маленькое кафе на улице Гонсалеса Куадрадо и отведали паэллы[401], собственноручно приготовленной хозяйкой, уроженкой Мурсии. До возвращения в Куну у нас еще оставалось время, и я повел Марию в Аламеда-де-Эркулес[402]. Там мы сидели на лавочке, держась за руки, и это доказывало, что мои дела продвигаются в нужном направлении. В ресторане, доев апельсин, Мария призналась, что тоже любит меня. Я должен бы быть вне себя от счастья, но самое трудное еще оставалось сказать. Как она отнесется к тому, что я агент ФБР и живу в Америке? Я боялся, что это окажется для нее слишком сильным потрясением. В Штатах мы бы сразу поцеловались, дали клятву в вечной любви и, не мешкая, назначили день свадьбы. Здесь все происходило иначе, и, вне всяких сомнений, немало воды утечет под мостами Гвадалквивира, пока я получу разрешение обнять Марию. Как и в любом уголке земного шара, в такой чудесный солнечный день мамаши болтали на лавочках и вязали, время от времени поглядывая на стайку визжащих малышей. Мария с умилением созерцала эту сценку. Возможно, она уже представляла, как выйдет гулять с малышом Хосе или крошкой Марией. Девушка прижалась ко мне, но почти незаметно, чтобы не привлекать внимания стражей порядка, ибо в Севилье они строже, чем где бы то ни было, следят за благонравием и не привыкли шутить на сей счет.
— Вы любите детей, дон Хосе?
— Это зависит от того, кто их мать…
Тема показалась мне настолько скользкой, что я предпочел отделаться тяжеловесной шуткой. А Мария, вдруг очнувшись от грез о будущем материнстве, тихо спросила:
— Между прочим, дон Хосе, я, кажется, имею довольно смутное представление о том, чем вы занимаетесь. Вы торговый представитель, да?
— Угу.
— А что выпускает ваша фирма?
— В основном лекарства.
— И нам, конечно, придется жить в Париже?
Мы подошли к самому деликатному вопросу.
— И вы согласитесь покинуть Севилью?
— Жена должна следовать за мужем, дон Хосе, но вы ведь понимаете, что я не могу бросить Хуана, пока он не женится. Что он будет делать один, если я уеду так далеко?
Далеко… Это Париж-то? Что же она тогда скажет о Вашингтоне? Дело оборачивалось совсем скверно… Господи, до чего же скверно!.. А Мария решила, что я не могу выдавить из себя ни слова от разочарования.
— Я заменила ему мать… — извиняющимся тоном проговорила девушка. — И, боюсь, оставив брата на произвол судьбы, навлеку на нас обоих несчастье.
Ну что я мог ответить? А Мария робко продолжала:
— Разве что… мы возьмем его с собой…
— Разумеется.
От Марии не ускользнуло, что перспектива не вызвала у меня особого восторга.
— Знаете, — продолжала настаивать она, — я не сомневаюсь, что, займись Хуаном настоящий мужчина, которому он доверяет, из мальчика непременно вышел бы толк.
Несколько проходивших мимо детишек замерли, разглядывая меня.
— Американец… — уверенно объяснил остальным один из них.
Мария рассмеялась.
— Надо же, они приняли вас за американца!
Я расплылся в идиотской улыбке. В самом деле, не мог же я сказать, что дети чертовски проницательны и дадут сто очков вперед любому взрослому.
— Ну, не хватало только, чтобы они начали клянчить у вас жвачку!
Марию поведение малышей явно забавляло, но те затеяли какую-то игру и побежали дальше.
— Знал бы — непременно купил бы для них немного жвачки… Нельзя разочаровывать детей.
— Дон Хосе… Мои хозяева, Персели… я им говорила о вас… Так вот, оба очень хотят с вами познакомиться… Я ведь уже рассказывала вам, что старики относятся ко мне, как к дочери. Так, может, вы согласились бы поужинать у них завтра?
— А почему бы и нет?
— Персели, видимо, догадались, что… вы мне… не безразличны… Так что готовьтесь к трудному экзамену.
— Постараюсь блеснуть и стать желанным гостем!
К нам подошел мальчонка лет десяти с живым, сообразительным взглядом.
— Должно быть, в окрестностях уже распространился слух, что тут, на Аламеде, сидит американец, — предупредила меня Мария. — И вот — первый посетитель…
Мальчик, стоя совсем рядом, явно колебался, и моя спутница поспешила на помощь:
— Чего ты хочешь?
Но малыш, не пожелав снизойти до разговора с женщиной, по-прежнему смотрел на меня.
— Сеньор, вы американец? — спросил он.
Я, в свою очередь, рассмеялся.
— Да, кабальеро, да. Que quiere usted?[403]
Мальчуган протянул мне бумагу.
— Para usted, senor…[404]
Я машинально взял записку, а малыш удрал, прежде чем я успел опомниться от удивления.
— Что это значит, дон Хосе? — спросила не менее меня изумленная Мария.
Я, кажется, догадывался. Неужто они так и ходят за мной по пятам?
— Вы не хотите прочитать, что там написано?
Пришлось читать: «Было бы очень жаль, если бы ваша очаровательная подруга пострадала из-за истории, которая не имеет к ней ни малейшего отношения, правда? Лучше увезите ее поскорее в Вашингтон». Этого следовало ожидать: для них любые средства хороши, лишь бы заставить меня сдаться.
— Вы сердитесь, дон Хосе?
Мягко сказано. Я просто задыхался от ярости! Подумать только, что я даже не заметил слежки!.. Пепе, друг мой, тебе самое время взять себя в руки, если не хочешь сложить голову на берегах Гвадалквивира!.. Надо думать, эти мерзавцы крайне невысокого мнения об агентах ФБР! И все же мне казалось, что, увяжись за мной Эрнандес или тот наркоман, я бы их непременно заметил. Впрочем, уж кого-кого, а подручных у Лажолета наверняка хватает. Но почему я сразу же вспомнил о фигуре, метнувшейся за угол на улице Доньи Марии?.. Возможно ли, чтобы Хуан… Но тогда все объяснялось бы удивительно просто. Мария послужила приманкой, и… Однако во мне все возмущалось против дикого предположения, будто Мария могла быть заодно с бандитами. Если она им и помогла, то, несомненно, даже не подозревая об этом.
— Дон Хосе…
Я вздрогнул. Девушка смотрела на меня, и в глазах ее читалась тревога.
— Вы не хотите рассказать мне…
Вместо объяснений я протянул ей записку. Какое значение это имело теперь? Задание я все равно уже провалил… Пусть уж лучше знает, чем я занимаюсь, от меня, а не от посторонних. Мария вернула мне бумагу.
— Я не понимаю… Кто вам это послал? И потом, Вашингтон… это ведь в Америке, правда? Но причем тут Америка?
Мария вскинула брови, и по ее сосредоточенному лицу я почувствовал, что девушка мучительно пытается разрешить необъяснимую загадку.
— И этот малыш только что… он назвал вас «сеньором американо»… Почему?
Ну, тут я и выложил все и о своей работе, и о задании, и о том, что живу в Вашингтоне. Ни слова не сказал я лишь о Рут и Алонсо, да и то из опасения, что Мария могла сразу угадать истинный характер наших отношений. И кроме того, я всегда успел бы в двух словах рассказать о Муакилах, согласись девушка поехать со мной. Но пока она слушала, не говоря ни слова. И даже когда я закончил исповедь, Мария продолжала хранить молчание. И мне оставалось лишь ждать, я понимал, что добавить больше нечего. Именно сейчас решалась наша судьба. Я знал, что через несколько минут мы уйдем из Аламеда-де-Эркулес и либо расстанемся навсегда, либо нас уже ничто не разлучит. Я бы солгал, сказав, будто мое сердце не забилось сильнее в тот миг, когда Мария наконец заговорила.
— Вы хорошо сделали, доверившись мне, Хосе…
Я мгновенно заметил, что из обращения исчезло церемонное «дон», и внутренне возликовал.
— …и я горжусь вами.
Несмотря на всевозможных стражей порядка, всегда готовых появиться в самый неподходящий момент, я чуть не обнял Марию и не расцеловал на глазах у прохожих.
— Но вам надо вести себя очень осторожно, Хосе!
Я с восторгом обещал неукоснительно следовать мудрому совету и тут же поспешил обратить волнение девушки в свою пользу, хотя, вообще-то, это не слишком честно.
— А как насчет Вашингтона, Мария? Вы бы согласились поехать со мной так далеко?
— Америка…
Девушка скорее выдохнула, чем произнесла это слово, и я почувствовал, что для нее само упоминание о Соединенных Штатах значило невероятно много. Мария как будто открывала дверцу в волшебную страну. И я поклялся себе сделать все возможное, чтобы она как можно дольше сохранила детские иллюзии.
— Если бы не Хуан…
— Ну, коли он мог бы отправиться с нами в Париж, то почему не в Вашингтон?
Девушка захлопала в ладоши.
— О, это было бы просто великолепно!
Я не стал объяснять, что, прежде чем оплатить такое путешествие ее братцу, хорошенько поговорю с ним по душам.
Мария, которую я привел обратно, в «Агнец Спасителя», разительно отличалась от девушки, назначившей мне свидание в церкви Сан-Хуан де Ла Пальма. Того, что, быть может, принесли бы мне долгие и долгие часы ухаживания по строгому, раз и навсегда установленному ритуалу, я добился всего за несколько секунд благодаря тому, что нас соединяла теперь важная тайна. Мария тревожилась за меня и всей душой хотела помочь. Она полюбила меня, я полюбил ее, она станет моей женой, и мы вместе уедем жить в Штаты. А потому моя победа в личном плане выглядела столь же полной, как поражение — в профессиональном. Любовь Марии заставляла меня еще больше дорожить жизнью, а потому, если раньше я не испытывал особой симпатии к Лажолету (как, впрочем, и ко всем наркобандитам, с какими мне за долгие годы приходилось иметь дело), то сейчас я его просто возненавидел как возможное — да еще какое! — препятствие моему счастью! Пообещав прийти к закрытию магазина, я распрощался с той, кого уже считал невестой, и двинулся в сторону Ла Пальма в надежде найти Хуана.
Я все более проникался уверенностью, что на улице Доньи Марии заметил именно его. Значит, брат Марии следил за нами. А отсюда до предположения, что Хуан тоже служит Лажолету, — всего один шаг, и я не преминул его сделать. В конце концов, не исключено, что тогда, на лестнице, на меня напал Хуан, а тот наркаш просто наблюдал, как обернется дело. Я не сомневался, что достаточно хорошо изучил характер Марии и, представив бесспорное доказательство вины Хуана, смог бы без труда убедить девушку оставить его в Севилье. И это доказательство я твердо решил выложить.
Опасаясь любопытных взглядов, я осторожно двигался вдоль стены. Хорошо бы незаметно пробраться в квартиру Марии и ее брата. Окажись Хуан дома — тем лучше, мы бы сразу объяснились начистоту, а нет — так я мог и подождать и заодно малость покопаться в его вещах. Вдруг мне удалось бы найти какую-нибудь записку и наконец выйти на след тех, кого я во что бы то ни стало должен был поймать. Мне уже порядком осточертело изображать двуногую мишень. Главное — чтобы никто не заметил, как я иду к Альгинам, иначе Хуана могли бы предупредить, а я люблю заставать людей врасплох. Больше всего я опасался толстухи Долорес и ее несколько навязчивой словоохотливости. Но на сей раз мне повезло. Как раз в тот момент, когда я собирался покинуть спасительную тень, Долорес с корзиной в руке вышла из дома, в который мне так хотелось проникнуть. Я дал ей уйти подальше и быстро скользнул под узкий козырек крыльца. Некоторое время я стоял неподвижно, прислушиваясь к каждому шороху в патио. Наконец, решив, что все звуки достаточно приглушены и вряд ли могут доноситься из окон, обращенных во дворик, я рискнул и в два прыжка оказался на лестнице, где в прошлый раз меня ждал такой неприятный прием. Немного отдышавшись, чтобы не пыхтеть, я начал медленно подниматься по лестнице — в таких случаях шуметь не рекомендуется. Из-за дверей доносились то женский смех, то крики детей, то стук молотка. Никто в доме явно не догадывался, что по шатким ступенькам карабкается агент ФБР. Самый паршивый момент наступил, когда я подошел к запертой двери Альгинов и вытащил отмычку, — застукай меня кто-нибудь из соседей с таким инструментом в руках, непременно во всю глотку заорал бы: «Держи вора!» К счастью, замок был из тех, что даже начинающий взломщик открыл бы без труда. Правда, дверь тихонько заскрипела, но я быстро нырнул в квартиру, закрылся изнутри и снова прислушался. Тихо. Похоже, мое появление не нарушило привычного течения жизни старого дома. Незваного гостя никто не заметил, и я вошел в комнату Хуана. Разумеется, я понятия не имел, что потертый коврик у кровати — не столько украшение, сколько необходимость — он прикрывал дырку в полу, а потому споткнулся и, чуть не растянувшись во весь рост, выругался. И однако это спасло мне жизнь, потому что нож, брошенный умелой рукой, вонзился в дверцу шкафа, лишь оцарапав мне щеку. Представив, что еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и он точно так же дрожал бы у меня в затылке, я невольно содрогнулся. Тем не менее я успел быстро повернуться и встретить уже летевшего на меня Хуана лицом к лицу. Я не очень силен, зато гибок и подвижен. Сначала я лишь парировал удары, выжидая удобного случая скрутить мальчишку, настолько обнаглевшего, что решился поднять руку не на кого-нибудь, а на агента ФБР (уж простите за самомнение!). Хуан имел глупость слегка откинуть голову, намереваясь плюнуть мне в лицо. Ох уж этот вечный романтизм… И я стукнул парня ребром ладони по горлу. Он широко открыл рот, словно вытащенная из воды рыба. Я мог бы прикончить его на месте, но вовсе не хотел смертоубийства, а потому простым захватом отшвырнул на кровать — пусть полежит и отдышится. Но парень оказался не робкого десятка. Едва упав, он подобрал ноги и приготовился снова прыгнуть на меня. Вот бешеный! Пришлось оттолкнуть его, ударив в грудь.
— Успокойся, Хуан, а то я и в самом деле сделаю тебе больно… Меня давным-давно обучили убивать ближних, а я был на редкость прилежным учеником. — Парень, все еще задыхаясь, стал осыпать меня бранью. Я пожал плечами. — Но, в отличие от тебя, я никогда не бью в спину, Хуан. Неужто с тех пор, как я отсюда уехал, в Севилье наплодились трусы?
Он вскочил, но я держался начеку. На сей раз пришлось ударить покрепче, и Хуан без чувств откинулся на подушки. Я спокойно закурил, понимая, что он не сразу очухается. Придя в себя, парень обнаружил, что я стою, склонившись над ним, как любящая мамаша.
— Ну, оклемался, малыш? Отлично… И имей в виду: если не хочешь, чтобы твоей анатомии был нанесен непоправимый урон, лучше сразу скажи, как хороший мальчик, кто тебе приказал меня прикончить.
Хуан поглядел на меня с таким изумлением, что я усомнился в собственной интуиции. Для очистки совести я продолжал настаивать, но, смутно чувствуя, что произошло крупное недоразумение, говорил без прежней убежденности.
— Ну, решился ты наконец? На кого ты работаешь?
— Я сам за себя!
— Не валяй дурака!
Парень, вне себя от ярости, приподнялся на локте.
— Когда надо защищать свою честь, я не нуждаюсь ни в чьих приказах! — заорал он.
Пришел мой черед изумленно вытаращить глаза.
— При чем тут твоя честь?
— Я видел вас со своей сестрой, puerco[405]!
На мгновение я застыл, совершенно ошарашенный, не в силах произнести ни слова, а потом на меня напал приступ неудержимого хохота. Итак, там, где я усмотрел следы ловко закрученного заговора, оказалась всего-навсего старая, как мир, история: оберегая добродетель сестры, брат вообразил, будто затронута его честь испанца — la honra. В глубине души я испытывал легкую досаду, но в конечном счете меня вполне устраивало, что Хуан вовсе не бандит. Мой смех, по-видимому, обезоружил противника. Сейчас он казался просто рассерженным мальчуганом и, чтобы восстановить прежнюю уверенность в своей правоте, стал подыскивать доказательства:
— Я заметил вас обоих, когда вы вместе выходили из Сан-Хуан де Ла Пальма… Меня это не слишком удивило… Я так и думал, что вы начнете увиваться вокруг Марии… Но она! Вот уж не думал, что моя сестра способна вести себя, как… ramera![406]
— Осторожнее, Хуан! Не смей называть так сестру, или я хорошенько дам тебе по физиономии и снова начнется драка. А мне бы этого очень не хотелось. Видишь ли, когда я сержусь по-настоящему, могу отделать очень жестоко.
— А как еще прикажете назвать бессовестную, которая тайком встречается с едва знакомым мужчиной!
— Едва знакомым… Ты преувеличиваешь, сынок! Докуда ты следил за нами?
— До Куны.
— Ну так ты сам мог бы убедиться, что мы не сделали ничего дурного!
— Вы держали ее за руку!
— И что с того?
— Так все и начинается!
— Вот дурень! Да я ведь уважаю твою сестру, и, не будь ты еще сопляком, живо убедился бы, что так оно и есть!
— А зачем вы прятались?
— Потому что я люблю Марию, а она любит меня, и то, что мы хотели сказать друг другу, никого не касается.
Парень хмыкнул.
— Вы это называете любовью?
Малыш начинал меня злить, и я его об этом предупредил.
— Лучше б ты помолчал, Хуан, а то как бы дело не закончилось очень худо.
Я встал и вырвал из дверцы шкафа все еще торчавший там нож.
— Знаешь, что ты чуть не сделал этой штуковиной?
Я выдержал паузу и, отчеканивая каждый слог, пояснил:
— Ты чуть не отправил на тот свет своего будущего зятя!
Хуан посмотрел на меня круглыми глазами, видимо, соображая, уж не издеваюсь ли я над ним.
— Я хочу жениться на твоей сестре и увезти ее с собой!
— В Париж?
— Нет… В Соединенные Штаты!
Парень несколько раз повторил «Штаты», будто никак не мог взять в толк, что это значит. И тут я решил посвятить в тайну и его. Если кто и мог стать моим проводником в преступном мире Севильи, передавать мне все, что происходит в городе, и пересказывать услышанное в барах Трианы, — так это Хуан. Коли он согласится мне помочь (а я нисколько не сомневался, что так и будет), я обзаведусь великолепным помощником.
— Вы меня не обманываете? Это правда?
— Самая что ни на есть.
— Но… почему в Соединенные Штаты?
— Потому что я американец.
Я почувствовал, что малость переборщил, — у парня явно закружилась голова.
— Сядь-ка поудобнее, Хуан, расслабься и внимательно слушай. Но сначала ответь мне на один вопрос: что ты думаешь о тех, кто продает наркотики всяким бедолагам?
— Вы — о кокаине?
— Да, о кокаине, героине, морфине, опиуме и прочей мерзости.
— Malditos![407]
— О'кей, значит, мы прекрасно поймем друг друга, Хуан. Хочешь помочь мне прекратить их грязный бизнес?
— Я?.. Но вам-то какое до этого дело?
— Видишь ли, я агент федеральной полиции Соединенных Штатов и приехал сюда по заданию…
Надо думать, на сей раз я и впрямь хватил через край, и в первую минуту даже испугался, как бы парень опять не хлопнулся в обморок. Хуан начитался детективов и теперь совсем растерялся, не понимая, то ли он по-прежнему сидит в старой развалюхе у площади Ла Пальма, то ли угодил на Дикий Запад, явно путая и меня, и моих коллег из ФБР с пионерами героических времен Америки. Пожалуй, парень так и ждал, когда же я покажу ему знаменитую звезду шерифа.
Узнав, что ее брат в курсе наших планов и вполне их одобряет, Мария ни за что не позволила мне снова отвести их ужинать в «Кристину». Девушке хотелось провести этот вечер, который она считала первым после нашей помолвки, у себя, в старом домике на Ла Пальма, там, где нас приняли бы ее родители, будь они живы.
По дороге мы накупили разной еды, и получился прекрасный ужин, но, боюсь, я один оценил его по достоинству. Хуан и его сестра уже унеслись в Америку, какой они ее себе воображали. У меня все время требовали дополнительных подробностей, и, коли правда расходилась с их представлениями, не колеблясь, приукрашивали факты. Разумеется, моя небольшая квартирка в Вашингтоне оборудована всеми новейшими приспособлениями и вполне отвечает американским представлениям о комфорте, но каким образом объяснить этим детям, не ранив их и не разочаровав, что ничто и никогда не заменит им теплой прозрачности воздуха на Ла Пальма? Да и зачем объяснять то, что они и так, увы, очень скоро почувствуют сами… И в любом случае мне бы все равно не поверили.
За ужином мы почти не говорили ни о Лажолете, ни о моей миссии. Нас, несомненно, слишком занимало будущее, чтобы обращать внимание на настоящее. Но ведь и будущее в какой-то мере зависело от Лажолета… Хуан обещал предоставить себя в мое полное распоряжение и для начала заняться наркоманом с глазами
убийцы, из-за которого я мог бы так и не познакомиться с Марией. Когда я наконец собрался домой (а было это около трех часов ночи), Хуан стал настаивать, чтобы мы уже сейчас вели себя, как американцы, и разрешил мне поцеловать сестру в обе щеки. Парень испытал бы настоящее потрясение, скажи я ему, что, коли уж следовать американским обычаям, мне бы надо целовать ее в губы. От избытка рвения мой будущий зять хотел во что бы то ни стало проводить меня до площади Сан-Фернандо на случай какой-нибудь неприятной встречи. Боюсь даже, парень от всей души надеялся, что начнется драка и он сможет показать мне, на что способен. Так или иначе, к счастью, надежды Хуана не оправдались.
Засыпая, я быстро подвел итог: за три дня в Севилье меня трижды чуть не убили и я успел обручиться. Одно уравновешивало другое.
Страстной четверг
Несмотря на профессиональные тревоги, в глубине души я испытывал некоторое облегчение от того, что больше не надо всеми правдами и неправдами сохранять инкогнито, тем более что все как будто сговорились сорвать с меня маску. Впрочем, я еще питал слабую надежду, что хотя бы комиссару Фернандесу это пока не удалось. Поэтому я написал Рут прямо на вашингтонский адрес. Мне не терпелось рассказать о встрече с Марией дель Дульсе Номбре и наших матримониальных планах. Правда, письмо требовало от меня особых стилистических ухищрений — я догадывался, что Рут, хоть и обрадуется, что я наконец обрету семейный очаг (это несколько успокоит старые угрызения совести), но тут же с чисто женским отсутствием логики подосадует, что теперь не она занимает первое место в моем сердце. Однако Рут — женщина слишком уравновешенная, чтобы легкая горечь превратилась в нечто большее, нежели чуть меланхоличное сожаление. Зато в письме к Алонсо я дал полную волю переполнявшему меня восторгу и описал Марию так, как мне хотелось. Кроме того, я набросал идиллическую картину будущего согласия между нашими семьями. Я не сомневался, что наша четверка отлично поладит, а потом, Бог даст, у «сеньора» Хосе тоже появится маленький друг. Я заранее просил друзей стать крестными моего будущего наследника. Счастье болтливо, и мне пришлось немало приплатить за то, чтобы мое внушительное послание отправили самолетом. И только уже возвращаясь в номер, я вдруг подумал, что ни слова не написал ни Рут, ни Алонсо о существовании Хуана.
Я подошел к «Агнцу Спасителя», когда Мария как раз запирала дверь магазина. О том, чтобы поцеловать невесту на улице, не могло быть и речи, если я не хотел навлечь на себя гнев полиции Каудильо и блюстителя нравов господина архиепископа Севильского. Но я взял девушку за руку и так посмотрел, что она покраснела. Меж тем, я просто хотел выразить, как люблю Марию, что сегодня она мне еще дороже, чем вчера, и наше счастье продлится целую вечность.
— Поспешим, Хосе… — шепнула мне девушка. — У сеньора и сеньоры Персель еще один гость, и он уже пришел.
И девушка тут же повела меня к небольшой, довольно далеко отстоящей от входа в магазин двери в квартиру хозяев. Едва переступив порог, мы попали в сумрачный холл, так что пришлось дать глазам привыкнуть к темноте, иначе надо было бы идти вслепую, вытянув перед собой руки. Мария стояла совсем рядом, так что я ощущал тепло ее тела, и, да простит меня Бог, попытался поцеловать ее в губы, как я это сделал бы в Вашингтоне, но девушка тут же увернулась.
— Не сейчас, Хосе… сейчас еще грешно…
Не знаю, право же, грешно или нет целовать любимую девушку, но то, что в Америке мне показалось бы кокетством, здесь я хорошо понимал и, как истинный андалусец, в глубине души не мог не одобрить. Мария взяла меня за руку и повела к каменной лестнице в самом конце коридора. Не успели мы подняться и на несколько ступенек, как я услышал звуки разговора. По словам моей невесты, глубокое раскатистое контральто принадлежало донье Хосефе, супруге Альфонсо Перселя, зато последнего Небо наградило писклявым, пронзительным фальцетом. Третий собеседник говорил по-испански с сильным акцентом, и, еще не добравшись до лестничной площадки, я успел заметить несколько грубых ошибок в грамматике.
Персели приняли меня весьма сердечно и представили своего гостя Карла Оберхнера, представителя текстильной фирмы из Гамбурга. Дон Альфонсо счел нужным подчеркнуть, что особенно счастлив принимать у себя в доме и француза и немца одновременно, по мере своих слабых сил способствуя таким образом примирению этих двух народов, чье взаимное согласие, по мнению дона Альфонсо, необходимо для спасения всего западного мира. Оберхнер крепко пожал мне руку. Этот высокий мужчина лет сорока, со светлой бородкой, напомнил мне героев Вагнера. Он любезно улыбался, но меня несколько смущали его холодные голубые глаза, тем более что я довольно часто ловил на себе их взгляд. С Марией он держался по-немецки любезно (это странное сочетание неотесанности и сентиментальности особенно шокирует, поскольку, благодаря первой вторая еще больше бросается в глаза). Может, потому что Мария не обращала на Оберхнера никакого внимания, а может, поскольку его присутствие ограждало меня от дружеской нескромности Перселей, но, так или иначе, сперва немец показался мне симпатичным малым.
Донья Хосефа заботливо посадила меня рядом с Марией, как только мы проглотили поданный в виде аперитива херес и перешли к столу, а потому настроение у меня мигом улучшилось. Мне, конечно, то и дело задавали вопросы насчет парижской жизни и работы, но я, сославшись на то, что приехал сюда отдыхать, старался не очень распространяться о своем положении в фирме Бижара. Зато Карл Оберхнер с удовольствием болтал о работе. На мой вкус, несколько тяжеловато он воспевал достоинства тканей фирмы «Элмер и сын» и удивительную красоту древнего ганзейского города. Я неплохо знал Гамбург, прожив там пять недель вместе с парижским хозяином моего отца, поэтому невольно вздрогнул, когда Оберхнер заявил, будто «Ангел милосердия» — знаменитая харчевня, построенная больше ста лет назад, где подают лучший в городе «rundstuk warm»[408], — стоит на Репербан, хотя любому туристу, проведшему в городе не больше суток, известно, что она находится на Хайн Хойерштрассе. Так каким же образом Карл, если он и в самом деле приехал из Гамбурга, мог допустить такую грубую ошибку? Меня чисто профессионально раздражало то, что я никак не мог подобрать на этот вопрос удовлетворительного ответа.
— Вам нравится Париж?
Невесте пришлось тихонько подтолкнуть меня локтем, и только тогда я сообразил, что вопрос обращен ко мне. А Мария, с обычной проницательностью почувствовав, что я отвлекся, ответила сама:
— Судя по тому, что Хосе нам рассказывал, вероятно, он любит Париж больше всего на свете. Правда, Хосе?
— После Севильи! — отозвался я, снова входя в роль.
Послышались радостные восклицания. Донья Хосефа, ни разу не выезжавшая за пределы Андалусии, спросила, правда ли, что Париж больше Мадрида, и можно ли, не впадая в ересь, сравнить его бульвары с калле де Алькала? Неутомимый Карл Оберхнер тоже заговорил о Париже и назвал несколько маленьких ресторанчиков, известных лишь гурманам, но опять не раз ошибался, указывая их расположение. Я тут же поправил немца, и он благодушно признал мою правоту. И что за игру он затеял? Оберхнер, вне всяких сомнений, прекрасно знал французскую столицу, так зачем ему понадобилось называть не те улицы? Случайно это или нарочно? И если нарочно, то с какой целью? Может, решил, что я такой же враль, и захотел проверить?
Худо-бедно, мы все же добрались до десерта, и донья Хосефа подала брасо де гитано[409], а ее муж откупорил бутылку мускателя. Хозяйка дома призналась, что не только обожает готовить, но и всегда воздает должное собственной стряпне, и тут сразу стало ясно, почему добрейшая матрона весит больше двух сотен фунтов, тогда как ее мужу рост и вес вполне позволили бы работать жокеем. Персели являли собой одну из тех внешне неподходящих пар, что так забавляют карикатуристов, однако, судя по бесконечным знакам внимания друг другу, отлично ладили. Было бы очень странно, сумей Карл Оберхнер придержать язык, хотя бы когда речь зашла о кулинарии. Воспев достоинства испанской кухни, он тут же признался, что, по его мнению, ничто не сравнится с кальблебервюрст[410] с лапшой и пивом. Честное слово, господин Оберхнер начинал здорово давить мне на психику, и я чувствовал, что очень скоро дам ему это понять.
К счастью, донья Хосефа, встав из-за стола, предотвратила взрыв. Мы перешли в маленькую комнату, на стене которой за резной решеточкой улыбалась покровительница Севильи Мария Сантисима де ла Эсперанса, иначе говоря, Макарена. Мне предложили бокал анисовой настойки, и я горько пожалел об отсутствии шотландского виски. Величественная в своем черном платье, хозяйка дома (если она надеялась, что цвет сделает ее фигуру стройнее, то совершенно напрасно) отвела нас с Марией в сторонку, а Карл Оберхнер вместе с Альфонсо уединился в углу у окна — очевидно, им хотелось поговорить о делах. Я заметил, что дневной свет придает странный сине-зеленый оттенок поразительному костюму сеньора Перселя — в клеточку, окаймленную красным, на ядовито-зеленом фоне. Признаюсь, это буйство красок убило меня, если можно так выразиться, с первой минуты.
— Дон Хосе, Мария говорила мне о ваших планах… Я ее очень люблю и потому от души рада… Здесь она в какой-то мере заменяла дочь, которую Господь не пожелал нам дать… И, не будь вы таким милым молодым человеком, я бы, кажется, вас возненавидела!
— Меня бы это глубоко опечалило!
Донья Хосефа улыбнулась.
— Вы истинный кабальеро, дон Хосе, и прекрасно умеете обманывать… А вы знаете, что лишаете нас настоящей жемчужины?.. Да уж что поделаешь, такова жизнь… Рано или поздно нам приходится расставаться со всеми, кого любим… Видите ли, дон Хосе, в моем возрасте начинаешь понимать, что лучше ни к кому не привязываться, если не хочешь однажды почувствовать себя очень несчастной…
Слова хозяйки растрогали Марию до слез. В порыве благодарности она схватила руку сеньоры Персель и быстро поднесла к губам. Не могу сказать, что мне это очень понравилось.
— И вы… разумеется, снова уедете в Париж, взяв с собой нашу Марию, дон Хосе?
— Если она согласится последовать за мной…
Донья Хосефа засмеялась.
— Только не пытайтесь уверить меня, будто вы в этом сомневаетесь!
Когда мы попрощались с Перселями и Марией (им пора было снова открывать магазин), Карл Оберхнер довольно настойчиво предложил проводить меня. Поэтому мы вместе поднялись до площади Сан-Фернандо, и лишь на пороге гостиницы тевтон наконец решился оставить меня в покое. Оберхнер протянул руку, и мне не оставалось ничего другого как пожать ее, но, надо думать, по выражению лица Оберхнер понял, как мало удовольствия мне это доставило.
— Вы не испытываете ко мне особой симпатии, верно, сеньор Моралес?
— Только не подумайте, будто… — немного смущенно пробормотал я.
Но Карл с живостью перебил, отметая вялые возражения:
— Да-да… Впрочем, для нас, немцев, это обычное дело… мы не умеем нравиться с первого взгляда, а потому слишком стараемся выставить напоказ все свои достоинства… Ну и, конечно, добираемся прямо противоположного результата… Только не воображайте, будто мы этого не замечаем… замечаем, естественно, но, увы, поздновато…
Ну вот, все же он растрогал меня, подлец, добился-таки своего!
— Нет, возможно, это мы, потомки древних римлян, не в меру чувствительны, и… — не желая оставаться в долгу, начал я, но немец опять перебил меня:
— Это очень любезно с вашей стороны, сеньор Моралес, но не особенно убедительно. Однако уж такие мы есть — все наши добрые намерения кончаются драмой. Своего рода проклятие, к которому мы никак не можем привыкнуть. Hasta la vista, senor Morales.[411]
— Con mucho gusto[412], senor Oberchner…
Самое смешное — что я не лукавил. Алонсо бы всласть похихикал над моей сентиментальностью.
Вечером я пришел в домик на Ла Пальма раньше Хуана, и Мария встретила меня одна. Она рассказала, что я произвел на Перселей превосходное впечатление и они надеются продолжить знакомство. Конечно, все это звучало замечательно, но ни в коей мере не объясняло лжи Карла Оберхнера насчет Гамбурга. И я рассказал о своих сомнениях Марии. С тех пор как мы с Карлом попрощались у двери гостиницы, я успел пораскинуть мозгами и теперь раскаивался в собственном благодушии. Моя невеста внимательно выслушала объяснения насчет «Ангела милосердия» и согласилась, что такая ошибка говорит о полном незнании города, где находится фирма, которую якобы представляет Оберхнер. Так для чего он явился к Перселям? Девушка пообещала поговорить с доньей Хосефой и предостеречь против немца.
Около десяти часов к нам присоединился Хуан. Физиономия его выражала столь явный восторг, что я без труда догадался: мой новый помощник очень доволен собой и намерен сообщить нечто важное. Швырнув кепку на стул и быстро чмокнув сестру, парень тут же повернулся ко мне.
— Готово дело, дон Хосе!
— Что ты имеешь в виду, Хуан?
— Я нашел вашего типа!
— Наркомана?
— Да.
Я вскочил. Наконец-то можно кое-что предпринять, а не сидеть сложа руки, ожидая, пока меня прихлопнут.
— Где он?
— Пьянствует в «Эспига де Оро»[413] на улице Гвадалете.
— Где это?
— Между Сан-Висенте и Торнео.
— Ага, ясно!
Я схватил шляпу.
— Неужто вы пойдете туда в такой поздний час, Хосе? — встревожилась Мария.
— Надо…
— Да еще в одиночку?
Хуан не преминул воспользоваться случаем.
— Я вас провожу!
— Нет!
На лице парня отразилось такое разочарование, что я счел нужным дать кое-какие объяснения.
— Послушай, Хуан… Пока никто не собирается лезть в драку. Я хочу просто последить за этим типом, а двоих преследователей заметить проще, чем одного.
— А вдруг на вас нападут?
— С чего бы это? Ну подумай сам! Парень наверняка даже не догадывается, что я за ним охочусь. Если мне повезет и я успею дойти до кабачка раньше, чем он оттуда уйдет, то подожду себе спокойненько и двинусь следом. А уж выяснив, где этот субъект живет, я с ним малость потолкую.
— Коли он захочет говорить!
— Успокойся… Я знаю, как заставить открыть рот самого отъявленного молчуна… И не волнуйтесь за меня! Завтра в два часа мы все втроем пообедаем в «Кристине», и я расскажу о своих ночных приключениях.
Уходя я чувствовал, что, несмотря на мой подчеркнуто жизнерадостный тон, не сумел убедить ни одну, ни другого.
Стояла такая ночь, каких никогда не бывает в Вашингтоне. Теплая и звездная. Если хорошая погода продержится, нас ждет очень приятная Святая неделя. Начиная с воскресенья севильцы практически перестанут ложиться спать по ночам. Предоставив иностранцам устраиваться на стульях вдоль предназначенных для процессий улиц, истинно верующие будут собираться в родных кварталах и пригородах вокруг тех изображений Девы, к которым питают особую преданность. Нет ничего трогательнее саэт, звучащих в утомленной долгим бдением толпе на рассвете, когда статуи Девы возвращаются в церковь. Последняя молитва, последняя просьба спасти и оградить от неведомых опасностей, ожидающих в те двенадцать месяцев, что отделяют верующих от следующей Святой недели.
Ну а пока, сеньор Моралес, вы вышли на улицу вовсе не для того, чтобы рассуждать о религиозном рвении андалусцев, — вам надо попытаться поймать субъекта, который чуть-чуть вас не убил, и, коли удача наконец улыбнется (хотя, по правде сказать, до сих пор вам ее жестоко не хватало), это станет первым звеном в цепочке, ведущей к Лажолету.
Такая перспектива несколько подбодрила меня, и я спортивным шагом, миновав Аламеда-де-Эркулес, свернул на улицу Санта-Анна. Я все еще хорошо помнил родной город. Добравшись до Сан-Висенте, я замедлил шаг и осторожно заглянул за угол, на улицу Гвадалете. «Эспига де Оро» я заметил сразу. У самого кабачка на тротуаре сидел какой-то пьянчуга, но, по всей видимости, собственный громкий монолог занимал его куда больше, нежели моя персона. Я поглядел сквозь стекло и тут же обнаружил своего наркомана. Он стоял, прислонившись к стойке, и полупустой бокал покачивался в дрожащих пальцах. Здорово, должно быть, нагрузился. Я вдруг почувствовал, что меня тянут за рукав, и обернулся, напружинив все мускулы. Но то был всего лишь пьянчужка. В нос мне шибанул густой запах спиртного — ужасающая смесь анисовой настойки и мансанилы.
— Вы католик, сеньор?
— Нет.
— Вот как…
Он несколько растерялся, видно, не сообразив, что таким категоричным ответом я хотел сразу положить конец разговору. Но от пьянчуги не так легко отвязаться.
— Ж-жаль, — икая, изливает он мне свое разочарование. — Иначе вы бы не отказались угостить меня стаканчиком…
Он вдруг с неожиданной злобой тычет в сторону кабачка.
— А там? Думаете, там есть добрые католики? А?
— Несомненно…
— Ну, так поглядите, черт возьми, сумею ли я найти хоть одного!
И пьяница нетвердой, но решительной походкой вваливается в кабачок. Не теряя из виду своего наркомана, я с любопытством наблюдаю, как несчастный любитель спиртного ищет столпов веры. Похоже, он рассудил верно, ибо все, к кому он обращался, грубо отпихивали беднягу. В конце кондов кто-то толкнул пьянчужку так сильно, что он отлетел к самой стойке и шлепнулся у ног моего наркомана. Тот даже не вздрогнул. Во всяком случае, не больше, чем если бы кто-то осторожно положил рядом с его бокалом цветок. Дабы восстановить равновесие, пьяница схватил наркомана за нога и, снова приняв вертикальное положение, начал изливать ему свою скорбь. Напрасный труд, ибо собеседник явно «отсутствовал». Раздосадованный пьянчуга обратился непосредственно к хозяину кабачка и тут наконец нашел истинно верующего, ибо кабатчик сунул ему под нос полный бокал. Пьяница залпом выпил, и его тут же вышвырнули из заведения. На все это ушло гораздо меньше времени, чем занял рассказ. Я скрылся в тени и с веселым любопытством наблюдал, как неутомимый бродяга, шатаясь, отправился на поиски других щедрых и благочестивых сограждан, накануне Святой недели готовых милосердно угостить ближнего рюмочкой горячительного. Я так долго смотрел вслед покачивающейся на каждом шагу фигуре, что едва не упустил добычу. Снова заглянув сквозь стекло, я увидел, как мой наркоман, бросив на стойку несколько смятых бумажек, соскользнул с табурета и побрел к выходу тем дробным «деревянным» шагом, что так характерен для подобных больных. Когда он выходил, я прижался к стене, но парень, даже не взглянув по сторонам, повернул направо, в сторону Торнео и Гвадалквивира. Я почти не сомневался, что он перейдет мост Изабеллы II и направится в Триану. Хорошенькая прогулка в перспективе, но меня переполняла кипучая энергия. Наркоман шел быстро и ни разу не обернулся. Надо думать, его сильно «ломало», а в таком случае человеку все равно — пусть за ним гонится хоть вся испанская полиция. Двигаясь следом, примерно метрах в тридцати, я тихонько посмеивался про себя: ну и физиономия была бы у парня, скажи ему кто-нибудь, что недавняя жертва висит у него на хвосте!
Добравшись до Торнео, красивого бульвара, украшенного двойными рядами деревьев, наркоман свернул налево, как я и предвидел, — в сторону моста. Преследоьание не составляло никаких трудов, и меня это вполне устраивало. Я надеялся наконец расквитаться за прежнюю неудачу. Неожиданно там, где начинается улица Паскуале Гаванго, мой «протеже» пересек бульвар и направился вдоль железнодорожного полотна. И что на него нашло? Перейдя пути, он спустился на набережную Баркуэта, по-прежнему оставаясь на севильской стороне Гвадалквивира. Идти стало труднее. Ночную тишину заполнили шумы и шорохи большой реки, ее влажное дыхание несколько успокоило сжигавший меня азарт, и я начал всерьез задумываться, какого черта наркомана понесло в столь безлюдное место. Мы уже подходили туда, где Гвадалквивир расширяется, прежде чем разделиться на рукава, то есть примерно на уровне Кордовского вокзала, и тут я услышал за спиной осторожные шаги. Прежде чем обернуться, я инстинктивно отскочил в сторону. Передо мной стоял незнакомый тип и, судя по зажатому в руке ножу, явно не питал добрых намерений. Отражать нападение вооруженного противника — чуть ли не первое, чему нас учили на уроках дзю-до, и через секунду я уже крепко держал парня за руку, намереваясь по всем правилам швырнуть его через себя, как вдруг, слегка повернув голову, заметил, что к нам во всю прыть спешит наркоман. Пришлось отпустить первого нападавшего и заняться старым знакомым, очевидно намеревавшимся загладить оплошность, допущенную им на Ла Пальма. От первого удара дубинкой я увернулся и одновременно как следует шарахнул парня с ножом пониже пояса. Тот на редкость некрасиво выругался. Но я не успел отпраздновать победу, ибо моя мнимая добыча, так хитро заманившая меня в ловушку, перешла в наступление, и новый удар дубинки рассек мне щеку. Я пошатнулся от боли, но все-таки успел съездить по физиономии убийце с ножом, прежде чем еще один удар дубинки окончательно отбил у меня интерес ко всем на свете приключениям, в том числе и к моим собственным.
Придя в сознание и увидев два склоненных надо мной лица, я подумал, что меня ожидают еще несколько крайне неприятных минут, и нарочно повел себя вызывающе.
— Ну что, довольны собой, молодые люди?
Тот, что стоял ближе, улыбнулся и отвесил легкий поклон.
— Господь свидетель, я сделал все, что мог, сеньор. Думаю, еще чуть-чуть, и вы перестанете страдать от чего-либо, кроме сильной мигрени. Благодарите Бога за то, что у вас такой крепкий череп, иначе он не выдержал бы ударов дубинкой.
Его спутник расхохотался, и только тут, обведя глазами комнату, я сообразил, что каким-то образом попал в кабинет врача.
— Но… кто же привел меня сюда?
— Я, сеньор.
И тот, кто только что смеялся, в свою очередь, слегка поклонившись, представился:
— Инспектор полиции Валерио Лусеро.
— Так, выходит, бандиты оставили меня на Баркуэта?
— Не совсем так, сеньор. Когда я подоспел, они как раз собирались бросить вас в Гвадалквивир.
— И где же они?
— Одному удалось сбежать, а второй — в морге… Ему непременно хотелось огреть меня дубинкой…
Значит, тот, кто пытался меня убить в Ла Пальма, мертв. Думая обо всех неприятностях, которые он мне причинил, я не мог не испытывать от такого исхода некоторого удовлетворения, но, с другой стороны, теперь, после гибели наркомана, у меня не оставалось никакой надежды выйти на Лажолета. Разве что попробовать отыскать водителя-давителя из Трианы… Короче говоря, я не продвинулся ни на йоту и, честно говоря, почти потерял надежду выполнить задание Клифа Андерсона. Но, какую бы горечь я ни испытывал, не следовало забывать, что этот севильский инспектор полиции спас мне жизнь.
— Я благословляю случай, благодаря которому вы оказались на Баркуэта, сеньор.
— Это не случай, сеньор, а приказ комиссара Фернандеса.
И, увидев, что я смотрю на него во все глаза, полицейский вкрадчиво добавил:
— Я следил за вами от Ла Пальма, сеньор Моралес, сменив своего коллегу Премиасо. А тот, в свою очередь, шел за вами от «Сесил-Ориента». Возле Торнео я потерял вас из виду, поэтому-то и не успел вовремя добраться до Баркуэта…
Я чувствовал себя настолько униженным, что не мог даже выдавить слов благодарности. Выходит, агент ФБР Пепе Моралес, по отзывам, один из лучших детективов отдела по борьбе с наркотиками, не только угодил в примитивную ловушку, как какой-нибудь новичок, но даже не заметил, что за ним целый день ходил «хвост». Может, пора на пенсию? Или любовь к Марии лишила меня обычной проницательности?
Я с трудом встал. Напротив моего кресла в кабинете висело зеркало, и я увидел отражение весьма сконфуженного господина с большим куском пластыря на левой скуле и другим, поменьше, — на правой. Хорош, нечего сказать. Я поблагодарил врача и попросил прислать счет в гостиницу, а потом вышел вместе с инспектором Лусеро.
На улице полицейский сразу же осведомился, как я себя чувствую. Несколько бравируя, я ответил, что все в полном порядке. Инспектор принял это сообщение с величайшей радостью, и я уже было расчувствовался — все-таки не каждый день совершенно посторонние люди относятся к вам с такой симпатией, — как вдруг Лусеро добавил, что, раз я уже окончательно пришел в себя, то, конечно, не откажусь заглянуть вместе с ним к комиссару Фернандесу, тем более что он нас уже ждет. Короче, меня в очередной раз ловко поддели на крючок.
Кровь так мучительно стучала в висках, что я позволил себе откинуться на спинку кресла. Комиссар наблюдал за мной из-под полуопущенных век. Наконец, решившись начать допрос, он предложил мне сигару, но я отказался.
— Я вижу, вас по-прежнему преследуют несчастья, сеньор Моралес?
Я молча пожал плечами.
— А вам не кажется странным, что все злоумышленники Севильи с таким ожесточением преследуют именно вас?
— Да…
— Ах, все-таки да… В первый раз наши мнения совпадают… Что ж, я очень рад. Но вы, конечно, по-прежнему понятия не имеете о причинах столь явной ненависти к вашей особе?
— Нет.
— Знаете, сеньор, я очень доволен, что мне пришло в голову приставить к вам… наблюдателей.
— Я тоже, сеньор комиссар, поскольку ваш инспектор, кажется, спас мне жизнь.
— Так оно и есть, можете не сомневаться! Не подоспей вовремя Лусеро, вы бы сейчас плавали в водах Гвадалквивира… а вам, по-моему, куда удобнее в этом кабинете.
— Бесспорно! Но еще лучше я чувствовал бы себя, лежа в постели…
— Я прикажу отвезти вас в гостиницу, как только вы мне скажете, зачем преследовали Просперо Асинеса от «Эспига де Оро».
— Просперо Асинеса?
— Или, иными словами, того, кто напал на вас в Ла Пальма. Инспектору Лусеро совсем недавно пришлось застрелить его на Баркуэта.
— Я хотел свести с ним счеты!
— Мы не очень-то любим, сеньор Моралес, когда иностранцы пытаются вершить здесь закон… Это наше дело. Почему вы не подали жалобу на Асинеса? Я бы арестовал его.
— Я не знал, кто этот человек, и не был уверен, что покушение совершил именно он.
— В отличие от Педро Эрнандеса, едва не сбившего вас в Триане. Тогда вы сразу разобрались, что к чему. Но ведь вы и на Эрнандеса не стали жаловаться, насколько я помню?
Что я мог ответить? Этот полицейский все крепче прижимал меня к стене.
— А кто сказал вам, что Асинеса надо искать в «Эспига де Оро»?
— Никто.
— Странно.
— Я просто гулял и совершенно случайно…
— Я уже просил вас, сеньор, не принимать меня за дурака! — сухо перебил комиссар. — Выйдя из дома в Ла Пальма, вы направились прямиком на улицу Гвадалете, где, судя по тому, что случилось потом, вас уже поджидали. Так скажете вы мне наконец, кто предупредил вас, где искать Асинеса?
— Нет.
Я видел, как Фернандес нервно сжал кулаки и каких усилий ему стоило не дать волю раздражению. А когда он снова заговорил, голос звучал очень жестко. Этот человек явно меня ненавидел.
— Послушайте меня внимательно, сеньор Моралес… Педро Эрнандес и Просперо Асинес — увы, к несчастью, один из них еще жив! — хорошо известные нам торговцы наркотиками. У вас во Франции есть очень мудрая поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»… Вы меня поняли?
— Разумеется, сеньор, но вы ошибаетесь.
— Не думаю. Врач не только заклеил раны, но и внимательно осмотрел вас. Вы не употребляете наркотиков… Значит, ограничиваетесь торговлей!
Я не выдержал и рассмеялся. Агента ФБР из отдела по борьбе с наркотиками обвиняют в распространении этой отравы!
— Если бы я знал причины вашего веселья, быть может, тоже с удовольствием посмеялся бы, сеньор.
Тон собеседника меня сразу успокоил.
— Пока я не могу ничего вам сказать, сеньор комиссар, но даю слово, вы совершенно напрасно принимаете меня за бандита.
— Сожалею, но никак не могу вам поверить. Я доверяю лишь тем, кого хорошо знаю, а вы, сеньор, — полная загадка… Кто же вы на самом деле, сеньор Моралес?
— Но мой паспорт…
Фернандес махнул рукой с видом человека, давно утратившего иллюзии на сей счет.
— Существуют превосходные специалисты…
Я встал.
— Можно мне вернуться в гостиницу?
Комиссар тоже поднялся.
— Я прикажу отвезти вас. Имейте в виду, сеньор, я очень упрям и в конце концов обязательно узнаю, зачем вы приехали в Севилью, либо от вас же, либо от вашего убийцы.
— От моего убийцы?
— Не думаете же вы, будто ваши враги, до сих пор действовавшие с таким упорством, вдруг оставят вас в покое? Во всяком случае, я больше не собираюсь вас охранять. Делайте все, что вам вздумается. Но, конечно, если я вам понадоблюсь, всегда с удовольствием помогу… только в обмен на полную откровенность. Однако не стану скрывать, что при первой же попытке нарушить закон, будь она хоть сущим пустяком, я для начала посажу вас под замок, а потом отправлю на границу. Разве что удастся раскопать кое-что серьезное… Уж тогда я позабочусь о вашем будущем на много лет вперед… Договорились?
— Да, все ясно.
— Тогда спокойной ночи, сеньор Моралес.
Несмотря на пожелание комиссара, мне не удалось сомкнуть глаз до самого утра. Не давала покоя страшная мигрень, раны горели, но куда больше отравляла существование мысль, что меня провели как дурачка. Теперь, спокойно обдумав череду событий, я не мог не признать, что в «Эспига де Оро» моего появления и вправду ждали, что пьянчуга нарочно разыгрывал комедию, чтобы прямо у меня под носом предупредить Асинеса, а последний ни разу не обернулся, отлично зная, что я иду следом, и спокойно вел туда, где притаился его сообщник. Однако навязчивее всего в голове вертелся один и тот же вопрос: кто предупредил Асинеса, что я приду в кабачок его искать? Кто, если не Хуан…
Страстная пятница
Лишь после часу дня я с трудом вылез из постели, а не будь свидания с Марией, вообще провалялся бы целый день. Но, не увидев меня, девушка могла испугаться, и, кроме того, мне не терпелось увидеть, какую рожу скорчит маленький негодяй Хуан, обнаружив, что я в очередной раз ускользнул из лап его дружков. Обдумывая вчерашнее, я все больше убеждался, что меня продал именно Хуан. Вероятно, он из той же банды, а я, как идиот, все ему выболтал. К счастью, парень вряд ли узнал много нового, поскольку сообщники наверняка все ему рассказали сразу же по моем приезде в Севилью. И потом, я уже успел наделать столько глупостей, что подсчитывать их не имело смысла — только лишнее унижение. Бессонная ночь, ощущение полного бессилия и ясное понимание сделанных ошибок окрашивали мысли о дальнейшей карьере в ФБР отнюдь не в радужные гона, не говоря уж о том, что связь моего будущего родственника с врагами, которых мне предстоит уничтожить, окончательно добивала. И надежда жениться на Марии вдруг стала совсем эфемерной.
Приводя себя в порядок, я пытался (должен признать, довольно малодушно) отыскать надежные доводы в пользу возможной невиновности Хуана. Уж очень не хотелось причинять такое горе Марии. Может, малыша засекли люди Лажолета? Судя по записке, которую мне передали в Аламеда-де-Эркулес, бандиты в курсе моих отношений с Марией и ее братом… Стало быть, Асинес, заметив маневры Хуана, вполне мог догадаться, на кого тот работает, и тут же обо всем доложить! Тогда за парнем наверняка следили, когда он бежал предупредить меня… В конце концов, в таком предположении нет ничего невероятного… Убедившись, что не имею права считать Хуана виновным, пока не выясню все поподробнее, я вздохнул с облегчением. Какое счастье, что не придется сейчас же рассказывать о своих подозрениях Марии! Похоже, вы становитесь сентиментальным, сеньор Моралес… Но разве не таков удел всех влюбленных?
Они не осмелились войти и поджидали меня у входа в «Кристину». При виде меня Мария смертельно побледнела, и не успел я поздороваться, как девушка дрожащим голосом спросила:
— Они вас ранили?
— Это не имеет значения, раз я здесь, — героически отозвался я.
Хуан схватил меня за руку.
— Видите теперь, что вам следовало прихватить меня с собой?
Зачем? Чтобы помочь или добить? Дабы успокоить невесту, я старался преуменьшить свои страдания, но она и слышать не хотела о том, чтобы идти в ресторан, в результате мне пришлось поймать такси и ехать в Ла Пальма. Мария, несомненно, считала, что там мне будет легче, чем на публике, и, говоря по правде, не ошибалась. Дома девушка оставила нас с братом вдвоем, а сама побежала купить чего-нибудь на ужин. Я закурил и молча уставился на парня. Как заставить его во всем признаться, если, конечно, Хуан и в самом деле виновен? А маленький паршивец смотрел на меня во все глаза, и — да простит мне Бог! — по-моему, во взгляде его читалось искреннее восхищение!
— Этот Просперо… ты с ним знаком?
Хуан удивленно вскинул брови.
— Нет, но по вашему описанию я решил, что, возможно, это тот тип, которого в Триане называют «el Loco»[414].
— И как же ты его искал?
— Я знал, что при случае парень подрабатывает у торговца рыбой на улице Сан-Хорхе, ну и пошел взглянуть. «El Loco» и вправду был там.
— Он тебя видел?
— Я даже предложил ему выпить, надеясь что-нибудь выведать.
— Вот как?
— Да, я сказал, что, кажется, видел его на Ла Пальма в тот день, когда он чуть не убил вас на лестнице.
И Хуан рассмеялся, ужасно довольный собой.
— Разумеется, последнего я ему не сказал… А потом подождал, пока парень закончит работу, и незаметно пошел следом. Он зашел в несколько разных кабачков. Наконец, когда мы добрались до «Эспига де Оро», я решил, что наш клиент не в состоянии тащиться куда-то еще, и побежал предупредить вас…
Бедняга Хуан! Он даже не догадывался, что Асинес играл с ним в кошки-мышки! Правда, я сам так опростоволосился, что чувствовал себя не вправе давать уроки кому бы то ни было. В последние дни я, похоже, стал просто чемпионом по попаданию впросак. Но то, что подозрения насчет Хуана отпали, принесло мне огромное облегчение. Пускай малыш не особенно ловок, зато честен. Так-то оно гораздо лучше.
За ужином мне пришлось подробно рассказать о вчерашних приключениях. Мария сочувственно вздыхала, а Хуан то и дело повторял, что, будь он со мной, все обернулось бы иначе. А потом они в два голоса начали уговаривать меня, что я должен поскорее раздобыть оружие. Хуан предложил купить пистолет, если я дам ему две сотни песет. Я дал три и попросил, если удастся, выбрать «люгер». Мария ушла сразу после ужина — сегодня, в Страстную пятницу, ей непременно хотелось пойти в церковь. Через сорок восемь часов Армагурская Дева начнет торжественное шествие по улицам, и моей невесте надо было узнать, не нуждается ли братство в ее услугах — возможно, у вышивальщиц нашлась бы для нее срочная работа. Уходя, девушка сказала, что предупредила о моих подозрениях насчет Оберхнера донью Хосефу и та просила передать мне живейшую благодарность. Сеньора Персель обещала поговорить с мужем, а уж он решит, как поступить.
Хуан нетерпеливо спросил, какой план я разработал, чтобы нанести противнику ответный удар. Не желая уронить себя в глазах малыша, я не стал объяснять, что совершенно сбит с толку и Клифу Андерсону самое время дать мне новые указания, иначе я так и не выберусь из тупика. Правда, сделай я такое признание, Хуан все равно бы не поверил. И я пустился в импровизацию, тем более потрясающую, что парень даже не подозревал, какой все это блеф. Хуан блаженствовал. Нет, право же, стоило только поглядеть на него, чтобы понять, как глупо с моей стороны было подозревать мальчишку в измене. Когда-нибудь, уже в Вашингтоне, я расскажу Хуану о тайных подозрениях на его счет, просто чтобы показать, до какой степени порой могут заблуждаться даже опытные полицейские. И мы вместе посмеемся, правда, за бокалом, увы, не хереса, а кока-колы…
Время от времени я то замирал у какой-нибудь витрины на Сьерпес, то вдруг резко поворачивался и шел обратно, словно что-то потерял. Но, сколько я ни таращил глаза, никак не мог заметить среди славных обитателей Севильи ни одного преследователя. Меж тем в это время на улицах обычно не так уж много народа. Очевидно, комиссар Фернандес сдержал слово, а подручные Лажолета еще переживали ночную неудачу и терялись в догадках, что может связывать меня с севильской полицией. Сам не зная почему, я не обращал особого внимания на угрозы насчет Марии. Возможно, потому, что уже после того, как я получил записку, они снова пытались убить меня. Лажолет не дурак и не мог не понимать, что тронуть Марию — самый надежный способ заставить меня во что бы то ни стало продолжать расследование.
С Хуаном мы договорились встретиться только в шесть часов вечера. Парень попросил меня прийти к Паскуалю на улицу Тонелерос и обещал попытаться к этому времени раздобыть пистолет. Можно сколько угодно хорохориться, но с пистолетом в кармане я бы, несомненно, чувствовал себя гораздо увереннее.
А пока я решил отдохнуть у себя в гостинице, но, едва войдя в номер, настороженно замер. В конце концов, может, это и называют нашим знаменитым шестым чувством? Я готов был поклясться, что сюда кто-то заходил, причем явно не коридорный. Я сразу же побежал к чемоданам поглядеть, не обыскивали ли вещи. Но нет, тайный порядок, в котором я сложил немногочисленные оставшиеся там вещи, никто не нарушил. Однако в тот момент, когда я хотел открыть дверцу шкафа и взглянуть, что делается там, за спиной раздался негромкий голос:
— Que usted lo pase buen, senor.[415]
Этот голос… Я так и подпрыгнул и оказался лицом к лицу с беззвучно хохочущим Алонсо. Потрясение оказалось настолько сильным, что я долго стоял, широко открыв рот и не в силах издать ни звука. Алонсо подошел поближе и хлопнул меня по плечу.
— Приди в себя, hombre, все в полном порядке!
— Алонсо!.. Не может быть!
— Ну, Пепе, если я не привидение, надо думать — может…
Мы обнялись. Я все еще не мог поверить такому счастью. Теперь, когда со мной Алонсо, я чувствовал себя в десять раз сильнее. Так вот какие «новые образцы» имел в вид). Андерсон! Ну, уж вдвоем-то мы покончим с Лажолетом, можно не сомневаться!
— Ты остановился здесь же?
Муакил поклонился.
— Луис Марчеро, землевладелец из Аргентины. Приехал в Севилью на Святую неделю. А этот отель рекомендовало мне агентство в Буэнос-Айресе, куда я обратился за справками.
Я настолько обалдел от восторга, что просто не мог подобрать слов, вернее, новостей накопилось слишком много и пойди разбери, с чего начать. Алонсо сообщил мне, что Рут чувствует себя превосходно, но очень волнуется за меня (представляю, как она бы встревожилась, узнав все, что со мной произошло после гибели Эскуариса! Но мое письмо еще не дошло, и Рут, как и ее муж, понятия не имели о существовании Марии), потом он передал мне поцелуй и уверил, будто его супруга надеется, что очарование вновь обретенной Андалусии не заставит меня забыть о ней и я очень скоро вернусь в Вашингтон.
— Короче, у меня такое ощущение, будто на помощь тебе меня скорее послала Рут, чем Клиф Андерсон. Во всяком случае, она просила меня привезти тебя обратно, и поскорее. Право, не понимаю, какие такие достоинства нашла в тебе моя жена, но порой я всерьез думаю, уж не жалеет ли она, что предпочла меня!
— Ты оказался в невыгодном положении мужа, которого она видит каждый день, а я по-прежнему остаюсь бегающим на свободе холостяком!
— Послушать тебя — выходит, будто Рут отложила тебя как спелую грушу на сладкое? И, если вдруг овдовеет…
Мы оба расхохотались, но тут же, не сговариваясь, одновременно подняли левую руку со скрещенными пальцами, чтобы не накликать беду. В конце концов, один из нас был андалусцем, второй — мексиканцем… Потом я осведомился о здоровье «сеньора» Хосе, своего крестника, узнал, что все благополучно, и Муакил перешел к самому главному: Клиф Андерсон, беспокоясь о моей судьбе (событие настолько невероятное, что потрясло меня до глубины души), решил отправить друга на выручку. Андерсон предоставлял нам обоим полную свободу действий и обещал по мере возможности прикрыть. Зато он ни в коем случае не желал, чтобы мы вернулись в Вашингтон, не свернув шею Лажолету. Узнав все новости, я наконец мог перейти к более всего занимавшей меня теме — с первой же минуты мне не терпелось выложить Алонсо потрясающую новость.
— Знаешь, старина, по-моему, Рут не стоит на меня особенно рассчитывать, даже если, паче чаяния, ей бы вздумалось, продемонстрировав здравый смысл, бросить тебя!
— Ага! Так ты ей изменяешь?
— Честно говоря…
— А ну-ка, выкладывай!
Тут-то я и рассказал ему о Марии дель Дульсе Номбре. О ней я мог говорить до бесконечности, и Алонсо узнал обо всем: и о нашей встрече после первого покушения на мою жизнь, и о прогулке, и о помолвке, и об обеде у Перселей, и о моих подозрениях насчет Оберхнера, и о сомнениях в честности Хуана, и даже о записке, которую я получил в Аламеда-де-Эркулес. Умолк я, только почувствовав, что пора отдышаться. Алонсо слушал, не перебивая. А потом он долго смотрел на меня.
— Послушай, Пепе… сдается мне, тебя всерьез шарахнуло!
— Думаю, да.
— И, по-твоему, она поедет с тобой в Вашингтон?
— Обещала.
— В таком случае тут и думать не о чем: садись вместе с ней на ближайший самолет. Судя по тому, с какой яростью тебя преследуют люди Лажолета, они не остановятся ни перед чем. Ты должен поберечь свою Марию. Я сам объясню Клифу, что заставил тебя вернуться домой, поскольку ты окончательно «засветился». Согласен?
— Нет.
— Почему?
— Да потому что я, хоть и влюбился, но еще не стал из-за этого ни трусом, ни подонком. Тебя послали сюда, чтобы мы вместе довели дело до конца, и мы точно так и поступим, сеньор, или опять-таки сообща сложим головы. К тому же я уверен: Мария ни за что не согласится, чтобы я удрал, даже ради ее собственного спасения.
Алонсо исчерпал все возможные аргументы, пытаясь убедить меня уехать, и в конце концов мы чуть не поругались. Но я оставался непоколебим. У меня с Лажолетом теперь были личные счеты. Кто-то из нас в этом деле непременно сложит голову, и я поклялся сделать все возможное, чтобы победил не он. Убедившись, что спорить со мной бесполезно, Алонсо уступил, и мы вместе перебрали в памяти все случившееся с тех пор, как я приехал в Испанию. Я не стал скрывать, что больше всего меня поразило то, как, несмотря на тщательно продуманную «легенду», противники заранее узнали о моем приезде. Алонсо предположил, что, вероятно, у Лажолета везде есть свои люди — как в Севилье, так и на границе.
Надо думать, у него очень солидная организация, и нам придется немало попотеть, чтобы ее уничтожить. Я снова упомянул о странном представителе гамбургской торговой фирмы, как видно, ни разу не бывавшем в Гамбурге. По-видимому, Алонсо это заинтересовало куда больше, чем все покушения на мою особу, так что я даже втайне немного подосадовал. Тем не менее, когда я выложил все сведения и поделился предположениями, друг снова попробовал убедить меня вернуться в Вашингтон. И опять я воспротивился с величайшим пылом.
Мы так увлеклись разговором, что совсем забыли о времени. Мне уже пора было бежать на встречу с Хуаном, и я решил прихватить с собой Алонсо — пусть познакомится с братом Марии. А мою невесту он увидит сегодня за ужином. Алонсо с радостью согласился, тем более что не испытывал ни малейшего желания прятаться от подручных Лажолета. А бумаги на имя богатого аргентинца он прихватил лишь во избежание конфликтов с испанскими властями.
Когда мы добрались до кабачка «У Паскуале», Хуан уже ждал. Я познакомил его с Алонсо и не стал скрывать от брата Марии, что Муакил — не только мой друг, но и коллега и прислан помогать. Как только официант, выполнив заказ, удалился, Хуан гордо вытащил из кармана заказанный мной «люгер». Я внимательно осмотрел пистолет, по профессиональной привычке отметив, что на нем стоит номер 32834, и передал Алонсо. Тот с такой же тщательностью осмотрел оружие. Оба мы решили, что пистолет очень хорош, и похвалили Хуана за расторопность. Молодой человек передал мне еще и три новых полных магазина, так что в случае необходимости я вполне мог бы выдержать осаду, и даже не одну. Я так радовался приезду Алонсо, что предложил нанять фиакр и, словно заправские туристы, покататься по городу, пока не настанет время ехать на Ла Пальма. Пока мы с Хуаном искали экипаж, Алонсо пошел купить коробочку «пурос», о которых, по его признанию, мечтал с тех пор, как пересек границу Испании. Похожая на Россинанта лошадь чинным шагом повезла нас, будто каких-нибудь путешествующих англосаксов, сначала вокруг Маэстрансы, потом на Пасео Христофора Колумба, Пасео де Лас Делисиас, оттуда — в парк Марии-Луизы поклониться статуе Сида Кампеадора[416], и мимо цветущих садов Мурильо мы скользнули в прелестный баррио Санта-Крус и снова оказались в самом сердце Севильи. Мы радовались, как дети, и совершенно забыли про Лажолета. Кучер высадил нас на площади Спасителя и, получив щедрое вознаграждение, долго кричал вслед «Vaya con Dios», так что у нас совсем потеплело на сердце.
Послушайся мы Алонсо, наверное, закупили бы целые горы провизии. Ему хотелось все купить, всего попробовать. У Хуана чуть живот не заболел от смеха. Лишь совместными усилиями нам удалось заставить Муакила ограничиться гамбас, адьбондигас, альса чофас релленас, эмпанадильяс и манос де тернера гвисадас[417]. Хуан нес сыр, карне де мербрильо и бискочо боррачо, а я с трудом удерживал множество бутылок хереса, мускателя и «Сан Садурни де нойя», навьюченных на меня Алонсо.
Войдя в дом, Мария дель Дульсе Номбре остолбенела, пораженная обилием разложенных на столе яств. Алонсо попросил у нас с Хуаном разрешения поцеловать девушку от себя и от имени Рут, которая в скором времени станет ей сестрой. Пока Мария и ее брат накрывали на стол и подогревали готовые блюда, друг отвел меня в сторонку и шепнул, что еще в жизни не видывал такой красивой девушки, как моя невеста. Стараясь скрыть волнение, я попросил его не повторять такой же злой шутки, как в те времена, когда я ухаживал за Рут. Алонсо со смехом возразил, мол, теперь мне больше нечего опасаться — его жизнь в достаточной мере занята Рут и «сеньором» Хосе, и добавил, что, коли так пойдет и дальше, мы, похоже, создадим в ФБР настоящую испанскую колонию, а Клифу Андерсону придется учить язык, коли он захочет выведать наши секреты.
Еще до ужина Мария рассказала, что донья Хосефа сообщила ей важную новость. Сеньор Персель выяснил, что Оберхнер — просто самозванец, мелкий жулик, задумавший, по всей видимости, сорвать приличные комиссионные за фиктивную сделку и скрыться с добычей. Не желая иметь дело с полицией, дон Альфонсо просто выставил наглого тевтона за дверь. Супруги благодарили меня за то, что я открыл им глаза, и приглашали прийти обедать или ужинать в любое удобное для меня время. Из всего сказанного я заключил, что, вероятно, Карл Оберхнер не питает ко мне особо теплых чувств (если, конечно, понял, что удар исходит от меня), но, в конце концов, при моем тогдашнем положении одним врагом больше, одним — меньше — не имело значения.
Мария пробыла с нами очень недолго и все это время расспрашивала Алонсо о Рут, о «сеньоре» Хосе, просила показать фотографии малыша. Но, главное, брат с сестрой хотели побольше узнать о Вашингтоне, городе, где им скоро предстояло жить. Потом девушка отправилась в церковь Сан-Хуан, а мы еще долго сидели за столом, запивая ромовую бабу мускателем. Всех троих охватило безудержное веселье, и я настолько воспарил к облакам, что готов был признать: да, кое в чем (правда, я не сумел бы объяснить, в чем именно) Вашингтон может сравниться с Севильей. Но самое занятное — что Алонсо со мной соглашался. Короче, нам так хотелось видеть все в розовом свете, что, пожалуй, никто не стал бы оспаривать возможность отправиться в свадебное путешествие на Луну, хотя мы с коллегой отлично знали, что все уважающие себя граждане Соединенных Штатов в таких случаях непременно едут любоваться Ниагарским водопадом.
Лишь около часу ночи мы наконец стали прощаться. Спускаясь по лестнице, все трое пели, а Хуан, сначала решивший проводить нас до крыльца, не пожелал возвращаться домой. Малыш дошел с нами до «Сесил-Ориента» и там предложил пропустить по последней рюмочке «У Паскуале». Я был настолько взбудоражен, что не надеялся сразу заснуть, и охотно согласился. Но Алонсо уже спал на ходу, и мы оставили его в гостинице. По правде говоря, дело не ограничилось «рюмочкой», и, когда я в свою очередь поднялся из-за стола, оставив Хуана дремать, опустив голову на скрещенные руки, в мозгу у меня изрядно шумело. Поднимаясь по улице Сарагосы, я вдруг заметил, что следом тихонько едет машина. Опьянение как рукой сняло. Неужто подручные Лажолета, как в каком-нибудь гангстерском фильме, изрешетят меня прямо посреди улицы? В полной панике я стал искать глазами возможное укрытие, но по ночам в Севилье, как и везде в Испании, двери крепко заперты, а ни единого серено[418] я поблизости не заметил. Машина поравнялась со мной, и я уже в полном отчаянии хотел броситься на землю, как вдруг автомобиль замер и меня окликнули по имени:
— Сеньор Моралес?
Я обернулся и узнал инспектора Лусеро. Приоткрыв дверцу, полицейский сделал мне знак подойти поближе.
— Сеньор Моралес, комиссар Фернандес очень хотел бы увидеться с вами.
— Так поздно?
— Вы прекрасно знаете, сеньор, что в Испании, и особенно в Андалусии, предпочитают работать по ночам.
— Вероятно, я еще не вполне акклиматизировался, но, честно говоря, мне бы очень хотелось сейчас лечь… Будьте любезны, передайте комиссару Фернандесу мои извинения и скажите, что…
— Боюсь, это невозможно, сеньор, — мягко перебил меня Лусеро. — Мой шеф ждет вас уже много часов… Он не хотел портить вам вечер, но ведь нельзя же, чтобы его ожидание оказалось напрасным?
Несмотря на безукоризненную любезность полицейского, я догадывался, что он получил строгий приказ и ни в коем случае не позволит мне добраться до «Сесил-Ориента», минуя Фернандеса. Смирившись с неизбежным, я пожал плечами.
— Ладно.
— Благодарю, сеньор, я не сомневался, что вы поймете меня правильно.
Фернандес сидел в кресле, но заострившиеся черты лица выдавали бесконечную усталость. В кабинете тошнотворно пахло остывшим табаком. Лусеро вышел, и комиссар предложил мне сесть. Сначала он молча смотрел на меня, не говоря ни слова.
— Я уже предупредил вас, сеньор Моралес, что ожидаю первого же повода отправить вас на границу. К сожалению, вам не придется провести здесь Святую неделю… Завтра вы сядете в ночной скорый и поедете в Мадрид, а оттуда — в Ирун… Место закажут заранее, а Испании вам больше никогда не видать.
Я так удивился, что лишь с трудом выдавил из себя:
— Но… по… почему?
— Потому что я не могу позволить иностранцам приезжать к нам на праздник с револьвером в кармане!
И, повысив голос, полицейский добавил:
— Полагаю, вы не из особой преданности Макарене или Иисусу Всемогущему раздобыли пистолет системы «люгер», зарегистрированный под номером тридцать две тысячи восемьсот тридцать четыре?
Опять меня обвели вокруг пальца!
— Но как вы…
— …оказался в курсе? Очень просто — получил анонимный звонок. Однако, судя по выражению вашего лица, это не было розыгрышем? Ну, сеньор Моралес, отдайте мне оружие!
Я протянул пистолет. Фернандес внимательно осмотрел его и даже понюхал дуло.
— Американская контрабанда… А где запасной магазин?
Я молча отдал все три. Комиссар присвистнул от удивления. Хотя, очень возможно, не слишком искреннего.
— Три магазина? Вы что же, решили учинить тут настоящую бойню?
Фернандес встал, подошел ко мне и, нагнувшись к самому лицу, проговорил:
— В последний раз спрашиваю, сеньор Моралес: кто вы такой?
Он подождал ответа, но я упорно молчал. Полицейский снова выпрямился.
— Как вам угодно… я мог бы содрать с вас очень внушительный штраф, но предпочитаю просто выслать из страны…
Я чувствовал, что комиссар принял окончательное решение и ничто не заставит его передумать, хотя… А в конце-то концов, чем я теперь рискую? Пусть сейчас Фернандес ненавидит меня всеми фибрами души, но, пожалуй, откровенность может сделать его очень ценным союзником. И я тяжело вздохнул, как человек, полностью осознающий поражение и готовый сдаться на милость победителя.
— Ладно, сеньор комиссар, ваша взяла…
Он подозрительно уставился на меня.
— И что это значит?
— Вы правильно угадали…
— То есть?
— Я действительно приехал в Севилью из-за наркотиков…
Он ударил меня так неожиданно, что я не успел среагировать. Меж тем сеньор Фернандес явно не пожалел сил и сразу же разбил мне скулу, а я отлетел вместе с креслом и больно стукнулся о шкаф-картотеку у противоположной стены. Ну и удар! Пока я тряс головой, пытаясь сообразить, что на него нашло, и вытирал ребром ладони стекавшую по подбородку кровь, полицейский сквозь зубы прошипел:
— Arriba, cobarde.[419]
Ничего себе манеры!.. Я с трудом выбрался из-под кресла, но, как только вновь принял вертикальное положение, Фернандес снова налетел, как смерч, и я едва успел парировать правым плечом новый удар. Я начал сердиться по-настоящему и в ярости крикнул:
— Basta![420]
Тут дверь открылась, и всегда любезный добряк Лусеро попытался сразу же двинуть меня ногой пониже пояса. И опять я не без труда успел подставить бедро. Если не навести порядок немедленно, эти два психа меня просто прикончат. Я схватил инспектора за руки и, собрав все силы, швырнул через плечо прямо на стол комиссара. На некоторое время хотя бы один утратил интерес к моей особе. Но комиссар в ту же секунду стукнул меня по голове рукояткой пистолета. Из глаз посыпались искры, и я рухнул на пол.
— Сопротивляться вздумал, а?
Фернандес презрительно хмыкнул. Лицо его кривила гримаса ненависти — я не раз видел такую у тех, кто пытался меня убить. Но я вовсе не желал окончить дни свои так по-идиотски! Я попробовал встать, но тут же снова полетел на пол, только на сей раз следовало поблагодарить за угощение Лусеро — он пришел в себя и незаметно подкрался сзади. Однако куда больше, чем вполне реальная опасность (эти чокнутые и в самом деле, похоже, вознамерились меня прикончить!), раздражало то, что я никак не мог взять в толк, откуда подобное остервенение. Словно догадавшись о моем полном замешательстве, Фернандес удержал помощника и угрожающе навис надо мной.
— Не понимаете, а, Моралес? Что ж, сейчас я вам расскажу одну историю… Жил в этом городе один государственный служащий, и было у него единственное дитя, девочка по имени Инес…
Я так ошалел от несуразности всего происходящего, что даже не подумал встать.
— Очень красивая девушка, Моралес… и отец ею безумно гордился… Так гордился, что и не следил за знакомствами дочки, как следовало бы… Несмотря на то что много лет проработал в полиции, этот отец не желал верить, что на земле так много подонков! Инес заболела… тяжко заболела и страшно мучилась… Ее отправили восстанавливать силы на шикарный курорт, потому как родители полагали, будто для их девочки никакие жертвы не в тягость… А там… какая-то подлая мразь приучила ее к наркотикам… Откройся Инес отцу сразу же, тот мог бы ее спасти… вылечить… но бедняжку наверняка слишком терзал стыд, и порок укоренился… Девочка начала красть у родителей, чтобы раздобыть отраву… наконец, подделала отцовскую подпись на чеке… а поняв, что натворила… Инес покончила с собой, Моралес… бросилась в Гвадалквивир…
Голос комиссара сорвался.
— Когда мне принесли мою крошку, я даже не сразу понял… И только получив письмо, написанное ею перед смертью… узнал правду. Так вот, Моралес, в тот день я дал клятву, что всякий торговец наркотиками, попав ко мне в руки, навсегда потеряет охоту к своему грязному бизнесу… Вы отлично сделали, что начали рыпаться, Моралес, теперь я вас просто убью…
Фернандес взял свой пистолет, а мой «люгер» бросил Люсеро.
— Сделаем так, будто это вы стреляли первым, Моралес, но промазали, ну а я прицелился лучше…
Я поглядел на бесстрастную физиономию Лусеро. А комиссар, перехватив мой взгляд, улыбнулся:
— Инспектор был женихом моей дочери…
Теперь все стало ясно. Настал момент рассеять недоразумение, иначе он и вправду мог выстрелить. Я заговорил очень спокойно, и скорее всего именно эта невозмутимость помешала Фернандесу спустить курок.
— Надеюсь, вы не собираетесь прикончить коллегу?
— Коллегу?
Я осторожно встал и, кое-как наведя порядок в одежде, представился:
— Хосе Моралес, гражданин Соединенных Штатов Америки, агент отдела ФБР по борьбе с наркотиками.
Теперь уже они оба вытаращили глаза.
К четырем часам утра я закончил рассказ о том, какое получил задание и почему из дипломатических соображений вынужден был хранить инкогнито. Не стал я скрывать и что Лажолет и его подручные выяснили, кто я такой, — отсюда и покушения, от которых мне лишь чудом удалось спастись. Воспользовавшись случаем, я еще раз поблагодарил Лусеро. Рассказал я им и о приезде Алонсо. Я попросил у комиссара Фернандеса и помощи, поскольку без их молчаливого согласия мои шансы на успех практически равны нулю. Для меня главнее, объяснил я, накрыть преступную организацию, а уж арестовать бандитов с удовольствием предоставлю им. Самому мне нужен только Лажолет. Комиссар пожал плечами.
— Если это и впрямь такой крепкий орешек, как вы сказали, он наймет кучу ловких адвокатов и выйдет сухим из воды!
— Нет, сеньор комиссар, поскольку я твердо решил, что Лажолет больше не подвластен людскому правосудию!
Фернандес пристально посмотрел мне в глаза, потом медленно подвинул в мою сторону «люгер» и три магазина к нему.
— Только постарайтесь, amigo, чтобы нам не пришлось вмешаться раньше времени!
Страстная суббота
Хоть вся Севилья накануне Вербного воскресенья и начала Святой недели и выглядела празднично, я был настроен далеко не жизнерадостно. Да, конечно, я помирился с комиссаром Фернандесом и в случае осложнений всегда мог рассчитывать на его помощь, но все портила уверенность, что меня предает Хуан. От нее я уже никак не мог отделаться. После покушения на Баркуэта я внушил себе, будто малыш стал игрушкой в руках слишком хитрого для него противника, но эта история с револьвером… Кто еще мог предупредить полицейских? Только Хуан… Разве что это сделал торговец, а в таком случае пришлось бы предположить, что он не только заодно с подручными Лажолета, но еще и выведал у Хуана, для кого тот покупает оружие. С какой стороны ни глянь, получалось, что поведение моего будущего родственника более чем подозрительно…
У него не было определенных средств к существованию… Почему Марию не беспокоит вопрос, каким образом ее брат зарабатывает деньги? Почему она позволяет Хуану болтаться по кабакам, пока сама работает? Такое попустительство просто не укладывалось в голове. Мы договорились, что в эту субботу я не смогу увидеть Марию — девушке предстояло украшать цветами праздничную платформу своей покровительницы, но я все же решил заглянуть в церковь Сан-Хуан до полудня, прежде чем все расскажу Алонсо.
На Ла Пальма царило радостное оживление. Люди то и дело заходили в церковь полюбоваться пасос своего братства. Каждый уже множество раз видел их убранство, но зрелище не приедалось, и верующие на разные голоса воспевали элегантность, богатство и изящество обеих платформ. Обитатели квартала очень гордились, что их святая покровительница одной из первых выйдет из церкви в канун Святой недели. Армагурская дева и в самом деле пройдет по улицам на следующий день после Вербного воскресенья, около семи часов вечера, лишь немного уступив другим, столь же почитаемым изображениям Богоматери — «Ла Пас»[421], «Ла Иниеста»[422], «Грасиа и Эсперанса»[423] и «Ла Эстрелла»[424]. Музыканты из муниципального оркестра и трубачи Хиральды, которым предстояло возглавить процессию, уже репетировали.
Какая-то девушка собиралась войти в ризницу, и я попросил предупредить Марию о моем приходе. Та не замедлила появиться. На лице моей невесты читалось неудовольствие, смешанное с удивлением.
— Хосе!.. Я же сказала вам, что сегодня…
— Знаю, Мария, но вы, наверное, догадываетесь, что, если я позволил себе побеспокоить вас в такой момент, значит, дело очень серьезное?
Девушка сразу встревожилась.
— Что-нибудь случилось с Хуаном?
Я покачал головой, чтобы ее успокоить, и тут же повел на площадь. Там я рассказал о вчерашнем происшествии с пистолетом и, стараясь ни в чем прямо не обвинять Хуана, напомнил, что в «Эспига де Оро» меня направил тоже он. Мария подняла голову, и я, увидев, что она плачет, испытал настоящее потрясение.
— Хосе… забудьте о наших планах…
— Что? Но почему, Мария?
— Потому что я никогда не смогу стать женой человека, который не доверяет моему брату!
— Но, послушайте, Мария, вы ведь не отвечаете за поступки Хуана!
Она взяла меня за руку.
— Нет, Хосе, нам больше не на что надеяться… Я знаю мальчика как сына… У него много недостатков, но я уверена, что Хуан не способен совершить низость и уж тем более — предательство.
Я попытался убедить девушку, ссылаясь на то, что она понятия не имеет, как проводит Хуан дни и большую часть ночи, добавил, как меня возмущает, что парень взвалил на нее одну все заботы о домашнем бюджете. По-моему, говорил я, от такого легкомысленного и безвольного человека можно ожидать чего угодно. Тщетно. Я видел, что Мария глубоко страдает, но ее вера в брата осталась непоколебимой. Я злился на себя, что причиняю ей боль, но когда-нибудь этот нарыв все равно пришлось бы вскрыть. Мне хотелось обнять девушку, утешить и поклясться, что я вовсе не отождествляю ее с братом, что я люблю ее, а остальное не имеет значения. Но Мария качала головой, как обиженный ребенок, и ее дрожащий голосок отзывался болью в моем сердце.
— Вы во многом правы, Хосе… Я не сумела с должной строгостью воспитать Хуана. Но, с тех пор как познакомился с вами, он сильно изменился. Мальчик хочет во всем подражать вам. Он бесконечно вами восхищается! Я так надеялась, что благодаря вам у Хуана наконец появится чувство ответственности! И надо ж, чтоб именно вы, его идеал, обратились против него…
— Вы ошибаетесь, Мария, я вовсе не против Хуана! Просто я поделился с вами умозаключениями, логически вытекающими из фактов…
— Возможно, ваши рассуждения и верны, но выводы явно ошибочны. Я согласна, что внешняя сторона дела свидетельствует против моего брата, но уверена — слышите? — уверена, что Хуан помогает вам и никакой он не предатель, как вы вообразили!.. Хотите, я поговорю с братом?
— Нет. Я сам найду объяснение, если таковое вообще существует.
Она остановилась.
— А теперь, Хосе, мне надо вернуться к Деве. Меня уже ждут.
— Мария, поклянитесь, что вы не думаете того, что сказали о наших планах… У нас все по-прежнему, правда?
— Сами знаете, Хосе… Но не заставляйте меня выбирать между братом и вами… Я люблю вас, Хосе, но у меня есть определенные обязанности по отношению к Хуану, и я не имею права от них уклониться.
Я проводил девушку до крыльца Сан-Хуан и, как только она исчезла из виду, вновь остался на залитой солнечным светом Ла Пальма один, в полной растерянности. Мария не смогла убедить меня в невиновности брата. Я хорошо понимал ее точку зрения, но сам не мог позволить мальчишке и дальше ставить мне палки в колеса, если, конечно, он и в самом деле этим занимается. Так или иначе, я решил серьезно поговорить с Хуаном и устроить ему допрос в стиле Клифа Андерсона.
Бродя по кварталу Сан-Дьего в надежде встретить брата Марии, я неожиданно столкнулся с Карлом Оберхнером. На мгновение мы оба замерли, потом немец вдруг захохотал и, протянув руку, сказал на безукоризненном английском:
— Как поживаете, господин агент ФБР?
Я онемел от изумления, чем явно доставил герру Оберхнеру огромное удовольствие. Он дружески хлопнул меня по плечу.
— Признайтесь, вы этого не ожидали, а?
И, фамильярно взяв меня под руку, он предложил:
— Пойдемте… По-моему, нам есть о чем поговорить…
Мы устроились на скамейке на площади Сан-Фернандо, и Оберхнер тут же взял быка за рога:
— По вашей милости меня просто-напросто вышибли из дома Перселей. В жизни не видел такой разъяренной физиономии, как у дона Альфонсо! Он буквально подпрыгивал от злости! Поверить ему — так я просто грабитель с большой дороги. Сеньор Персель поклялся, что не выдал меня полиции исключительно по доброте душевной, — хотел, видите ли, дать мне шанс исправиться! Хотите верьте, хотите — нет, Моралес, но этот малыш дон Альфонсо чуть не спустил меня с лестницы!
Воспоминание рассмешило Оберхнера.
— Вы, разумеется, знаете Гамбург?
— Да, я прожил там какое-то время.
— Мне следовало предвидеть такую возможность и не выбирать большой город… Но, ничего не поделаешь, все мы время от времени совершаем глупости… Увы, я настолько вошел в роль, что почти не соображал, какую чушь болтаю… Малость переиграл, а?
— Обычная топографическая ошибка…
— Достойная сопливого новичка! Зато вас я здорово сумел пронять сентиментальной песенкой, верно? Как вам понравилась вся эта самокритика бедняги немца?
— Блестяще сыграно, могу вас поздравить. Однако, если вы прекрасно знаете, кто я, то я никак не могу похвастать такой осведомленностью на ваш счет.
— Чарли Арбетнот, подданный Ее Величества королевы Британии, инспектор Скотленд-Ярда… всегда к вашим услугам.
Он достал бумаги и протянул мне. Похоже, что настоящие. Тем не менее меня как профессионала все еще мучили остатки сомнений.
— Каким образом вы узнали, кто я?
— От почтеннейшего Альфонсо Перселя. Он так прямо и сказал, что детектив из американского ФБР посоветовал ему держаться со мной поосторожнее, ибо, скорее всего, я просто самозванец. А поскольку я заметил ваше удивление, когда речь шла о Гамбурге, от меня не потребовалось особых умственных усилий, чтобы угадать, кого он имел в виду… Дорогой мой, в тот момент я бы с удовольствием придушил вас своими руками — уж очень лихо вы ухитрились вышибить почву у меня из-под ног и загубить на корню плоды долгих усилий!
Голос Арбетнота доносился как сквозь плотную завесу тумана. Заявление его меня просто убило. Итак, несмотря на все клятвы и обещания, Мария тоже предала меня? Что это, непоследовательность или расчет? Этот новый удар после ссоры с девушкой из-за ее брата окончательно выбил меня из колеи. А что, если Мария — сообщница Хуана? Но почему? Почему? Разве не разумнее предположить, что, гордясь мной, Мария рассказала донье Хосефе о моих подозрениях насчет Оберхнера, а когда та усомнилась в их правдивости, девушка, возможно, по секрету сказала, кто я. Но тогда из каких соображений невеста не предупредила меня? Может, побоялась?
Чарли Арбетнот фамильярно похлопал меня по ляжке.
— По-моему, вы больше не слушаете. В чем дело?
— Я раздумываю, каким образом Персель мог узнать, чем я занимаюсь на самом деле, — с трудом выдавил я из себя.
Англичанин подмигнул:
— Ну, уж об этом, мой дорогой, вам должно быть известно лучше, чем мне. Слушайте, Моралес, я полагаю, что в Севилью нас обоих привела одна и та же причина…
Но я не хотел первым выкладывать карты на стол.
— Не знаю…
Арбетнот закудахтал от удовольствия.
— Я вижу, со мной вы куда осторожнее, чем с… известной особой?
— Что вы имеете в виду?
— Ничего такого, чего бы вы уже не знали и так, мой дорогой… Но это ваше дело. Вы приехали из-за Лажолета, верно?
Отрицать не имело смысла.
— Да… и вы — тоже?
— Конечно. Этот господин переправляет в Англию слишком много наркотиков, с тех пор как вы имели глупость его отпустить.
— Успокойтесь, в Штаты он наверняка поставляет еще больше.
— Так давайте работать вместе. А славу победителей разделим пополам. Только сначала надо уничтожить банду.
— Ну, меня интересует не столько банда, сколько сам Лажолет.
— Хотите отвезти его в Соединенные Штаты?
— Нет, уложить на месте.
Он присвистнул от удивления.
— Ну и ну! В ФБР, как я погляжу, не привыкли размениваться на пустяки!
— Лажолет — очень опасный преступник. Стоит разогнать одну банду, как он тут же соберет новую. Нет, Арбетнот, поверьте, мы сможем спокойно вздохнуть, только когда этот самый малый навсегда успокоится под землей.
— Ну, это проще сказать, чем сделать…
— Если вы мне поможете, надеюсь, это вполне осуществимо.
— А какие у вас есть козыри?
— Почти никаких. А у вас?
— Кое-что… Обменяемся?
— Согласен. Начинайте!
— Я бы предпочел сперва выслушать вас…
Я, в свою очередь, рассмеялся.
— Сдастся мне, в Ярде тоже любят осторожничать… Ну, не будем мелочиться…
И я рассказал ему обо всем: как мне пришлось изображать торгового представителя фирмы Бижар, как погиб Эскуарис, как на меня трижды покушались, как я чудом спасся от убийц, о подозрениях насчет Хуана и, наконец, признался, что сейчас просто блуждаю в потемках в слабой надежде обнаружить хоть лучик света, который приведет меня к желанной цели. Не стал я упоминать лишь о комиссаре Фернандесе, решив хоть что-то оставить про запас. Разумеется, я не знал еще, действительно ли Арбетнот инспектор Скотленд-Ярда, но, в конце концов, чем я рисковал? Коли парень не врет, я всегда успею дополнить рассказ и, например, познакомить его с Алонсо. В противном же случае, то есть если бы мнимый Арбетнот оказался очередным посланцем Лажолета, вряд ли я сообщил ему что-нибудь новое. Короче, я вполне мог позволить себе роскошь пооткровенничать.
Чарли внимательно слушал.
— Насколько я понимаю, несмотря на все передряги, вам чертовски везет, — проговорил он, когда я умолк. — Выяснить, каким образом они пронюхали о вашем приезде, практически невозможно, это уже не имеет никакого значения… Куда важнее и полезнее разузнать, кто сейчас предупреждает бандитов о каждом вашем шаге.
И, немного помолчав, Арбетнот добавил:
— На сей счет у меня есть кое-какие соображения, но я вовсе не жажду поссориться с вами и нажить еще одного врага… во всяком случае, пока…
— По-моему, сейчас не время иронизировать, — сухо заметил я, чувствуя, что он имеет в виду Марию (сама мысль об этом казалась мне просто невыносимой). — Выкладывайте-ка лучше, что знаете вы!
Арбетнот признался, что уже три недели живет в Севилье, а до этого еще месяц провел в Барселоне. Ярд получил примерно такие же сведения, как и ФБР, они исходили из одного источника. Зная, что Лажолет обосновался в каталонской столице, англичане предполагали, что такой хитрый и ловкий тип не станет рисковать, проворачивая незаконные операции в непосредственной близости от своего жилища. Чарли несколько месяцев терпеливо собирал по крохам сведения от разных испанских агентов, пока не пришел к выводу, что подготовка и отправка наркотиков в Англию и Соединенные Штаты происходит в Андалусии. Эскуариса Арбетнот не знал, но одного из его лучших осведомителей недавно выловили из Гвадалквивира с ножом между лопаток. Это-то и заставило Чарли примчаться сюда. То, что меня так упорно старались отправить на тот свет, по его мнению, доказывало, что мы оказались именно там, где надо. Теперь следовало найти транспортировщиков, поставщиков и, главное, выяснить, каким образом они пересылают наркотики. Короче говоря, англичанин знал не больше моего. Зато я совершенно не понимал, с какой стати ему вздумалось обманывать Перселей. Я откровенно спросил, зачем он это затеял, чтобы сразу показать: я не намерен терпеть никаких недомолвок.
— Просто я надеялся через них добраться до тех, кто нас интересует…
— Надеюсь, вы не станете утверждать, будто Персели могут быть сообщниками…
— А почему бы и нет?
Решительно, Господь мне готовил в тот день целую серию поразительных открытий! Толстуха, добрая донья Хосефа с ее материнской улыбкой и малыш дон Альфонсо, который так старательно тянется вверх, чтобы казаться повыше ростом!.. За время работы в ФБР я навидался самых разнообразных мерзавцев, но еще ни разу в жизни не встречал таких, кто бы настолько смахивал на скромных благочестивых буржуа, как эта парочка! Право же, если Чарли не ошибся, есть от чего прийти в отчаяние…
— Вас это удивляет?
— По правде говоря, мне трудно представить, что донья Хосефа и дон Альфонсо способны на преступление…
— Именно поэтому они особенно опасны…
— Но, послушайте, Арбетнот, судя по всему, ни тот, ни другая — вовсе не наркоманы!
— Не мне, дорогой мой, объяснять вам, что торговцы остерегаются сами употреблять эту мерзость!
Это чистая правда. Впрочем, именно холодный расчет продавцов медленной смерти меня и возмущал больше всего, ведь они отлично понимали, на что обрекают своих несчастных клиентов.
— Так, по-вашему, Персели…
— Заметьте, Моралес, я не могу ничего утверждать наверное, доказательств-то никаких нет… Просто они постоянно поддерживают связь с Барселоной и с тамошними текстильными фирмами, а кроме того, экспортируют немало товара в Латинскую Америку.
— Наверняка в Севилье этим занимаются не они одни, верно?
— Разумеется, но Персели — едва ли не крупнейшие партнеры каталонских торговцев тканями… а ведь именно в Барселоне Лажолет устроил себе штаб-квартиру.
— Знаю. Но, по-вашему, труднее всего выманить его сюда, в Севилью.
— Разве что нам удастся поставить его андалусскую организацию под угрозу. Во всяком случае, не явись вы к Перселям, я бы уже составил определенное мнение на их счет.
— Мне очень жаль.
— Откуда ж вы могли знать?
Англичанин встал.
— Я живу сейчас в «Мадриде». Если вам захочется меня увидеть, позвоните туда. Но, думаю, нам стоило бы действовать сообща.
— Договорились.
Мы с Алонсо назначили встречу в кафе на проспекте Льяно, напротив собора. Но я не сразу отправился туда. Мне хотелось сначала прийти в себя и набраться мужества, ведь так или иначе, а придется рассказать другу последние новости, сколько бы они ни приводили меня в полное отчаяние. Я не хотел признаваться Арбетноту, что он, скорее всего, угадал верно, поскольку подозрения насчет Перселей совпадали с моими собственными, ибо теперь я перестал доверять Марии и Хуану… В конце концов, если допустить, что донья Хосефа и дон Альфонсо — преступники, то какова же роль Марии подле них? Поведение Хуана меня не особенно волновало, но Мария… Все мое существо возмущалось при мысли, что я мог обмануться до такой степени. Как понять ее искреннее стремление украсить пасо Армагурской Девы, ее страстную набожность и кротость, если Арбетнот и в самом деле прав? Я ведь отлично понял, что он имел в виду, но не захотел сказать вслух, а в ушах у меня еще звучала фраза: «На сей счет у меня есть кое-какие соображения, но я вовсе не жажду поссориться с вами и нажить еще одного врага». Чарли, конечно, думал о Марии и, зная, что мы с ней обручены, как истинный британец презирал мою слабость. Да, само собой, если допустить, что брат и сестра действительно сообщники, все стало бы просто и ясно. Лажолет, прекрасно осведомленный обо всех моих достоинствах и недостатках, должно быть, угадал, что по приезде в Севилью я первым делом побегу взглянуть на отчий дом, а там меня уже будут поджидать Мария и Хуан, возможно… его подручные… Работа приучила меня никогда не доверять слишком простым решениям, и сейчас я не мог бы ухватиться за эту привычку как за последнюю спасительную соломинку. И однако в глубине души я не сомневался (хотя и отгонял эту мысль), что, коли дальнейшие события подтвердят правоту Чарли, ничто не спасет Марию от моего гнева. И он будет вдвойне страшен, ибо здесь затронута и моя честь обманутого полицейского, и боль оскорбленного жениха. От одной мысли об этом я невольно сжал кулаки. Мне уже хотелось осыпать ее проклятиями, ударить… Пробудившись, испанская кровь мигом разрушила оболочку, созданную англосаксонским воспитанием. Какие уж тут хладнокровие и трезвый расчет! Никакие меры не бывают слишком грубыми и жестокими, если надо отомстить предателям, пустившим в ход самые низкие и подлые средства!
Алонсо, куривший сигару, потягивая херес, по-моему, замечательно вписывался в обстановку. Честное слово, он, кажется, больше походил на андалусца, чем я сам!
— Хосе… — выдохнул он, когда я устроился рядом. — Не понимаю, каким идиотом надо быть, чтобы жить вдали от Севильи…
— Похоже, ты слегка запамятовал, что мы приехали сюда не разыгрывать из себя туристов или раскаявшихся блудных сыновей!
Против воли я заговорил так сухо, что друг удивленно посмотрел на меня.
— Что на тебя нашло, Пепе?
— Да просто все на свете опротивело!
— Ого! А скажи-ка, Хосе, кто именно внушает тебе подобные чувства в большей степени, мужчины или женщины?
— Даже не знаю… хотя, если вдуматься, пожалуй, все-таки женщины…
Он похлопал меня по плечу.
— Что-нибудь неладно с Марией?
— Боюсь, теперь все пошло наперекосяк, Алонсо…
— Послушай, Пепе, надеюсь, в твоем-то возрасте ты не станешь впадать в отчаяние из-за жалкой любовной ссоры?
— Да нет, тут дело серьезнее, куда серьезнее, Алонсо…
Мой тон произвел должное впечатление, и в одну секунду Муакил из счастливого туриста превратился в сурового и безжалостного полицейского, бок о бок с которым мне так часто приходилось работать. И я снова уверовал в успех. Рядом с Алонсо мне нечего опасаться серьезных неприятностей, и, если, паче чаяния, я все же расстанусь с Марией, друг сумеет утешить. Я рассказал Алонсо, как меня арестовала полиция, но и от него скрыл новые отношения, возникшие между нами с Фернандесом и Лусеро, потому что пришлось бы упомянуть и о несчастной маленькой Инес, а я не имел на это права. Зато о подозрениях насчет Хуана рассказал без утайки.
— Может, ты и прав, Хосе… Мальчишка слишком экзальтирован и восторжен, и пока я плохо представляю себе его роль во всей этой истории… Довольно подозрительно, что, не работая, Хуан все же умудряется как-то существовать и добывать достаточно денег хотя бы на выпивку, когда его мучает жажда… Разумеется, если он работает на Лажолета, загадка объясняется очень просто. Довольно скверно для его сестры, коли мы не ошиблись…
— Для его сестры? У меня есть все основания полагать, что они с братцем — два сапога пара!
— Ты что, спятил?
И я ему все выложил: и о внезапном превращении Оберхнера в Чарли Арбетнота, и о его расследовании у Перселей, и о невольной или намеренной болтливости Марии, раскрывшей мое инкогнито. Алонсо слушал, не перебивая.
— Бедный мой старина, — заметил он, когда я умолк. — А тебе не показалось странным, что англичане занимаются той же историей, а мы не в курсе?
— Сам знаешь, у нас не принято оповещать друг друга о таких вещах… во всяком случае, без крайней нужды.
— Согласен. А наши осведомители?
— Возможно, они работают заодно и на англичан.
— Не исключено. Но так или этак, а первым делом надо выяснить, действительно ли Арбетнот — тот, за кого себя выдает. Нет, не надо его описывать. Я не хочу, чтобы на меня это заранее повлияло. Сейчас же схожу в консульство и попытаюсь связаться с Вашингтоном, а уж они пускай позвонят в Лондон. А вечером встретимся здесь же, ладно?
— Так до встречи, Алонсо.
Я чувствовал, что Муакил явно хочет добавить что-то еще, но, видно, не решается.
— Хосе, — пробормотал он наконец. — Ты знаешь, как я тебя люблю… и что мы с Рут считаем тебя родным братом?
— И зачем ты мне это говоришь?
— Из-за Марии… Расследование может стать для тебя слишком тяжким бременем. Доставь мне удовольствие, Пепе, возвращайся в Вашингтон. Я позвоню Клифу. Объясню, что ты окончательно раскрыт и больше не в состоянии мне помочь. А кроме того, тебя трижды пытались прикончить. Я уверен, что Андерсон все поймет и прикажет тебе срочно лететь домой. Подумай! Зачем тебе тут торчать? Если Мария ни в чем не виновата (а я надеюсь, что так оно и есть), то сама приедет в Вашингтон. Если же она виновна, к чему тебе напрасно страдать? Прошу тебя, Хосе, ради нашей дружбы, уезжай!
Слова Алонсо меня немного удивили, но, главное, ужасно растрогали. Похоже, старина и вправду не на шутку беспокоится. Никогда он еще так явно не показывал, насколько привязан ко мне, даже после того, как я уступил ему Рут… Я понимал, что Алонсо прав и надо бы последовать его совету, но я ненавижу оставаться побежденным, а бежать, пусть даже из-за Марии, означало бы сдаться, и я бы себе никогда этого не простил.
— Послушай, Алонсо… — слегка охрипшим голосом проговорил я, сжав его руку. — Я тоже, знаешь ли, очень тебя люблю. Но я уже не дитя… Да, это будет тяжко… очень тяжко… И что с того? Не в моих привычках бросать начатое дело. Мы вместе работаем, значит, вместе и закончим преследование. Тем хуже для меня и тем хуже для тех, других… Я не желаю краснеть от стыда ни перед тобой, ни перед Рут, ни перед Андерсоном.
— Как хочешь, Хосе. Но помни: я очень просил тебя уехать.
И он исчез прежде, чем я успел ответить.
Севилья не так уж велика, а потому, неторопливо прогуливаясь по Сьерпес, рано или поздно непременно встретишь того, кто тебе нужен. Я уже несколько раз из конца в конец прошел улицу, о которой с такой гордостью говорит любой андалусец, когда наконец увидел Хуана. Парень праздно шатался по Сьерпес, время от времени поглядывая на муниципальных служащих, расставлявших вдоль лавочек стулья для тех, кому захочется наблюдать процессии сидя. Потом парень шел дальше, то здороваясь с каким-нибудь приятелем, то обмениваясь шутками с лавочниками, и явно пребывал в отличном настроении. Видимо, накануне Святой недели жизнь казалась ему особенно прекрасной. При виде меня Хуан радостно улыбнулся.
— Que tal, don Jose?[425]
Я повел его в кафе на углу Сьерпес и Риохи, и мы устроились за столиком подальше от гигантской стойки бара, а заодно и от нескромных ушей.
— Хуан… ты вчера никому не рассказывал, как купил для меня пистолет?
— Никому. А что?
— Да то, что кто-то донес легавым, что я обзавелся пушкой, и меня загребли сразу после того, как мы с тобой расстались.
— Madre de Dios![426]
— Ты, случаем, не знаешь, кто бы мог меня заложить, Хуан?
— Нет.
— Может, тот, у кого ты купил «люгер»?
— Ни за что на свете! Менгихо — вполне надежный старикан, да я и не сказал ему, для кого покупаю оружие.
— Тогда… ты?
Несколько секунд Хуан смотрел на меня, не понимая, потом, побледнев как полотно, вскочил.
— Вы… вы хоть думаете… что говорите? — заикаясь от ярости, воскликнул он.
— Сядь и прекрати валять дурака…
— Сначала возьмите свои слова обратно!
Сразу же затевать ссору не имело смысла.
— Ладно, извини. Но ты ведь должен понимать, что я обязан проверить все возможные варианты, верно?
— И даже счесть меня последним мерзавцем?
— Даже это, Хуан.
— Вот уж не ожидал от вас, дон Хосе!
— Если когда-нибудь ты пойдешь работать к нам, малыш, живо узнаешь, что агенту ФБР приходится изучать все аспекты дела, даже те, которые могут причинить ему самому ужасную боль.
— Тогда почему бы вам заодно не заподозрить и Марию?
— А кто тебе сказал, что это не так?
На сей раз парень так растерялся, что стал похож на испуганного малыша.
— Но… но я… думал, вы ее любите? — пролепетал он.
— И что это меняет? Попробуй же наконец понять, Хуан: я вынужден подозревать всех и каждого, во всяком случае, изначально, а потом одного за другим исключать тех, кому могу доверять… только так можно в конце концов выйти на истинных преступников. Ты хорошо знаешь Перселей?
— Так вы и их тоже…
— Еще раз повторяю: под подозрением — решительно все! Ну а теперь отвечай на вопрос.
— Оба очень добры к Марии. Несколько раз я у них ужинал. Дон Альфонсо хотел взять меня на работу, но я терпеть не могу сидеть взаперти…
— А твоя сестра… тоже искренне привязана к Перселям?
— Думаю, да… Донья Хосефа для нее почти как мать.
— Я знаю. Короче, Мария поверяет ей все свои тайны?
Мы еще некоторое время поболтали, а потом я отпустил Хуана. На прощание парень еще раз попросил подтвердить, что я снова доверяю ему. Обедать я отправился в «Кристину» — это уже почти вошло в привычку. Однако, к большой досаде официанта, есть мне не хотелось и я почти не обращал внимания на то, что подавали к столу. По правде говоря, меня куда больше занимало другое: действительно ли Мария — та, за кого я ее принимал, или сознательная пособница преступников, которых я все-таки уничтожу с помощью Алонсо и Арбетнота. Так что заказанная мной паэлла не произвела должного впечатления.
Мне казалось, этот проклятый день никогда не кончится. Я пошел в кино смотреть какой-то фильм на религиозную тему — его преосвященство архиепископ Севильский не допускал иных зрелищ в канун Святой недели, а потом вернулся к себе в номер и немного вздремнул. Наконец пришло время идти на свидание с Алонсо. Подсознательно я очень хотел, чтобы все уверения Арбетнота оказались враньем,
поскольку в таком случае ложными были бы и его выводы, и подозрения, и намеки. В кафе я пришел первым, но не успел разбавить водой анисовую настойку, как появился Алонсо.
— Ну? — спросил я, даже не дав ему времени сесть.
— Все в порядке, Хосе. Ярд действительно послал в Севилью некоего Арбетнота. Вот его описание, а уж соответствует ли оно твоему знакомому, суди сам.
И мой друг так подробно описал мнимого Оберхнера, что в каждой подробности за версту чувствовалась рука Клифа Андерсона. Пришлось смириться с очевидностью. Раз Чарли не соврал, назвавшись инспектором Скотленд-Ярда, зачем бы он стал обманывать в остальном? Алонсо, угадав, что творится у меня на душе, снова попросил улететь в Вашингтон. Но я опять отказался. Чтобы покончить с этой неприятной темой, я пошел звонить Арбетноту в «Мадрид». По счастью, Чарли оказался в номере и обещал немедленно присоединиться к нам.
Алонсо и Чарли поладили не сразу: надо полагать, мой друг немного сердился на англичанина за то, что его разоблачения повергли меня в такую растерянность. Но я изо всех сил старался разбить лед. Уж очень не хотелось, чтобы по моей милости расследование потерпело хоть малейший ущерб. Мы выпили за наши общие надежды и, расставаясь, все трое твердо веровали, что дни Лажолета сочтены.
Вербное воскресенье
По общему согласию, мы с Алонсо и Чарли решили, что мне не стоит менять что-либо в отношениях с Марией. Ей незачем знать о наших подозрениях. Решив не откладывать дело в долгий ящик, я отправился в Сан-Хуан де Ла Пальма к той, кого упрямо продолжал считать своей невестой, и представил ей Арбетнота. Девушка немного удивилась при виде немца, обедавшего с нами у Перселей, но мы весело объяснили ей, в чем дело, присовокупив, что ей есть чем гордиться: не каждый день люди принимают у себя в доме сразу трех выдающихся детективов из Скотленд-Ярда и ФБР. На самом деле мы полагали, что, если Мария передаст новость донье Хосефе и если та действительно сообщница Лажолета (во что я по-прежнему никак не мог уверовать), большой беды от этого не будет, даже наоборот. Теперь, когда мое инкогнито раскрыто, оставалось лишь попытаться нагнать на Лажолета страху и заставить его действовать побыстрее. Может, тогда он и сделает какую-нибудь ошибку, а мы таким образом выйдем на след.
Мария, по-моему, очень спокойно восприняла то, что наш небольшой кружок расширяется день ото дня, зато Хуан явно дулся весь ужин. Как только мы покончили с десертом, он встал.
— Я от души надеюсь, дон Хосе, что очень скоро вам придется попросить у меня прощения…
И парень ушел, так и не пожелав объяснить сестре, что он имеет в виду, а потому мне срочно пришлось выдумывать байку насчет якобы заключенного нами пари. Чарли, никогда не бывавший в Америке, забрасывал нас вопросами о тамошнем образе жизни, о нашей работе и системе исправительных учреждений. Этот человек несомненно очень любил свою работу. Отвечал в основном я, поскольку Алонсо пребывал в прескверном настроении и несколько раз я замечал, что мой друг едва сдерживает раздражение, как будто наш разговор выводил его из себя. Вскоре Муакил предоставил нам с Арбетнотом обсуждать профессиональные вопросы, а сам завел беседу с Марией на самую животрепещущую для нее тему: о бесспорном превосходстве братства Армагурской Девы над всеми прочими. Я счел, что друг все еще не может простить мне упорный отказ вернуться в Вашингтон. Алонсо страшно переживал за меня. По правде говоря, я тоже очень любил его и в глубине души считал, что мне крупно повезло — не всем удается обрести такую дружескую привязанность, какую выказывали мне Рут и ее муж, и эта привязанность ох как пригодится, если обстоятельства вынудят меня отказаться от Марии…
Понимая, что следующая ночь будет крайне утомительной, мы решили хорошенько отдохнуть часов до трех-четырех пополудни, а в пять встретиться у Марии и, слегка перекусив, отправиться в церковь. Нам хотелось занять удобные места и посмотреть, как статую Армагурской Девы торжественно вынесут из Сан-Хуан де Ла Пальма.
Поэтому-то в Вербное воскресенье Алонсо, Чарли и я около шести вечера уже стояли у самых дверей в плотной толпе верующих и любопытных. Первые кающиеся должны были выйти из церкви примерно через час. Между рядами сновали торговцы лимонадом, мальчишки, затеявшие увлекательную игру в «полицейских и вора», бегали и толкались, но мы не обращали на них внимания, а с восхищением смотрели на трубачей Хиральды, одетых, как римские легионеры. Они выстраивались в ряды, а «центурионы» взыскательно оглядывали их наряд. Чуть поодаль музыканты из муниципального оркестра по очереди исполняли короткие соло, просто чтобы проверить, насколько они в форме. Время от времени какой-нибудь насарено[427] в белом одеянии, с белым же крестом на груди, четко вырисовывавшимся на фоне черного круга, проскальзывал в церковь. Порой я видел, как сквозь прорези капюшона мерцает его взгляд. И я буквально погрузился в собственное детство, словно опять стал двенадцатилетним мальчишкой. Сейчас я был далеко, очень далеко от Лажолета и его мерзавцев. Меня охватил религиозный экстаз, и я думал, что, останься я в Севилье, сейчас наверняка шел бы вместе с другими кающимися, одетыми в белое. Теперь, как и все вокруг, я, трепеща от нетерпения, ждал, когда распахнутся двери и появится Дева, моя Дева! Чарли, настроенный куда прагматичнее, вернул меня на землю, заметив, что такая толпа — идеальное место для покушения и убийце, нацепив наряд насарено, не составит труда сразу же скрыться. Я инстинктивно огляделся, но не увидел ничего, кроме честных, открытых лиц обитателей Севильи, переживающих самые лучшие минуты в году. Тем не менее Арбетнот сказал правду, и я попросил друзей держаться поближе. Меня тревожило необъяснимое отсутствие Хуана. Почему он не пошел с нами? А ведь брат Марии тоже страстный почитатель Армагурской Девы… Так что за важные причины помешали ему приветствовать свою Покровительницу?
Внезапно массивные деревянные двери дрогнули, вот-вот появится процессия членов братства. По сигналу «центуриона» мнимые легионеры подтянулись и замерли, а музыканты из городского оркестра взялись за инструменты. Огромная толпа вдруг замерла в полной тишине, и это безмолвие потрясло до глубины души. Наконец двери с громким скрипом отворились и на пороге возникло видение иных времен — крестоносец в окружении двух факельщиков, причем один из них был босиком. Музыканты заиграли марш и двинулись вперед, за ними, чеканя шаг, пошли римские легионеры (пожалуй, они слегка напоминали английских солдат на параде), потом настал черед насаренос и, наконец, капатаса[428], в чьи обязанности входило управлять теми, кто нес платформы. Горе тому, кто заденет свод! Именно по тому, как статуи выносят из церкви и возвращают обратно, судят о мастерстве того или иного капатаса. Едва нашим глазам предстала украшенная кружевами и драгоценностями Армагурская Дева вместе со Святым Иоанном, вся толпа подалась вперед, к платформе, сплошь покрытой ковром белых гвоздик. Армагура! Возлюбленная Дева! Заступница и Спасительница! Я смотрел на взволнованное лицо Марии и видел, как ее губы беззвучно шепчут молитву. Девушка машинально взяла меня за руку, словно хотела представить Деве, и все мои подозрения сразу улетучились. Нет, просто невозможно, чтобы за этим чистым и нежным обликом скрывалась преступница! Такое просто не укладывалось в голове. Наблюдавший за нами Чарли нагнулся и чуть слышно шепнул мне на ухо:
— Если она виновна, то чертовски ловкая актриса…
С этой минуты я возненавидел Чарли Арбетнота. После того как капатасу удалось без сучка без задоринки вывести платформу Девы из церкви, толпа разразилась аплодисментами. Носильщики остановились перевести дух, а толпа снова замерла. И вдруг послышалась саэта, воспевавшая любовь Севильи к Армагурской Деве. Мария сжала мою руку. Мы оба и без слов понимали, что чувствуем одно и то же. Нас объединяла страстная любовь к Богоматери, понятная лишь истинным андалусцам и очень немногим чужакам, во всяком случае, когда они не строят из себя умников, как, например, Чарли Арбетнот — я отлично видел, что его тонкие губы кривит ироническая усмешка. Само собой, этот британец чувствовал себя здесь среди дикарей. Певица умолкла, снова заиграла музыка, и процессия двинулась дальше, а в дверном проеме возникла вторая платформа, с Иисусом и Иродом. Ее тоже встретили овацией.
Процессии предстояло идти по улице Торрехон и Трахан до Кампаны, где встречаются все братства. Мы не последовали за ней, а решили через полтора часа подойти к собору. Тем временем неутомимая Мария потащила нас по пустынным улочкам в северную часть города на Триумфальную площадь смотреть на процессию Марии Сантисима де Ла Пас, возвращавшуюся в свой дальний квартал Порвенир. Оттуда мы почти бегом бросились к западу в надежде догнать процессию Саграда Сена, движущуюся вдоль улицы Дель Соль. Потом, опять-таки галопом, мы повернули на юг и полюбовались шествием братства Иниеста на улице Эрмандад Анхела-де-ла-Крус. Наконец, чувствуя, что времени осталось в обрез, мы со всех ног помчались к собору и, несмотря на густую толпу верующих, успели пробиться вперед как раз в тот момент, когда первые музыканты братства Армагуры подступали к крыльцу. Я чувствовал себя совершенно измочаленным и, пока шла торжественная литургия, думал, что мне ни в коем случае не следовало браться за это расследование, ибо здесь, в Севилье, я стал совсем другим человеком, разительно не похожим на Хосе Моралеса из Вашингтона. Прошлое так глубоко впиталось в мою плоть и кровь, что мешало сохранять обычное хладнокровие. Слишком много воспоминаний, слишком много новых впечатлений… И все это мешало рассуждать трезво. Да еще — Мария… Со свойственной ему проницательностью Алонсо сразу понял, что со мной творится, поэтому-то он так уговаривал меня уехать. И у меня появилось препротивное ощущение, что я не только не помогаю коллегам, а еще и могу стать для них серьезной помехой. Но, отбросив все доводы рассудка, сейчас я умолял Армагурскую Деву сотворить чудо: пусть Мария окажется невиновной… Вставая с колен, я как будто заметил Хуана, но он тут же исчез среди сотен мужчин и женщин, поющих хвалу своей покровительнице. Мысль о парне вернула меня к действительности. Право же, его поведение невольно вызывало подозрения. Каким образом Мария допустила, чтобы ее брат не пошел с нами? Что за доводы он привел в свое оправдание и почему девушка не сказала нам ни слова?
Мы покинули собор следом за процессией своего братства и, предоставив ей двигаться дальше по Алеманес, вышли на площадь Генераль-Мола приветствовать Деву Эсперанса, которую насаренос, тоже облаченные в белое, но в лиловых капюшонах, несли обратно, в церковь Сен-Pox. Однако мы вовремя успели на площадь Ла Пальма посмотреть, как Армагурскую Деву снова внесут в церковь Сан-Хуан, где ей предстоит мирно дремать до следующего года. Было около полуночи. Носильщики брели, едва волоча ноги от усталости. Толпа тоже заметно погрустнела. Сказывались и утомление, и то, что настал конец празднику. Меня слегка оттеснили от спутников, и, услышав за спиной незнакомый голос, я вздрогнул.
— Сеньор Моралес… — шепнул кто-то.
Я обернулся. Сзади стоял насарено Армагурской Девы. Лицо его скрывал капюшон, и лишь глаза его блестели сквозь прорези маски. Зачем он меня окликнул? Или просто хотел проверить, что не ошибся, прежде чем нанести удар? Я весь подобрался, настороженно следя за каждым движением незнакомца. Но тот не двигался с места.
— Что вам нужно? — спросил я.
— Дайте мне руку, сеньор…
Вероятно, почувствовав, что я колеблюсь, он сразу добавил:
— Вам нечего опасаться.
Я протянул руку. Незнакомец взял ее, будто хотел пожать, и я почувствовал, как в ладонь мне скользнул листок бумаги. А насарено тут же бросился к церкви и исчез за дверью. Что все это могло значить? Мне не терпелось прочитать записку.
Мария пригласила нас домой поужинать гамбас и невероятной длины чуррос[429], которые мы купили прямо на улице. В кафе нам охотно продали несколько бутылок вина, и получился обычный праздничный ужин. Как только мы сели за стол, Чарли повернулся ко мне.
— Почему у вас такой озабоченный вид, Моралес? Что-нибудь случилось?
— Потом объясню.
Я сослался на то, что хочу вымыть руки, и, выйдя на кухню, быстро вытащил из кармана записку.
«Я знаю, кого вы ищете. Сам раньше работал на Лажолета. А теперь с меня хватит. Если вы сможете дать или пообещать достаточно долларов, чтобы я мог уехать из Севильи и вообще из Испании, готов выдать вам всю банду. Приходите в три часа ночи на улицу Антонио Сузильо в «Карабела дель Кристо»[430]. Если меня вдруг не окажется на месте, спросите у хозяина, Бальдониса, не оставил ли Эстебан поручения для Хосе Моралеса. Но приходите один. И не доверяйте тем, кто якобы относится к вам по-дружески».
Последняя фраза обожгла меня как каленым железом, надо думать, потому что слишком соответствовала моим собственным подозрениям. Но кого имел в виду этот тип? Марию или Хуана? А может, обоих?
Вернувшись в комнату, где остальные уже принялись за ужин, я вздрогнул, увидев, что Мария помогает какому-то насарено снять плотно облегающий голову капюшон. Но тут появилась сияющая физиономия Хуана. Так вот чем объяснялось его отсутствие… У меня сразу отлегло от сердца. Выбросив из головы Эстебана и его советы, я с удовольствием принялся уничтожать гамбас и чуррос. Их вкус живо напомнил мне о прошлом, когда я теребил мать, умоляя купить пирожок. В те времена я считал это самым замечательным лакомством, ибо в нашем доме гораздо чаще ели фасоль. Как только я осушил первый бокал, Арбетнот напомнил, что задал мне вопрос насчет моего мрачного вида, а я так и не ответил. И я рассказал о том, как насарено Эстебан окликнул меня и передал записку. Все слушали, затаив дыхание, особенно Хуан, хотя, возможно, мне просто показалось. Но когда я уже собрался прочитать записку, в дверь постучали и молодой человек пошел открывать. Это оказался сосед, заглянувший попросить аспирина для больной жены. Тем временем я прочитал о предложении Эстебана, опустив последнюю фразу, где он советовал опасаться друзей. Во-первых, мне не хотелось прежде времени вспугнуть тех, кого я подозревал в измене, а кроме того, не стоило еще больше подогревать недоверие Алонсо и Чарли к хозяевам дома. Когда Хуан вернулся, сестра вкратце пересказала ему содержание записки, а потом повернулась ко мне.
— Надеюсь, вы не пойдете на это свидание один, правда, Хосе?
— Разумеется, пойду, Мария…
— Ну уж нет, Пепе! — Это вмешался Алонсо. И, сурово поглядев на меня, он добавил: — Уж не воображаешь ли ты, будто после всего, что с тобой тут случилось, я позволю тебе разыгрывать Тарзана? Когда меня нет поблизости, можешь геройствовать сколько влезет, а пока, нравится тебе это или нет, но я все равно тоже пойду в «Карабела дель Кристо»!
Естественно, Арбетнот не пожелал остаться в стороне.
— С вашего позволения, Моралес, и я составлю вам компанию. Раз уж в кои-то веки Англия может подсобить Соединенным Штатам, грешно было бы упустить такой случай!
Они рассмеялись, а Мария поблагодарила моих коллег за то, что не дают мне совершить очередную неосторожность. Но я не желал сдаваться.
— Ну, коли на то пошло, почему бы нам не отправиться туда всей компанией? По-моему, Эстебан будет в восторге, увидев такую толпу, и сразу выбежит навстречу.
Алонсо пожал плечами.
— Можешь ворчать сколько угодно, Пепе, но Рут строго-настрого приказала мне тебя охранять, а ты отлично знаешь, что я очень послушный муж!
Чарли, в свою очередь, стал меня урезонивать.
— Подумайте сами, Моралес… Мы расстанемся прежде, чем свернем на улицу Антонио Сузильо, и в кафе вы зайдете один. А мы подождем снаружи и поглядим, нет ли за вами «хвоста». Если да, то мы в свою очередь последим за вашим преследователем и уж тогда поглядим, куда он нас приведет!
Я знал осторожность Алонсо и его умение оставаться незамеченным. Что до Арбетнота, то, надо думать, если Ярд избрал его для столь деликатной миссии, значит, парень явно не новичок. А потому мне оставалось лишь смириться с неизбежным. Не говоря уж о том, что я малость подутратил веру в собственные возможности и не считал себя вправе навязывать свою волю. Примерно в половине второго утра мы оставили Марию и ее брата. Про себя я отметил, что впервые за время нашего знакомства парень даже не попросил взять его с собой. Может, почувствовал, что рядом с такими профессионалами, как мы, ему не место? Мы с Алонсо пошли в «Сесил-Ориент» переодеться на случай возможной драки, а Чарли отправился в «Мадрид» за револьвером. Мы договорились встретиться без десяти три в западном конце Аламеда-де-Эркулес. Нарушив молчаливый уговор никогда не видеться в гостинице, Алонсо зашел ко мне в номер — он первым успел сменить костюм. Пока я заканчивал одеваться, он молча курил в кресле, потом вдруг спросил:
— Слушай, Пепе, что ты думаешь обо всей этой истории?
— Вот повидаюсь с Эстебаном — тогда и отвечу, старина.
— А вдруг это очередная ловушка?
— Единственный способ выяснить, так ли это, — пойти поглядеть.
— А ты не думаешь, что разумнее, если вместо тебя на свидание с Эстебаном схожу я?
— Ну да, а коли тебя прикончат, мне придется сообщать об этом Рут? Нет уж, спасибо, уволь!
— Ты отлично знаешь, что меня они вряд ли успели вычислить, так что я рискую гораздо меньше. Ложись-ка спать, Пепе, и предоставь действовать нам с Арбетнотом.
Я закончил переодевание и повернулся к нему.
— Перестань, Алонсо. Я пойду в «Карабела дель Кристо» и потолкую с Эстебаном… если он и впрямь окажется там. Я не имею права упустить такой случай и, быть может, наконец добраться до Лажолета!
Алонсо встал.
— До чего ж ты упрям! — вздохнул он.
— Почти так же, как ты, старина…
Когда мы пришли на место встречи, Чарли уже ждал. Он с ног до головы облачился в черное и благодаря надвинутой на глаза шляпе был почти невидим в темноте. На ногах у него были мягкие туфли на каучуке, так что Арбетнот мог ступать бесшумно, как кошка. Да, решительно, агенты Скотленд-Ярда учитывают каждую мелочь. Не говоря ни слова, мы двинулись в сторону улицы Антонио Сузильо и на перекрестке с улицей Пераль расстались. Чарли и Алонсо пропустили меня вперед, потом, немного подождав, Муакил тихонько пошел следом, а Арбетнот, перейдя на другую сторону, промчался вперед и мгновенно растворился в темноте. Итак, я получил отличное прикрытие и не без удовольствия чувствовал себя в полной безопасности.
Увидев небольшую толпу, собравшуюся у двери «Карабела дель Кристо», я сразу угадал, что нас опять постигла неудача. Группа мужчин что-то оживленно обсуждала, но я, не прислушиваясь, вошел в кафе, хотя заранее знал, что не увижу там Эстебана. За стойкой хозяин заведения громко разговаривал с несколькими клиентами, словно оправдывался. Я навострил уши.
— Да как же я мог заранее угадать такую штуку, hombre? — с жаром вопрошал Бальдонис. — Какой-то малец сказал мне: «Тут один тип просил передать Эстебану, что предпочитает разговаривать с ним на улице…» — «Эстебану? Какому еще Эстебану?» — спросил я, ну а парнишка пожал плечами и пошел себе, бросив на ходу: «Мне-то почем знать? Я получил пять песет — чтобы передать поручение, и все дела…» Само собой, я понятия не имел, о каком Эстебане он толковал, ну и гаркнул во все горло: «Эй, есть здесь хоть один Эстебан?» Поднялось три-четыре человека. Я спросил: «Кто-нибудь из вас назначал тут, у меня, свидание?» Один, здоровый такой верзила, ответил: «Да, я!» А я его раньше и в глаза-то не видел. Ну да ладно, повторил я все, что сказал тот парнишка: мол, приятель ждет его на улице. Парень малость поколебался, этак задумчиво потер лоб и проворчал: «Не нравится мне это…» Но все-таки вышел, и почти сразу мы услышали крик. Ну а остальное вы знаете не хуже меня… Но, клянусь кровью Христовой, отродясь в нашем квартале ничего подобного не видывали! Да еще в Вербное воскресенье! Бывают же на свете проклятые мерзавцы, для которых нет ничего святого!
— И что же, этого Эстебана ранили? — с самым небрежным видом спросил я.
Кабатчик, как раз собиравшийся выпить, едва не захлебнулся. Он поставил бокал на стойку и, отдышавшись, рявкнул:
— Ранили? Как же! Прикончили на месте — вот что с ним сделали! Останешься жив, когда тебе в шкуру вошло добрых десять-пятнадцать сантиметров железа! И, видать, нож угодил прямо в сердце!
— И кто ж его так?
— Кто?.. Пойди узнай! Ведь не стал же он дожидаться, пока мы подоспеем, окаянный!
Несмотря на всю свою британскую флегму, узнав, что Лажолет нас снова опередил, Арбетнот довольно энергично выругался. Мелькнувший было огонек надежды угас, так и не успев разгореться. Мы мрачно шли по улице Амор де Диос в сторону Сьерпес, как вдруг Чарли вслух задал вопрос, мучивший каждого из нас:
— Кто мог их предупредить?
Мне не хотелось отвечать, ибо я знал, к какому выводу приведут все возможные предположения, Алонсо, наверняка угадав мои мысли, тоже не проронил ни слова. Но Арбетнот продолжал настаивать:
— Между той минутой, когда этот Эстебан передал записку Моралесу, и той, когда Моралес нам ее прочитал, мы имели дело лишь с…
Чарли внезапно запнулся и умолк, словно сообразив, что означают его слова для меня, но я нарочно с вызовом закончил фразу:
— …с Хуаном и Марией.
Я бы предпочел, чтобы мои коллеги возразили хотя бы из вежливости, пусть без особого убеждения, но оба промолчали, и это молчание казалось красноречивее любых слов. Алонсо подошел и сжал мне руку. Наверняка он хотел показать, что больше не сомневается в виновности брата или сестры, а то и обоих. Мои мечты о счастье рушились самым отвратительным образом. Возле «Сесил-Ориента» мы стали прощаться с Арбетнотом.
— Ну, так на чем порешим? — спросил он напоследок.
Алонсо не хотелось брать на себя ответственность.
— А что об этом думаешь ты, Пепе? — спросил он.
Я знал, какой ответ они хотят услышать, а поскольку рано или поздно все равно пришлось бы прибегнуть к тем методам, лучше уж было удовлетворить их нетерпение сразу.
— Ладно… — буркнул я. — Завтра же всерьез займемся Хуаном, а может, и его сестрой…
Алонсо не стал провожать меня в номер, видимо почувствовав, что мне надо побыть одному.
Я снял пиджак и уже начал развязывать галстук, как вдруг меня осенила одна интересная мысль. «Карабела дель Кристо» — совсем недалеко от комиссариата Фернандеса! Мой новый союзник наверняка знает все подробности убийства и, быть может, сумеет помочь докопаться до правды, которой я жаждал всем сердцем, хотя и немного опасался. Когда я снял трубку, было уже около четырех часов утра. Скорее всего, в такое время в комиссариате остались только дежурные. Телефонистка гостиницы, услышав, какой мне нужен номер, немного удивилась, но тем не менее быстро соединила с комиссариатом Ла Пальма. Я назвал свое имя и попросил к телефону Фернандеса. К счастью, он оказался на месте. Значит, удача не совсем от меня отвернулась…
— Алло! Сеньор Моралес?
— Здравствуйте, господин комиссар… Похоже, в вашем квартале сегодня вечером опять произошла мерзкая история?
— Откуда вы знаете?
— Просто это дело интересует меня по известным вам причинам.
— Ну и ну!
— Тело еще у вас?
— Нет, в морге… А вы хотели на него взглянуть?
— Скорее, на содержимое карманов.
— Что ж, приезжайте, я вас дождусь.
— Спасибо, сеньор комиссар, уже бегу!
Я совсем вымотался, но, поскольку все равно наверняка не смог бы уснуть, куда полезнее было поработать.
Комиссар разложил на столе все, что извлек из карманов покойного Эстебана: грязный носовой платок, сотню песет, ключи, удостоверение на имя Эстебана Маролате, уроженца Эстремадуры, профсоюзная карточка свидетельствовала о том, что парень работал докером. Кроме того, я увидел пуговицу с крошечным кусочком вырванной ткани.
— Вероятно, это пуговица от пиджака убийцы, сеньор Моралес, но это слишком ничтожная улика, поскольку таких пуговиц везде полным-полно… Но почему вас так занимает это дело?
— Я должен был встретиться с жертвой…
— Так вы знали Эстебана Маролате?
— Нет.
Я рассказал, как в толпе ко мне подошел незнакомец, одетый насарено, и показал записку. Фернандес, прочитав ее, вернул мне.
— Быстро они работают!
— Да, но и мне упрямства не занимать!
— Скажите, сеньор Моралес, как, по-вашему, к кому относится предупреждение в конце записки?
— Наверняка к Хуану Альгину, который живет на Ла Пальма.
— Почему?
Мне пришлось рассказать о своих подозрениях.
— Хотите, мы им займемся?
— Нет, я возьму это на себя.
— Как вам будет угодно.
— Вы никогда не имели с ним дела?
— Насколько мне известно, нет.
— А с…
Мне пришлось сделать над собой усилие, как будто каждый звук царапал губы. Комиссар, очевидно, это почувствовал, потому что взглянул на меня с некоторым любопытством.
— …его сестрой, Марией дель Дульсе Номбре?
— Тоже нет.
— Вы совершенно в этом уверены?
— Сами понимаете, я бы, конечно, не забыл такой красивой девушки, да еще со столь очаровательным именем…
— Тогда… откуда же вы знаете, что она красива?
Фернандес улыбнулся.
— Достаточно поглядеть на вас, сеньор.
— Вы на редкость наблюдательны, господин комиссар. Да, я люблю Марию и хотел бы на ней жениться, но… если узнаю, что девушка работает на Лажолета…
— Что же вы сделаете?
— Передам ее вам, господин комиссар.
Фернандес немного помолчал.
— Я верю вам, сеньор Моралес, — очень серьезно проговорил он.
— А оружие, которым убили Эстебана, у вас?
Комиссар открыл ящик стола и, развернув кусок ткани, показал мне испачканный кровью нож.
— Убийца успел вытереть рукоять или же позаботился надеть перчатки, поскольку никаких отпечатков пальцев мы не обнаружили…
Я стоял как зачарованный, почти не слыша объяснений комиссара Фернандеса, ибо тут же узнал нож Хуана.
Мария не сразу открыла дверь, и по ее заспанному лицу я понял, что девушка только что встала с постели.
— Вы? В такой час?
Не ответив, я толкнул дверь и вошел.
— Но… Хосе!
— Где Хуан?
— Он еще не вернулся. А что?
— Так ваш брат не лег спать, когда мы расстались?
— Нет. Пошел гулять с друзьями.
— В час ночи?
— На Святой неделе в Севилье не бывает ни дня, ни ночи.
— Хорошо, я его подожду.
Теперь уже Мария окончательно проснулась.
— Но, Хосе, я понятия не имею, когда Хуан вернется!
— Ничего, я не тороплюсь!
Мое поведение начало раздражать девушку.
— Послушайте, Хосе, вы не можете оставаться здесь! Подумайте о моей репутации!
— У меня есть заботы поважнее, Мария.
— Но что происходит, Хосе?
— Я скажу вам, когда придет Хуан.
— Это… так серьезно?
— Да.
— И вы не хотите довериться мне?
— Нет. Идите спать.
— Пока вы не уйдете, я не лягу.
— В таком случае нам придется ждать вместе.
Мне было больно смотреть на ее несчастное, испуганное и усталое личико, но я не мог позволить себе расслабиться. Мария заплела волосы, умылась и, вернувшись в комнату, села напротив. Мы больше не сказали друг другу ни слова. Да и что говорить? В наших отношениях что-то уже безнадежно сломалось. Около пяти часов наконец вернулся Хуан. Парень с нескрываемым удивлением уставился на меня.
— Дон Хосе?
Я встал и, грубо ухватив его за лацканы пиджака, рванул к себе.
— А ну, покажи мне свой нож! Где он?
Парень ошалело посмотрел на меня, потом на сестру. Я не видел выражения лица Марии, только слышал ее прерывистое дыхание.
— Но… что все это значит?
— Только то, что я тебе уже сказал! Покажи нож!
— Я не знаю, куда он делся, сам никак не могу найти…
Я с размаху влепил ему пощечину, и парень шлепнулся в противоположном конце комнаты. Мария тихонько вскрикнула и бросилась к брату, но тот уже вскочил на ноги и собирался дать мне сдачи. Я встретил его коротким ударом в челюсть, и Хуан вытянулся на полу без сознания. Сестра, рыдая, опустилась на колени рядом с ним. Не поднимая головы, она глухо проговорила:
— Вы, что, с ума сошли, дон Хосе?
— Держитесь подальше от всей этой грязи, Мария!
— Мое место там, где брат.
Хуан медленно приходил в себя. Тихонько застонав, он отстранил сестру, сел и поглядел на меня.
— За что?
— Где твой нож?
— Я вам уже ответил: не знаю.
— Хочешь, я скажу тебе, где он?
— Так вы его нашли?
— Да. В теле бедняги Эстебана, с которым я должен был сегодня встретиться, и вошел достаточно глубоко, чтобы несчастный умер на месте.
— Это неправда!
Парень в полной растерянности уцепился за меня.
— Это неправда! Неправда! Признайтесь, что вы обманули меня!
Паршивец сумел придать голосу такие интонации, что невольно тронул меня. А Мария, снова тяжело опустившись на стул, беззвучно плакала.
— Я сказал тебе правду, Хуан, и комиссар Фернандес сейчас уже ищет владельца ножа…
Теперь Хуан казался просто насмерть перепуганным мальчишкой. Он прижался к сестре.
— Мария… мне страшно…
Девушка посмотрела на меня.
— Почему вы не выдали Хуана полиции?
— Потому что я ищу куда более крупных хищников, а ваш брат волей-неволей должен вывести меня на их след.
Хуан взглянул на сестру.
— Ты ведь не веришь, что я убийца, правда, Мария?
— Нет, Хуан, не верю.
Эта парочка начинала всерьез действовать мне на нервы! Причем не знаю, что раздражало больше — циничное лицемерие Хуана или слепое доверие Марии к брату. Поэтому, прежде чем уйти, я постарался подпустить еще капельку яду.
— Имей в виду, Хуан, Алонсо и Чарли тебе будет не так просто убедить в своей невиновности, как сестру!
Мария подошла ко мне.
— Это все, что вы хотели сказать нам, сеньор?
— Пока — да.
— В таком случае я прошу вас уйти.
Я пожал плечами и, взяв шляпу, направился к двери. Девушка уже успела ее распахнуть.
— Мария…
— Забудьте этот дом навсегда, сеньор. Здесь нет места тем, кто считает моего брата преступником…
Я, как сомнамбула, брел по все еще пустынной Сьерпес. Бедная Мария! Она так до конца и останется наивной дурочкой! И бедный Хосе Моралес! Он так надеялся наконец обрести счастье… Старина Клиф говорил правду: женщина — заклятый враг агента ФБР. Однако, невзирая на всю мою горечь и боль, что-то шевелилось в подсознании, и это что-то весьма походило на сигнал тревоги. Нет, головорезов Лажолета я не боялся — наоборот, ноша казалась мне настолько тяжелой, что я, пожалуй, принял бы их с распростертыми объятиями. Скорее, внутренний голос нашептывал, что я упустил из виду какую-то важную подробность. Но какую?
Святой понедельник
Я думал, что не смогу уснуть, но так измотался за ночь, что в Севилье еще и не рассвело как следует, а меня сморил сон. Я даже не успел толком подумать, каким образом обрести столь необходимый мне покой. Природа всегда берет свое. Проснулся я, когда солнце уже садилось. Значит, я проспал двенадцать часов кряду. Снов я не видел, а просто впал в настолько глубокое забытье, что, пробудившись, чувствовал почти усталость. За полсуток полной неподвижности тело скорее онемело, чем отдохнуло, и, даже открыв глаза, я с трудом возвращался к реальности. В первые несколько секунд я просто не мог сообразить, где я, словно медленно возвращался из другого мира. Однако на пороге меня уже поджидала горечь утраты и разочарований. Теперь ей суждено было стать моей вечной спутницей. В складках шторы моя фантазия вдруг нарисовала женский профиль, и сонное оцепенение окончательно исчезло. Мария… Чудесная история любви закончилась. Я не повезу с собой Марию дель Дульсс Номбре в Вашингтон. Я не познакомлю ее с Рут. Она не узнает моего крестника «сеньора» Хосе… И все — из-за маленького негодяя Хуана! Что бы там ни думали Алонсо и Арбетнот, я не сомневался в полной непричастности Марии к преступлениям, усыпавшим терниями мое испанское путешествие, и если внешне все говорило против нее, то лишь из-за дурацкого доверия к брату. В моей душе американское воспитание старалось побороть врожденный андалусский фатализм, и я не желал сдаваться, признав полное поражение. Я уселся в постели, подтянув колени к подбородку, и стал обдумывать все возможные толкования и предположения, лишь бы убедить себя, что Мария не выставила меня за дверь и не вычеркнула из своей жизни навсегда. Тщетно.
Испытывая глубочайшее отвращение и к себе самому, и ко всему на свете, я пошел принимать ванну. И какого черта только меня понесло взглянуть на дом, где прошло мое детство, в Ла Пальма? Я потерял там не только трезвость рассудка, без которой мне никогда не разгадать всех хитростей Лажолета, но и душевный покой, основное преимущество, которому всегда так завидовали мои коллеги! Бесполезно обманывать себя: да, я любил Марию, любил, как ни одну женщину до того, даже Рут… Уж Марию-то я бы никогда не отдал другому без борьбы! Так неужели я позволю ей принести себя, нас обоих в жертву бессовестному братцу? Я как наяву видел потупленные глаза Марии и слышал, как она упрямо повторяет, будто Хуан ни в чем не виноват, и при этом не может привести ни единого доказательства, кроме того, что это ее брат.
Я энергично намыливался, когда до меня вдруг дошло то, что смутно мелькнуло в подсознании вчера, точнее, уже сегодня на рассвете: когда я читал записку Эстебана, парня не было в комнате! Хуан разговаривал с соседом, заглянувшим попросить аспирина для больной жены. А когда парень вернулся, речь шла о месте встречи, но о часе никто не упомянул… Так откуда же он мог об этом узнать, если Алонсо и Чарли ушли вместе со мной? Правда колола глаза, но я, безумный, все еще малодушно пытался от нее увернуться. Увы! Как ни крути, вывод напрашивался сам собой: лишь Мария могла предупредить брата. Проклятая!.. Неужто она до такой степени околдовала меня, изображая саму чистоту и святость! Не мудрено, что Чарли и Алонсо гораздо раньше меня все поняли, — их-то не ослепила любовь! Надо полагать, сейчас они устроили Марии дель Дульсе Номбре небольшой grilling[431]… Тем лучше! Меня буквально трясло от ярости, и все же я не мог унять слез, обжигавших веки. Теперь я понимал Алонсо и его упорное желание удалить меня из Севильи. Друг не хотел, чтобы мне пришлось принимать участие в конце облавы. Вместо того, чтобы помогать им с Чарли, я только мешал. Влюбленный идиот! Каким же ничтожным детективом я себя показал! Клиф Андерсон совсем потеряет ко мне уважение, если когда-нибудь услышит об этом. А Лажолет? Представляю, как он потешался, узнав, что я таскаюсь в дом на Ла Пальма, к его подручным! Сейчас я больше не чувствовал ничего, кроме холодного бешенства. Нет, никто не посмеет сказать, будто ему удалось провести за нос Хосе Моралеса! Я должен высказать Марии все, что о ней думаю, и с удовольствием погляжу, как комиссар Фернандес наденет на нее наручники!
Бреясь, я благословлял изобретателя электробритвы, поскольку рука у меня так дрожала, что обычным лезвием я бы изукрасил себе физиономию почище какого-нибудь студента старого Гейдельберга. Наконец я положил бритву и, вцепившись в край раковины, долго смотрел на несчастного кретина, угодившего в примитивную ловушку, как какой-нибудь молокосос, а потом принялся честить себя на все корки:
— Ну что, Пепе? Или ты забыл все, что тебе пришлось пережить? О нищете в Севилье? О нищете в Париже? А как ты подыхал с голоду в Нью-Йорке? И о родителях своих, может, тоже запамятовал? Работая как черт, отказывая себе во всем, ты добился положения, о котором даже не смел мечтать, и еще недоволен? Ах, сеньору Моралесу, помимо всего прочего, захотелось большой любви? Так тебе было мало истории с Рут? Стоило дожить до твоих лет, благополучно ускользнув от всех ударов, неизбежных при твоей работе, чтобы потом хныкать только из-за того, что какая-то маленькая лгунья ломала комедию? Живо кончай со всей этой историей, Пепе! Сверни шею Лажолету, отправь всю эту прогнившую свору за решетку и возвращайся в Вашингтон, к друзьям! Испания теперь не для тебя, ясно? Никогда не стоит даже пытаться вернуться в прошлое. Договорились?
Да, я готов действовать, но… Это проще сказать, чем сделать. Однако ничего не попишешь, надо постараться… Шел восьмой час, и в Севилье начиналась вторая лихорадочная ночь праздника веры. Временами до меня доносились отзвуки музыки — это процессии разных братств шли к собору через площадь Франсиско и Сьерпес. Я хотел разыскать Алонсо и Чарли и выяснить, удалось ли им чего-нибудь добиться от Альгинов — брата и сестры. Надевая пиджак, я обратил внимание, что одна пуговица слегка разболталась, и машинально подергал ее, проверяя, не оторвется ли по дороге. И вдруг меня осенило! В скрюченных пальцах мертвого Эстебана нашли пуговицу, которую он, по-видимому, оторвал от пиджака убийцы… и там оставался крошечный кусочек ткани… Где я уже видел подобную материю? Я чувствовал, что вот-вот вспомню… закрыл глаза, расслабился… и стал вспоминать всех, кого встречал в Севилье… Хоп! Вот оно! Ну, конечно, Альфонсо Персель! Как бы я мог забыть его умопомрачительный зеленый костюм? Но тогда, значит, Хуан — не убийца? А что, если Мария не ошибалась, так слепо веря в невиновность брата? Меня охватила бесконечная радость. Хуан невиновен! Мария невиновна! И все мои подозрения не стоят ломаного гроша. Но это было бы слишком прекрасно. Да и неожиданно… Надо продвигаться постепенно, разложить все по полочкам… И тут-то я опять вспомнил о ноже. Именно этим оружием убили Эстебана, а меж тем брат Марии, по его собственному признанию, почти не общался с Перселем… Так не разумнее ли, не логичнее ли предположить, что, как только мы ушли, Мария отправила Хуана предупредить хозяина об опасности, которую представляет для их организации Эстебан? Возможно, Хуан сопровождал дона Альфонсо в «Карабела дель Кристо», и вдвоем им не составило труда справиться с Маролате. Пока дон Альфонсо разговаривал с парнем, Хуан ударил его сзади, а падая, Эстебан инстинктивно ухватился за Перселя… Да, это все объясняло… И я снова пал духом. Но такова жизнь, и не в человеческих силах ее изменить. Во всяком случае, у меня появилась хоть какая-то ниточка. Арбетнот не ошибся: донья Хосефа и ее муж точно связаны с Лажолетом. А к Марии они недаром относятся как к родной дочке, еще бы! Это же верная и преданная сообщница! Ну да ладно, Марией я решил заняться потом. А пока мне предстояла более срочная работа. Может, сходить к Фернандесу и назвать ему имя убийцы Эстебана? Но даже если удастся разыскать зеленый костюм дона Альфонсо (а я в этом сильно сомневался), что это нам даст? Лучше на время оставить Перселя на свободе и выяснить, какую роль он играет в банде Лажолета. Я решил, что неплохо бы навестить Перселей и усыпить их подозрения (возможно, разбуженные Марией), изобразив обалдевшего от любви воздыхателя. Таким образом я изрядно облегчу себе дальнейшие действия. И я закончил одевание с куда большей прытью, нежели начал. То, что наконец-то представилась возможность действовать, несколько отвлекало от любовных огорчений.
Мне не удалось перейти через площадь Сан-Франсиско: все пространство занимала процессия братства Санта-Мария. Насаренос этого прихода всегда облачены в черное с ног до головы, и их суровые обычаи не допускают никакой музыки. Поняв, что ждать пришлось бы слишком долго, я свернул на Тетуан и двинулся в сторону Сьерпес. Однако и центральную улицу города перегородила процессия. На сей раз мне помешало братство «Хесус анте Кайафас»[432] и сопровождавшие его музыканты Красного Креста. Пришлось вернуться обратно и по улице Веласкеса выйти на Кампану в тот момент, когда процессия «Хесус де лас Пенас»[433] покинула ее, повернув к Сьерпес. Теперь я мог спокойно добраться до Куны, где стоит «Агнец Спасителя».
При виде меня донья Хосефа слегка удивилась, и, по-моему, на лице ее мелькнула тень беспокойства. Хотя, возможно, мне это только показалось. Во всяком случае, если сеньора Персель и испытывала определенную тревогу, это ни в коей мере не сказалось на оказанном мне приеме.
— Дон Хосе? Вот приятный сюрприз!
Беззаботно болтая, она впустила меня в дом.
— Так вы не пошли смотреть на наши процессии?
— Честно говоря, сеньора, я уже немного устал от них…
— Прошу вас, садитесь, а я сейчас позову мужа…
Донья Хосефа оставила меня в одиночестве и ушла искать супруга. Возможно, я просто выдавал желаемое за действительное, но у меня сложилось явственное впечатление, что отсутствовала она слишком долго. И я с легкостью представил, как супруги договариваются, вырабатывая общую линию поведения, и раздумывают, что меня сюда привело. Дон Альфонсо вел себя более чем любезно, рассыпался в извинениях, объяснив, что как раз был на складе, по другую сторону дворика, а потому не сразу прибежал со мной поздороваться, но я ведь не могу не понять, что, отправляя товар, коммерсант обязан приглядеть за порядком. Склад? Ого! Вот уж куда мне просто необходимо заглянуть! И как можно скорее!
Меж тем хозяева дома явно ждали, чтобы я объяснил причины неожиданного вторжения, и, налив в бокалы мускателя, донья Хосефа выразительно поглядела на меня, словно приглашая к разговору. Их нетерпение так меня забавляло, что я не отказал себе в удовольствии помариновать их еще немного. Воображение рисовало довольно забавную картинку: я не без злорадства представлял, как изменилось бы приторно-сладкое выражение физиономий Перселей, признайся я честно, что пришел уличить дона Альфонсо в убийстве. Но, увы, пока я никак не мог позволить себе такой роскоши!
— Я осмелился побеспокоить вас…
Оба тут же стали возражать, что я им ничуть не помешал, а напротив, они в любое время почтут за честь принять в своем доме парижанина. Ах так? Значит, им тоже вздумалось поиграть? Отлично! Партия обещает получиться очень интересной!
— …во-первых, чтобы поблагодарить за тогдашний чудесный обед, а во-вторых, поговорить о Марии.
По чуть заметному напряжению я почувствовал, что меня слушают весьма внимательно.
— Я безумно люблю Марию Альгин и хотел бы на ней жениться.
— Но, мне казалось, это вопрос решенный, дон Хосе?
— И да и нет, донья Хосефа, до сих пор мне никак не удается получить окончательный ответ.
Сеньора Персель жеманно хихикнула.
— Обычное девичье кокетство, дон Хосе!
И, повернувшись к мужу, толстуха добавила:
— Все мы одинаковы…
Спросите-ка лучше дона Альфонсо!
— Истинная правда, дон Хосе! Вот эта особа, между прочим, пудрила мне мозги целых два года!
Оба от души расхохотались. Наверняка Персели испытывали огромное облегчение от того, что этот кретин легавый явился к ним лишь поделиться любовными огорчениями. А я, совсем войдя в роль, стал расписывать, что не смогу жить без Марии, что готов на все, лишь бы она стала моей женой, и даже переберусь обратно в Севилью, если она будет настаивать, а я смогу найти тут приличную работу. Последние слова их, по-видимому, заинтересовали, ибо донья Хосефа тут же вкрадчиво осведомилась:
— Правда, дон Хосе? Вы бы все бросили ради Марии? И отказались бы от своего… нынешнего положения?
— С радостью!
— Что ж, нашей Марии крупно повезло! Нечасто встретишь такую любовь, и, уж положитесь на меня, я сумею урезонить маленькую кокетку! Я хочу, чтобы она дала твердое обещание до вашего отъезда во Францию, а помолвку мы отпразднуем здесь, у нас!
Я, естественно, с огромным воодушевлением поблагодарил, уверяя, что никогда не забуду их доброты и что теперь в долгу до конца дней своих. Короче говоря, обе стороны продемонстрировали чистейшей воды лицемерие. Увидев, как мы прощаемся, посторонний наблюдатель мог бы счесть нас закадычными друзьями, ибо донья Хосефа непременно пожелала меня расцеловать, а дон Альфонсо проводил аж на улицу и напоследок доверительно шепнул:
— Большое вам спасибо, дон Хосе, за предупреждение, которое вы передали нам через Марию насчет того мнимого немца, Оберхнера. Наверняка это какой-нибудь проходимец, вздумавший выманить у меня деньги, а то и ограбить дом… Кто знает? Еще раз от всего сердца благодарю вас, и, надеюсь, — до скорой встречи.
«Мы увидимся гораздо раньше, чем тебе бы хотелось, приятель, — подумал я. — Ох, знал бы ты только, какой я готовлю тебе сюрприз!»
Позвонив в гостиницу, я узнал, что мистер Арбетнот ждет меня в «Нуэва Антекера» на улице Дос Эрманас. Я отправился туда и обнаружил не только Чарли, но и Алонсо. Оба недоумевали, куда я исчез. Я рассказал обо всем, что случилось этой ночью, объяснив, каким образом убедился в виновности Хуана и как пытался вышибить из него признание. Однако о сцене с Марией я не упомянул ни словом. Арбетнот, на мгновение перестав перемалывать мощными челюстями креветок, одобрительно кивнул.
— Я не решился сказать вам об этом, но, по правде говоря, сразу понял, что убийство совершил Хуан…
Алонсо осушил бокал. С самого начала он искоса поглядывал на меня всякий раз, когда думал, что я ничего не замечаю.
— Грустно тебе, а, Хосе?
Я попытался сделать хорошую мину при плохой игре.
— Между прочим, я собираюсь жениться не на Хуане, а на его сестре.
Чарли в свою очередь долго сверлил меня пристальным взглядом.
— Простите меня… но вы совершенно уверены, что эти двое не действуют на пару?
Увы, я не сомневался в обратном, но мог ли я вот так, публично, отречься от Марии? Сколько я ни убеждал себя, что готов возненавидеть девушку, но стоило кому-то обвинить ее в преступлении, и тут же, вопреки здравому смыслу, я вставал на ее сторону. Мне было немного стыдно смотреть в глаза Арбетноту, но заговорил я без тени колебаний:
— Ни в коем случае. Но у меня есть для вас еще одна новость — беднягу Эстебана прикончили вдвоем.
— Вдвоем? Откуда ты знаешь, Хосе?
— Потому что в спине у покойника торчал нож Хуана, а в руке он зажал пуговицу от пиджака того, кто отвлекал внимание несчастного, пока второй наносил удар.
Арбетнот с хорошо разыгранным раздражением заявил, что я слишком быстро продвигаюсь вперед, а потому им с Алонсо не худо бы поскорее засучить рукава, если они не хотят, чтобы вся слава досталась мне одному.
— И однако, приятель, какая-то жалкая пуговица нам мало что даст… Надо бы еще выяснить, кому она принадлежит…
— Представьте себе, Чарли, я это уже знаю.
Оба ошалело вытаращили глаза, не сомневаясь, что я их разыгрываю.
— Правда? И кому же, скажите на милость?
— Дону Альфонсо.
— Перселю?
— Ему самому.
— И у вас есть доказательства?
— Вместе с пуговицей оторвался крошечный кусочек ткани от неподражаемого зеленого костюма, в котором сей достойный коммерсант принимал нас с вами за обедом, Арбетнот.
— Вы тут разговариваете как о старом знакомом о совершенно неизвестном мне типе, — возмутился Алонсо. — Хорошенький же у меня при этом вид!
Чарли засмеялся.
— Не волнуйтесь, наш друг Моралес наверняка не преминет нанести визит дону Альфонсо, и, надеюсь, он любезно прихватит с собой нас обоих.
Однако, узнав, что я уже успел побывать у Перселей, мои коллеги не стали скрывать досаду. Впрочем, Арбетнот заявил, что заслуга отчасти принадлежит и ему, ибо это он вывел меня на след коммерсантов с Куны. Я охотно согласился, и мы выпили последнюю бутылку за нашу общую проницательность. Только Алонсо все еще выглядел недовольным. И все же, я думаю, он уловил в моем голосе легкую дрожь, когда я спросил:
— А чем сегодня занимались вы оба?
Мой друг промолчал, и вместо него ответил Чарли:
— Как и условились, мы ходили в Ла Пальма допрашивать Хуана и его сестру.
— Ты спал, и мы предпочли дать тебе отдохнуть, — поспешно добавил Алонсо, — и потом, сам понимаешь, почему тебе не следовало ходить с нами…
— Ладно… Ну и что вам поведал Хуан?
— Ничего.
— Вам не удалось заставить его говорить?
— Парень успел смыться еще до нашего прихода.
— А его сестра поклялась всеми святыми Севильи, что не видела, как Хуан уходил, и понятия не имеет, где его искать. Должно быть, вы здорово напугали парня, Моралес, и он надежно спрятался в какой-нибудь дыре…
— Или же пошел плакаться Лажолету…
— А тот предоставил Хуану убежище? Очень вероятно.
Короче, не найди я той пуговицы, мы бы по-прежнему топтались на месте. Я решил, что эта маленькая удача дает мне право возглавить операцию.
— А теперь давайте решим, что делать дальше.
В первую очередь мы договорились разыскать Хуана. Проще всего было обойти все кафе, куда парень обычно заглядывал. Я предоставил Алонсо квартал Тонелерос, Чарли — весь маршрут от «Эспига де Оро» до «Карабела дель Кристо», то есть одному — западную часть города, другому — восточную. Себе же я оставил центр, и не без умысла. Расставаясь, мы решили встретиться завтра в полдень здесь же, в «Нуэва Антикера», и подвести итог. Кроме того, мы пришли к общему мнению, что, обнаружив Хуана, главное — не вспугнуть дичь, но незаметно следить за парнем днем и ночью, сменяя друг друга. Возможно, таким образом мы и подберемся поближе к Лажолету…
Но самому мне сейчас больше всего хотелось поближе взглянуть на склад Перселей. Возвращаясь на Куну, я раздумывал, каким образом войти в дом доньи Хосефы, не привлекая внимания хозяйки, равно как и ее мужа-убийцы. Устроившись в кафе почти напротив «Агнца Спасителя», я наблюдал за тем, что происходит в стане противника. Когда раздались звуки небольшого оркестра, предшествующего процессии братства «Хесус де лас Пенас», дон Альфонсо и его супруга выглянули в окошко. Но прежде чем платформу вынесли на улицу, Персель торопливо отпрянул. Через некоторое время он снова появился, что-то сказал жене, и оба окончательно покинули наблюдательный пост. Хотелось бы мне знать, что означало столь поспешное отступление! Музыканты уже почти подошли к двери дома, как вдруг она распахнулась и супруги Персель быстро двинулись в сторону Лараньи. Лучшего мне нечего было и желать. Осторожности ради (в конце концов, похожее на бегство исчезновение Перселей могло оказаться ложным маневром), я подождал, пока процессия исчезнет из виду. Причем склоненная под тяжестью креста фигура Иисуса работы Педро Рольдана произвела на меня сильное впечатление, как и статуя Скорбящей Богоматери, изваянная Мольнером.
Потом я пробился сквозь толпу, провожающую облаченных в черное насаренос, и незаметно скользнул в дом. Пробраться во дворик, где дон Альфонсо выстроил склад, было на редкость несложно. Для грабителей, не соблюдающих заповедей Церкви, Святая неделя — самое удачное время. Все обитатели города высыпают на улицы. А потому я преспокойно открыл замок и забрался на склад. Вытащив из кармана ручку-фонарик, я попытался оглядеть помещение: везде рулоны ткани, множество пустых ящиков, видимо ожидающих погрузки. Я бродил наугад, поскольку, честно говоря, даже не представлял толком ни что искать, ни где. За полчаса я так и не продвинулся ни на йоту. И вдруг рядом с несколькими ящиками, на мой взгляд, сколоченными тщательнее остальных, я заметил стопку толстых стеганых пледов для ног. Вероятно, я не обратил бы на них внимания, не окажись у меня перед носом этикетка, оповещавшая, что пледы предназначены для отправки в Кадернас на острове Куба. Мне сразу показалось более чем странным, что кубинцам могли понадобиться ножные пледы. Платья, набивная ткань, даже шторы — еще туда-сюда, но пледы… Я не сомневался, что тут что-то не так, и тщательно прощупал одну штуку — ничего, кроме обычного грубого мольтона[434]. Что заставило меня продолжать поиски, даже не знаю. Скорее всего тут сыграл роль обычный случай, хотя к нему, как к самому простому объяснению, всегда прибегают, сталкиваясь с неразрешимой загадкой. Так или иначе, мне показалось необычным, что розетка, украшавшая середину пледа, если на нее нажать, издает довольно своеобразный звук. Я открыл перочинный нож, распорол парочку швов, потом осторожно, стараясь действовать как можно незаметнее, приоткрыл края на стыке ткани и тут же увидел кончик небольшого пакетика. Сердце у меня учащенно забилось. Еще не открывая пакетика, я уже отлично знал, что внутри. Тем не менее я его вытащил и, тщательно вскрыв, высыпал на ладонь немного хорошо знакомого белого порошка. Теперь все стало ясно… Я знал, каким образом наркотики попадают в Соединенные Штаты. Куба ведь неподалеку от Флориды… Я засунул плед в середину стопки, надеясь, что их не станут укладывать в ящики по одному, и вышел со склада. Но там меня ждал неприятный сюрприз: в окнах Перселей горел свет. Я вздрогнул. Значит, они уже успели вернуться… Соблюдая крайнюю осторожность и невольно улыбаясь про себя при мысли, какую физиономию скорчит дон Альфонсо, столкнись мы с ним неожиданно лицом к лицу, я, крадучись, скользнул вдоль стены и мимо лестницы, ведущей в квартиру Перселей. С бесконечными предосторожностями мне удалось приоткрыть дверь на улицу и, подождав толпу гуляющих, я спокойно присоединился к ним.
Увидев, что я вхожу в его кабинет, комиссар Фернандес весело спросил:
— Ну, дон Хосе, что новенького вы хотите сообщить мне на сей раз?
Я напустил на себя скромный вид, заранее не сомневаясь, что новость произведет сильное впечатление.
— Всего-навсего — что я знаю, где хранятся наркотики, которые переправляют в Америку.
— Рассказывайте скорее!
Внимательно выслушав, Фернандес протянул мне сигару.
— Вы ее вполне заслужили, дон Хосе… Так что, я арестую Перселей?
— Избави Боже, сеньор комиссар! По-моему, можно сделать кое-что получше. Поставьте у дома Перселей своих людей в штатском, но выберите таких, кто как можно меньше походит на полицейских… Прикажите им наблюдать за каждым грузовиком, забирающим товар либо на улице, либо непосредственно со склада. Как только загруженная машина отъедет, пусть звонят коллегам, а те либо на мотоциклах, либо на машине отправятся следом. Вы понимаете, для нас главное — узнать, где наркотики перетаскивают на корабль и на какой именно. Тот грузовик, что направится в сторону моря, и есть наша добыча. С достойным доном Альфонсо мы всегда успеем разобраться. Но в первую очередь, сеньор Фернандес, нам нужен Лажолет. Меня бы очень удивило, не окажись он на месте, чтобы приглядеть за транспортировкой на судно такого ценного груза, особенно учитывая, что его крайне беспокоит мое присутствие в Севилье. Насколько мне известно, этот тип не из тех, кто уклоняется от сведения счетов.
— Да услышит вас Макарена, сеньор Хосе! Нам с Лусеро доставит такое удовольствие часок-другой побеседовать с этим типом с глазу на глаз…
Я не сомневался, что, получи Фернандес такую возможность, он бы заставил Лажолета горько пожалеть, что выбрал для своих махинаций Андалусию. Однако я вовсе не желал уступать комиссару пальму первенства. Кроме того, Фернандес не мог позволить себе никаких вольностей с законом, в то время как я твердо решил покончить с Лажолетом раз и навсегда.
Мне не особенно хотелось рассказывать Алонсо и Чарли о том, что я обнаружил на складе Перселей, как и о договоре с комиссаром Фернандесом. И вовсе не потому, что я плохой друг, но у меня невольно возникло ощущение, что, несмотря на последние успехи, из-за моей любви к Марии оба возомнили, будто я больше ни на что не способен. Поэтом у я считал делом чести оповестить их в самый последний момент и таким образом доказать, что Хосе Моралес — не такая тряпка, как они воображали. Я не сомневался, что Алонсо так обрадуется моему успеху, что не станет особенно упрекать за скрытность. Конечно, Арбетнот наверняка отреагирует не так благодушно, зато Клиф Андерсон ужасно обрадуется, что мне удалось обскакать инспектора из Ярда!
Последним в тот понедельник выходило братство «Кристо де ла Эспирасьон»[435], но и оно давно вернулось в часовню музея к тому времени, как я вышел на улицу Веласкеса и через Тетуан двинулся к «Сесил-Ориенту». Когда я подходил к крыльцу, часы на городской ратуше пробили два. Наступил Святой вторник. В холле ко мне сразу бросился администратор и тактично шепнул:
— Сеньор Моралес, вас уже больше часу дожидаются в гостиной…
— Кто?
Служащий гостиницы скорчил презрительную мину.
— Какой-то молодой человек… явно не из наших постояльцев. Угодно вам его принять?
— Ну конечно!
Войдя в гостиную, я увидел, что в кресле неподвижно сидит Хуан. При виде меня он вскочил и бросился навстречу.
— Дон Хосе! Они похитили Марию!
Святой вторник
Невозможно безнаказанно столько лет проработать в полиции, а потому, услышав восклицание Хуана, в первую минуту я не почувствовал ничего, кроме недоверия. По-моему, это смахивало на ловушку, да еще — из самых грубых. Ведь, в конце концов, кто мог похитить Марию, кроме моих противников, тех, кому я объявил войну не на жизнь, а на смерть, а ведь ловушка помогала им… Слишком неправдоподобно… Не говоря уже о том, что это было бы весьма странным выражением благодарности Хуану за оказанные услуги! Решительно, эти люди считали меня таким идиотом, какие вообще не встречаются в природе, во всяком случае, среди людей моей профессии! Мне ужасно захотелось еще раз хорошенько отлупить этого бандита — наверняка он просто надеялся выслужиться перед своими, еще раз проведя меня за нос.
— Передай своему хозяину, — презрительно бросил я, — что когда нам с ним настанет время встретиться, ему не надо будет никого за мной посылать. Уж я как-нибудь сам найду дорогу, не маленький! А теперь — убирайся отсюда!
Парень недоверчиво поглядел на меня.
— Вы не хотите помочь мне найти Марию, дон Хосе?
— Может, прекратишь издеваться надо мной, а? Я, кажется, ясно сказал: убирайся!
— Вы по-прежнему считаете меня убийцей?
— А ты можешь доказать обратное?
— Докажу, дон Хосе, но не раньше, чем найду сестру!
Я пожал плечами.
— Да брось, тебе нечего о ней волноваться…
Хуан побледнел как смерть.
— Если Мария погибнет, дон Хосе, я убью вас… — прошипел он.
— Браво!.. Лажолет, как пить дать, заплатит тебе кучу денег!
Хуан еще долго пристально смотрел на меня, и не знаю, чего больше было в его взгляде — ненависти или отчаяния, потом, ни слова не говоря, повернулся на каблуках и вышел.
Усталый и до предела взвинченный, я поднялся к себе в номер, но даже не попытался лечь спать, заранее зная, что все равно не смогу сомкнуть глаз. Что-то камнем лежало на сердце. По крайней мере, я упорно старался выдать за физическое недомогание то, что на самом деле было лишь отзвуками упорной борьбы, которую я вел сам с собой, с любовью к Марии. Я опустился в кресло у окна и стал смотреть, как постепенно редеет ночной сумрак, потом широко распахнул окно, и в ноздри мне ударил тот специфический запах, что всегда окутывает Севилью на Святой неделе: смесь острого морского ветра, быстро вянущих цветов, ладана и свечей. И так, куря сигарету за сигаретой, я терпеливо ждал, когда рассветет, прекрасно понимая, что стоит лечь в постель — и уже не отделаешься от терзающей мое подсознание мысли, к которой я не желал прислушиваться. Собрав всю силу воли, я старался не сдаваться, и вдруг нервы не выдержали.
— А что, если Хуан сказал правду? — вслух проговорил я.
Ну вот и все… теперь моя тревога выражена твердо и ясно, и никакие уловки больше не помогут… Неожиданно мне сразу полегчало. Я умылся холодной водой, открыл новую пачку сигарет и, стараясь сохранять полное спокойствие, начал заново обдумывать случившееся. До сих пор все указывало на связь Хуана и Марии с Лажолетом через Перселей. Да, но чего ради Хуан, зная, что на нем висит обвинение в убийстве, с таким отчаянным риском пришел повидаться со мной? Можно ли допустить, что Лажолет попытался бы заманить меня в ловушку послав именно того, кто автоматически должен был сразу внушить мне подозрения? По мере того как я перебирал в голове все эти соображения, во мне росла твердая уверенность, что я с самого начала ошибся, заподозрив Альгинов. Теперь в ушах у меня снова звучал встревоженный голос Хуана… И как я не почувствовал, не пожелал почувствовать, что парень говорил совершенно искренне? И где он сейчас? Какую еще глупость собирается выкинуть? Случись с ним беда, никогда себе этого не прощу! Я с трудом сдерживал бешеное желание немедленно мчаться в Ла Пальма. Но сначала следовало бы подумать, хорошенько подумать. Зачем похитили Марию? Несомненно, для того чтобы таким образом отделаться от меня. Очевидно, скоро раздастся звонок и мне предложат жизнь девушки в обмен на мой немедленный отъезд. Значит, надо опередить врага. Ну-ка, ну-ка… Кто мог подсказать такой план? Только те, кто не сомневался, что я по-прежнему безумно влюблен в Марию, то есть Персели, перед которыми я только сегодня разыгрывал комедию! И я тут же явственно вспомнил, как поспешно выскочили из дому донья Хосефа и дон Альфонсо, когда к дверям подходила процессия братства «Хесус де лас Пенас». Теперь я понимал, куда они так спешили. Но что наболтали Персели Марии и как уговорили ее пойти с ними? Правда у девушки не было ни малейших оснований не доверять хозяевам… Когда я выходил со склада, Персели уже вернулись. Возможно, тогда Мария находилась вместе с ними? Право же, я мог гордиться собой… Несмотря на бессонную ночь, я чувствовал себя в отличной форме — уж очень не терпелось наконец начать сражение.
Прежде чем встретиться с Алонсо и Чарли в «Нуэва Антикера», я решил заглянуть в старый дом на Ла Пальма. Правда, я опоздал бы на свидание, но уж как-нибудь коллеги малость подождут. Я не мог покинуть Марию на произвол судьбы ради точности. Едва успев войти во дворик, я наткнулся на добродушную толстуху, встретившую меня в первый раз.
— Que tal, senor Morales?
— Disperense, dona Dolores, me falta tiempro para chalar.[436]
И, оставив возмущенную матрону негодовать в свое удовольствие, я побежал к лестнице. Вслед доносилось ворчание насчет молодых людей, совершенно отвыкших от хороших манер. И, словно в отместку, не успел я исчезнуть из виду, сеньора крикнула, что, если я направляюсь к Альгинам, торопиться нечего — там все равно никого нет. Но об этом я догадывался и без нее.
Хуан впал в такую панику, что, очевидно, забыл запереть дверь на ключ, и она распахнулась, как только я повернул ручку. В квартире я не заметил ни малейших следов борьбы. Значит, Мария и впрямь ушла из дому добровольно. Так почему Хуан решил, что его сестру похитили? И снова меня обуяли эти чертовы подозрения… Само собой, такие девушки, как Мария, не ночуют вне дома, и парень наверняка побежал на Куну спрашивать, не знают ли хозяева магазина, где его сестра. А раз Марии ночью не оказалось дома и на работу она не приходила, Хуан вполне мог почуять неладное. Ведь все это уж очень не походило на его сестру.
Когда я снова вышел во дворик, донья Долорес демонстративно повернулась ко мне спиной. Это выглядело ужасно смешно, но мне в то время было не до смеха. На мой зов толстуха все же обернулась, но, хоть я и одарил ее самой чарующей улыбкой, продолжала хмуриться.
— Вы случайно не знаете, где сеньорита, донья Долорес?
— А я не обязана за ней следить, — самым нелюбезным тоном ответствовала толстуха.
Однако славная женщина не умела слишком долго сдерживать природную отзывчивость и, заметив, что я сильно встревожен, рассмеялась.
— Enamorado, he?[437]
— Да…
И тут началось настоящее извержение вулкана. Долорес пела восторженный панегирик Марии дель Дульсе Номбре, восхваляя ее кротость, добродетель, набожность, милосердие, трудолюбие, и, когда, совершенно запыхавшись, матрона умолкла, только круглый идиот мог бы усомниться в том, что второй такой девушки на свете нет. Дружелюбная болтовня соседки настолько совпадала с моими собственными представлениями о Марии, что я соглашался без всякой натяжки. Наконец, едва мне представилась возможность вставить хоть слово, я задал мучивший меня вопрос:
— Вы не видели, как Мария уходила из дому?
— Нет. Ее брат уже спрашивал меня об этом. Но я сама вернулась домой за полночь — ходила к двоюродной сестре на площадь Кавида поглядеть, как наш «Хесус де лас Вердас Крус»[438] вносят в часовню. А, надо вам сказать, мой племянник Хасинто изображает в процессии факельщика…
Мне было наплевать и на Хасинто, и на его матушку, а поскольку Долорес явно не могла сообщить ничего полезного, я довольно решительно с ней распрощался и побежал прямиком в «Нуэва Антикера».
Когда я пришел туда, опоздав на час, в кафе ждал один Алонсо.
— Я уже начал волноваться, Пепе!
— Не бери в голову, старина… Где Чарли?
— Ушел. И, кажется, в отвратном настроении.
— Почему?
— Да просто Арбетнот уверен, что ты ведешь с ним двойную игру и больше не соблюдаешь нашего договора.
— Чепуха, у меня есть заботы поважнее, нежели мелкие уколы самолюбия мистера Арбетнота… Они похитили Марию, Алонсо!
Он вздрогнул.
— Что ты сказал?
— Ты отлично слышал: Лажолет приказал своим подручным схватить Марию.
Алонсо не мог прийти в себя от удивления, и я почти физически ощущал, как лихорадочно он шевелит мозгами. То, что я долго и неторопливо обдумывал у себя в спальне, другу пришлось прокрутить в голове в считанные секунды. Наконец, придя к неизбежному выводу, парень совсем скис.
— Но тогда…
— Вот именно, Алонсо! Мы пошли по ложному следу… Мария не связана с ними.
— Однако ее брат…
— По всей вероятности, он тоже ни при чем.
— Да брось ты! А как же его нож?
— Ну, наверняка и тут найдется объяснение.
Все это свалилось на Алонсо с бухты-барахты, и некоторое время он молча переваривал информацию. Хорошенько обдумав мои слова, Муакил совершенно преобразился. Теперь передо мной сидел не мучимый сомнениями и слегка растерянный детектив, а тот Алонсо, каким я привык его видеть, когда мы преследовали опасного преступника. Да, мой Алонсо — покрепче стали! И меня это чертовски радовало. Теперь я снова мог положиться на него и твердо знал, что мы выиграем схватку с Лажолетом, найдем Марию и Хуана, а потом Клиф Андерсон, сдержав данную себе клятву, сможет спокойно уйти в отставку.
— У тебя нет никаких соображений насчет того, кто бы мог подстроить это дело? А, Пепе?
— Более того — я точно знаю.
— Не может быть!
— А вот и да! Это работа Перселей.
— Хозяев Марии?
— Да, и я даже могу с уверенностью сказать, что они похитили девушку вчера вечером между десятью и одиннадцатью часами.
— Ну, коли на то пошло, может, ты еще и знаешь, где они прячут Марию?
— Во всяком случае, догадываюсь…
Мне показалось, что Алонсо глядит на меня не без некоторого восхищения, и это тем более приятно щекотало самолюбие, что Муакил — отнюдь не первый встречный, а человек с вполне устоявшейся репутацией, один из лучших агентов ФБР. Он швырнул на столик несколько писем и встал.
— Пошли?
— Сядь, старина… Сначала надо предупредить Чарли.
— Где ж я его тебе откопаю?
— Позвони в «Мадрид».
Так он и сделал, но англичанина в гостинице не оказалось и адреса он тоже не оставил. Алонсо успокоил меня, что так или иначе, они договорились в одиннадцать вечера поужинать в «Кристине». Моему другу явно не терпелось действовать.
— А теперь — помчались в Куну!
— Нет.
Недовольный, он снова опустился на стул.
— Что еще?
— Подумай сам, Алонсо. Персели тебя не знают. Увидев, что я привел постороннего, они мигом почуют недоброе, и это только осложнит дело.
— Короче, ты опять вздумал изображать одинокого рыцаря? Слушай, Пепе, кончится тем, что я, как и Чарли, заподозрю тебя в нехорошем намерении присвоить все лавры. Но имей в виду, я поклялся Рут привезти тебя в Вашингтон в приличном состоянии, а потому, хочешь — не хочешь, но мы пойдем вместе!
Черт знает, сколько времени я бился, пытаясь доказать ему, что в одиночку справлюсь куда лучше, по крайней мере сначала, и уж как-нибудь сумею выпытать у Перселей и где Мария, и где Лажолет.
— А вдруг, когда ты придешь, Лажолет окажется у них?
— Меня бы это очень удивило… Но даже если это и так — не беспокойся, я успею выстрелить первым.
Алонсо мои доводы, похоже, не слишком убедили.
— И все же, Пепе, не очень-то красиво с твоей стороны вот так оттирать меня в тень… Первый раз с тобой такое. Но ты совершенно уверен, что мы не можем провернуть это вместе, как обычно?
Алонсо выглядел таким несчастным, что я не выдержал.
— Ладно. Можешь не изображать великое отчаяние. Пошли, но уж постарайся не лезть на глаза и не вмешиваться, если только мне и в самом деле срочно не потребуется помощь. Согласен?
— Еще бы!
Осторожности ради и на случай возможного нападения, когда я вышел на Куну, Алонсо прикрыл лицо газетой и двинулся следом на расстоянии примерно сотни метров. Я постучал в дверь и, войдя в дом, позаботился прикрыть створку не слишком плотно. На лестничной площадке Перселей я подождал, пока послышатся приглушенные шаги дона Альфонсо, и лишь тогда позвонил. Но на пороге меня, как и в прошлый раз, встретила донья Хосефа. Она даже не успела придать физиономии обычное радушное выражение.
— Вы, дон Хосе?
— Я, донья Хосефа.
— Э-э-э… уж простите нас… но, видите ли… мы с мужем сейчас ужасно заняты… Отправка товара… да и счета надо проверить… куча всяких бумажек… тем более на Святой неделе помощи ни от кого не дождешься…
— Но я вполне готов помочь, донья Хосефа, и окажу вам услугу с неимоверным удовольствием!
И я вошел в квартиру, прежде чем она успела опомниться от удивления. Минуя холл, я вошел в гостиную. Дон Альфонсо сидел за столом без пиджака. При виде меня он тут же вскочил.
— Сеньор Моралес!..
Он живо натянул пиджак.
— В чем дело? Что случилось?
— А что, у вас есть основания беспокоиться, дон Альфонсо?
Но донья Хосефа, невежливо вмешавшись в разговор, опередила мужа:
— Помолчи, Альфонсо! Ничего особенного не произошло — просто дон Хосе пришел нас навестить… Я сказала, что мы заняты, но…
— Да, очень заняты… — послушно повторил супруг.
Никто не предлагал мне сесть, но я спокойно опустился на стул. Муж и жена переглянулись, и я почувствовал, что мое поведение начинает их пугать. И снова донья Хосефа попыталась меня выпроводить:
— В любое другое время мы были бы счастливы вас видеть…
— Успокойтесь, сеньора, как только вы ответите на один вопрос, я немедленно уйду.
Я не сомневался, что из этих двоих первым не выдержит дон Альфонсо. Так оно и случилось.
— Во… прос? Ка… кой вопрос? Почему? — дрожащим голосом пробормотал он.
Но его супруга уже изготовилась к сражению. Собственно говоря, она сразу приняла решение не уступать, едва почувствовав, что я пришел к ним с определенной целью.
— Я же велела тебе молчать, Альфонсо! — снова перебила она мужа. — Так что за вопрос вас интересует, сеньор Моралес?
— Куда вы дели Марию?
Наступила долгая тишина. Мы с доньей Хосефой, не скрывая ненависти, сверлили друг друга глазами. Персель плюхнулся в кресло и, сжавшись в комочек, ждал продолжения.
— А почему вы спрашиваете об этом меня? — вкрадчиво осведомилась его супруга.
— К примеру, хотелось взглянуть на вашу реакцию… Очень ли вы удивитесь, узнав об исчезновении Марии…
С досады толстуха прикусила губу.
— Но… ваше сообщение меня более чем удивило!
— Нет, донья Хосефа, нисколько.
— А вы почем знаете?
— Сегодня утром Мария не пришла на работу… Увидев меня, вы бы сразу заговорили на эту тему…
— Совсем вылетело из головы… все эти заботы…
— Нет, донья Хосефа, даже если вы отправляете очень ценный груз, это не могло помешать вам тревожиться о судьбе девушки, которую, по вашему же собственному признанию, вы всегда считали чуть ли не родной дочерью. Вы не спросили меня о Марии лишь потому, что отлично знаете — в данный момент с ней все более или менее в порядке.
— А откуда у меня может быть такая уверенность?
— Да просто вы же ее и спрятали!
Снова наступила гнетущая тишина, лишь дон Альфонсо чуть слышно застонал у себя в уголке. Этот уже сдался без боя. Но его жена продолжала упорствовать.
— Вы, наверное, пьяны, сеньор Моралес?
— А ну, ведите меня к Марии, да поживее!
Она приблизилась ко мне, сопя, как разъяренный бык. И куда вдруг подевалась медоточивая сеньора Персель? Теперь грубые, словно окаменевшие черты лица и холодный блеск глаз изобличали лишь жестокость и злобу.
— Убирайтесь! — процедила она сквозь зубы. — Сейчас же убирайтесь отсюда! Так будет для вас же лучше!
— Я уйду только вместе с Марией!
Донья Хосефа всей тушей обрушилась на меня. У нас, в ФБР, не принято деликатничать, а потому я хорошенько съездил ей по физиономии. Слегка оглушенная толстуха отпрянула. Дон Альфонсо, в свою очередь, ринулся ей на выручку. Я встретил его прямым коротким ударом в переносицу, и хозяин дома, обливаясь кровью, снова отлетел в угол.
— Вы его убили! — взвыла донья Хосефа.
— Пока нет, но, возможно, придется… Он-то ведь прикончил Эстебана, верно?
Донья Хосефа смертельно побледнела.
— Так вы знаете… и это? — как зачарованная проговорила она.
— Да, и еще много чего другого.
— Ну, тем хуже для вас, господин агент ФБР!
Я настолько не ожидал стремительной атаки, что чуть не угодил впросак — во всяком случае, когти сеньоры Персель прошли лишь в нескольких миллиметрах от моего лица. Дралась она по-мужски, да и силой обладала соответствующей. Добрых десять минут мы боролись, как два бандита, решивших во что бы то ни стало уничтожить друг друга. Дон Альфонсо уцепился за мои ноги. В конце концов мы все трое полетели на пол, и на мгновение я испугался, что не смогу одолеть обоих противников сразу. Жир защищал донью Хосефу от моих ударов, но ее супругу мне удалось хорошенько врезать в солнечное сплетение, и он без чувств вытянулся на ковре. С доньей Хосефой пришлось-таки повозиться. Когда она налетела на меня в очередной раз, я с размаху ударил ее по трахее ребром ладони. Толстуха побагровела и рухнула, судорожно хватая ртом воздух. По иронии судьбы именно в этот момент грянули первые звуки торжественного псалма, исполняемого оркестром, который возглавлял процессию братства «Кристо де ла Салюд и Буэн Вьяхе»[439]. Донья Хосефа, сидя на пятой точке, по-прежнему задыхалась. Я с огромным трудом отволок ее в кресло. И в обычное время сеньора Персель отнюдь не блистала красотой, но сейчас производила просто жуткое впечатление. Ничего не скажешь, поработал я на совесть! Покопавшись в буфете, я обнаружил едва початую бутылку коньяка, сунул горлышко в рот донье Хосефе и заставил отхлебнуть изрядную порцию. Толстуха вздрогнула, отпихнула бутылку, долго сипела и откашливалась и наконец, вновь придя в себя, холодно спросила:
— Ну и что дальше?
— А то, донья Хосефа, что вы сейчас же быстренько скажете мне, где Мария!
— Нет!
— Тем хуже для бедняжки дона Альфонсо…
Я подошел к все еще бесчувственному Перселю и поднял ногу над его физиономией.
— Что вы собираетесь сделать? — прохрипела донья Хосефа.
— Расплющить ему лицо.
Хозяйка дома издала весьма неприятный звук — полустон-полукарканье.
— Нет… оставьте его… — вздохнула она.
Видать, это чудовище женского пола испытывало сильную привязанность к спутнику жизни.
— Мария на складе.
— Живая?
Донья Хосефа кивнула.
— Вы не причинили ей никакого вреда?
— Нет.
— А зачем спрятали?
— Мы просто подчинялись приказу.
— Лажолета?
Толстуха содрогнулась и поникла.
— Ну, уж коли вы все равно в курсе…
Я подошел поближе и склонился над сеньорой Персель.
— Послушайте, донья Хосефа, вам с Альфонсо так и этак крышка… Но мне нужен Лажолет… и мы до него доберемся… Для вас последний шанс — перейти на нашу сторону.
Она, понимая, что спорить бесполезно, пожала плечами.
— А что я, по-вашему, могу сделать? Если я заговорю — он нас прикончит… а если нет, тогда вы…
Я не дал ей договорить.
— Я знаю, как спасти вас от смерти: вы говорите мне, где можно найти Лажолета, а я тут же веду вас с мужем в тюрьму.
— В тюрьму?
— Там вы отсидитесь в полной безопасности, пока мы не разделаемся с теми, кого ищем…
Глаза доньи Хосефы сверкнули.
— Неглупо придумано…
Она глубоко вздохнула.
— По рукам, дон Хосе!
— Ты что, спятила, Хосефа?
Это влез в разговор уже очнувшийся Альфонсо. Не хватало только, чтобы все сорвалось из-за такого кретина! Он, пошатываясь, добрался до нас и вцепился в подлокотник кресла жены.
— Не слушай его, Хосефа! Не слушай его! Это ловушка!
Но сеньора Персель упрямо покачала головой.
— Не суйся в это дело, Альфонсо… Дон Хосе прав — лучше выйти из игры, пока не поздно!
И тут я услышал, как за спиной у меня тихонько отворилась дверь, но не повернул головы, не сомневаясь, что это Алонсо.
— Чтобы найти Лажолета, дон Хосе, вам достаточно просто…
И вдруг она увидела Алонсо. Толстуха тут же вскочила и снова набросилась на меня, ухватив по пути тяжелый медный подсвечник, стоящий на столе. Послышалось негромкое «плоп!» Донья Хосефа на секунду замерла, и на лице ее отразилось полное недоумение. Сеньора Персель хотела крикнуть, но изо рта хлынула кровь, и толстуха ничком повалилась на пол. Вся мебель в комнате, казалось, вздрогнула от грохота. Я даже не успел сообразить, что произошло, как вдруг Альфонсо бросился на моего коллегу. Когда он пробегал мимо меня, я снова услышал приглушенный хлопок, и верхняя часть черепа маленького коммерсанта буквально исчезла на глазах. Я резко повернулся к улыбающемуся Алонсо.
— Как удачно, что я сообразил привинтить к пушке глушитель, а, Пепе?
Меня так и затрясло от ярости.
— Черт возьми! Какого дьявола тебе вздумалось палить?
Алонсо ошалело таращил на меня глаза, видно, не находя слов.
— Ну ты даешь, — наконец с горечью заметил он. — Я спасаю тебе жизнь, а вместо благодарности…
— Ты спас мне жизнь? Уж не вообразил ли ты часом, что эта жирная старуха могла со мной справиться, а? Или недомерок Альфонсо — задушить голыми руками? А теперь я не только не успел выудить у обоих все, что они знали, но, помимо прочих радостей, у нас на руках еще два трупа! Ты стареешь, amigo…
— Тьфу, пропасть… Тебя уже черт знает сколько раз пытались прикончить. Приехав сюда, первое, что я увидел, — скрепы и пластырь на твоей башке… И после этого ты хочешь, чтобы я сидел сложа руки, видя, как на тебя в очередной раз нападают вдвоем? Знал бы я…
— Вот потому-то я и не хотел брать тебя с собой…
Бедняга Алонсо совсем расстроился. Он подошел к обоим покойникам, перевернул и поднял глаза.
— Так ты считаешь меня… убийцей, Пепе? — почти робко спросил он.
Я обхватил друга за плечи.
— Не стоит преувеличивать, Алонсо! Ты отправил на тот свет двух отъявленных мерзавцев… Вот только мы ни на шаг не приблизились к Лажолету…
— Уф! Ты меня успокоил… Так-то оно лучше. А то я уж черт знает что начал думать… Этак и комплекс неполноценности заработать недолго! А что до Лажолета, то теперь он у нас в руках, старичок…
— Как так?
— Сам подумай, Пепе! Мы загнали Лажолета в угол! Мы и так постоянно вмешивались в его дела, портили спокойную жизнь, а теперь еще ухлопали двух его людей… Так что Лажолету волей-неволей придется как-то отреагировать. Поверь мне, Пепе, сейчас это лишь вопрос времени, и наш подонок вот-вот высунет хотя бы кончик носа…
Предсказания Алонсо выглядели весьма оптимистично, но пока перед нами на полу лежали трупы Альфонсо и Хосефы, и я очень плохо представлял себе, каким образом от них избавиться. Проще всего было замаскировать это под обычную уголовщину. Не говоря ни слова Алонсо, я подумал, что тогда комиссару Фернандесу почти не составит труда спрятать концы в воду. Мы пооткрывали ящики и рассыпали содержимое по полу, вспороли подушки и тюфяки, короче, проделали все, что могло взбрести в голову грабителям, вздумавшим искать деньги и драгоценности. Наконец, когда мы закончили операцию, в доме царил невообразимый хаос. Я даже стал подумывать, не перегнули ли мы палку. Мой друг несколько изумился, почему мы не бежим освобождать Марию, если я имею хоть отдаленное представление, где ее искать, но я ответил, что, право же, девушке вовсе незачем смотреть на наши «подвиги» в этом доме.
Марию мы нашли крепко связанной и закатанной в ковер. Рот ей заткнули платком, но все-таки позаботились уложить поудобнее. Пожалуй, Персели, несмотря ни на что, по-своему любили Марию. Как только мы избавили ее от пут, девушка расплакалась. У меня внутри все переворачивалось от жалости, но не мог же я забыть, что она выставила меня из дому, а кроме того, меня мучил стыд — и как я смел так плохо думать о любимой женщине? В первые минуты оба мы держались довольно скованно, хотя Мария и поблагодарила меня за то, что я для нее сделал. А потом, успокоив ее насчет Хуана, я попросил Алонсо проводить девушку на Ла Пальма. Он хотел предоставить это мне самому, но я отказался, довольно туманно объяснив, что у меня тут есть еще кое-какие дела. Алонсо удивленно вскинул брови, но промолчал. Кроме того, я попросил друга подольше посидеть с Марией и обещал, что в одиннадцать вечера, как уговорились, непременно приду в «Кристину». И только после того, как они ушли и сам я добрался до Сьерпес, мне вдруг пришло в голову, что следовало проверить, по-прежнему ли пледы на месте или их уже отправили.
Мне нужно было как можно скорее связаться с комиссаром Фернандесом, но я чувствовал непреодолимую потребность отдохнуть хоть несколько минут, встряхнуться и еще раз все обдумать, поэтому решил заскочить в гостиницу. Как обычно, на всех улицах по соседству с теми, где пролегал путь основных процессий, бурлила густая толпа. У Ла Пласа я встретил праздничный кортеж братства «Канделариа»[440] и в душе помолился Деве Сан Николо, прося простить, что невольно до срока отправил ей две грешных души, которым, вне всяких сомнений, предстоит довольно долго мучиться в чистилище…
Добравшись до «Сесил-Ориента», я сразу позвонил комиссару Фернандесу и сообщил, что у меня есть для него кое-что новенькое и очень серьезное. Полицейский предложил мне немедленно приехать в участок, но я сослался на усталость и желание хоть немного расслабиться.
— В таком случае, сидите у себя в номере, amigo, я пошлю к вам Лусеро… Кстати, он тоже хочет кое-что вам сообщить…
Инспектор вошел в ванную, когда я умывался холодной водой.
— Простите, что не стал стучать в дверь, сеньор, но, по-моему, не стоило привлекать внимание соседей.
Он, улыбаясь, сел в кресло.
— Ну, сеньор Моралес, какие еще подвиги вы совершили сегодня?
— Боюсь, причинил вам новые осложнения, сеньор Лусеро…
— Правда?
Я рассказал, как ко мне явился Хуан, как сначала я воспринял его сообщение скептически, а потом засомневался в собственной правоте, наконец — о трагической встрече с Перселями и ее мрачном финале. По мере того как я рассказывал, выражение лица инспектора менялось: улыбка сменилась озабоченностью, а потом и тревогой. Едва я умолк, он встал.
— Паршивая история! Придется немедленно бежать к комиссару. Честно говоря, даже не представляю, каким образом замять это дело…
Я описал «мизансцену», устроенную нами с Алонсо. Физиономия Лусеро сразу просияла.
— Ну и лихие же вы ребята! По всему видать, вы обо всем успеваете подумать! Ограбление? Вот и отлично. Тут нам даже газетчики не помеха — пусть себе пишут красивые слова об отвратительном безбожии некоторых злоумышленников, не гнушающихся убивать ближних, пользуясь суматохой Святой недели! Вы сняли с моей души чертовски тяжелый камень… А теперь моя очередь: могу сообщить вам, что наркотики вот-вот отправят по назначению, сеньор… Один из грузовиков Перселей направляется в Уэльву.
На сей раз уже я забеспокоился.
— И давно он выехал?
— Незадолго до того, как вы пришли к Перселям. Еще немного — и вы бы столкнулись нос к носу…
— Но, в таком случае, грузовик уже подъезжает к Уэльве?
— Нет. Его путь прослеживают от деревни к деревне. Водитель пока остановился в Санлукар-ла-Майор… По-моему, он не двинется с места до темноты. Вам не о чем беспокоиться — портовая полиция получила предупреждение и уже ждет… Мы не станем действовать, пока наркотики не перенесут на корабль, — надо же выяснить, на какой именно… Вот тогда-то и начнется охота. Я думаю, дело в шляпе, сеньор Моралес…
— Да, но как же Лажолет?
— Ну, это ваша личная проблема, хотя меня нисколько не удивило бы, пожелай он лично руководить операцией.
— Будем надеяться. А вы сами поедете?
— Да, через час. Прихватить вас с собой?
— Нет. Как-никак, а уж такую свинью подложить друзьям я не могу.
— Друзьям?
Лусеро явно не без умысла подчеркнул множественное число.
— Ну да, Алонсо Муакилу, моему коллеге из ФБР (о нем я уже говорил вам), и Чарли Арбетноту из Скотленд-Ярда, который расследует то же дело. Мы решили действовать сообща.
— В таком случае у нас получится на редкость многонациональная команда!
— В одиннадцать вечера я
встречаюсь с обоими в «Кристине». Оттуда мы и рванем в Уэльву.
— Стало быть, увидимся на месте, сеньор.
Лусеро начал было с изысканной вежливостью откланиваться, но я удержал его.
— Сеньор Лусеро, я должен повиниться перед вами за одну серьезную ошибку…
— Вы меня удивляете, сеньор…
— Увы… Даже в нашем ремесле, невзирая на все предупреждения и жизненный опыт, случается делать слишком поспешные выводы и попадаться в ловушку…
— И что вы имеете в виду?
— То, что больше не считаю Хуана Альгина виновным в убийстве Эстебана, хотя орудием преступления и стал его нож.
— Вы нашли доказательства невиновности Альгина?
— Нет, но, как вы уже знаете, я разговаривал с парнем, а кроме того, похищение его сестры…
Инспектор не дал мне договорить.
— Страсть — тоже недурная ловушка для полицейских, сеньор, — очень холодно и сухо заметил он, — а принимать желаемое за действительное — не меньшее заблуждение, чем торопливость. Я полагаю, что, коли парень связан с нашей бандой, вряд ли он занимает там сколько-нибудь важное место, а потому, раз главарь счел нужным похитить его сестру, у Хуана никто не стал спрашивать разрешения. До скорой встречи, сеньор, и, пока вы не появитесь, мы не станем предпринимать никаких действий.
Я не без труда пробился на проспект Антонио Примо де Ривера, где перед входом в собор остановилась процессия братства «Санта Крус». Почетный кортеж насаренос в черном отделял платформы от зрителей. Некоторые из самых молодых сняли капюшоны и пили прохладную воду или слушали наставления родителей.
Сворачивая на площадь Кальво Сотело, я почувствовал, что меня тянут за рукав. Это был Хуан.
— Я только что видел сестру, дон Хосе, — быстро начал парень. — Она мне все рассказала… И я хочу поблагодарить вас… Но Мария так и не призналась мне, кто ее похитил…
— Персели.
— Ну, я с ними разберусь! — свирепо пообещал Хуан.
Только этого не хватало! Я не потерплю, чтобы юный дуралей все испортил! Не говоря уж о том, что, коли его застукают в доме Перселей, парень вряд ли сумеет объяснить, кто из двух покойников пригласил его в дом и зачем…
— Нет, Хуан, ты будешь сидеть тихо и спокойно…
— Но, послушайте, дон Хосе, не могу же я допустить…
— А в чем, собственно, дело? Твоя сестра жива и здорова, верно? Вот и отлично. Что до Перселей, то пусть они больше тебя не волнуют.
— Но они должны заплатить за эту гнусность!
— А кто тебе сказал, что они не заплатили? И дорого… очень дорого…
Парень уставился на меня, словно пытаясь понять, на что я намекаю, и вдруг его лицо осветила счастливая улыбка.
— Спасибо, дон Хосе…
Я пошел своей дорогой, но Хуан все не отставал. Наверняка хотел сказать что-то еще.
— Дон Хосе… Вы по-прежнему думаете, будто того типа, Эстебана, убил я? — наконец решился он.
Несмотря на предупреждения Лусеро, я, не задумываясь ни на секунду, ответил:
— Нет.
— Тогда позвольте действовать вместе с вами, дон Хосе! Мне не терпится показать им, на что я способен! И это единственный способ доказать на деле, что вы больше не сомневаетесь во мне…
В голосе парня звучала такая неподдельная искренность, что я окончательно успокоился на его счет. Нет, Хуан, конечно же, славный малый! И, что бы ни говорил андалусский инспектор, есть вещи, в которых обмануться почти невозможно.
— Не могу, Хуан… Через несколько минут мне надо отправиться в небольшое… путешествие.
— Возьмите меня с собой!
Будь моя воля, я бы тут же согласился, но коллеги почти наверняка заартачатся. Ведь ни Алонсо, ни Чарли в отличие от меня не любят Марию…
— Я еду не один…
Парень так расстроился, что у меня не хватило пороху бросить его.
— Послушай… Я сейчас должен встретиться с друзьями в «Кристине». Нам понадобится автомобиль. Вот и придумай что-нибудь. Хотя… Вот что! Машину подыщешь ты сам… Постарайся раздобыть тачку помощнее — нам надо проехать сотню километров и очень быстро. Кстати, у некоторых машин бывает на редкость вместительный багажник…
— Значит, вам подогнать американскую?
— А сможешь?
— Я знаю одного типа… У него есть старенькая «де сото», на которой он возит иностранцев в Ронду или в Гранаду… Но это обойдется недешево…
— Неважно.
— Если тот парень на месте, через полчаса я буду ждать вас у крыльца «Кристины».
Когда я вошел в ресторан, в зале царило вечернее оживление. Несмотря на внешнюю любезность, мне показалось, что Арбетнот на меня дуется. Впрочем, англичанин сразу перешел в наступление:
— Насколько я понимаю, Моралес, вы твердо решили работать в одиночку? Муакил уже поведал мне о ваших нынешних свершениях… Поздравляю… Но вы что, поклялись держать меня не у дел? Тогда честнее было бы сказать об этом сразу, еще в тот раз, когда мы разговаривали на Сан-Фернандо. Как по-вашему? И как мне прикажете отчитываться в Ярде? Странные же у вас, американцев, представления о сотрудничестве!
Я успокоил его, как мог, объяснив, что любые результаты, полученные случайно или благодаря интуиции, в любом случае записываются в актив всей команде. Кроме того, я поклялся, что, хвати у него терпения дождаться меня в «Нуэва Антикера», Чарли тоже мог бы принять участие в бойне, если, конечно, сожалеет именно о том, что он не прикончил Перселей. А плюс ко всему, поскольку наше расследование — сугубо секретное, ровно ничто не мешает ему рассказать лондонскому начальству все, что заблагорассудится.
По-видимому, мои доводы успокоили англичанина. Чарли расхохотался и заказал бутылку вина, правда, сначала заставив меня поклясться больше не разыгрывать из себя «вольного стрелка». Я тем охотнее дал обещание, что не видел ровно никаких причин не брать его с собой. Атмосфера разрядилась, и мы два часа отдыхали душой за превосходным ужином. Во время трапезы я на минутку отлучился позвонить Фернандесу и узнал, что грузовик покинул Санлукар-ла-Майор ровно в одиннадцать. Я попросил передать инспектору, что приеду в Уэльву к половине третьего. Пользуясь случаем, я заодно выглянул на улицу — «Де сото» уже стояла на месте. Машина выглядела очень удобной. Я подтвердил шоферу, что Хуан выполняет мое поручение, и парень обещал подождать, пока брат Марии устроится в уже подготовленном им багажнике.
Около часу ночи, расплатившись по счету, Арбетнот спросил, не собираемся ли мы отправиться спать, а если нет, то кто может предложить что-нибудь интересное? Заранее наслаждаясь их удивлением, я наконец выложил главную новость:
— Я везу вас обоих в Уэльву…
— В Уэльву?
— В такой час?
— Да, и там мы накроем всю банду Лажолета…
Коллеги, совершенно онемев, уставились на меня круглыми глазами. Я вполне мог гордиться произведенным впечатлением.
— Да, сегодня ночью они отправляют наркотики сначала в Гавану, а оттуда, вероятно, во Флориду…
Алонсо и Чарли сидели как громом пораженные. Первым пришел в себя Арбетнот.
— А вы не шутите?
— В таких случаях юмор неуместен.
— Но, в конце концов, откуда ты знаешь? — в свою очередь осведомился Алонсо.
— Потом объясню. А сейчас нам пора мчаться на место.
— Пешкодралом?
— У входа уже ждет машина.
— Решительно, вы все предусмотрели, — хмыкнул Арбетнот. — Еще раз поздравляю… Ловкий вы парень… и куда хитрее нас, правда, Муакил?
Но Алонсо отреагировал со свойственным ему великодушием:
— Хосе — один из лучших детективов у нас, в ФБР, так что тут нет ничего удивительного.
Однако я вовсе не желал злоупотреблять собственным превосходством.
— Довольно любезностей. Поехали.
Чарли, не желая оставаться в стороне, небрежно заметил:
— Теперь моя очередь сообщить вам новость… Надеюсь, вы еще не в курсе… Лажолет уехал из Барселоны несколько дней назад. Сегодня я созвонился со своим тамошним агентом…
Ни одна другая новость не могла бы порадовать меня больше.
— Будем надеяться, что он тоже поехал в Уэльву!
Поднявшись, Чарли, явно огорченный, что оказался в роли подручного (ох уж эта вечная британская гордыня!), с легкой обидой проговорил:
— Вероятно, мне следует поблагодарить вас, что пригласили участвовать в облаве?
— Вряд ли вам захочется сказать мне «спасибо», если схлопочете пулю от Лажолета!
Он пожал плечами.
— До сих пор еще никому не удавалось меня прикончить, и я уверен, дорогой мой Моралес, что уж Лажолету этого точно не добиться.
Святая среда
Ехали мы без приключений. Машина оказалась удобной и надежной. Правда, коллеги все никак не могли пережить мой триумф и слегка хмурились. Мы промчались мимо погруженного в сон Санлукар-ла-Майор, проскочили Гвадиамар и знаменитые виноградники Мансанильи (на которые я не мог не взглянуть с благодарностью). Несмотря на поздний час, на улицах Палма-дель-Кондадо еще толпилось довольно много народу. Правда, у андалусцев вообще несколько иные представления о времени, нежели у прочих жителей Европы. Почти незаметно мы добрались до Сан-Хуан-дель-Пуэрто, а потом и до Уэльвы. За час с четвертью мы проехали девяносто четыре километра. Чтобы не привлекать внимания, машину решили оставить, не доезжая до порта. О Хуане я не беспокоился — в нужный момент он сумеет меня разыскать.
Когда неизвестно откуда вдруг вынырнул мужчина с револьвером и преградил дорогу, мы невольно вздрогнули от неожиданности. Но я тут же узнал Лусеро.
— Вы приехали даже раньше, чем обещали, сеньор… А кто эти господа?
Я познакомил своих спутников с испанцем:
— Алонсо Муакил из ФБР… Чарли Арбетнот, следователь из Скотленд-Ярда… Инспектор Лусеро — один из достойнейших представителей севильской полиции…
У Арбетнота совсем испортилось настроение.
— Вы впутали в дело официальную полицию, Моралес, и опять-таки не предупредив нас…
Даже Алонсо взирал на меня с явным неодобрением.
— Правда, Хосе, ты перегибаешь палку… Почему ты нас не поставил в известность? Хотел выставить полными идиотами?
— Нет, просто опасался упреков… Впрочем, мне все равно не удалось их избежать… Но, черт возьми! Не могли же мы втроем без ордера на обыск залезть на судно Лажолета, где, очень возможно, торчит он сам!
Алонсо повернулся к Чарли.
— Вообще-то он прав…
Арбетнот, хоть и без особой охоты, согласился.
— Ладно, но мне такие методы не по душе…
К Лусеро подбежал полицейский в форме и что-то шепнул на ухо. Инспектор почти тотчас отослал его обратно.
— Господа, сейчас мы начнем операцию… Видите вон то грузовое судно, слева от нас? Его-то нам и нужно. Корабль называется «Каридад»[441] и плавает под панамским флагом… Во избежание неприятных случайностей я прошу вас пока не вмешиваться, но, поскольку все вы, я полагаю, вооружены и приехали сюда не столько ради наркотиков, сколько за вполне определенным человеком, займите наиболее подходящие позиции. Вы, сеньор Моралес, спрячьтесь между этими тюками, вы, сеньор Муакил, останьтесь здесь, среди бочек, а вас, сеньор Арбетнот, я прошу схорониться за поленницей, вон там, слева. Ваша задача — наблюдать за кораблем, и, если кто-то проскользнет сквозь наши сети, поймать беглеца.
Мы уверили инспектора, что он может рассчитывать на нас. Если Лажолет сейчас и вправду на борту «Каридад», он, несомненно, попытается удрать, и я стал молить Макарену направить его в мою сторону. Мы заняли указанные Лусеро места, и бдение началось. Я привык терпеливо поджидать добычу, но еще ни разу мне не случалось иметь дело с преступником такого размаха, как Лажолет. Поистине, это самый роскошный трофей, о каком только может мечтать полицейский. Стояла восхитительная ночь. Я прекрасно видел «Каридад» и часового на носу корабля. Внезапно мне послышался шорох, и я напряг слух: кто-то с бесконечными предосторожностями подкрадывался поближе. Напрягшись всем телом, я приготовился в любую секунду отскочить в сторону и медленно приподнял «люгер», но тут же услышал шепот:
— Дон Хосе?
— Это ты, Хуан?
— Да.
— Не шуми…
Брат Марии бесшумно скользнул ко мне.
— Как тебе удалось проскочить мимо полицейских?
— Я умею прятаться… Как вы думаете, удастся поймать этого Лажолета?
— Очень надеюсь.
— Ладно, тогда я пошел…
— Куда?
— Охранять вас с тылу… То, что удалось мне, может сделать и кто-нибудь другой…
И, прежде чем я успел его удержать, Хуан исчез в темноте. Неплохие задатки у малыша… Клифу Андерсону он понравится. Но на набережной творилось такое, что очень скоро я и думать забыл о Хуане. То здесь, то там мелькали неясные тени, и я угадывал, что люди Лусеро, стараясь не привлечь внимания часового, тихонько подбираются к кораблю. Вдруг раздался резкий свисток. Судно осветили прожекторы. С востока и с запада к «Каридад» направились моторные лодки, отрезая путь в открытое море. Лусеро уже держал в руках лестницу. По палубе метались люди. Грохнул выстрел, потом раздалась автоматная очередь. В воду с легким всплеском шлепнулось тело. Я настороженно притаился у себя в уголке в тщетной надежде углядеть фигуру, бегущую в мою сторону. Неужто вся работа достанется Лусеро? Я сходил с ума от бешеного нетерпения… Еще несколько выстрелов… А потом — полная тишина. Должно быть, полицейские уже захватили корабль. Примерно минут через двадцать под надежным эскортом появились первые пленники. Не решаясь спорить с вооруженными, полицейскими, все они шли, заложив руки за голову. Но где Лажолет? Последних моряков высадили на землю, и Лусеро подошел ко мне.
— Готово, сеньор Моралес. Мы нашли пледы аккуратно сложенными в трюме. Богатый улов. Бандиты пытались рассыпаться, так что я имею все основания арестовать их скопом — хотя бы за сопротивление полиции. А там посмотрим. Я оставлю несколько своих людей на борту и вернусь со специалистами из таможни — пусть перероют весь корабль сверху донизу. Но, к несчастью, я не думаю, чтобы кто-то из арестованных мог оказаться Лажолетом.
Мне было глубоко наплевать на улов, так радовавший инспектора полиции!.. Что мне требовалось — так это голова Лажолета, иначе вся работа летела к чертям и мое задание так и осталось бы невыполненным.
— Вы идете со мной, сеньор?
— Нет… подожду еще немного на случай, если он где-нибудь прячется, ожидая пока вы уйдете…
— Надежды почти никакой, но я понимаю вас, сеньор… До скорой встречи!
Лусеро еще не успел окончательно скрыться из глаз, как за спиной у меня раздался дикий вопль:
— Дон Хосе, осторожно!
Чисто инстинктивно, не раздумывая ни откуда послышалось предупреждение, ни что это значит, я плюхнулся на землю, но, очевидно, долю секунды все же промедлил, поскольку выстрел щелкнул раньше, чем я исчез из поля зрения стрелявшего, и плечо обожгла острая боль. Итак, меня все-таки ранили… В тот же миг, ибо события чередовались с головокружительной быстротой, Хуан выскочил откуда-то с громким криком:
— Он убьет вас! Он убьет вас!
— Ложись!
Я попытался ухватить парня за пояс и притянуть к земле, но убийца оказался проворнее и обе пули достигли цели: я почувствовал, как Хуан дважды дернулся, а потом упал к моим ногам. А на помощь уже во всю прыть мчались Лусеро и его помощники.
— В чем дело?
— Осторожнее, Лусеро! В нас стреляют!
Прогремели еще два выстрела. Но я больше ни на что не обращал внимания. Вопреки всем доводам здравого смысла и нарушая элементарные правила безопасности, я, как безумец, зажег фонарик. Но, проведя тоненьким лучиком по лицу Хуана, я сразу понял, что брат Марии мертв… погиб, спасая мне жизнь… Лусеро приказал оцепить участок, где мог прятаться убийца, и в это же время к нам подошли Алонсо и Чарли.
— Пепе! — дрогнувшим голосом окликнул меня Алонсо.
— Я тут.
— Благодарение Богу!
А Чарли Арбетнот торжествующе оповестил Лусеро:
— По-моему, мы его все-таки прикончили… Кто там, на земле, Моралес?
— Хуан.
— Брат…
— Да.
— Goddam![442]
Алонсо положил руку мне на плечо, и я невольно застонал от боли. Он с удивлением посмотрел на свои пальцы и увидел кровь.
— Ты ранен?
— Заработал пулю в плечо… по сравнению с малышом — сущая ерунда…
Я плакал, даже не отдавая себе в том отчета. Я оплакивал и Хуана, и Марию, и свое навсегда потерянное счастье, ибо девушка никогда не простит, что ее брат погиб из-за меня, чтобы доказать беспочвенность моих дурацких подозрений… Да и я сам никогда не прощу себе ни этой ошибки, ни ее трагических последствий.
— Я прослежу, чтобы его отвезли домой… Положись на меня, Пепе… А тебе надо ехать в больницу…
Для меня было большим облегчением, что Алонсо рядом. Он-то все мог понять, в то время как Арбетнот, пожалуй, считал мою печаль проявлением старомодной сентиментальности. Подбежавший полицейский сказал, что Лусеро… хочет меня видеть. Оставив Хуана на попечении Алонсо, я пошел к инспектору.
— Сеньор Моралес… есть ли у нас хоть какая-то надежда, что это Лажолет?
Я нагнулся над освещенным фонариком трупом того, кто убил Хуана, ранил меня и в свою очередь погиб от пули моих коллег. Сердце у меня так и колотилось, словно вот-вот не выдержит и разорвется. Неужто и впрямь передо мной Лажолет? Хоть я и не знал главаря банды в лицо, но твердо надеялся, что все мое существо признает врага, с которым мне так долго пришлось помучиться и наконец побежденного. Пуля пробила голову, и бандит упал, так и не выпустив из руки револьвера «смит-и-вессон». Лусеро наблюдал за моей реакцией.
— Ну?
— Этот тип известен вам лучше, чем мне, ибо перед вами тот самый Педро Эрнандес, что пытался сбить меня машиной…
— Ну и ну! Вы хороший физиономист, сеньор Моралес… Я его даже не узнал… правда, часть лица пуля превратила в месиво…
— Я всегда хорошо помню тех, кто пытался меня убить.
Из-за удушающей жары меня прооперировали на рассвете. И очнулся я в крошечной палате севильской клиники. Пуля не затронула кость, и никаких страданий я не испытывал. Да, мне повезло куда больше, чем Хуану… Однако стоило только вернуться к действительности — и тень несчастного парня возникла перед глазами. Теперь она станет моей постоянной спутницей очень надолго, если не навсегда… На тумбочке возле кровати стоял будильник. Уже три часа дня. Я не настолько скверно себя чувствовал, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, а кроме того, мне не хотелось оставаться наедине с воспоминанием о Хуане. Сейчас Мария уже обо всем знает. Должно быть, с ней Алонсо. После смерти брата девушка осталась одна на свете. Совсем одна. Но, насколько я успел узнать Марию, она сочтет своим долгом хранить верность покойному и принести себя в жертву мертвому брату точно так же, как делала это при жизни.
Сиделка принесла апельсинового сока и с гордостью сообщила, что я чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно, учитывая обстоятельства. Как будто меня это хоть в малейшей мере волновало! Меня так накачали лекарствами, что я снова заснул и, к счастью, без сновидений.
Ближе к вечеру сменили повязку. По словам медсестер и сиделок, они еще никогда не видели такой отличной раны. И вдруг в палату явился Арбетнот, нагруженный пакетами и свертками. Уж не вообразил ли здоровяк англичанин, будто я собираюсь с минуты на минуту отдать Богу душу? Он притащил конфеты, книги, а из кармана слегка торчало горлышко тщательно припрятанной бутылки. И, как только последняя медсестра вышла из палаты, Чарли торжествующе достал «Джонни Уокера»[443].
— По-моему, старина «Джонни» скорее поставит больного на ноги, чем все врачи в мире вместе взятые… Как вы себя чувствуете, Моралес?
— Лучше некуда.
— А знаете, вы меня чертовски напугали! Сперва никто из нас не сомневался, что вы отошли в лучший мир… и опять-таки из-за нарушения дисциплины… и самоуправства. Что за легкомыслие…
— А где Алонсо?
Арбетнот немного смутился.
— Ну… сами знаете… он ходил туда… Но до сих пор я его еще не видел…
— Значит… оттуда никаких известий?
— Нет.
Похоже, и в этом парне я здорово ошибался. Судя по всему, Чарли был искренне огорчен. Как только вернусь в Вашингтон, всерьез займусь психологией…
— Моралес… Я догадываюсь, что вы сейчас чувствуете… И простите, что мне пришлось заговорить на эту тему…
Представляю, какое неимоверное усилие над собой пришлось сделать бедняге англичанину, чтобы коснуться «частной жизни» собеседника!
— …но и я тоже жестоко обманулся в парне… Он был славным малым… и настоящим смельчаком… Как, по-вашему, можно мне сказать об этом его сестре?
— Ну конечно, старина… Это скрасит ее одиночество… А как насчет Лажолета?
Чарли с раздражением пожал плечами.
— Ох уж этот тип… невозможно хотя бы узнать, где он скрывается… Как в воду канул! Да и вообще, кто скажет, в Севилье ли он сейчас? По правде говоря, Моралес, я уже устал за ним бегать и ужасно хочу вернуться в Лондон…
— Бросив расследование?
— А чего вы от меня хотите? Не могу же я торчать в Испании до бесконечности? В Ярде, должно быть, подумывают, уж не решил ли я попутешествовать в свое удовольствие за счет Ее Величества! Ну а вы что собираетесь делать дальше?
— Положа руку на сердце, сам не знаю… Во-первых, долечить плечо, а во-вторых, если до тех пор ничего нового не произойдет, наверняка придется лететь в Вашингтон.
Вошли Лусеро и сиделка, и моя палата стала похожа на гостиную. Девушка, которой было поручено заботиться о моем здоровье, попыталась было внушить посетителям, что они могут меня утомить, но, не в силах совладать с нашим упорством, удалилась. Осведомившись о моем здоровье и передав от комиссара Фернандеса пожелание скорейшего выздоровления, Лусеро сообщил, что большинство моряков с «Каридад» уже имели дело с полицией, а капитана, присвоившего чужое имя, разыскивали стражи закона по крайней мере трех стран. К несчастью, невзирая на крайне суровые допросы, никаких сведений о Лажолете так и не удалось почерпнуть — судя по всему, никто из этих людей с ним не сталкивался. Уходя, инспектор прихватил с собой Арбетнота, причем последний обещал завтра же снова навестить меня и выразил надежду, что к тому времени я снова смогу упражняться с гантелями. Но тут уж он явно хватил через край.
Я не стал зажигать ночник, думая о Марии — должно быть, она тоже сейчас молилась над телом брата в полной темноте. Оставшись один, я снова принялся размышлять о Хуане. Не разреши я ему сопровождать меня в Уэльву, Мария в эту минуту сидела бы у моего изголовья, и, возможно, злосчастная рана соединила бы нас навеки… А теперь…
Увидев, что моя комната погружена во тьму, Алонсо испугался, и мне пришлось поскорее зажечь свет в доказательство того, что я жив. Без всякого сопротивления я позволил другу осмотреть рану с нежностью наседки. Но мне не терпелось узнать, что происходит в доме Марии.
— Надо полагать, ты и сам догадываешься, Пепе, как она это восприняла? О нет, никаких криков… Но, Господи Боже! Я всерьез испугался, как бы девушка не последовала за братом… Она словно окаменела, лицо покрылось мертвенной бледностью… И я не смог выдавить из себя ни слова… Сталкиваясь с таким горем, право же, чувствуешь себя ужасно скверно, Пепе… И я казался себе последним мерзавцем…
— Ну, ты ничуть не хуже других, Алонсо…
— Да… но Рут…
— Верно… у тебя есть Рут…
Он сразу понял, о чем я думаю, и склонился к моей постели.
— Ты мой единственный друг, Пепе… И я никогда не забываю, что ты для меня сделал, уступив любимую девушку… В тот день я стал твоим должником навеки, и настанет время, когда я сумею расплатиться.
— Алонсо… а Мария ничего не говорила… обо мне?
— Когда я сказал, что ее брат спас тебе жизнь, но сам при этом погиб, девушка с удивительной простотой ответила: «Хуан правильно сделал. Это был единственный способ доказать ему…» А потом, узнав, что ты ранен, Мария, несомненно, встревожилась. По-моему, ты еще не все потерял, Пепе, и, если сумеешь проявить терпение…
— Ладно уж, не вешай мне лапшу на уши, бесполезно…
Он промолчал, и мои не слишком искренние возражения вдруг превратились в непреложную истину.
— Когда похороны?
— Завтра во второй половине дня, до того как на улицы выйдут процессии…
— Ты собираешься туда?
— Само собой, и, вероятно, Чарли захочет меня сопровождать.
— Как, по-твоему, если бы я мог подняться, стоило бы…
— Слушай, Пепе, пока тебе нечего и думать о Марии… Теперь чем раньше ты уедешь, тем лучше для вас обоих.
Алонсо вытащил бумажник и достал оттуда билет на самолет.
— Я заказал билет на Лиссабон. Рейс — послезавтра вечером. В Португалии ты пересядешь на «Клиппер» и в субботу вечером уже доберешься до Вашингтона.
Я внимательно посмотрел на билет.
— Меня отзывают, да?
— Не болтай ерунды! Ты и так сделал больше, чем мог!
— Я обещал доставить Клифу голову Лажолета!
— Ну, пускай он и добывает ее самостоятельно!
— А ты остаешься?
— Всего на несколько дней — надо же составить отчет…
— А Лажолет в очередной раз выйдет сухим из воды…
— Между прочим, это далеко не первый из ускользнувших от нас бандитов!
Алонсо говорил правду. Я и так наделал слишком много глупостей в этой истории. Послушай я друга с самого начала — сел бы на самолет, и тогда Хуан, возможно, остался бы жив…
— Хорошо, Алонсо, послезавтра я улечу… Надеюсь, повязка продержится до конца путешествия…
— Я уже поручил тебя особому вниманию стюардессы. Кроме того, тебе крупно повезло — на том же самолете в Нью-Йорк летит врач. Так что с тобой будут тетешкаться, как с младенцем.
Снова оставшись один, я невольно подводил итоги своего пребывания в Севилье. Сплошные огорчения!.. Провал за провалом… Да, конечно, мы прекратили отправку наркотиков в Штаты (по крайней мере на время), да, организации Лажолета нанесен чувствительный удар, но любой другой на моем месте сделал бы то же самое, и у меня не было никаких причин считать, что я заплатил за эти жалкие результаты не слишком дорогую цену. Мария… Хуан… Хуан… Мария… Перед глазами вставали сменявшиеся, словно на карусели, призраки и видения, в том числе и Альфонсо с Хосефой Персель. Можно подумать, оба явились нарочно доказать мне, что победа все же — за ними, ибо я покидаю Испанию без Марии. Я уже решил, что совсем сбрендил, когда в палату вдруг вошел насарено, одетый в голубой с белым костюм. Однако, прежде чем я успел опомниться от удивления, кающийся снял капюшон, и передо мной предстал хирург, оперировавший меня накануне. Врач извинился, что не зашел раньше, но, узнав от ординатора и сестер, что я чувствую себя вполне прилично, не особенно беспокоился на мой счет, а день выдался очень тяжелый. Хирург принадлежал к братству «Баратильо»[444] и теперь собирался присоединиться к друзьям в надежде, что успеет догнать их, прежде чем процессия доберется до Кампаны. Уходя, он что-то сунул мне в ладонь.
— Я полагаю, у человека вашей профессии сувениров такого рода больше чем достаточно, но, во всяком случае, вот пуля, которую я извлек из вашего плеча. Сохраните ее на память о Севилье… Желаю вам спокойной ночи и — до завтра. Ординатор сменит вам повязку. А теперь — пора спать.
Стараясь отвлечься от мыслей о Марии, я не без отвращения стал разглядывать пулю, едва не отправившую меня в мир иной. Подбрасывая кусочек свинца на ладони, я думал, что, выстрели Эрнандес на долю секунды раньше, сейчас я бы уже избавился от всех забот и терпеливо ожидал момента предстать пред очи Создателя. Я настолько погрузился в размышления, что смотрел на пулю невидящим взглядом, а потом — как всегда, когда внимание постепенно сосредоточивается на определенном предмете, — заметил одну странную подробность, хотя еще и не осознавал всего ее значения. За ней последовала другая, затем третья… Наконец я сел в постели и при свете ночника стал внимательно изучать пулю. Именно в этом положении меня и застал дежурный врач и стал подтрунивать над моими мрачными наклонностями, однако мне было не до шуток. Врач заново перебинтовал рану, и я попросил сделать повязку потуже, поскольку не исключено, что мне придется уйти раньше, чем мы снова увидимся. Дежурный возразил, что, если моя рана в отличном состоянии, это еще не повод вести себя так неосторожно. Во всяком случае, он, как врач, категорически возражает, а коли я действительно решился на столь экстравагантную выходку, снимает с себя всякую ответственность. Я даже не слушал. Когда доктор (значительно менее любезный, чем вначале) удалился, я отхлебнул хороший глоток виски и начал одеваться. Это оказалось чертовски трудной задачей. Во-первых, у меня немного кружилась голова, а потом, одеваться одной рукой — довольно тяжелое испытание. Пришлось звонить медсестре. Та в свою очередь раскричалась, но в конце концов позволила себя уговорить и, убедившись, что мое решение непоколебимо, помогла натянуть одежду. Подписать разрешение покинуть клинику тоже было непросто — поднялся настоящий переполох. Все эти славные люди, по-видимому, нисколько не сомневались, что я совершаю настоящее самоубийство, а кроме того, чувствовали себя глубоко уязвленными, что я так невежливо презрел их гостеприимство.
Слишком теплая ночь еще больше расслабляла, и я едва держался на ногах, но сила воли взяла верх. Сначала я хотел поймать такси, но потом подумал, что пешая прогулка не причинит особого вреда. Мне настоятельно требовалось встряхнуться. До «Сесил-Ориента» я добирался целый час, если не больше, поскольку приходилось избегать слишком многолюдных улиц с их толчеей. Я быстро присоединился к последним насарено братства «Прендимиенто»[445], пересек Ла Пласа и вошел в гостиницу. Раздеться оказалось гораздо легче. Надев пижаму, я позвонил в комиссариат Фернандесу. Меня соединили с Лусеро — его шеф уже уехал. Узнав, что я у себя в номере, инспектор, как и врачи, обозвал меня сумасшедшим. Наконец, покончив с дружескими упреками, он все же решил осведомиться, чем вызван мой звонок.
— Меня интересует тело Хуана… Вы уже сделали вскрытие?
— Конечно, сеньор Моралес, и, прежде чем передать сестре, малость привели парня в порядок…
— Ну и каковы результаты экспертизы?
— Одна пуля, попав в спину, пробила сердце, а вторая угодила в затылок.
— И обе у вас?
— Да.
— Не могли бы вы мне их переслать?
По наступившему на том конце провода молчанию я понял, что мой собеседник удивлен.
— Прямо сейчас?
— Нет… скажем, завтра утром. Ладно?
— Ничего не имею против.
— Спасибо… А кстати, попытайтесь заодно раздобыть и те, что прикончили Эрнандеса.
Я повесил трубку, прежде чем Лусеро успел забросать меня новыми вопросами. Выключив свет, я почувствовал себя немного лучше, чем в больнице. Во всяком случае, не таким взвинченным. Меня успокаивала мысль, точнее, уверенность, что завтра я либо последую за Хуаном, либо смогу сказать Марии, что виновник гибели ее брата уже расплатился за свое преступление. В глубине души я так и остался испанцем, а потому твердо верил, что лишь кровь убийцы может успокоить душу жертвы.
Святой четверг
Войдя в мой номер, Алонсо уже с порога спросил, не спятил ли я окончательно. Я промолчал, прекрасно понимая, что, пока мой друг не выложит все, что накипело у него на душе, мне не удастся вставить ни слова — Алонсо и слушать не станет. Не сей раз он выдал все сразу: и о моем непонятном поведении по его приезде в Севилью, особенно с тех пор как к нам присоединился Арбетнот, и о моем непомерном тщеславии и желании во что бы то ни стало, невзирая на обещания, действовать в одиночку, и о недостатке искренности, возможно повлекшем за собой невосполнимые потери (однако имя Хуана он так и не решился произнести), наконец, о вопиющей неосторожности: вместо того, чтобы лежать в постели и лечить рану, меня, видите ли, снова потянуло на подвиги. Наконец, совершенно запыхавшись, Алонсо умолк, удивленный, что я и не думаю спорить.
— Пепе… ты по-прежнему собираешься лететь завтра вечером?
— Не знаю.
И Алонсо распалился с новой силой, особенно напирая на профессиональную ответственность перед Клифом Андерсоном и чисто дружескую — перед Рут. Кто дал мне право не слушать никаких советов? Да за кого, в конце концов, я себя держу? Понимая, что досада Алонсо вызвана исключительно его привязанностью ко мне, я и не думал переживать… Воспользовавшись паузой, когда он переводил дух, я небрежно заметил:
— А вообще-то, возможно, я и улечу завтра вечером…
— Ах, все-таки — да…
— Разумеется, если к тому времени буду еще жив.
— А что это значит?
— Просто прежде чем сесть в самолет, я собираюсь встретиться с Лажолетом и не исключено, что к тому времени, когда лайнер поднимется в воздух и направится в сторону Лиссабона, я уже успею перебраться в мир иной.
Алонсо пришлось сесть. Не знаю отчего — то ли от моего непоколебимого спокойствия, то ли от последнего сообщения у парня просто подкосились ноги.
— Как это понимать, Пепе? Ты бредишь?..
— Взгляни…
Я показал Алонсо пулю, извлеченную хирургом из моего плеча. Он взял ее и внимательно осмотрел.
— Ну и что?
— По-твоему, стреляли из «смит-и-вессона»?
— По правде говоря…
— Могу заверить тебя, что эта штуковина вылетела вовсе не из «смит-и-вессона»… Меж тем мертвый Эрнандес сжимал в руке именно это оружие… Вывод ясен?
— Ты хочешь сказать, что Лажолет был там?
— У тебя в руках его визитная карточка.
Алонсо немного помолчал.
— И что ты намерен делать? — спросил он потом.
— Как я тебе уже сказал, встретиться с Лажолетом.
— Но, черт побери! Ты ведь понятия не имеешь ни кто он, ни где?
— Не имеет значения. Лажолет сам меня найдет.
— Зачем?
— Из-за этой истории с пулями — она ведь неизбежно приведет нас к нему: и меня, и испанскую полицию.
— Но откуда Лажолет узнает о твоем открытии?
— А я вовсе не собираюсь делать из этого тайну, даже наоборот… Для начала схожу в комиссариат, кстати, я уже говорил с тамошними ребятами по телефону, а поскольку с самого приезда в Севилью каждый мой шаг старательно передают нашему врагу…
— Пепе… Ты думаешь, Лусеро…
— Как знать…
— И Фернандес — тоже?..
— Нет… только не Фернандес…
— Ладно… в таком случае, жду твоих приказаний, большой босс!
— Приказаний! Как мы уже договорились, ты составишь компанию Марии, а уж я сам решу свои проблемы.
— В чем дело, а, Пепе?.. Ты больше не хочешь работать со мной в одной упряжке?
— Конечно, хочу, балбес! Но есть еще Рут…
— А какое ей до этого дело?
— Ты нужен Рут и «сеньору» Хосе — тоже… А я совершенно одинок!.. И у меня нет никакого права заставлять тебя рисковать, особенно если я нарываюсь на неприятности добровольно…
Алонсо опять пришел в ярость.
— Либо я работаю, либо — нет! И прошу тебя, оставь Рут в покое, это не ее заботы. И вообще, мне осточертело взирать, как ты корчишь из себя героя!
— У меня всего один шанс из десяти остаться в живых.
— Тем более я обязан пойти с тобой!
— Нет.
Алонсо помолчал и некоторое время пристально смотрел на меня.
— Пепе… — наконец мягко заметил он. — Поклянись мне, что ты не задумал покончить счеты с жизнью из-за… Хуана и Марии?
— Клянусь, что в первую очередь меня занимает поручение Клифа, но готов признаться, что, коли мне суждено проиграть партию, я не стану испытывать особых сожалений…
— В таком случае я не отойду от тебя ни на шаг!
— Но ты же обещал помочь Марии, верно?
— Тем хуже!
Я понял, что от Алонсо так просто не отделаешься. Пришлось схитрить. Противно, конечно, обманывать друга, но я не мог не думать о Рут и о своем крестнике. Ради них обоих я и принялся сочинять. Сделав вид, будто Алонсо довел меня до ручки, я вдруг уступил:
— Ладно, твоя взяла… Сегодня вечером вы с Чарли составите мне компанию… Предупреди его… В конце концов, для нас главное — прикончить Лажолета, а втроем у нас куда больше шансов справиться с этим делом… Днем я полежу в постели… Зайдите сюда в восемь вечера, и мы вместе решим, каким образом лучше поступить…
Я немного сомневался, что мне удалось провести Алонсо. Во всяком случае, складывалось впечатление, что он почуял какую-то хитрость.
— Ты готов дать мне слово? А, Пепе? — недоверчиво спросил мой коллега.
— Да.
Но и это его не убедило.
— Почему ты так быстро передумал?
— Во-первых, из-за Марии… Я не хочу, чтобы в такой момент она оставалась одна… А потом, все это я тебе наговорил скорее для очистки совести… У меня нет никакого желания сообщать Рут, что она стала вдовой… Но, уж коли ты так настаиваешь, могу честно признаться: знать, что ты рядом, для меня будет большим облегчением.
В эту минуту я, честно говоря, сам у себя вызывал глубокое омерзение, но зато настолько вошел в роль, что последние сомнения Алонсо исчезли.
— Так ты и вправду вообразил, идиот несчастный, будто я позволю тебе в одиночку сражаться с Лажолетом, да еще с больной рукой? Даже если допустить, что тебе и в самом деле удастся столкнуться с ним нос к носу…
Алонсо склонился над моей постелью, и мне захотелось плакать.
Когда друг ушел, я проглотил таблетку снотворного, предварительно поставив будильник на шесть вечера. Мне не хотелось бодрствовать в тот момент, когда Хуана понесут на кладбище, иначе я, не выдержав, побежал бы туда.
В шесть часов, едва зазвенел будильник, я тут же проснулся. Умывание и бритье заняли довольно много времени. Но завязать галстук и надеть башмаки без посторонней помощи я не смог. Пришлось звать коридорного. Однако щедрая подачка избавила его от искушения задавать лишние вопросы. Потом я вызвал такси и поехал в клинику. В машине я развернул пакет, который Лусеро с утра оставил для меня у портье. В каждом из двух конвертов лежала пара пуль, извлеченных из трупов Хуана и Эрнандеса. Посылка Лусеро лишь подтвердила мои догадки. Теперь так или иначе все закончится очень быстро. Ни страха, ни даже легкой тревоги я не испытывал. Ничего, кроме полного равнодушия. Сегодня Хуан впервые проведет ночь под землей, а Мария — в полном одиночестве. Остальное не имело ни малейшего значения.
В клинике меня встретили более чем холодно, и, по-моему, врачи и сестры с большой неохотой признали, что рана — в отличном состоянии. Так или иначе, из их милосердных рук я вышел в превосходной форме и с совершенно нормальной температурой. Теперь я мог без опаски ступить на избранный путь.
Разумеется, я вовсе не собирался на свидание с друзьями. Представляю, в какое бешенство придет мой Алонсо, сообразив, что я его провел! По правде говоря, никакого определенного плана я еще не составил. Я лишь надеялся (и, думаю, не без оснований), что люди Лажолета уже идут за мной по пятам и скоро покажется он сам. После этой истории с пулями он никак не мог оставить меня в живых, меж тем главаря банды уже наверняка предупредили. Время от времени я пытался проверить, не следят ли за мной, но всякий раз с досадой убеждался, что либо никому нет дела до моей особы, либо же подручные Лажолета прекрасно знают свое дело.
По каким бы кварталам города я ни шел, всюду сталкивался с семействами, завершающими ритуальный обход церквей, чтобы помолиться перед алтарем, в каждой получить отпущение грехов и благословение. На Санта-Каталина я тоже заглянул в храм Спасителя помолиться Господу, дабы помог мне справиться с Лажолетом, а к Святой Деве я обратился со страстной мольбой убедить Марию в искренности моих чувств. Когда я выходил из церкви, уже сгущались легкие сумерки, наступал один из тех чудесных вечеров, какие можно увидеть лишь в Севилье. Я радовался, что сейчас не испытываю ничего, кроме полной отрешенности. В густой толпе, запрудившей северные и южные улицы города, предназначенные для официальных процессий, кто угодно мог ударить меня ножом. Но я даже не думал об этом. Я наслаждался Севильей, словно Всевышний позволил мне прогуляться здесь в последний раз.
Время встречи с Алонсо и Чарли давно миновало. Я закурил сигару, будто какой-нибудь праздный турист, и вышел на авенида Примо де Ривера поглядеть, как входят в собор члены братства «Дель Сантисимо Кристо де ла Коронасьон де Эспина»[446], последняя из всех процессий, за которой в окружении свиты следовал его превосходительство губернатор. Нимало не тревожась о будущем, я восхищался тремя платформами: на первой возвышался увенчанный терновым венцом Христос, на другой. Он же в окружении Святых женщин сгибался под тяжестью креста и, наконец, на третьей красовалось изображение Пресвятой Девы дель Валле. Все три платформы окружали кающиеся в фиолетовых облачениях.
Обойдя собор, я оказался у выхода в тот момент, когда оттуда появилась процессия братства «Ла Квинта Ангустиа»[447], и, не торопясь, направился к садам Мурильо, где и опустился на лавочку. Издали до меня доносилась музыка сопровождавших процессии оркестров. В сравнении с толчеей, откуда я только что выбрался, удивительное безмолвие деревьев (даже ветерок не колебал ни единой веточки) казалось почти нереальным, словно принадлежало совсем иному миру. Я был в полном одиночестве. Если Лажолет хочет покончить со мной — лучше места не придумаешь.
Я почувствовал их присутствие, прежде чем успел заметить. В первую минуту я не обратил внимания на двух насаренос в черном, приближавшихся ко мне справа. И лишь когда они оказались всего в нескольких шагах, почуял опасность. Не желая сдаваться без боя, я выхватил револьвер и вскочил. Оба остановились, и в этих неподвижных черных фигурах, чьи лица плотно закрывала маска с прорезями для глаз, чудилось нечто удивительно впечатляющее. Слегка повернув голову, я увидел еще двух кающихся в черном. Свободным оставался только один путь — к небольшой площади Санта-Крус. Туда я и бросился.
Преследователи спокойно шли следом. Я миновал улицу Лопе де Руэда. Кающиеся шли всего в нескольких шагах позади. Чего ради они так медлят? Внезапно впереди появились еще два черных силуэта, двигавшихся навстречу. Во избежание стычки мне пришлось повернуть налево, на улицу Реинозо. Я надеялся добраться до площади Лос Венераблес, где всегда множество народу, но еще двое в черном, преградив дорогу, снова заставили меня изменить маршрут. Теперь все стало ясно. Эта свора решила прикончить меня в каком-то заранее намеченном месте или, что еще вероятнее, вела к Лажолету. У меня не оставалось выбора — либо немедленно вступить в борьбу, либо, словно загнанный зверь, подчиниться навязанной бандитами игре. Все эти мелкие сошки меня не интересовали, и, уж коли мне суждено погибнуть
этой ночью, я хотел по крайней мере попытаться убить Лажолета. Так по улицам и переулкам в конце концов мы добрались до венель Лос Энаморадос[448], узкого прохода, где, распахнув руки крестом, можно почти коснуться домов на противоположных сторонах. Не успел я пробежать и трети, как сзади показались преследователи. Неожиданно в противоположном конце прохода появилась новая группа кающихся в черном. Я очертя голову сам бросился в западню. На мгновение остановившись, я начал осторожно и очень медленно двигаться навстречу насаренос. Вдруг справа я заметил чуть приоткрытую дверь. Одним прыжком я влетел в подъезд и закрыл за собой створки. К несчастью, засова не оказалось. И я начал потихоньку отступать с револьвером в руке, готовясь выстрелить в первого, кто переступит порог, но тут же буквально оледенел от ужаса. Откуда-то из-за спины послышался спокойный и насмешливый голос.
— Бросьте оружие, Моралес, и поднимите здоровую руку! — приказал он.
Значит, дверь осталась приоткрытой не случайно, и теперь мне предстоит безоружным схватиться с Лажолетом…
— Выполняйте приказ, Моралес… И не оборачивайтесь! Я очень быстро стреляю…
— Это мне известно…
Что тут поделаешь? Я бросил револьвер.
— Оттолкните его ногой, Моралес… Я вам не доверяю.
Я снова послушался. А что еще мне оставалось?
— Отлично. Теперь можете обернуться.
Я повернулся на сто восемьдесят градусов. Лажолет включил свет, и я, как и ожидал, увидел перед собой Чарли Арбетнота. Тот, улыбаясь, целился в меня из «кольта».
— Вам конец, Моралес… Впрочем, давно пора. Клиф Андерсон чертовски здорово муштрует своих агентов. Я пошлю ему поздравительную открытку. Ваше вмешательство обошлось мне очень дорого, дон Хосе, и конфискация груза по вашей наводке нанесла тяжелый удар по моему финансовому положению. Таких вещей я никогда не прощаю.
— По-моему, я и не просил у вас прощения, Лажолет?
Он рассмеялся.
— Браво! Мне дьявольски неприятно убивать вас, Моралес, вы симпатичный малый…
— Спасибо.
— Когда вы догадались?
— Вчера вечером.
— Из-за пуль?
— Разумеется… У «смит-и-вессона» несколько иные пули, чем у «кольта», а «кольт» был только у вас. Это вы стреляли в меня, и Хуан вас видел. А сообразив, что дело не выгорело, вы разделались с Эрнандесом…
— Только мертвый не выдаст… А вообще-то, несмотря на все убытки, приключение мне, пожалуй, доставило некоторое удовольствие, поскольку один из лучших агентов ФБР не смог меня узнать… весьма утешительно на будущее… Эстетическая хирургия — настоящее чудо: стоит чуть-чуть подправить нос, немного изменить форму глаз, слегка оттопырить уши — и дело в шляпе. Я уж не говорю об этих чисто британских усах… Положа руку на сердце, Моралес, мне и вправду жаль, что вас необходимо отправить на тот свет… Но вы же сами понимаете, что у меня просто нет иного выхода… Я прекрасно стреляю, и если вы не станете дергаться, даже ничего не почувствуете. Я вовсе не хочу причинять вам лишние страдания.
— Может, мне еще и поблагодарить вас?
— Не стоит… Вы ведь верующий, не так ли? Тогда быстро помолитесь, но выберите молитву покороче…
Где-то вдалеке пробило час ночи. Наступила Святая пятница. Прекрасно умереть в такой день. Я закрыл глаза и, уже отрешившись от мира, всей душой думал о Марии, моля Господа позаботиться о ней, раз для меня Он уже не в силах ничего сделать. Но вот тут я ошибся.
— Готовы?
Я не успел ответить. Другой голос, преисполнивший меня величайшей радости, сухо приказал:
— Брось пушку, Боб!
Святая пятница
Все кончено… До рассвета Святой пятницы еще далеко. Наступал последний день моего пребывания в Севилье. Сегодня вечером я сяду в самолет и через Лиссабон доберусь до Вашингтона. Клиф очень обрадуется. Мы-таки покончили с Лажолстом. Для Андерсона самое главное — результат, а каким способом добыта победа, ему глубоко плевать. Клиф назовет мой успех подвигом, а то, что от этого подвига я просто подыхаю, ему до лампочки. Таких Моралесов у него в ФБР десятки и сотни.
Я попрощался с комиссаром Фернандесом. Мы вместе навели порядок, дабы избежать ненужной рекламы и оставить события этой ночи в полной тайне. Договорились, что в рапорте начальству комиссар напишет, будто Лажолета прикончил какой-то неизвестный. Прощаясь, мы оба знали, что никогда больше не увидимся. Дружески хлопнув меня по плечу и крепко обняв, Фернандес шепнул на ухо:
— Спасибо за все, что вы сделали, Моралес… и спасибо за мою дочь… Теперь, когда она отмщена, мне станет легче тянуть лямку дальше…
Значит, хотя бы один человек испытывает ко мне благодарность.
Возвращаясь на площадь Сан-Фернандо, я пошатывался от усталости. На углу Л'Амор де Диос и Лассо де Ла Вега я остановился, пропуская братство «Дель Силенсио»[449]. Их гобои и фаготы навевали отчаяние. Я поплакал, и слезы принесли облегчение. Впервые с тех пор, как приехал в Испанию, я чувствовал себя в толпе чужаком. Перейти Сьерпес я не мог: всю улицу занимали братства Трианы, направлявшиеся к собору, прихожане «Эсперансы» и покровитель цыган «Христос-Спаситель». Я хотел добраться до гостиницы через Куну, но там столкнулся с самой длинной из всех процессий — «Хесус дель Гран Подер»[450]. Пришлось пойти на север, обогнуть церковь Спасителя и через Пахаритос проскользнуть между двумя процессиями.
Вернувшись в номер, я, даже не раздеваясь, плюхнулся на кровать и погрузился в тяжелый сон.
Я только что встал. Поглядел в зеркало. Ужасающая физиономия! Щеки не выбриты, под глазами синяки, волосы взъерошены, воротник расстегнут… Все это напомнило мне вид заключенных, которых нарочно допрашивают до рассвета, пока у них не сдадут нервы.
Я не мог оставаться в номере и ждать, пока настанет время ехать на аэродром. Поглядев на часы, я увидел, что еще только три. Сегодня день смерти Христовой. Он агонизирует на кресте. По воле случая моя миссия закончилась именно теперь, в самый печальный момент года, во всяком случае, для всех, кто исповедует христианскую религию. Я тоже взошел на свою Голгофу, я тоже умираю, меня тоже предали, но на воскресение из мертвых нечего и надеяться.
Я привел себя в порядок, надел костюм потеплее, ибо над Атлантикой, по мере приближения к Нью-Йорку, начнет сильно холодать и от андалусской весны останется одно воспоминание. Потом я собрал чемоданы, теперь уже довольно ловко управляясь одной рукой. К удивлению служащего, в приемной я сразу оплатил счет.
— Вы не остаетесь на пасхальную корриду, сеньор?
— Нет.
По моему тону он понял, что спорить бесполезно.
— Багаж отправьте через компанию «Иберия».
Пересекая почти пустынную в этот час площадь Ла Пальма, я раздумывал, правильно ли сделал, что решил попрощаться с Марией. Но разве мог я покинуть Севилью, не выяснив наверняка, потерял ли навеки и ее?
Как же она отличалась от жизнерадостной Марии кануна Вербного воскресенья!.. При виде этой молодой женщины в черном, с посеревшим от горя лицом и воспаленными веками, мне стало стыдно.
— Входите, дон Хосе… — почти прошептала она, тихонько отворив дверь.
Вслед за Марией я вошел в комнату, где провел лучшие часы своей жизни, преисполненный тогда самых радужных надежд. А теперь казалось, что, хотя прошло всего несколько дней, от того времени нас отделяет целая вечность. На нашу веселую компанию, лакомившуюся тогда чуррос и гамбас, обрушилась смерть.
— Мария… я пришел сказать вам «до свидания» или… «прощайте»…
— Вы уезжаете?
— Да, через два часа.
— В Америку?
— Да.
Голос девушки звучал приглушенно и бесстрастно — так монахини переговариваются в коридорах монастыря.
— Ваша миссия закончена?
— Да, Мария.
— И вы… победили?
— Не знаю.
— Что вы имеете в виду?
— С точки зрения начальства, дело завершилось полным успехом, поскольку я прикончил Лажолета и разрушил его организацию, поставлявшую в Штаты наркотики, но сам я потерпел полное поражение, если потерял вас, Мария…
Девушка еще больше побледнела, но так и не ответила на мой косвенный вопрос.
— И где же скрывался этот Лажолет?
— Рядом с нами.
— ?!
— Да, под именем Чарли Арбетнота.
— Madre de Dios!
— О да, Мария… Он одурачил нас как юнцов… Возможно, мне бы и удалось разоблачить его раньше, если бы не панический страх, мучивший меня как наваждение, обнаружить за всеми этими преступлениями вас…
— Меня?
— Только вы или ваш брат могли передавать врагу все наши тайные разговоры, а ведь я твердо верил, что Чарли Арбетнот — инспектор Скотленд-Ярда.
— Понимаю… И что с ним теперь?
— Я застрелил его.
— И вы смогли…
— У меня не было другого выхода: вопрос стоял так: либо он, либо я. И потом, мне хотелось отомстить за Хуана.
— Не надо о нем…
— Нет, надо, Мария… Ваш младший брат был очень хорошим человеком… И я никогда не смогу избавиться от угрызений совести, что сразу этого не понял… А нож Хуана стащил Лажолет в тот вечер, когда мы здесь ужинали все вместе. Потом мерзавец послал дона Альфонсо избавиться от Эстебана. По всей видимости, они отправились вместе, и, пока Персель отвлекал жертву разговором, Лажолет нанес смертельный удар… Мария… можете вы мне простить то, что я сомневался в Хуане и в вас?
Девушка плакала, и мне безумно хотелось ее обнять.
— Хуан так восхищался вами, Хосе!.. И не без оснований… поскольку в конце концов вы все-таки победили… Мальчик был бы счастлив, узнав о вашем успехе.
— Тут есть и его заслуга, Мария, иначе мне бы никогда не докопаться до истины… Гибель Хуана все прояснила, и я наконец понял…
— А ваш друг Алонсо тоже летит с вами?
— Нет, он останется в Севилье еще на несколько дней.
— Вот как?
— До тех пор, пока не появится возможность отправить его тело в Штаты.
Мария вздрогнула.
— Что?.. И он тоже…
— Да, Мария… Вы потеряли своего брата, а я — своего… И нам обоим очень больно. Теперь вы понимаете, почему, когда вы спросили, победил ли я…
— Расскажите мне обо всем…
Я объяснил, как вполне сознательно бросился в ловушку и как мало удивился при виде Чарли Арбетнота.
— В тот момент, когда Лажолет собирался выстрелить, вошел Алонсо. Я упал ничком, и пуля угодила в моего друга. Мне удалось снова добраться до револьвера, и я в свою очередь выстрелил. Никто, кроме меня, больше не встал…
— Бедная жена дона Муакила!
— Да. И как подумаю, что, возможно, Рут сейчас пишет мужу, даже не догадываясь, что его больше нет на свете, у меня разрывается сердце…
— Друг мои…
Теперь, когда мы подвели итог всем своим горестям, слов больше не осталось. Я встал.
— Мне пора, Мария.
Девушка стояла прямо передо мной. Я взял ее за руки.
— Мария… Может, у нас еще есть надежда на счастье?
— После всего, что произошло, не знаю…
— Я люблю вас, Мария… И никогда не переставал любить. Именно эта нежность помешала мне до конца уверовать, что вы могли оказаться сообщницей преступников… Подобное предположение не укладывалось в голове… Нет, это было выше моих сил… Но вы ведь обещали выйти за меня замуж, Мария, и вместе полететь в Вашингтон…
— Да. С Хуаном.
— Мы повезем его с собой.
— Мальчик так любил Севилью!
— Верно, но вспомните, как он рвался в Америку, Мария! Дорогая моя, вы еще очень молоды и не можете всю жизнь посвятить мертвому… Теперь вы совсем одна… как, впрочем, и я…
— У вас есть Рут и ее сын.
— Рут возненавидит меня, узнав, что погиб Алонсо, а не я.
— Но это же несправедливо!
— Зато очень по-человечески… Соединив наши два одиночества, Мария, быть может, мы еще узнаем хоть немного счастья? Умоляю вас, Мария дель Дульсе Номбре… не лишайте меня последней надежды!
— Я должна свыкнуться с отсутствием Хуана… Дайте мне время прийти в себя и поразмыслить… И верьте…
— Значит ли это, что в один прекрасный день я могу надеяться…
— Пока я ничего не стану вам обещать, Хосе, кроме того, что не выйду замуж за другого.
Она сама поцеловала меня на пороге дома.
Самолет кружит над городом в пронизанных светом сумерках. Как бы мне хотелось, чтобы это кружение длилось вечно! Вот Хиральда, Алькасар, Аламеда-де-Эркулес, собор, парки… Но тщетно я пытаюсь разглядеть Ла Пальма, где сейчас плачет Мария… моя Мария… А мы уже мчимся к границе. Андалусия быстро исчезает из-под крыльев самолета. Я знаю, что никогда больше не увижу Севилью. Стюардесса, зная о моей ране, подходит и спрашивает, не нужно ли мне чего-нибудь. Я стараюсь ее успокоить. Полицейский, успешно завершивший миссию, всегда чувствует себя отлично. И кому какое дело, о чем думает означенный полицейский? Сыщики никого не интересуют.
Святая суббота
Мерное гудение четырехмоторного самолета навевает дрему. Теперь уже рукой подать до Нью-Йорка. К вечеру я уже попаду в Вашингтон и позвоню Клифу Андерсону. Надо полагать, он немедленно меня вызовет, чтобы узнать все подробности. Но обязан ли я сказать ему всю правду? Должен ли я признаться, что это я сам убил Алонсо, своего друга, Алонсо, постоянного спутника во всех тяжких испытаниях? Алонсо, которого я любил так же, как любил меня он?
Ибо на самом деле все произошло не совсем так, как я рассказал Марии и Фернандесу.
Когда Алонсо с револьвером в руке вошел и крикнул: «Брось пушку, Боб!», — Лажолет изумился:
— Чего?
— Брось пушку!
— Но… ты совсем свихнулся!
— Брось пушку!
И Лажолет отшвырнул «кольт». Я с облегчением перевел дух.
— Спасибо, Алонсо!
Бандит, не выдержав, взорвался:
— Да, тебе есть за что поблагодарить этого подонка! Он…
Алонсо выстрелил трижды подряд. Он всегда был отличным стрелком, и я знал, что Лажолета убила первая же пуля.
— Мы его все-таки прикончили, Пепе!..
Я пристально взглянул на друга.
— В чем дело, Пепе? Что-нибудь не так?
— Зачем тебе понадобилось стрелять в безоружного?
Лицо Алонсо окаменело.
— А как по-твоему, Пепе?
— Тебе не хотелось, чтобы он наболтал лишнего…
— В самом деле?
— И Перселей ты отправил на тот свет, потому что они собирались заговорить…
— Я всегда считал тебя умницей, Пепе…
— А каким образом тебе удалось войти сюда беспрепятственно? У дома ведь не зря караулят вооруженные молодчики… А не тронули они тебя только потому, что знали как своего… И еще: насчет описания Арбетнота как детектива из Ярда… Насколько я понимаю, ты и не думал звонить в Вашингтон?
— Ты умен, Хосе, и даже слишком… Очень досадно…
— Досадно?
— Да, потому что мы всегда были добрыми друзьями, потому что есть Рут и «сеньор» Хосе, а теперь я вынужден убить тебя, мой бедный Пепе…
Он и в самом деле искренне огорчился. Думаю, именно это и спасло мне жизнь, слегка замедлив реакцию Алонсо. Я успел покатиться по ковру почти одновременно с выстрелом. Муакил работает быстро, но и я тоже. Я постарался упасть поближе к «кольту» Лажолета. На долю секунды Алонсо растерялся, соображая, упал ли я до или после выстрела. Воспользовавшись этим, я успел выпустить в него две пули. Пока я вставал, Алонсо все еще держался на ногах. Потом у него медленно подогнулись колени, а голова с таким стуком ударилась об пол, что этот звук будет преследовать меня до конца дней… Я склонился над Алонсо. У него еще хватило сил улыбнуться.
— В глубине души, Пепе… я рад… что все… закончилось так… Ты… скажешь… Клифу…
Но я так и не узнал, что он хотел передать Андерсону. Закрыв Алонсо глаза, я тщательно вытер рукоять «кольта» и сунул его в руку Лажолета. Потом забрал бумажник мнимого Чарли. Там оказались письма Алонсо, из которых все сразу стало ясно.
Те деньги, что Муакил якобы постоянно выигрывал, на самом деле Лажолет перечислял в банк на счет австрийских родственников моего коллеги. Вероятно, они встретились случайно, во время путешествия Алонсо в Испанию. В обмен на ежемесячные крупные денежные вливания Муакил оповещал Лажолета обо всем, что затевается против него в ФБР. Потому-то Алонсо так настаивал, чтобы в Севилью послали его. Он же предупредил нашего врага о моем скором приезде под именем французского коммерсанта и о свидании в Кордове. Представляю, как Алонсо обрадовался, когда Клиф Андерсон отправил его помогать мне. Муакил не сомневался, что сумеет парировать любые удары, но, поскольку и в самом деле испытывал ко мне привязанность, стал настойчиво уговаривать вернуться в Вашингтон. Все попытки вызвать у меня подозрения против Хуана и Марии объяснялись лишь одним желанием — заставить выйти из игры. Предупредив Фернандеса, что я достал «люгер», Алонсо надеялся добиться моей высылки из страны. Однако он не учел, как глубоко я полюбил Марию, и хитроумный план провалился.
Самолет медленно скользил над облаками. Стюардесса предупредила, что через два часа мы приземлимся в Ла Гуардиа.
Приедет ли ко мне Мария? Думаю, да. Сам не знаю почему, но все же верю в это. Мысль о Марии привела мне на память Рут. Знает ли она уже о трагедии? Ей я расскажу ту же историю, что Фернандесу и Марии. А между прочим, что мешает мне поступить точно так же с Клифом Андерсоном? В конце концов, Алонсо убит пулями Лажолета!
И внезапно на душу мою нисходит полный покой. Мне больше не страшно встретиться с Рут, ибо теперь я твердо знаю, что совру Клифу и ничто не помешает мне это сделать. Алонсо умер при исполнении долга, и его имя внесут в список погибших на службе полицейских. На гроб положат медаль. Рут получит пенсию, а «сеньор» Хосе сможет восхищаться отцом-героем, которого будет знать только по фотографиям. Клиф произнесет торжественную речь, и все закончится к общему удовольствию.
Сан-Антонио
УБИЙЦА
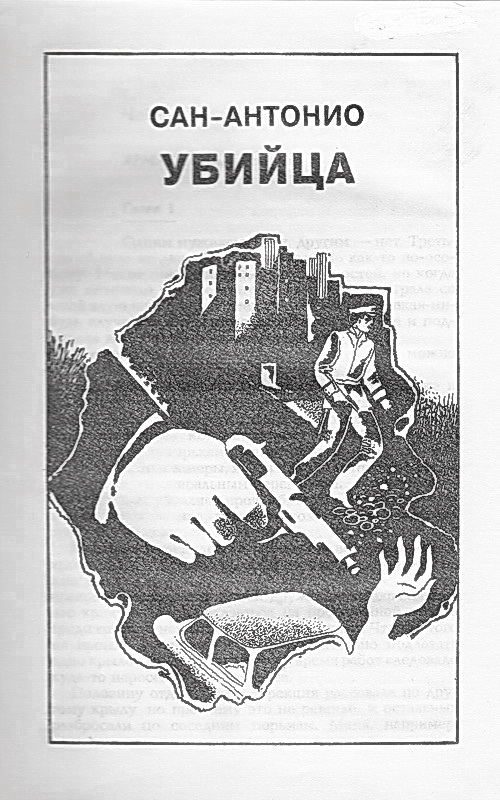
Часть первая
ЯРМАРКА ОПАРЫШЕЙ
I
Одним мужикам везет, другим — нет. Третьего обычно не дано. Но со мной вышло как-то по-особому. Много мне досталось всяких пакостей, но когда уже начинало казаться, что моя старушка сыграла со мной злую шутку, родив меня на свет божий, какая-нибудь случайность вдруг исправляла положение и подсыпала мне в карман чуток оптимизма.
А оптимизм — это лучшее из всего, что можно носить в карманах.
Я отбывал свои полтора года в Руанской тюрьме и подыхал от тоски, но тут-то и произошла такая вот случайность. Как-то раз к нам притопали субчики с хмурыми рожами, которые принесли с собой уровни с воздушными пузырьками, оптические приборы и рулетки. Они сделали замеры, взяли пробы и что-то записали в блокноты со спиральным переплетом.
Потом они убрались прочь, бросая на нас осуждающие взгляды — мол, подумать только, бывают же на свете такие люди…
На следующей неделе мы узнали — ведь даже в этих храмах грусти все слухи разносятся, как ветер, — что наш жилой корпус грозит треснуть по швам. В один прекрасный день и я, и мои дружочки, и охранявшие нас крикуны могли оказаться на проселочной дороге среди груд камней и россыпей штукатурки. Чтобы этого не произошло, решено было основательно подлатать одно крыло здания. Вот только на время работ следовало куда-то переселить постояльцев.
Половину отдыхающих дирекция рассовала по другому крылу, но проблему это не решило, и остальных разбросали по соседним тюрьмам. Меня, например, решили перевести в центральную тюрьму Пуасси. Мне было безразлично, где сидеть; переезд даже обещал какое-то разнообразие. У нас ведь тут скучнее, чем на почте в отделе упаковки — там хоть дату на штемпеле каждый день меняют. А в цитаделях печали нет ни числа, ни дня недели — один серый унылый туман. Так что возможность стрельнуть глазом по окрестностям меня изрядно порадовала.
Одним солнечным утром меня вызвали к интенданту и вернули старые шмотки, которые я натянул с великим удовольствием: они создавали сладкую иллюзию свободы.
В комнате сидели два бравых жандарма — два типичных представителя своей профессии. Первый был длинный придурок с акцентом Саоны-и-Луэры, вороньим клювом и гнилыми зубищами. Второй — толстый коротышка с блаженным лицом — похоже, проводил жизнь в постоянном ожидании обеда или ужина.
Они ласково надели мне наручники, и тут ощущение свободы стало понемногу пропадать. Тем более что длинный соединился со мной священными узами в виде короткой цепочки, зашитой в чехол из одеяла. Оказаться в одной упряжке с таким мерином — от этого любой повесит нос…
В этом снаряжении мы вышли из тюрьмы и пешком двинулись к вокзалу.
Будь у меня ярко-зеленое пузо, а в заднице павлинье перо — на нас, пожалуй, и то бы меньше оборачивались. Вид человека в наручниках производит потрясающее впечатление. Это возбуждает людей. Они начинают наслаждаться своей свободой и на минуту-другую даже проникаются состраданием.
Но я чувствовал себя неважнецки. Я не люблю корчить из себя восьмое чудо света.
Когда мы доплелись до вокзала, мне стало чуть полегче. Толстяк перекинулся словечком с начальником поезда, и нас разместили в купе второго класса. После отправления, по пути в Мант, к нам зашел потрепаться контролер и стал рассказывать, как воевал при Дюнкерке. Ух и расписывал, ух и заливал! Он попал там в плен и до сих пор, бедолага, от этого не отошел…
Наконец мы слезли в Манте, чтоб пересесть на другой поезд, потому что наш в Пуасси не останавливался.
Жандармы впихнули меня в последний вагон пригородной тарахтелки. Там было пусто, только в углу сидели два печальных сереньких араба и молча жевали какие-то подозрительные огрызки. Они даже не заметили штампованных браслетов, что охватывали мои запястья.
Мы уселись у окна и стали разглядывать пейзаж. «Саона-и-Луэра» рассказывал о своей жене, которая страдала какими-то там «сращениями». По его физиономии было видно, что ему тоже всегда не терпелось срастись с чем-нибудь прочным и надежным — с жандармерией, со своим избирательным округом или с оргкомитетом ежегодной утренней пьянки в деревне Свистнирак.
Тем временем я во все глаза смотрел на травку и цветочки. Мир сиял и искрился. Местами виднелись плавные изгибы Сены, по дорогам сновали машины. Все вокруг дышало бодростью и весельем. А мне через час предстояло вновь оказаться на сырой тюремной соломе… Представляете перспективу?
В животе у меня заныло от тоски. И я решил, что буду последним дураком, если не попробую сыграть в догонялки… С такими лопухами, как мои охранники, это вполне могло удаться.
Не успел я принять решение, как у меня уже созрел план.
— Черт! — сказал я вдруг. — Мне надо в сортир.
«Саона-и-Луэра» недовольно посмотрел на меня.
— Слушай, потерпел бы уже до Пуасси…
— Ну, вы даете! Когда вам приспичит, вы что, терпите до отпуска?
— Ладно, отведем, — согласился он.
Мы вышли втроем в тамбур, в углу которого и находился клозет. Из-за жары скользящие двери поезда были открыты, и за ними галопом скакали телеграфные столбы.
Толстяк открыл дверцу туалета, чтобы проверить там окно; оно оказалось слишком узким, чтобы туда смог пролезть человек.
Успокоившись, он снял с меня браслеты.
— Давай скорей!
— Пожар, что ли? — огрызнулся я.
Я зашел в туалет, и кто-то из этих сволочей сунул ногу в дверной проем, чтобы я не мог закрыться полностью. Тогда я потер онемевшие запястья и вздохнул посвободнее, хотя для дыхательной гимнастики место было не очень-то подходящее. Ясное дело, сюда я пришел не затем, зачем просился. Я быстренько прикинул: поезд недавно отошел от второй станции и теперь катит на приличной скорости. Я могу в два прыжка добежать до двери и соскочить на насыпь. Правда, при неудачном приземлении можно было запросто свернуть себе шею. Но что делать: не время было изображать из себя примерную первоклассницу.
Я спустил воду и расстегнул пуговицы на штанах. Потом не торопясь вышел, сделав облегченное лицо. Те два урода поджидали меня у двери, приготовив свои железки.
— Погодите, — пробормотал я, — дайте же застегнуться, ей-богу! — И стал поправлять одежду. Дверь вагона была всего в двух шагах от меня.
Я изловчился и двинул «Саону-и-Луэру» головой в лицо, одновременно стараясь попасть второму башмаком в пах. Они заорали в один голос — видать, координация у меня была еще ничего. Я подскочил к выходу и спрыгнул на подножку. Но излишне рисковать было не обязательно: жандармы еще не успели оклематься.
Мне не впервые доводилось прыгать на ходу с поезда. А в этот раз все было еще проще: ведь ехали мы в последнем вагоне.
Толчок, удар ногами о землю — и вот я уже бежал по инерции за поездом, хотя мне было с ним совсем не по пути. Еще десяток метров — и я смог остановиться. Жандармы выглядывали из дверей, но прыгнуть не решались: скорость была для них слишком высока. Кованые ботинки не располагают к сальто-мортале… Не дожидаясь, пока они вспомнят о стоп-кране и потянут за рычаг, я перелез через барьер, ограждавший колею, сбежал вниз по насыпи и бросился к шоссе… Поезд продолжал уходить вдаль.
У меня будто выросли крылья — такие же, как у того человечка с обручем вместо шляпы, которого рисуют в книжках. Я жадно вдыхал первосортный кислород.
Стоп-кран, похоже, не стопкранил вообще, потому что хвост поезда уже скрылся из виду.
Однако отдыхать было некогда: через несколько минут в этих местах намечалось массовое развертывание полицейских сил.
Я был слишком паршиво одет, чтобы позволить себе насладиться радостями автостопа. Моя трехдневная щетина делала меня похожим на пещерного человека из энциклопедии. На таких водитель не клюет.
С другой стороны, топать по шоссе пешком было тоже нельзя. Это означало идти прямо в объятия легавых, вытянув руки подобно слепому, потерявшему трость.
К тому же нельзя было ни оставаться в этом районе, ни появляться в населенных пунктах… Никогда еще я с такой остротой не чувствовал, как быстротечно время. Оно стремительным потоком шумело у меня в ушах; от этого шума, казалось, было даже больно.
«Черт возьми, решай же что-нибудь, Капут! — сказал я себе. — Решай и действуй, иначе сгоришь. А тогда уж завоешь: в Пуасси умеют обработать по всем правилам»…
Тут я увидел машину, стоявшую на обочине метрах в пятидесяти от меня: какую-то американскую модель. У нее был поднят капот, и шикарно одетый тип таращился на мотор с видом человека, который сам не знает, что ищет.
Я подошел. Номер машины заканчивался на «75»: Париж. Этот маршрут меня бы устроил.
— У вас поломка? — спросил я.
Хозяин обернулся и с надеждой посмотрел на меня. Похоже, ему было плевать на мою щетину и на мои затасканные шмотки.
— Не пойму, в чем дело, — сказал он. — Заглохла — и ни в какую. А вы разбираетесь?
Еще бы мне не разбираться: ведь я начинал свою карьеру с перепродажи подновленных машин — вместе с Рири-Штукатуром! Автомастерские были моим родным домом. Только вот из-за полицейских на хвосте мне некогда было строить из себя угодливого парнишку-механика.
Я огляделся по сторонам и увидел только трактор, который тащил по полю здоровенный прицеп с навозом.
— Дело наверняка в зажигании, — сказал я.
В диагностике я мог потягаться с любым эскулапом и сразу понял, что к чему: оборвался провод катушки зажигания. Сущая ерунда. Я мигом срастил оборванные концы. Бывало, когда к нам в гараж заявлялся какой-нибудь балбес вроде этого, мы разыгрывали перед ним целое представление: заменим пару поршней, притрем клапаны, потом, раз уж сняли головку, поставим новые гильзы. Сменим катушку, свечи, потом вдруг обнаружим зазор между шестернями коробки, устраним его и напоследок еще уговорим хозяина купить новые чехлы!
Мой горе-водитель не мог опомниться от удивления, когда я в два счета вернул к жизни его аппарат. Он был довольно молод, но уже с сединой, носил очки и, видимо, считал себя кем-то очень важным и незаменимым.
— Не знаю, как вас и благодарить, — сказал он, прикидывая, удобно ли будет предлагать мне деньги.
— А вы едете в Париж?
— Да…
— Тогда, может быть, подбросите? Мне тоже туда.
Тут уж он сразу обратил внимание на мой мятый костюм и небритые щеки. К тому же я еще носил с собой неуловимый запах тюрьмы, запах странный, мало кому знакомый и уязвляющий носы всех честных граждан во всем мире.
Однако после того, как я сослужил ему такую службу, бедняге уже некуда было деться.
— Садитесь, — нехотя сказал он.
Когда я подходил, то не заметил, что мужик не один. В машине сидела его цыпочка. Правда, называть ее «цыпочкой» было бы настоящим богохульством: чтобы описать такое создание, нужно сначала купить толстую пачку первосортных эпитетов.
Это была невероятно красивая блондинка с фиалковыми глазами и мечтательно-томным лицом. Мне словно кто-то дал под дых, и я подумал, не попал ли по ошибке в широкоформатный голливудский фильм.
У нее были роскошные духи. Они пахли, кажется, черной розой, но еще сильнее — денежными знаками.
Когда я садился в тачку, она бросила на меня равнодушный взгляд и зажгла сигаретку с золотым ободком.
Я с блаженством плюхнулся на сиденье. Пока что все складывалось не так уж плохо. Может быть, сегодня мой день? Надо будет заглянуть в гороскоп на последней странице «Франс-Суар». А талисманом мне служили — да, вы угадали, — прекрасная блондинка и ветер свободы!
II
Я запоздало взбунтовался. Эта шикарная машина, эта шикарная баба вдруг напомнили мне, какой она должна быть, настоящая жизнь. Теперь уж я ни за что бы не согласился вернуться в тюрягу. «Давайте, ловите, поганые полицашки! — думал я. — Чтоб зацапать меня живьем, придется здоровенные сети растянуть!»
Я твердо решил, что лучше уж деревянное пальто без рукавов, чем отдельные апартаменты в Пуасси. И — странное дело — от этой мысли появилось ощущение силы. Чего людям больше всего недостает, так это решимости. Без нее и мужик не мужик, а так, кусок камбалы.
Мы проехали мимо нашего поезда, стоявшего посреди поля. Я даже заметил, как длинный жандарм скачет вдоль полотна, изображая ручищами ветряную мельницу, и кожаный подсумок хлопает его по заднице… Задергался, «Саона-и-Луэра»! Повышение свое он мог теперь засунуть куда следует, и поглубже! Небось, уже воображал, как, уйдя безвременно на пенсию, рыхлит соседские сады, чтоб заработать на воскресный антрекот!
Я тихонько усмехнулся. Поделом ему — надо было выбирать себе человеческую профессию!
Сидя в своем уголке и обхватив пальцами рукоятку подлокотника, я смотрел на стрелку спидометра, которая уже щекотала цифру «120». В технике мужик не смыслил ни бельмеса, зато рулил будь здоров! Случай, кстати, очень характерный для знатных вельмож: для них автомобиль — это четыре колеса, руль и три дырки: для воды, масла и бензина. И поскольку они не разбираются в технике, то безжалостно мучают своего четырехколесного друга, напрочь забывая о бравых поршнях, верных шатунах и бедной малютке помпочке…
Мы проехали поселок, потом второй… Мой водитель даже не потрудился сбросить газ. Такие фокусы в населенных пунктах с ограничением скорости могли запросто навлечь на нашу голову мотоциклистов. Но штраф его, похоже, не пугал. Зато вот мне это было не в масть.
Мы выскочили на дорогу, прилегающую к скоростной магистрали, и мне стало чуть спокойнее. Я прикинул, что жандармы едва-едва успели всполошить оперативную группу, и, если не случится невероятного прокола, я спокойно доберусь до Парижа.
Но оказалось, что я слишком размечтался. У въезда на автостраду стояла машина радиопатруля и два ряда колымаг перегораживали оба направления: на Сен-Жермен и на Париж.
— Что там такое? — спросила женщина.
Она раскрыла рот впервые с тех пор, как я влез в машину. И могу сказать, что ее голос соответствовал всему остальному: он шел прямо в спинной мозг.
Но не время было погружаться в сладкие грезы.
— Полицейский заслон, — проворчал мужчина. — Иногда их заставляют устраивать проверки…
У обочины вытянулась вереница автомобилей; полицейские заглядывали внутрь и жестом разрешали ехать дальше. Было ясно: облава на меня. Делать им было, что ли, нечего у себя в конторе — такую толпищу согнали из-за одного несчастного жулика…
Я попался, и гордиться тут было особенно нечем.
Тогда я сказал себе, что должен что-то делать. Хоть что-нибудь, если не хочу, чтоб меня повязали, как последнего олуха.
В кармашке на спинке переднего сиденья лежала курительная трубка. Я украдкой достал ее и приставил чубук к шее водителя так, чтобы его жена не видела, что у меня в руке.
— Слушайте, — сказал я, — похоже, эти господа ищут меня, потому что я сбежал из Руанской тюрьмы. Я ничего плохого вам делать не хочу, но если вы меня не отмажете, я пальну вам в череп, чтоб развеять ваши грустные мысли.
Женщина повернулась и посмотрела на меня так, словно только что заметила. Похоже, я уже не казался ей прежним жалким недотепой…
— Хорошо, — сказал мужчина.
Он не дрожал. Напротив, он держался очень даже спокойно.
Когда к нам стал подходить парень из дорожной полиции, он высунул голову в окно, чтобы тот не сунул туда свою.
— В чем дело?
Полисмен по-военному отдал честь.
— Вы не брали по дороге пассажиров? — спросил он.
— Нет, — сказал человек с седеющими волосами, — я еду с женой и с сыном моего садовника, а попутчиков вообще никогда не беру. Случись что с ними — страховая компания проходу не даст. А что, кто-нибудь сбежал?
— Угу, — буркнул полисмен. — Ладно, проезжайте.
Мой водитель благословил его сердечным взмахом руки и уверенно включил скорость.
Когда мы проехали заслон, он, не оборачиваясь, сказал:
— Положите-ка трубку на место и перестаньте валять дурака.
На мгновение я потерял дар речи и почувствовал себя полным кретином. Я и не заметил, что на машине два зеркала: одно на обычном месте и второе на левом переднем крыле. В него-то он и заметил мою уловку.
Я не мог взять в толк, почему он меня не сдал. На него это было не похоже. Я-то воображал его образцовым гражданином, крепко сидящим на своих принципах и всегда готовым что-нибудь пожертвовать на полицейский алтарь… Честное слово, я просто оторопел.
Я глуповато засмеялся. Реакция не бог весть какая, но в моем положении и в моем наряде трудно было придумать что-нибудь получше. Я сунул трубку на место и откинулся на спинку сиденья.
Женщина больше не смотрела в мою сторону. Мужчина молчал.
Через двадцать минут мы проехали туннель Сен-Клу. Водитель съехал по спуску, обогнул клумбу у моста, проехал по левому берегу реки, затем свернул на узкую улочку с богатыми особняками.
Я недоумевал, куда это мы едем и почему он меня не высаживает, хоть и не сдал полиции.
Все эти вопросы прыгали в моей голове, как стая кузнечиков, но я гордо молчал.
Еще один поворот — и машина остановилась возле дома из шершавого камня. Мужик прогудел клаксоном условный сигнал. Почти сразу же за забором заскрипел гравий, и ворота отворились.
Поместье было большим и каким-то печальным. Огромный сад казался заброшенным — это и нагоняло меланхолию. Это, да еще закрытые ставни на окнах.
Мы подкатили к парадному. Женщина вышла и стала подниматься по ступенькам. Я вышел тоже. Я стоял посреди сада, плохо соображая, что со мной происходит. В голове у меня гудело.
Ворота уже закрылись, и от них шел высокий черноволосый парень в джинсах и черном свитере, державший руки в карманах.
На слугу он был не похож. Однако по его манерам было видно, что он и не родственник, и не друг семьи.
Мой водитель сухо спросил его:
— Новостей никаких?
— Нет, — буркнул парень, глядя на меня. — Удачно съездили?
— Очень.
Парень в свитере указал на меня пальцем:
— А это еще кто?
— Это наш друг… новый. Дай ему комнату на третьем этаже, белье и бритву.
Хозяин повернулся и ушел. Я остался стоять перед парнем в свитере. По его глазам было видно, что я ему совсем не по нутру.
— Ты кто? — спросил он.
— А тебе какое дело?
Я думал, что он на меня кинется, и уже готовился врезать ему, как умел. Но он сдержался, не зная толком, с кем имеет дело.
— Может, тебя как-нибудь зовут? — спросил он. — Или тебе свистят, как шавке?
— Зови меня Капут, если так уж хочешь прилепить мне табличку.
— Имя вроде немецкое? — проворчал он.
— Не отрицаю, но это неважно — все равно не мое.
Я был собой доволен. Раз все вокруг темнят, то и я в долгу не останусь — буду разыгрывать высокомерное безразличие…
Черноволосый парень хлопнул ресницами, что свидетельствовало о его замешательстве.
— Ну, а я — Робби, — произнес он и повел меня в дом.
В этой берлоге, видно, давно не жили, потому что внутри стояла гнетущая сырость и изрядно воняло плесенью. Пауки чувствовали себя здесь на своей территории и старались переплюнуть лучших городских кружевниц. Переступаешь порог — и всю рожу залепляет паутиной…
Робби отвел меня наверх, в комнату, где пахло пылью и старой бумагой. Он подошел к умывальнику, повернул кран: в кране сначала захрипело, потом забулькало, и в конце концов из него побежала-таки желтоватая вода.
— Подожди, — сказал он. — Сейчас схожу за мылом и бритвой. — Потом окинул меня долгим взглядом, будто снимая мерку.
— Да ты вроде прямо из тюряги, — сказал он.
— Что, заметно?
— И воняешь к тому же…
Я и сам это знал, черт возьми, да только мне очень не понравилось, как грубо он это сказал.
— Повежливей, приятель!
Не желая, видимо, обострять ситуацию, он молча пожал плечами и куда-то скрылся. Вернулся он минут через десять. Я валялся на клоповнике, подложив руки под голову, и разглядывал замысловатую трещину на потолке.
Робби приволок с собой кучу всякого добра.
— Держи, парень, — буркнул он. — Все, что нужно для превращения в сказочного принца. А еще вот распашонка и костюм. Я на глаз прикинул — должны подойти. Расфуфыришься — все так и попадают!
Он гыгыкнул и исчез.
Я повернул ключ в замке и разделся догола. Мои старые тряпки, лежавшие кучкой на полу, казались мне теперь вообще никуда не годными. Они и в день ареста были уже в стиле «хиппи», а пребывание в тюремной камере хранения их почему-то не обновило.
Я вымылся «по-взрослому», как говорила моя мама, когда я был шпингалетом. Потом побрился. Робби — даром что бука — ни о чем не забыл: принес даже расческу и флакон лавандовой воды. Видно, запашок у меня и вправду был не из лучших…
Надраившись, я стал свеженьким, как ломтик ананаса в вишневой водке. Я сиял и благоухал. В крапчатом зеркале над умывальником отражалась теперь знакомая и дорогая сердцу физиономия, и было снова видно, что мне двадцать два года и что парень я хоть куда. Будто с плаката красавчик. Девчонки увидят — задом будут пятиться.
Воротник рубашки был чуть велик, а брюки длинноваты, но если ворот не застегивать, а ремень затянуть потуже, получалось очень даже ничего. Костюм мне нравился: серый, неброский, в тоненькую розовую полоску. В нем я сразу стал выглядеть как некто. Даже как некто достойный, осмелюсь доложить.
Эти приготовления меня отвлекли, но лишь только я привел себя в порядок, как снова ощутил всю двусмысленность своего положения. Люди подбирают на дороге преступника и преспокойно поселяют его в пустом доме, за которым присматривает этакий крутой парень… Это, по-вашему, нормально?
Но в таком возрасте недолго ломаешь кочан над загадками, а к чудесам привыкаешь быстрее, чем к тесным ботинкам. Ведь я, в конце концов, не так уж давно перестал верить в Деда Мороза…
Взглянув напоследок еще разок в зеркало, я вышел в коридор. Потом спустился по лестнице — и на втором этаже столкнулся нос к носу с той самой бабой. Она тоже успела переодеться. Теперь на ней были сиреневые штаны и едко-зеленый джемпер. Все это ей чертовски шло, а главное — четко обрисовывало ее авансцену. Глаз туда так и прилипал, будто муха к варенью, и нужно было скорей запихивать руки в карманы, пока они не бросились на добычу полезных ископаемых.
Я усек, что эта цыпка смотрит на меня уже по-другому — с явным интересом.
— Да он же совсем мальчишка! — пробормотала она.
Я улыбнулся ей.
— После чистки я получше?
— Да я думала, что вам лет сорок. А сколько на самом деле, кстати?
— Двадцать два.
— А за что сидели в тюрьме?
— За рассеянность: покупал в баре пачку сигарет, а унес кассу.
Она засмеялась.
Это шло ей не меньше, чем джемпер и брюки Я вдруг ощутил, как давно не залазил на бабу И не нужно было звать на помощь экстрасенса, чтобы понять по ее бесстыжим глазам: она тоже не прочь…
III
Есть люди, которых можно с первого взгляда отнести к тому или иному слою общества. Вот так и для парочки, которая меня выручила, мигом нашлось место в моей личной картотеке. Его я представлял себе врачом, практикующим в каком-нибудь богатом квартале, или архитектором. Да, пожалуй, скорее архитектором. А ее без колебаний причислил к тем мымзам, которые посещают парикмахерские «Карита», водят на длинном поводке боксера с не менее длинной родословной и пилятся днем в тихой пригородной гостинице.
Однако вскоре я стал подозревать, что мои выводы слишком поспешны и требуют пересмотра. За добропорядочной наружностью и светскими манерами моих хозяев, похоже, скрывалось нечто темное. Я согласился бы отсидеть еще полгода сверх недосиженного, чтобы узнать, что именно. Но считал делом чести держать рот герметично закрытым и строить из себя расслабона, который всякое видал и ничему не удивляется.
Я спустился на первый этаж. Одна из дверей была открыта, и за ней виднелась большая, под старину меблированная комната. Я вошел туда, плюхнулся в кресло и положил ноги на столик из красного дерева. Утомленный волнениями, пережитыми за этот тяжелый день, я уже начал было дремать, но тут на пороге появился хозяин.
Увидев мою позу, он нахмурился.
— Ведите себя прилично, пожалуйста, — тихо сказал он.
Мне захотелось послать его куда надо, но он смотрел на меня так сурово, что я невольно подчинился и сел как полагается.
Он прикрыл дверь и шагнул вперед. Я смотрел, как он подходит, и понимал, что крупно ошибался на его счет. Вблизи он был совершенно не похож на обычного мелкого буржуа. Надо было видеть его квадратный подбородок,
тонкие губы и внимательные глаза… Да, уж поверьте, это была личность. И личность неординарная.
— Кажется, вас зовут Капут? — сказал он с улыбкой.
— Кажется, да, — ответил я, стараясь выглядеть подостойнее.
— Это пережиток детства, — заверил он. — Вы, наверное, мальчишкой любили играть в гангстеров, а? Капут… Неплохо звучит!
Он зажег сигарету и выпустил большое пахучее облако. Мне захотелось выхватить соску у него из рук и поскорее зачмокать. Он понял и протянул портсигар. Я тоже принялся напускать в комнату тумана. И жизнь снова показалась мне прекрасной, несмотря ни на что. Я почему-то чувствовал, что благодаря этому человеку покинул тюремные стены раз и навсегда. Если уж он спас мне жизнь, то не для того, чтобы тотчас отшить. Он наверняка имел на меня виды. Оставалось только надеяться, что оказанная им помощь будет мне по карману…
Последовало долгое молчание, не слишком приятное для меня. Он стоял у открытого окна и мечтательно смотрел на ветвистые деревья, где воробьи устроили настоящий фестиваль лирической песни. Обо мне он, казалось, забыл.
Вдруг он обернулся.
— Вы сказали моей жене, что ограбили табачную лавку?
Я пожал плечами.
— Да ну, ограбил… Просто цапнул, что было в кассе. Голодный был, не подыхать же с голоду, когда монеты прямо перед носом лежат. Логично?
— А что вы делали раньше?
— Кормил старого дядьку, который меня приютил… Матушкин брат, жлоб и скотина. Когда мать отдала богу душу, он забрал меня к себе с условием, что я буду зарабатывать на двоих. Я работал на фабрике химикатов, вместе с арабами. Ох и дерьмо! Не арабы дерьмо — химикаты. Через месяц — спазмы, через два начинаешь кровью кашлять. Кто упорствует, кончает больницей, а то и крестом. Так что я бросил и фабрику, и дядю. Перебивался то здесь, то там, и еще кое-где, ну, вы понимаете, что я имею в виду.
— Понимаю.
— Ну вот. И однажды погорел. В той самой лавке. Удача ведь сопутствует не всегда… Табачник поднял крик, и какой-то, как говорят газетчики, мужественный прохожий подставил мне подножку. В таких случаях всегда находятся мужики, которые усердно лезут не в свое дело. Болезнь, что ли, у них такая? Я получил пятнадцать месяцев: почти на всю катушку, потому что еще я заехал ногой по шарам тому легавому, который меня забирал. Фараоньи яйца для присяжных священны…
Он искренне засмеялся.
— И сколько вам еще оставалось отбывать?
— Почти год… Для моего возраста это много: двадцать лет бывает в жизни только раз.
— Понимаю.
Он задумался.
— В целях безопасности вам не мешало бы на время исчезнуть со сцены, верно?
— Пожалуй, что так.
— Можете пожить здесь. Я только что купил этот дом, его нужно привести в порядок. Будете помогать Робби. А взамен получите жилье и питание. Предложение, по-моему, неплохое?
Я едва сдержал радостный порыв, который наверняка показался бы этому ледяному столбу неуместным.
— Идет!
В конце концов, он не просил ничего невозможного. У него, видно, были очень вольные представления о законах и о том, как их следует соблюдать: он рассматривал меня просто как дешевую рабочую силу.
— Согласны?
— Согласен.
— Тогда для начала протрите до обеда машину. Робби вам все даст.
Начистив тачку, я взглянул на личную карточку водителя, приклеенную к приборной доске. Она гласила: «Поль Бауманн, Париж, Рю де ля Помп, 116». Тут я почувствовал, что на меня смотрят, и поднял глаза на фасад дома. Муж и жена молча наблюдали за мной из открытого окна второго этажа.
— Годится? — спросил я.
— Блестяще, — сказала женщина.
«Он» ограничился одобрительным кивком. Я еще плоховато его знал, но уже сообразил, что мужик не из болтливых. Говорил он только главное, прочие мысли оставлял при себе, для личного пользования, и безработица его извилинам, похоже, не грозила.
Я пристроился в кухне на углу стола и проглотил плотный обед на базе консервов. Робби уже пожрал и теперь взял на себя роль стюарда. На нем был все тот же неизменный свитер. В другом наряде я его ни разу не видел.
Дочищая персик, я услыхал урчание мотора, глянул в окно и увидел, что Бауманн уезжает. Один. Робби закрыл за ним ворота, и мне будто сразу стало легче дышать. Наш дом с его высокими окнами и сад, где веяло свежими листьями, показались мне даже симпатичными.
В кухню вернулся Робби. Под свитером у него играли здоровенные бицепсы. Желания подраться с ним у меня уже не возникало: в гневе он, похоже, не умел сдерживать свою силу.
— Уехал? — спросил я.
— Какое твое дело? — отозвался он.
Я улыбнулся. Он напоминал мне бульдога: кривые зубы, сплюснутая морда, не вызывавшая никакого желания протягивать руку дружбы…
Он вытянул из кармана сигарету и стал разминать ее большим и указательным пальцами, глядя на меня.
— Так значит, мы в бегах? — чуть насмешливо сказал он.
Я не упустил случая отплатить ему его же монетой:
— Какое твое дело?
Робби не обиделся: на его плоской роже даже появилось веселое выражение.
— Ты прав, парень: чем меньше в жизни болтаешь, тем целее твой шнобель. Вот только не надо корчить из себя герцога Жопингемского! В твои годы надо еще ходить в воскресную школу и слушаться мамочку, понял?
Мужики ох как любят поучать. Каждый мнит, что он умнее и опытнее других, а говоря с молодым — вообще воображает себя ректором университета.
Огорчать Робби не стоило. В каком-то смысле он был правильный парень.
— Ладно, — сказал я. — С чего начинать? Домишко вроде как нуждается в лечении?
— Да. Ждем гостей. Первым делом надо подготовить на первом этаже комнату для дедушки, у которого отнялись ходули.
Я поморщился.
— Знаешь, Робби, я никогда не был виртуозом швабры, но в ответ на гостеприимство — так и быть, поднатужусь.
— Какое воодушевляющее свидетельство доброй воли! — послышалось сбоку.
На пороге стояла хозяйка: волосы стянуты в «конский хвост», сиськи готовы прорвать свитер… Каждый раз, когда она попадалась мне на глаза, я чувствовал, как по хребту пробегают искры, будто только что сунул палец в розетку.
Я покраснел и начал искренне сожалеть, что у меня есть руки, потому что решительно не знал, куда их девать.
— Робби, — сказала она, — там не обойтись без полотера. Я сейчас заглянула в комнату — она совершенно ужасная.
— Так полотера же здесь нету… — пробурчал мой напарник.
— Ну так заберите из квартиры.
— На мопеде?
— А что, на нем разве нельзя?
Робби, видно, это не слишком улыбалось. Но в этом доме одни давно привыкли приказывать, а другие — повиноваться.
— Хорошо, — сказал он с видом пса, у которого отобрали кость.
— А заодно привезите и обогреватель: для пожилого человека в доме слишком сыро.
— Угу.
Робби исчез. Мы с ней посмотрели из окна, как он уезжает — точно так же, как я провожал глазами Бауманна.
Нас окружала вязкая тишина. Мы тонули в ней, как в теплой глубокой воде. Я был один на один с этой женщиной в здоровенном пустом доме. При желании я мог бы кинуться на нее и завалить на пол. У меня стучало в висках.
Она повернулась и посмотрела на меня острым, как лезвие, взглядом. Щеки ее покрывал легкий розовый румянец.
— Помогите-ка мне перенести кровать в комнату для гостей, — велела она.
Опустив голову, я прошел за ней в конец коридора, Там была маленькая спальня, где пахло плесенью, как и во всех остальных помещениях. На стенах пузырились отвратные замызганные обои в цветочек.
— Кровать рядом, в кладовке. Донесем, как вы думаете?
— О чем разговор!
Тут я, как выяснилось, погорячился, потому что кровать оказалась не из универмага, обслуживающего рабочих завода «Рено», а из злого орешника толщиной с кирпич. Я здорово измучился, пока втаскивал ее в комнату с отклеенными цветочками. А втащив, повалился на матрац, отдуваясь, как тюлень. В тюрьме я изрядно заржавел, и после этого подвига у меня едва не отвалились руки.
— Устали? — спросила она.
— Немножко. В четырех стенах поневоле становишься подагриком.
— А вы умеете грамотно говорить, если захотите, — заметила она.
— Читал в камере словарь. Специально зубрил эффектные словечки. Вообще в каталажке многому можно научиться. Женщины это знают.
Я явно заинтересовал ее, а этого-то мне было и надо. Эта мания — даже, скорее, потребность — одолевала меня всякий раз, когда на горизонте возникала съедобная баба.
— Прошу прощения, — сказал я, — но не могли бы вы назвать мне свое имя?
— Эмма.
Глядя в сторону, я повторил: «Эмма». Голос мой звучал странно, дыхание участилось, но переноска тяжестей была здесь уже ни при чем.
Эмма… Имя ей шло. По мере продолжения нашего знакомства я все больше убеждался в ее абсолютной гармоничности.
Она встала передо мной, вызывающая и даже чересчур привлекательная, — пожалуй, даже слишком…
— Вам меня хочется, а? — спросила она с улыбкой.
Улыбка эта скорее напоминала хищный оскал. Ее рисовка и бравада бросались в глаза.
Я стал подыскивать подходящий ответ; мне очень не хотелось выглядеть в ее глазах тюфяком.
— Что за вопрос, — сказал я. — Вас должно хотеться всем мужчинам, достойным этого звания.
— У вас давно не было женщины?
— Достаточно давно, чтобы совершить глупость. Берегитесь, мадам Эмма…
— Не называйте меня «мадам Эмма»: это звучит как в борделе. И не надо давать мне указаний, особенно таких… Я не боюсь мальчишек вроде вас.
— Правда?
— Правда!
Незаметно для себя я встал и начал приближаться к ней. Никогда еще мне так сильно не хотелось обладать женщиной.
Я приблизился настолько, что почувствовал через рубашку тепло ее груди, и застыл, глупо, как корова перед палисадником. Мои руки снова играли со мной злую шутку: они висели на концах запястий, точно две свинцовые гири…
— Не надо со мной так… — пробормотал я.
Она сделала легкое волнообразное движение, и в результате приклеилась ко мне всем телом. Потом потерлась о меня, как ласковая кошка. Мигом освободившись от своих свинцовых рукавиц, я поднял руки и яростно сдавил ее талию, У меня болело в животе — до того я ее хотел.
Тут она засмеялась — долгим, злым и ликующим смехом.
— Вот этого не надо, малыш. Пусти!
Я стиснул сильнее. Она сделала движение, смысл которого я понял не сразу, но уже в следующее мгновение я почувствовал на коже холодный металл. Я опустил голову и посмотрел: она уткнула мне в живот небольшой пистолет с перламутровой рукояткой.
— Пусти, — повторила она тихо, почти ласково. — Я такая, что могу выстрелить…
Это было похоже на правду. Я убрал руки и попятился. Тогда она подошла, поднялась на носки мокасин и быстро поцеловала меня в губы. Потом посмотрела на пистолет и сунула его в карман.
— Когда приедет Робби, пройдитесь по комнате полотером и наведите там порядок…
Я не смог ничего сказать в ответ. Она, не оборачиваясь, вышла из комнаты. Я весь трясся, как отбойный молоток…
IV
Вообще-то Рю де ля Помп не так уж далеко от Сен-Клу, особенно если срезать угол по лесу, но Робби вернулся с поистине невероятной быстротой. Может быть, он по-своему ревновал и боялся, что я натяну хозяйку.
На этот счет он мог быть спокоен: дамочка умела защищать свое целомудрие. Мало того: еще и играла в странные игры. Жар и холод, похоже, были ее родной стихией. Она, видно, любила довести мужика до кипения, а потом оставить на бобах, едва только он совал граблю для конкретизации. Такие фокусы здорово перемыкают нервную систему А я-то думал, это бывает только в киношке, где роковые змеюки по-прежнему вызывают восторг у зрителей…
Минут пятнадцать я только и делал, что восстанавливал равновесие. Пульс отбивал сто десять, а руки все еще кормили рыбок. Но вдруг я разом обрел спокойствие. Я расслабился, щелкнул пальцами и пообещал себе, что непременно разберусь с этой фифой. Выберу подходящий денек, припру ее к стенке и вышибу из рук ту базарную хлопушку, на которой, небось, нацарапано: «На память об экскурсии по крепости Сен-Мишель»… Тогда уж ей придется бросить свои киношные ужимки и подчиниться законам мужского превосходства! Вот такую я себе дал клятву…
Робби включил полотер, как-то чудно зыркнув на меня.
— Ее нет? — спросил он.
В этот момент я готов был побиться об заклад, что перед ним она тоже исполняла свой коронный номер. И что он от этого до сих пор не пришел в себя. Знаете, некоторые певцы любят, когда им устраивают маленький домашний театр. Причем заметьте — лучше всего на это клюют самые «крутые».
Я отвел глаза.
— Не знаю, я ее не видел.
Ему похоже, полегчало, и мы засучили рукава.
Через два часа комната сверкала, пол был надраен, кровать аккуратно застелена, шторы повешены, и посредине рдел электрообогреватель, распространяя приятное тепло.
— Кого они ждут? — спросил я Робби. — Римского папу или иранского шаха?
Он сделал неопределенный жест.
— Старичка-паралитика. Кажется, чей-то родственник.
* * *
Гость действительно оказался старичок старичком. И ноги ему, видать, давно уже стали ни к чему. Но все же что-то в нем такое было.
Это был высокий дед с продолговатой, как на старых испанских картинах, головой, густыми седыми волосами и большими печальными глазами.
Мы с Робби вынули его из машины, отнесли в комнату, и там его пришлось уложить, потому что дорога его изрядно утомила.
Эмма и Бауманн стали ему настоящими няньками. Они были сама предупредительность, сама нежность и внимание.
Эмма пошла в сад за цветами и поставила их на столик у кровати.
Дед казался полным калекой. Мало того, что у него было неважно с ходулями, так еще и язык, похоже, капитулировал Он изъяснялся невероятно четкими жестами, при виде которых вспоминалось, что слово, в сущности, — явление вторичное.
Робби состряпал старикашке небольшой домашний обед, который ему кошачьими движениями скормила Эмма. Цыпленок, горошек, рисовый пудинг. Дед не грешил чревоугодием, даже наоборот: я слышал, как хозяйка его уговаривала.
Странное дело: Бауманн и его жена называли старика «мсье», из чего следовало заключить, что они, вопреки словам Робби, не состояли с ним ни в каких родственных отношениях.
Но, в конце концов, мне было на это начхать. Я говорил себе, что попал к не слишком консервативным людям с более или менее законными занятиями, которые, впрочем, меня не касаются. Мне просто здорово повезло, что я их встретил — и точка.
Вечером Бауманн подозвал меня к себе. Он сидел во дворе, в шезлонге; на нем была рубашка в крупную клетку и льняные брюки.
— Знаете, Капут, о вас пишут в вечерних газетах…
Он небрежно протянул мне газетку, лежавшую рядом с ним на камешках. Я с любопытством стал ее просматривать.
— Да нет, не на первой полосе… Вы еще не стали главным событием недели. Заслужили всего лишь одиннадцать строчек на третьей странице, да и то лишь благодаря своему побегу…
Действительно, заметка была очень краткой. В ней описывались некоторые обстоятельства моего побега и говорилось, что «проверки в районе Обергенвилля продолжаются».
Это утешало.
— Через пару дней вам можно будет выходить на простор, — продолжал он, зевая. — Что собираетесь делать?
Вопрос застал меня врасплох: об этом я еще не думал и никаких планов на будущее не имел.
— Не знаю, мсье…
— Искать работу?
Я невольно скорчил гримасу, и он улыбнулся.
— Кажется, это вас не очень-то прельщает!
— Попробуй ее найди, эту работу, когда не можешь удостоверить свою личность…
Он вздохнул и достал из заднего кармана бумажник настоящей крокодиловой кожи.
— Это карточка избирателя, которая может сойти за удостоверение. Она вдвойне хороша: и подлинная, и без фотографии.
Я взял карточку и прочел: «Рене Дотен, водитель. Улица Вожирар, 120».
— Не беспокойтесь, — сказал он. — Этот Дотен не существует. Можете смело пользоваться его именем.
Почему я ощутил в тот момент нечто вроде тревоги, вместо того чтобы обрадоваться неожиданному подарку?
Знаете, как иногда бывает в эротических снах? Вы лежите с голой бабой, которая аж хрипит от нетерпения. Вам так хочется начать, что все ваше тело — будто вибромассажер, и все-таки у вас не получается ею овладеть. Вот так и у меня тогда не получилось обрадоваться. Напротив — мне стало страшно. Черный, неясный страх врезался мне в мясо, скрипя, как зазубренный нож.
Я опасливо держал карточку кончиками пальцев.
— Вы, я вижу, не слишком удовлетворены? — заметил Бауманн.
— Вы Дед Мороз?
— Иногда бываю.
— Из филантропии?
— Скажем, это меня развлекает.
Спускались мягкие сумерки. Его глаза напряженно блестели в полутьме. Я не отворачивался, в безумной надежде выведать его тайну.
— Чего вы от меня ждете господин Бауманн?
— О, вам известна моя фамилия? Я считал Робби более скрытным…
— Я прочел ее на вашей машине.
— Ах, вот оно что…
— Ну? — разозлился я. — Отвечайте же!
Он указал на стоявший рядом пустой шезлонг.
— Присядьте-ка, Дотен, а то у меня шея болит на вас смотреть.
Я сел.
— По некоторым причинам, которые я не могу назвать, мне требуются помощники вроде вас. Тихие люди с не очень развитым чувством гражданского долга, не в обиду вам будь сказано…
— Чтобы выполнять работу по дому? — спросил я.
— По дому, и не только…
— А еще какую?
— Другую!
Голос его сделался резким, свистящим. Я не стал допытываться.
— Легкая работа, свободная жизнь. Со мной вам все нипочем. Полиция не станет искать вас под моей крышей. Двухсот тысяч старыми в месяц вам достаточно?
Такое случается только раз в жизни: еще утром я стоял между двумя тюремщиками с железом на руках, а вечером — сижу вот в шезлонге, любуюсь закатом, вдыхаю запахи сада. У меня есть ночлег, липовое удостоверение, и мне предлагают двести билетов за здорово живешь!
— Если мое предложение вас оскорбляет, можете уйти. Мне вы ничем не обязаны…
Я посмотрел на ворота — символ — спокойствия и надежности. Тени на улице сгущались. Из дома вышла Эмма: ее белые волосы затмили собой последние светлые пятна сада. Она шла, покачивая бедрами, словно предлагала себя первому встречному.
— Годится, — пробормотал я, — Остаюсь.
Слова эти чуть не ободрали мне глотку — до того явственно я ощущал, какую совершаю глупость.
V
Прошло несколько дней. Дом был по-прежнему погружен в какое-то сонное оцепенение. Эта хибара жила собственной, почти человеческой жизнью. Из всего, что меня окружало на протяжении всей этой истории, только она по-настоящему меня успокаивала, только она создавала ощущение безопасности и уюта.
Работенка не слишком утомляла. В мои обязанности входило транспортировать старика, когда ему хотелось подышать воздухом. Он был легким, как пушинка, что, кстати, для инвалида большая редкость. Я поднимал его на руки и нес в сад, на шезлонг. Его медленное дыхание щекотало мне ухо, и от него исходил пресный запах старости, как от пустых флаконов, в которых когда-то давным-давно хранились духи.
По мне — так он был хороший старикан. На второй день он дал мне тысячу франков, которую с трудом выудил из кармана. Его внимание мне польстило. Иногда он мне улыбался — одними глазами, потому что мышцами лица почти не владел.
А вот со жратвой дела у него обстояли из рук вон плохо. Пищу приходилось измельчать до крошек, и жевал он их целую вечность. Но я проявлял к нему небывалое терпение, и мне порой даже нравилось чувствовать себя заботливой мамашей.
В свободное время я почитывал детективы, которые с утра до вечера заглатывала Эмма. Она только этим и занималась: каждый вечер Бауманн привозил ей из города новую стопку книг, Это была не баба, а сущий книгоед. Ох и любила она встряску с мурашками! Ух и ждала, когда часы пробьют полночь и из-за угла появится книжный убийца! А уж преступления в «замкнутом пространстве» — те она вообще щелкала, как орехи.
Мне достаточно было лишь выбрать из кучи. Книжки эти валялись по всему дому и даже на лужайке. Бери да читай! Настоящий книжный дебош.
Робби, не будучи большим интеллектуалом, «починял» разные мелкие штуковины и готовил жратву. Видимо, Бауманн вообще не знал, что такое денежные затруднения, если держал у себя таких трутней, как мы!
Уезжал он утром, довольно рано, и возвращался в конце дня, совсем как бравый промышленник, который каждый божий день отправляется в свою городскую контору и после трудов праведных спешит поскорее глотнуть свежего воздуха.
Я уже перестал гадать, долго ли все это продлится. Перестал задавать себе вопросы. Просто жил, не ломая голову, потому что это «сегодня» было несравненно лучше, чем любое из возможных «завтра». С моими анкетными данными лучшего от жизни просить и не приходилось.
И еще я смекал, что эта отсрочка — немного шанс на то, что обо мне слегка подзабудут полицмены.
В таком разлагающем климате прошло около десяти дней. И вот как-то вечером Бауманн зашел на кухню, где Робби мыл посуду, а я — что ж тут такого? — ее вытирал.
— Завтра утром уезжаем на два дня, — сказал хозяин, обращаясь к Робби.
Тот, похоже, удивился.
— Только вы и я?
— Не нравится?
— Почему же…
— Значит, завтра, в шесть.
* * *
Меня разбудило урчание мотора: они уезжали. Я подскочил к окну. Бауманн сидел за рулем, а Робби, все в том же свитере, открывал ему ворота.
Когда их танк выехал со двора, Робби затворил железные половинки ворот и окинул взглядом фасад дома. Он искал меня — знал, что я не сплю и наблюдаю за отъездом. Наши глаза встретились. Он сделал в мой адрес непристойный жест и исчез.
В восемь часов Эмма вышла из своей спальни в почти прозрачном пеньюаре. Она казалась завернутой в целлофан, как дорогая сигара. Мне не составило никакого труда разглядеть ее белые трусики и сисько-держатель. В общем — началось солнечное утро.
Все это время, начиная с инцидента в гостевой комнате, она делала вид, что не замечает меня. Но сейчас в ее глазах снова появился похотливый блеск. Губы ее были влажными, она еще хранила запах постели.
Я рассудил, что при таком наряде никакой пистоляции у нее быть не должно. Теперь я мог смело сцапать ее и показать ей японский захребетный захват…
— Приготовьте завтрак нашему больному! — приказала она.
— Хорошо.
— А кофе себе я сделаю сама.
Она выпивала по утрам чашку чернушки с лимонным соком и без сахара — видно, берегла фигуру.
Через несколько минут мы с ней встретились на кухне. Она дула на свою чашку и смотрела на меня сквозь пар.
— Надеюсь, вы не начнете снова, — пробормотала она своим волнующим голосом.
— Что — не начну?
— Эти свои… ну, сами знаете. Я не собираюсь все время держать под рукой револьвер или хлыст, как укротительница тигров.
— Тогда, — возразил я, — вы должны сделать встречный шаг. Если вы и дальше будете трепать у меня перед носом своим плэйбоевским арсеналом, я ни за что не отвечаю.
— Может быть, мне вообще доспехи надеть?
— Не надо: вы не подходите на роль Жанны д'Арк.
Она вышла, хлопнув дверью.
День прошел еще спокойнее, чем обычно. Она, как всегда, читала, и в полдень я принес ей в столовую грейпфрут и кусок йорк-бисквита. На ней были шорты и белый свитер — большая неосторожность с ее стороны: покажите мне того, кому не захотелось бы в эту минуту сорвать с нее и без того немногочисленные одежды…
Но я сдержался, Эта сучка украдкой поглядывала на меня, обеспокоенная моим равнодушием.
Я занялся стариком. Он слегка покашливал: наверное, накануне вечером я слишком долго продержал его на свежаке. Я спросил, не желает ли он грогу, и он кивнул своей несчастной головой. Я состряпал ему гремучую смесь, и он мигом заснул, разомлев от горячего алкоголя.
Я чувствовал себя как те животные, что предсказывают землетрясение. Погода стояла хорошая — был разгар лета. И все же в воздухе словно таилась какая-то угроза, и небо невыносимо давило на плечи.
Я принял душ, чтобы успокоить нервы. Но разве может холодная вода погасить вулкан? Рубашка моя продолжала липнуть к спине, а стоило закрыть глаза — веки жгли зрачки.
Прожевавши ужин, я вышел на вечернюю прохладу. Этой минуты я ждал весь день, как целительной ванны.
Я обошел дом и завалился в высокую траву, которая росла по краю сада, у забора. Там жила целая орава сверчков, и они как раз настраивали свою музыку для ночного концерта. Им вторили лягушки — настоящая деревенская идиллия! Я подложил руки под голову и уставился в небо, в отличное бархатное небо, где вырисовывались бледноватые звезды.
Вдруг над моей головой нависла тень. Вместе с ней появился запах духов. Это была ОНА.
Я смотрел, как она подходит — в перевернутом изображении. Потом она долгое время стояла неподвижно. Я вдыхал ее запах; он как нельзя лучше сочетался с запахом летнего вечера.
— Что вы тут делаете? — спросил я наконец и испугался собственного голоса — такой он был хриплый. Еле из горла лез.
— Смотрю на вас, — был ответ из темноты.
— Ну и как, стоило приходить?
— Не знаю.
Я наугад протянул руку; пальцы мои наткнулись на голую ногу с теплой мягкой кожей. Я провел рукой вверх — до края шортов. Она не двигалась.
Осмелев, я встал и подошел к ней вплотную.
— Пора вам доставать свою гаубицу, — пробормотал я.
Но она не шевелилась.
Тогда я с силой швырнул ее на землю, и она слабо вскрикнула от боли. От этого крика сердце у меня допрыгнуло до самой шеи. Перед глазами поплыл красный туман. Почти не соображая, что делаю, я с размаху влепил ей пощечину. Потом придавил одной рукой к земле, а другой принялся срывать с нее шорты, трусы, свитер… Во мне кипела безграничная ярость. Я все крепче сжимал зубы, а она — она содрогалась от сдавленных рыданий…
VI
Она лежала в траве, как мертвая; ее золотистая кожа резко выделялась на фоне белых лоскутов, оставшихся от ее одежды.
Я встал рядом с ней на колени. Внутри меня будто воцарилась гробовая тишина. Я был выжат и опустошен.
Я тихонько поглаживал ее рукой, ни о чем не думая. Она вздрагивала, придвигалась ко мне все ближе и мурлыкала от удовольствия, как кошка.
Ее губы были приоткрыты, и за ними поблескивали зубы. Я не удержался и поцеловал ее еще раз, чтобы снова почувствовать вкус ее слюны. Наши зубы заскрипели друг о друга, но меня это не покоробило. Я готов был разбиться об эту женщину на мелкие кусочки. Она приводила меня в панику. Даже обессилевший, я никак не мог насмотреться на ее тело.
— Ну, вставай, — прошептал я. — Холодно ведь, а ты голая.
Она вздохнула.
— Понеси меня…
Она видела, как это делают в кино, и самой захотелось! В кино, конечно, все легко получается. Но я-то был в таком состоянии, что даже муху не смог бы нести!
Я нагнулся; она обхватила меня руками за шею, и я смог оторвать ее от земли. Ноги у меня дрожали, но в остальном я оказался сильнее, чем предполагал.
Я пошел по тропинке. Запах Эммы сводил меня с ума. Тепло ее тела передавалось моему, и мне уже не терпелось добраться до какой-нибудь горизонтальной поверхности, чтобы уронить ее и заново исполнить свой номер под названием «Казанова».
Тропинка проходила за домом и заканчивалась как раз под окном старика. Я заметил посреди темной комнаты его бледное лицо, повернутое к нам. Небось, насмотрелся вволю, паралитик! Но я сам был виноват: нечего было усаживать его после прогулки лицом к окну.
Впрочем, я был почти уверен в его молчании. Не только потому, что он не мог говорить, он вообще производил впечатление человека «тактичного».
По крайней мере, через час, когда я принес ему ужин, он не делал никаких необычных жестов. Разве что взгляд его показался мне чересчур пристальным. Есть он не стал, а когда я уложил его в постель, закрыл глаза, показывая, что больше во мне не нуждается.
Жить под одной крышей с такой женщиной было все равно что сидеть на вулкане. Не знаю, выделял ли ей Бауманн положенный любовный паек, но, между нами говоря, сомневаюсь. В этот день она, так же, как и я, вовсю наверстывала упущенное.
Ночь прошла довольно беспокойно. Эмма завывала, как раненая собака, пронзительным, животным воем, который раздирал мне уши и подогревал кровь.
Когда мы с ней наконец заснули, лежа поперек кровати, я был в таком нокауте, словно целое стадо слонов играло мной в футбол.
* * *
Разбудила меня она.
Я приоткрыл глаза. Комнату слабо освещала желтая лампа на ночном столике. За окном чернела темнота.
Сквозь ресницы я увидел, как Эмма встала и подошла к шкафу. Я вдруг чего-то испугался: совсем как в тот момент, когда Бауманн протянул мне чужое удостоверение личности. Мгновенно насторожившись, я приподнялся на локте:
— Что ты там делаешь?
Она вздрогнула и обернулась:
— Пижаму достаю.
Порывшись на полке, она выбрала сиреневую пижаму без воротника и в два счета надела ее. Потом вернулась к кровати с безмятежной улыбкой на губах.
— Не спится?
— Спится, да ведь ты разбудила.
— У тебя такой чуткий сон?
— Это у всех, кто сидел: один шорох — и ты сразу готов…
— К чему готов? — спросила она.
— Да ко всему!
— Тебя послушать — так ты прямо старый каторжник, висельник со стажем…
До чего же она была хороша в этой сиреневой пижаме, при свете желтой лампы… Как в кино!
Она села рядом со мной и взяла мою голову в ладони. Впервые ее глаза смотрели на меня без презрения. В них было что-то вроде любви, нежной и печальной. Любовь счастливой самки, слегка окрашенная тревогой…
— Ты красивый, — сказала она так тихо, что я скорее угадал, чем услышал ее слова.
Когда женщина делает вам подобный комплимент, вы, как правило, не знаете, что ответить. А молчать тоже неловко… В общем, чувствуешь себя черт знает как.
И я произнес самые глупые слова в мире. Но такие уж они, эти слова: когда просятся, хоть рот пластырем заклеивай, выскочат все равно…
— Я тебя люблю!
А после этого уже заводишься, как мотор; начинаешь упиваться собственной болтовней и выплескиваешь наружу все сентиментальные бредни, придуманные мужчинами с тех пор, как папаша Адам впервые влез на мамашу Еву.
Мой треп не оставил Эмму равнодушной: все дамочки любят, когда им поют серенады. Каждую мою фразу она встречала страстными поцелуями.
Когда я заглох, исчерпав свое воображение, она обняла меня и стала баюкать.
— Какое счастье, что я тебя встретила, — сказала она.
— А встретила-то пушкой…
— Это я для того, чтобы не давать волю своим слабостям. Знаешь, когда мы повстречались на лестнице, я испытала настоящий шок…
— Мне хотелось, чтобы эта минута длилась бесконечно.
— Эмма…
— Что, любимый?
— Давай смоемся отсюда, пока ОН не приехал?
— Это невозможно.
— Почему?
— Потому что он нас держит.
— Мы можем спрятаться…
— Он умнее нас обоих. Он сразу нас найдет. И потом, куда мы денемся без денег?
— Ты его любишь?
— Не говори глупостей. Разве я похожа на влюбленную женщину? Я хотела сказать — влюбленную в кого-нибудь, кроме тебя?
Действительно, принимая во внимание прошедшие несколько часов, это казалось мне маловероятным.
— А он тебя любит?
— О, здесь другое…
Голос ее звучал жестко. Я высвободился из ее объятий и посмотрел на нее повнимательнее. В ее глазах горел враждебный огонек, и от этого у меня потеплело на душе.
— Что ты называешь «другим», Эмма?
— Я ему нужна! Я слишком многое о нем знаю. А он — обо мне. Мы с ним будто друг у друга в плену, понимаешь?
— А можно узнать, что вас связывает?
— Нет!
Я не стал допытываться. В конце концов, это меня не касалось. В жизни нужно уметь не задавать лишних вопросов. К тому же — зачем мне знать ее прошлое? У каждого из нас оно свое, более или менее гнилое. Такое прошлое — плохой подарок любимому человеку…
Мне от нее нужно было не прошлое, о нет! Настоящее, а особенно — будущее: чтобы не бояться пресытиться настоящим, понимаете?
Мужики — все такие. Ни черта не соображают, ни в чем не знают меры. И всю жизнь бегут за морковкой, висящей на палке перед носом…
— Так ты что, собираешься вечно жить с этим типом?
Она вздохнула. Потом ее глаза вперились в мои.
Я видел только черные точки зрачков, которые маячили в полутьме, все расширяясь и расширяясь.
Медленно, разделяя слова и не сводя с меня глаз, она проговорила:
— Нет, не вечно. Никто не вечен, любимый. Никто. Даже ОН!
VII
Когда за окном забрезжил рассвет, все было решено… Мы придумали доморощенный план убийства Бауманна.
Я выдаю вам это вот так, сразу, и вы, наверное, скажете себе: «Да, эти времени зря не теряют!» А между тем все у нас решилось в разговоре само собой, и ни один, ни другой не выглядел организатором или руководителем.
Даже теперь, вспоминая ту ночь, я затрудняюсь сказать, кто из нас первым выразил мысль о том, что с Бауманном мог бы произойти несчастный случай. Погодите, что это я… Сама мысль, разумеется, принадлежала ЕЙ. Но вот мысль о том, что можно было бы воплотить ту, первую мысль… Пожалуй, она пришла к нам двоим одновременно. Ведь если спросить у двух прилежных первоклашек, сколько будет два плюс два, они вместе ответят «четыре», верно?
И мы ответили «четыре» на тот незаданный вопрос, который тяжелым грузом висел под потолком спальни.
И в наших головах слово «четыре» тоже писалось шестью буквами, только другими. Получалось — «смерть».
Мы продолжали толковать в этаких неопределенных выражениях и вдруг заметили, что говорим о Бауманне так, словно его уже не существует. Мы забили его насмерть глаголами в прошедшем времени, понимаете? Смешно, правда?
Когда мы это осознали, то некоторое время сидели с открытыми ртами, уставившись друг на друга, — однако!..
— Эмма?
— Да?
— Если бы ты вдруг осталась одна…
— Но ты ведь знаешь, что…
— Погоди, ты вот сказала, что никто не вечен. Ты не замечала, что мужчины обычно умирают первыми?
Помню, как в ее серо-голубых глазах забегали крохотные золотые искорки — как от тех зеркальных шаров, что висят в дискотеках.
Этот взгляд волновал меня сильнее, чем можно вообразить.
— Ну и что? — пролепетала она.
Поскольку здесь мы вступали на чертовски скользкую тропу, она спрятала голову у меня на плече. Разрешившись от бремени ее взгляда, я вновь обрел ясность ума, почувствовал себя сильнее, спокойнее. Любое дело казалось мне парой пустяков.
— Значит, говоришь, держит тебя этот тип? Тиранит? Так вот, меня он тоже держит. Но нельзя же вечно жить под угрозой…
— Вечно… — повторила она.
Голос ее звучал глуховато — из-за того, что лицо уткнулось мне в шею. Он словно доносился из темницы, близкий и одновременно далекий.
— Я знаю, что это слово тебя коробит. Но послушай, я ведь никогда не занимался мокрыми делами, я не убийца, а всего-навсего мелкий незаметный жулик… Видишь, я с тобой откровенен.
Я сделал паузу, ожидая, когда заговорит она. Но она хранила молчание. Наступила тишина, но не то чтобы полная: мои слова все еще звучали в ней, как звучит рояльный аккорд, когда держишь ногу на правой педали.
— Но зато, Эмма, я усвоил систему.
— Систему?
— Да, систему жизни. Жизнь принадлежит тем, кто умеет ею завладеть, А чтобы покрепче ухватить жизнь, нужно уметь распоряжаться смертью…
— Ты хорошо говоришь…
— Говорю, как умею.
— Значит, хорошо умеешь.
— Спасибо. Скажи-ка…
— Что?
— Что было бы, если бы ты вдруг стала свободной, если бы Бауманн вдруг отдал концы?
— Я взяла бы все деньги, которые мне причитаются — а причитается мне немало! И мы бы с тобой уехали.
— Куда же?
— Сначала — в Италию… А оттуда — в Южную Америку. Я так давно хочу прокатиться на лошади — и не в манеже Булонского леса, а по-настоящему!
Странно, что она заговорила именно об Америке. Я как раз тоже думал о ней. И тоже, конечно, не о Северной, а о той, где лепечут по-испански, где ночью танцуют самбу, а днем жарит солнце. Чего-чего, а солнца там больше, чем нужно! В нем купаются, им объедаются, напиваются допьяна…
Я воображал Эмму в костюме амазонки, скачущей на вороном жеребце мимо гигантских кактусов, как мистер Гэри Купер в ковбойских фильмах…
Это была радужная перспектива — особенно если бы в этой картинке нашлось место и для меня!
— Знаешь, Эмма, ради такого я, пожалуй, могу пойти на большое дело…
— Что ты называешь большим делом?
— Сама знаешь…
Да, она знала. Она не стала развивать эту тему.
— Ну… а потом?
Вот так, слово за слово, мы и состряпали сценарий, от которого пришел бы в восторг сам папаша Хичкок.
В каком-то смысле план был прост. Каждую неделю Бауманн ездил по делам в Руан. Эмма не уточнила, что у него там за дела. Хотя она и решилась на крайнюю меру, но все же обходила деятельность своего друга молчанием. Это мне даже нравилось: это доказывало, что Эмма — женщина серьезная и умеет держать язык за зубами даже в самых нестандартных ситуациях.
— Только тебе придется съездить для этого в Руан…
Я скорчил гримасу. Поездка меня не слишком воодушевляла: она была связана со слишком невеселыми воспоминаниями.
— Я знаю, — сказала она прежде, чем я издал хотя бы звук, — что ты сбежал именно оттуда. Но в том-то и дело: там тебя не ищут! И вообще, не в обиду тебе будь сказано: такая добыча, как ты, полицию не очень-то интересует.
— Я и не обижаюсь…
Черт возьми, я и сам знал, что я не бог весть какая знаменитость. И не ставил себя выше обычного пригородного хулигана… Только меня заедало то, что она об этом напоминает.
— Ну, продолжай, мне интересно!
— В Руане он живет на Почтовой площади, в отеле.
— Знаю такой.
— А театр «Лира» знаешь?
— Это который на острове?
— Он самый. Возле театра — контора речного пароходства. В нее он и ездит. Ужинает он в Театральном кафе. Выходит оттуда около полуночи. Он любит ходить пешком и в Руане машиной не пользуется. Так что в отель возвращается на своих двоих. Представляешь примерно расстояние?
Я представлял не только расстояние, но и весь маршрут. Я помнил эти темные набережные, эти улицы, покрытые тонким слоем угольной пыли, мрачные подъемные краны над Сеной… Это место идеально подходило для того, чтобы «замочить» ночного прохожего.
— Он идет один?
— Конечно. Теперь дальше: есть поезд, который отправляется из Парижа в семь часов и прибывает в Руан около девяти. Есть другой — из Гавра, который проходит через Руан в половине второго. Может, тебе даже удастся вернуться сюда до рассвета…
Ее поведение заметно изменилось. Теперь Эмма напоминала чуть ли не бухгалтера, заполняющего расчетную книгу. Она говорила конкретно и о конкретных вещах.
— А дальше?
— Дальше — ничего: у тебя будет прочное алиби. Робби мы подсыплем снотворного; он даже не заметит твоего отсутствия. Мы с ним засвидетельствуем, что ты не выходил из дома, если нам вообще придется свидетельствовать. Хотя вряд ли, потому что уб… ну, это дело припишут, скорее всего, какому-нибудь бродяге.
Я кивнул, но тут же засомневался:
— Однако следователи непременно нагрянут сюда…
— Непременно.
— Они же меня узнают!
— Не говори глупостей: у тебя ведь новые документы! Честное слово, ты себя воображаешь прямо государственным преступником… Неужели ты думаешь, что полицейские, которые не имеют ничего общего с теми жандармами и вообще впервые тебя видят, проведут какую-то связь между сбежавшим из тюрьмы воришкой и честным шофером благовоспитанного семейства?
Она была права, и я больше не возражал.
— В тот вечер за стариком буду ухаживать я. Поскольку его комната внизу, я смогу засвидетельствовать, что из дома никто не выходил.
— Браво…
Она не упускала ни одной мелочи.
Я приподнял ее подбородок и с любопытством посмотрел на нее.
— Слушай, Эмма, ты все это придумываешь на ходу или уже давно заготовила?
Она пожала плечами:
— Кто знает, какова доля мечты в реальности?
Мне пришлось довольствоваться этим двусмысленным ответом.
Теперь мне оставалось только разработать свою собственную программу: наиболее опасную часть «операции». Правда, сама мысль о том, что мне предстоит укокошить человека, меня не пугала. Я относился к ней спокойно. Хотя, когда я выбрал жизнь вне закона, то поклялся себе ни за что не проливать кровь и не носить оружия, чтобы даже искушения не появлялось. Но вот все мои добрые намерения рухнули. За один час я превратился в одного из тех, кого учёные мужи называют «потенциальным убийцей».
Я отчетливо представлял себе ночь моего будущего преступления. Воображал, как слежу за Бауманном через окно кафе, как отхожу в сторону, когда он открывает дверь на улицу, как крадусь за ним, подыскивая подходящее место, и там…
Стрелять в него из пистолета было бы слишком рискованно. Душить — еще хуже: я подозревал, что он покрепче меня. Оставалось одно: пырнуть ножом, по примеру подзаборной шпаны.
Это меня тоже не слишком привлекало. Однако лучшего способа я не видел — разве что разбить ему башку куском водопроводной трубы.
Но в таких случаях никогда не знаешь, удачно попал или нет. И если вдруг пришлось бы спешить, я мог не закончить работу.
— Когда он едет в Руан?
— Во вторник.
Значит, у меня оставалось еще шесть дней на то, чтобы решиться и все подготовить.
Эмма подняла одну штанину пижамы, улеглась на меня и слегка прикусила мне губы. Ее тепло, ее запах заставили меня забыть обо всех наших черных замыслах.
VIII
Бауманн и Робби вернулись на следующий день. Не знаю, обратили ли они внимание на мою осунувшуюся рожу; мне-то, по крайней мере, казалось, будто на ней можно прочесть все, что я вытворял в последние несколько часов.
Чудно мне как-то стало, когда я опять увидел Бауманна. Я смотрел на него уже другими глазами. Моя оптика заметно сместилась. Теперь это был уже не тот загадочный сеньор, что вытащил
меня из лужи и держал в кулачище, а просто жалкий человечишка, которого я очень скоро разберу на запчасти. От этих мыслей у меня даже руки подергивались. Мне было немного жаль его, как бывает жаль неудачников и проигравших. Я косился на его шею и думал о том, как воткну в нее хорошенько отточенное перо.
Я не боялся. Одна мысль о том, что этот тип дрыхнет под боком у Эммы, приводила меня в ледяное бешенство. Здорово, что он подохнет, думал я. А особенно здорово, что я сам отправлю его в страну вечного мрака!
Прошло несколько дней. Эмма вновь принялась за чтение. Я ухаживал за стариком, Робби готовил еду, Бауманн уезжал утром и возвращался вечером…
Домище по-прежнему дышал ленивым спокойствием, и лето поливало нас таким солнцем, от которого загорела бы и таблетка аспирина. Кожа Эммы сделалась золотисто-коричневой, как мед. Я очень хорошо представлял ее себе в Южной Америке. Если все пройдет гладко, уж там мы отдохнем!
Вот только сначала мне предстояло сотворить
эту самую вещь.
Теперь мы с Эммой оставались наедине очень ненадолго: нам выпадали лишь те полчаса, которые уходили у Робби на покупки. Я пытался взять ее, но она отказывалась.
— Нет, милый, я не хочу так, наспех, это нас недостойно…
Так что чаще всего мы беседовали. Догадываетесь, о чем?
— …Тебе лучше надеть шляпу и очки. Прием, конечно, мальчишеский, но действует хорошо. Лучший способ изменить внешность.
— А где я все это возьму?
— Я нашла на чердаке старую фетровую шляпу; думаю, она тебе подойдет. Что касается очков, я видела две пары в чемодане у старика. Вот одни и возьмешь…
— Но я же стану слепым, когда их нацеплю… Зрение-то у меня нормальное!
— Надевай только на людях: например, на вокзале, когда будешь брать билет…
— Ну ладно…
— А для… для остального у тебя все есть?
«Все» для «остального» у меня было уже на второй день. Да еще какое «все»! Остроконечный кухонный нож с длинным полустертым лезвием плюс найденный в сарае кусок водопроводной трубы… В минуты бессонницы я оттачивал ножичек, и он уже резал бумагу на лету.
Наконец наступил вторник. Я чуть не лопнул от нетерпения, пока его дожидался. Проснувшись утром, я почувствовал, что наступает решающий момент моего существования. Однако был на удивление спокоен — как некоторые боксеры в день финального поединка.
Я выполнил свои обычные обязанности: поднял старика с постели и побрил. С того самого дня он сделался совсем деревянным, и это меня немного огорчало. Если его начнут допрашивать сыщики, он, чего доброго, настучит им про то, что я делал в саду с хозяйкой, и полицейские мигом смекнут, что вдовой она стала не случайно…
Я спросил у Эммы:
— Скажи мне по секрету, кто такой этот старик?
— Его сын работал с Бауманном. Сын умер, и мы стали заботиться об отце, который, в общем-то, любил моего мужа.
— Почему «любил»? Уже разлюбил, что ли?
— Думаю, нет… С чего бы ему?.. Ведь мы к нему очень хорошо относимся.
— Может, дед подписал какую-нибудь бумагу насчет своего наследства, прежде чем прикатил сюда? А?
Она улыбнулась.
— Ты действительно неплохо соображаешь.
— Значит, я угадал? Вот оно что! Бауманн уговорил деда составить завещание в его пользу, а потом забрал к себе, чтобы тот не передумал? Верно?
— Почти.
— Да, похоже, твой Бауманн — большой затейник.
— Давай не будем сейчас о нем говорить.
— А когда же еще, если не сейчас?
Она поняла намек и отвела глаза. Мы с ней сидели в столовой и только что увидели из окна, как в ворота входит нагруженный продуктами Робби.
— Ты не забыла насчет снотворного?
— Не забыла. Я попросила его купить бутылку мартини; он его любит. Мой тебе совет: не вздумай пить из этой бутылки.
— Понял.
Потом мы с ней расстались почти на весь день. Но вечером, часов в пять, она позвала меня.
Робби спал без задних ног в своей комнате и так храпел, что казалось — мы попали в аэропорт Бурже в день праздника воздухоплавания.
— …Так: вот тебе шляпа и очки. Деньги у тебя есть?
— Нет…
— Держи. Здесь двадцать тысяч франков. Выходи пораньше, потому что в этом квартале тебе лучше не садиться в такси или на автобус. Дойдешь лесом до метро «Майо» — тебе полезно размять ноги. Ночью, на обратном пути, сменишь два-три такси и выйдешь на площади де ля Рен.
— Ясно.
— Старайся по возможности прятать лицо, но не превращайся в сыщика из любительского спектакля.
— Ты меня за идиота принимаешь?
— Нет, что ты!
Она подставила мне губы, и я влепил ей самый удачный в моей жизни поцелуй.
— Но старик-то ведь почувствует, что меня в доме нет, — сказал я.
— Нет: я буду с тобой разговаривать, как будто ты здесь, — ответила она. — Этот вопрос я уже обдумала.
Она обдумала заодно и все остальные. У этой киски были удивительные организаторские способности. С ней можно было не тратить время на бесплодные размышления: она думала за двоих! О таких в семье обычно говорят: «Золотая голова!»
Я хорошенько вдохнул добрый запах лета — и отправился на встречу с судьбой.
На такое свидание всегда ходят в одиночку.
IX
Я слово в слово выполнил предписания Эммы: то есть долгое время шел пешком, прежде чем сесть на метро.
С наступлением ночи квартал опустел, и никто не видел, как я выходил из дома. Я прошагал по мосту Сен-Клу и выбрался через лес к станции «Майо».
Свобода будоражила меня. Я испытывал что-то вроде головокружения, поскольку давно уже не оказывался предоставленным самому себе. В какой-то момент, проходя по тихой лесной аллее, я даже подумал: а не изменить ли мне программу? Ничто ведь не мешало поехать вместо вокзала Сен-Лазар на Лионский и на первом попавшемся пыхтуне махнуть в Ниццу. Там у меня имелся дружок — владелец бара; он запросто помог бы мне пересечь итальянскую границу. Я довольно живо представлял себя у мандолинщиков-макаронников. Я поехал бы в Неаполь, ведь это один из тех городов земли, где, похоже, никогда не пропадешь. План выглядел отлично, да и выполнить его было нетрудно: ведь я еще не успел превратиться в грозу и бич полицейского мира.
Одним словом, глупо было заигрывать с гильотиной ради какой-то бабы. Ведь ничто не доказывало, что все пройдет так гладко, как говорила Эмма. Многие парни покруче меня погорели на таких делах, сыграв однажды в рулетку со смертью.
Я знал, что если меня сцапают, то без малейших сомнений установят факт предумышленного убийства и мигом отхватят башку. Для моего возраста перспектива представлялась не слишком воодушевляющей…
Да, на минуту мне захотелось все похерить и смыться куда-нибудь подальше, пустив в ход мое липовое удостоверение и две бумажки по десять тысяч, выданные мне на расходы. А поднатужившись, я даже мог оказаться на следующий вечер в Генуе.
Да вот только не влекла меня такая нехитрая авантюра. И еще: слишком уж я желал Эмму. Даже не желал, а нуждался в ней! Эта потребность будто сдирала с меня шкуру громадным безжалостным рубанком… Мне нужно, нужно было снова соединиться с ней, сжать ее в объятиях, до отвала надышаться ее нежным запахом — запахом влюбленной самки… Я весь дрожал, вспоминая ее жаркие губы, точеные ноги, длинные умелые пальцы…
Я дрожал, вспоминая странный взгляд ее серо-голубых глаз, которые заставляли меня моргать, как от света яркой лампы. Я дрожал, припоминая ее теплый, низкий, выразительный голос. Ради такой женщины стоило поставить на карту все без остатка. Если нет, то зачем тогда вообще жить?
Во-первых, она могла подарить нам обоим свободу, а во-вторых, на такое дело стоило замахнуться ради нее самой. Жизнь превращается в дерьмо, когда не можешь определить, в чем ее смысл. Для меня этим смыслом сделалась Эмма: лучшего себе применения я придумать не мог.
Ворочая в голове эти довольно беспорядочные мысли, я незаметно дотопал до станции метро — и будто захмелел, оказавшись среди неоновых огней и городской суматохи.
Я зашел в самое большое кафе на левой стороне проспекта (если стоять лицом к площади Этуаль): не смог удержаться, да и времени еще хватало. И заказал пива. Кстати, с пивом у меня сложилась дурацкая ситуация: в тюрьме я по нему смертельно соскучился, но, поселившись у Бауманна, ни разу не попросил Робби купить мне пивка, потому что бутылочное всегда казалось мне каким-то ненастоящим.
— Кружку разливного! — крикнул я и стал с умилением смотреть, как бармен с закатанными рукавами берет чистую стеклянную кружку и держит ее под никелированным краном, потом сгоняет деревянной лопаточкой лишнюю пену… Эх, красота! Все вокруг было потрясающе красивым и немного нереальным — будто я впервые вышел на улицу после долгой болезни.
Дальше я повел себя совсем уж как пацан. Знаете, что сделал? Опустил монетку в разноцветный музыкальный ящик — просто так, даже не выбирая мелодии.
Из стопки пластинок вылезла одна и легла на «вертушку». На все кафе загремела проворная, резкая, медная музыка. Какая-то испанская вещь в стиле «коррида». Она сразу швырнула меня в Южную Америку. Знаете, как легко, послушно подчиняются человеку его мысли… Один незаметный прыжок — и готово: я уже скачу среди кактусов по выжженной солнцем прерии… Вслед за Эммой, разумеется. Я вижу, как она подпрыгивает передо мной в седле… Мы с ней находим прохладную рощу — как в кино. Привязываем лошадей — и сжимаем друг друга в объятиях среди сухой порыжевшей травы. Я отчетливо слышал, как она шуршит под нашими разгоряченными телами…
Я так размечтался, что даже перестал слушать музыку и ушел, не дожидаясь конца пластинки.
Терпкий, бедный запах метро… Вот и Сен-Лазар.
Я надвинул шляпу на глаза и попросил билет до Руана и обратно. Толстяк, который торговал километрами, на меня даже не посмотрел, Для него я был лишь рукой, протягивающей деньги в обмен на маленький картонный прямоугольник.
До отправления оставалось еще двадцать минут. Я купил газеты — целую кипу газет. Детективы мне дотого осточертели, что еще немного — и полезли бы обратно из глаз…
Я выбрал каморку в самой башке поезда, в первом вагоне: там обычно поменьше народу. Потом поправил очки и открыл дверь. В купе никого не было.
* * *
Из Парижа выехали потихоньку, потом поезд пошел скакать по полям. Странно: в столице стояла черная ночь, а в деревне еще трепыхались обрывки дня. Вдоль горизонта тянулись волнистые багряные полоски.
Глядя на этот грустный и недобрый закат, я задремал. Но не то чтобы заснул, а скорее погрузился в зыбкое оцепенение, которое позволяло думать, но не давало навести порядок в цепочке образов, проходивших через мозг. И ко мне все время настойчиво возвращалась одна и та же мысль: смерть Бауманна. Впервые в жизни мне предстояло уничтожить человека. Но, признаться, я испытывал скорее любопытство, чем страх.
В Руане шел дождь. Я прекрасно знал город, поскольку прожил там до ареста целый год. Я знал, что вокзал довольно далеко от того места, где мне предстояло ждать свою жертву. В автобус или в такси не сядешь: опасно. Ведь я в городе… убийства, в городе, где будет проводиться расследование. И полицейские обязательно поинтересуются, кто что делал на вокзале и в его окрестностях.
Выйдя из поезда, я затесался в толпу пассажиров, а на улице сразу зашел в тень и, наклонив голову, поспешил в направлении «Лиры».
Добирался с полчаса, а когда дошел, уже замерз и шмыгал носом: ночь выдалась жутко холодная.
Я подошел к Театральному кафе. Что-то шептало мне, что Бауманна там нет. А может быть, это лишь говорила во мне тайная надежда?
В левом кармане у меня лежал завернутый в тряпку кухонный нож, в правом — кусок водопроводной трубы. Он оттягивал плащ, мешая идти, и я придерживал его рукой.
Бауманна я увидел сразу. Он сидел за столом с каким-то лысым толстяком и вульгарного вида брюнеткой. Что ж, Эмма и тут не ошиблась. Все шло в таком соответствии с ее планами, что мне казалось — она управляет из своего Дома группой марионеток! Я чувствовал, что она мысленно со мной, что она руководит всеми моими действиями, Угадывает мои колебания, подсказывает, как поступить…
Я похолодел от жестокой реальности: Бауманн здесь. Меня даже начало подташнивать. Он здесь, и я здесь, и его надо убивать, и карманы мои набиты предметами, предназначенными для его уничтожения.
Лишь бы женщина не осталась с ним… Действительно, вдруг он решит зацапать на ночь эту сиську? Ничего удивительного в этом не будет: я знал многих мужиков, которые изменяли очаровательной жене с какой-нибудь противной коровой.
И еще одно мне не нравилось: дождь. Мне и без того несладко было мокнуть на тротуаре… а если Бауманн вздумает вызвать такси? Тогда все пропало. Останется только возвратиться «at home»[451] несолоно хлебавши.
Я спрятался в закоулке у подъезда, надвинув на лоб шляпу и подняв воротник. Прошли минуты, часы… Время тянулось бесконечно. Холод карабкался по ногам и обдавал тело ледяной волной. Мало-помалу я стал бесчувственным: ничего уже не ощущал, почти ни о чем не думал и временами лишь спрашивал себя, что я тут делаю.
Дождь прекратился: его унес едкий ветер, который приперся с берегов Сены. Это подстегнуло меня. Под моей шкурой снова закопошилась жизнь. И Бауманн, конечно же, вышел. А с ним вышла и парочка. Они принялись что-то обсуждать, но со своего места я ничего разобрать не мог. На мгновение я испугался, что они уйдут вместе, однако по их разборам я понял, что Бауманн свалит один, как и вещала его женушка.
Действительно, вскоре все они пожали друг другу лапы. Лысый толстяк и брюнетка вошли в соседний дом, где, видно, и жили.
Бауманн поднял воротник своего «габардина» и двинулся к мосту.
Я вылез из своего угла, ожидая, что мои руки и ноги вот-вот заскрипят, как ржавые дверные петли.
По дороге сюда я успел подробно изучить местность; наиболее удачным для… работы местом мне показался район театра. Дальше начинались сплошные заводы, и на протяжении нескольких сотен метров улица представляла собой сплошное открытое пространство.
Бауманн шел размеренным шагом по середине проезжей части.
Я посмотрел назад: никого. Вперед: никого! Это была редкая удача, потому что до самого моста дорогу не пересекала ни одна боковая улица. Меня могла застичь врасплох только машина, едущая на хорошей скорости.
Я крепче сжал в руке трубу, наполовину вытащил ее из кармана и пошел быстрее, надеясь, что ветер заглушит мои шаги.
Бауманн обернулся в тот момент, когда я уже почти поравнялся с ним. Он посмотрел на меня, будто не узнавая. При лунном свете я увидел его блестящие проницательные глаза, в которых читались любопытство и огромная подозрительность.
И все-таки существует на свете Его Величество Случай. Хотите — верьте, хотите — нет, но в тот момент, когда я уже собрался было с ним заговорить, Бауманн уронил одну из перчаток, которые нес в руке, и машинально нагнулся за ней. С быстротой молнии я выхватил из кармана свою железную дубинку и изо всех сил ударил его по затылку. Он упал головой вперед и остался лежать, навалившись на свои руки. После падения он ни разу не вздрогнул, даже не шевельнулся…
Я инстинктивно осмотрелся. Вокруг было совершенно тихо. Ветер гнал по небу черные тучи, и луна будто перепрыгивала с одной на другую. Меня окружало огромное черное безмолвие, как нельзя лучше подходившее для убийства.
Я наклонился и пощупал грудь Бауманна — спокойно, почти как доктор. Все в нем замерло и затихло. Сердце больше не дергалось. Он был мертв. Я напрочь убил его одним ударом трубы. Правда, в этот удар я вложил всю свою силу…
Я посмотрел на распростертое у моих ног тело. Оно лежало параллельно траншее, вырытой для канализационных труб. Траншея была огорожена веревкой; через каждые десять метров висел красный фонарь, предупреждавший пешеходов об опасности.
Я приподнял Бауманна. Он оказался довольно тяжелым. Я опрокинул его в траншею, затем погасил в том месте фонарь. Если повезет, может сойти за несчастный случай. И подтверждением этой версии послужит потухшая лампа.
Перчатку я оставил на дороге; она хорошо вписывалась в пейзаж. Потом медленными шагами направился к мосту.
Все прошло великолепно: даже лучше, чем я представлял себе в самые оптимистические минуты.
По мосту время от времени проезжали машины; озябшие прохожие спешили укрыться от ветра.
Они и не подозревали, что я — убийца.
Собственно, мне тоже нелегко было это осознать. Я чувствовал себя так же, как и всегда. Мой поступок ничего во мне не изменил. Хотя нет: он даже принес мне какое-то ощущение уверенности.
Я выбросил кусок трубы в Сену и поспешил на вокзал.
X
Эмма говорила: «Когда вернешься, не поднимай шума и сразу иди в свою комнату. Только туфли сними, чтобы старик не услышал: он так чутко спит! Двери я оставлю открытыми».
— А как же я тебе сообщу, хорошо все прошло или нет? — спросил я тогда.
— Да что там сообщать: все пройдет хорошо. Без проблем…
«Без проблем!» Ее любимая фраза, которой она заканчивала каждый разговор. Я повторял ее про себя, толкая приоткрытые ворота и шагая по нестриженому газону, чтобы не щелкали каблуки.
Все прошло хорошо, без вопросов.
Даже слишком хорошо!
Как описать то, что я чувствовал? Я все вспоминал, как разворачивались события этой ночи. Кое-что вызывало у меня запоздалый испуг: я справился с делом без малейшего риска, без единой накладки. В купе ехал и туда, и обратно совершенно один, и знал, что меня никто,
никто не видел. Эти несколько часов, проведенные вне дома, остались за чертой моей жизни. Эти несколько часов были известны только мне, другие о них никогда не узнают. У меня складывалось впечатление — причем довольно тягостное, — что я призрак, который ходил убивать и с наступлением рассвета постепенно забывает о своих ночных делах.
Войдя в дом, я тихонько затворил за собой дверь и, как ни оттопыривал уши, ничего не услышал. В доме, похоже, все давали храпака. Или притворялись, что, в сущности, ничего не меняло.
Глотку мне сжимало тревожное чувство. Я чуть не позвал Эмму, несмотря на ее суровый запрет, но сделал над собой усилие и сдержался. Я снял башмаки и украдкой, как не ночевавший дома школьник, вскарабкался по лестнице в свою клетушку.
На ночном столике стояла роза в хрустальном бокале и бутылка белого пунша. Эмма знала, что я люблю розы и уважаю пунш. Эти знаки внимания взволновали меня, и мои черные мысли сразу как ветром сдуло. Я был счастлив, что выполнил свое поганое дело. Смерть Бауманна стала ощутимой реальностью. Теперь, когда он загнулся, нам с Эммой предстояло получить с виду незаметное, но чертовски богатое наследство: мы с ней унаследовали Будущее!
Впереди было несколько дней рискованной игры. Ничего: мы с ней будем держаться вместе и закончим партию в нашу пользу. И настанет час большого путешествия к далеким берегам, где солнце лупит, как бешеное, и радость играет в воздухе, как флаг…
Я схватил бутылку за горло и поднес ко рту. Экзотический, сладковатый и крепкий напиток наполнил голову горячим туманом. Я выпил еще, Зелье было вкусное, легко глоталось и делало меня все сильнее и сильнее.
Я высосал не меньше половины пузыря. Потом быстренько разоблачился и тут чуть ли не глазами увидел, до чего устал. Я прошел километры и километры…
Едва дотащившись до кровати, я уснул.
* * *
Слева от ворот висел колокольчик. Старый заржавленный колокольчик, которым никто в доме не пользовался. Бауманн просто сигналил, когда подъезжал к дому, а Робби, отправляясь за покупками, брал с собой ключ.
Поэтому я долго соображал, что это там трезвонит, пока, наконец, не понял: колокольчик. Я слышал сквозь сон эти надтреснутые звуки, и мне даже мельком приснилась какая-то ерунда насчет громкого шума…
Я вскочил. Мое окно выходило на лужайку перед домом. Я посмотрел на ворота и увидел под ними ноги. Колокольчик продолжал плясать на своем шнурке.
Я сразу задался вопросом, давно ли звонят. И ответил себе утвердительно, ибо теперь, пробудившись, припомнил, что слышал звон уже несколько раз.
«Чего это Робби не идет открывать? — подумал я. — Обязанность, в конце концов, это его, а не моя!» Вдруг я слегка струсил: что если Эмма переборщила со снотворным и парень отъехал надолго? Или даже погрузился в блаженную кому? Тогда будет полный букет…
Я подождал еще немного, надеясь, что откроет Эмма.
Колокольчик зазвонил снова. Голос у него был громкий и ржавый. Он создавал мрачное ощущение пустоты. Я почувствовал: в доме происходит нечто необъяснимое. Я живо запрыгнул в штаны, нацепил туфли и выскочил на лестницу.
— Эмма! — крикнул я.
Она не отвечала. Тогда я выбежал из дома и поспешил к воротам.
Когда я открывал, у меня бешено стучало сердце. Затем я одним взглядом охватил всю сцену. Я увидел черную машину и за рулем — мужика в плаще. Перед воротами стояли два других типа. У них не надо было спрашивать документы, чтобы сообразить: это легавые. Рожи у них были хмурые, с ледяными глазами, поджатыми губами… Рожи — да еще эта, так сказать, гражданская форма, которая сигнализирует пугливым обывателям, что перед ними ребята из конторы-забирайки: широкий костюм, пуловер, клетчатый галстук, бежевый плащ…
Вид у полицейских был рассерженный.
— Что-то вы не торопитесь! — бросил мне один.
— Я спал.
— В такое время?
Я совершенно не представлял себе, который час.
— А который час?
Этот жалкий вопрос их, похоже, удивил.
— Почти полдень.
В животе у меня пищало от голода. Полдень — а Эмма и Робби еще не вставали! Странно: им ведь нужно было заниматься стариком.
— Вы кто такой? — спросил полицейский постарше.
— Шофер мсье Бауманна.
— Мадам Бауманн дома?
— Наверное…
— То есть как — наверное? Вы не знаете?
— Ну… Я ведь только что проснулся…
Второй легавый сделал шаг вперед. Он показался мне сволочнее первого.
— Здорово живут, — процедил он. — Шоферы у них до полудня спят…
Первый не терял времени зря:
— Если вы в такое время спали, то, вероятно, поздно легли?
В голове у меня раздался сигнал тревоги.
— Понимаете, у нас в доме инвалид… Он требует постоянного ухода… Мы по очереди дежурим у его кровати.
Они не стали настаивать.
— Так можно поговорить с госпожой Бауманн?
Я любезно улыбнулся:
— А кто ее спрашивает? Я должен доложить…
— Полиция…
Мне нужно было разыграть удивление. Ищейки сразу навострили бы уши, видя, что я угадал их благородную профессию по их рожам.
— Полиция? А что случилось?
— Это мы скажем хозяйке.
Мы зашагали к дому, а их шофер вылез из машины и подошел к забору справить малую нужду.
Честно говоря, я чувствовал себя прескверно. Я, конечно, подозревал, что легаши заявились по поводу ночного «несчастного случая». Но их визит проходил не так, как я ожидал. Они, похоже, были настроены враждебно. Может, потому, что так долго простояли у ворот?
Мы вошли в холл. Я крикнул:
— Мадам Бауманн! Мадам Бауманн!
Но ответа не последовало. Тут я, по правде говоря, перепугался. Это выразилось в замираниях сердца и великом холоде, который пополз по рукам и ногам.
— Подождите, — сказал я, — сейчас посмотрю…
Я бегом влетел по лестнице в спальню Эммы. Комната пуста, кровать аккуратно застелена. Ясно — она тут не спала. Я, как безумный, помчался в комнату Робби: тоже пусто. Тут на меня сразу свалилась целая охапка загадок. Куда он делся, этот козел?! Я все больше на него злился. Его отсутствие бесило меня сильнее, чем пропажа Эммы.
Что означало это двойное исчезновение? Может быть, случилось что-то непредвиденное, что-то…
Я спустился на первый этаж. Оба фараона ждали меня у лестницы, подняв головы и нахмурив брови. Они тоже чувствовали, что происходит неладное.
— Ну, что? — спросил вредный инспектор острым, как бритва, голосом.
Я пожал плечами:
— Ничего не понимаю… Хозяйка, видно, ушла…
— Ах вот как?
— Да, похоже…
— А когда вернется? — спросил старший.
— Не знаю. Но она надолго не уходит. Наверное, вот-вот появится. Подождете?
— Подождем, а, Мартен?
Вредный Мартен хмыкнул:
— Можно…
— А у вас к ней что, срочное дело? — спросил я.
— Пожалуй, срочное: муж ее погиб.
Мне опять пришлось изображать потрясение человека, у которого вмиг рухнули все надежды на будущее. Я старательно побледнел — ни дать ни взять трагик на подмостках. Быть может, даже перегнул палку, как случается с плохими актерами.
— Мсье?! Погиб?! Не может быть…
— Может.
Они краем глаза наблюдали за мной. Но это была лишь профессиональная привычка: лично против меня они вроде бы ничего не имели.
— А как он погиб?
— Мы предполагаем, — Мартен нажал на последнее слово, — что это был несчастный случай.
— На шоссе?
— Нет. Он, похоже, упал в канализационную траншею. Сегодня ночью, в Руане…
— В Руане?
— Ага, из солидарности с Жанной д'Арк, — подтвердил старший, решив одновременно продемонстрировать и эрудицию, и талант к экспромтам.
— Боже мой! Что будет, когда мадам об этом узнает!
Они не ответили.
— Вы тут говорили, — промолвил Мартен, — что у вас в доме инвалид?
— Да, старый друг семьи.
— Может быть, он знает, где хозяйка?
О старике я как-то позабыл, и теперь его присутствие в этом доме свалилось мне на голову, как кирпич.
— Сейчас посмотрим…
— Вот-вот, посмотрите.
Я прошел в глубь холла, открыл дверь комнаты для гостей и остановился на пороге. Несколько секунд смотрел вперед, пытаясь понять. А когда понял — окаменел.
Старик лежал на своей кровати, и его горло было разрезано от уха до уха. Вся комната была забрызгана кровью. На коврике у кровати валялся нож.
Я смотрел на труп, и на меня постепенно наползал ледяной страх.
Тут я почувствовал, что рядом кто-то стоит. Это, привлеченный моим оторопелым видом, к двери подошел вредный Мартен.
Я посмотрел на него. Его глаза были равнодушно-спокойными.
— Эй, Фавар! — крикнул он напарнику. — Ну-ка, взгляни!
XI
Само собой, они меня загребли. И обижаться на них за это не приходится: когда полицейские застают в доме, где лежит труп, одинокого парня, то предлагают ему вовсе не скидку на билет в кабаре. Логично?
Да, вот это было потрясение так потрясение… Я покинул дом в шарабане легавых таким же убитым, как боксер, которого увозят из дворца спорта после нокаута.
Мартен и Фавар не задали мне ни единого вопроса: берегли силы. Дельце намечалось чудненькое, и они опасались сгоряча наломать дров.
Потом все пошло, как в кино, когда быстрая смена кадров обозначает длительный период времени. Для начала они установили, кто я такой, и тут уж им ничто не помешало меня как следует отдубасить. А когда на рукоятке ножа обнаружили мои отпечатки — тут уж начался настоящий мордобой. (Еще бы не обнаружить: ведь я столько раз вертел этот нож в руках… Убийце достаточно было надеть резиновые перчатки).
Да, продумано все было отлично. Эмма и Робби смылись с наступлением вечера. Полиции Эмма продемонстрировала телеграмму с орлеанским штемпелем, срочно вызывающую ее к изголовью тяжело больной матери. (Полицейские решили, что телеграмма липовая, и, отвешивая для бодрости оплеухи, стали вынимать из меня фамилию моего сообщника, который ее отправил). Эмма сообщила, что попросила Робби взять напрокат машину и отвезти ее туда. Полиция нашла их следы. Нашла заправщика, который наливал им бензин. Нашла хозяина кафе в Этампе, который подал им ужин около одиннадцати вечера. Наконец, соседи больной матери наперебой рассказывали, как «дамочка» и ее шофер примчались, словно безумные, около полуночи… А ведь старика прикончили как раз в это время. Следовательно, Робби и его дорогая хозяюшка были тут ни при чем. Оставался только ваш покорный слуга, Капут…
Под моим матрацем нашли принадлежавшие старику документы и ценные бумаги. Все было ясно, и мой адвокат — наспех подысканный молодой парнишка — этого не скрывал. Я погорел и знал, что присяжные единогласно решат отхватить мне кочан.
Этот удар ниже пояса так меня сломил, что я даже не находил в себе силы возненавидеть Эмму. Я испытывал перед этой гадюкой лишь какое-то восхищение. Лучшей подставки и придумать было нельзя. Она убила одним ударом двух зайцев: сперва я отправил на тот свет ее мужа, а теперь на меня повесят и убийство старика.
Никакого алиби я им, конечно, представить не мог. Было время, когда я, понимая, что пропал, решил было выложить основной мотив, чтобы потопить вместе с собой и Эмму… Но удержался. Смерть ее супруга сочли случайной, и мне представлялось невозможным — или, по крайней мере, очень трудным — доказать, что убил его я. Словом, я совершил свое преступление
слишком успешно. К тому же, зная Эмму, я чувствовал, что она предусмотрела и такую возможность и заранее продумала вариант защиты. И наконец, в определенном смысле убийство Бауманна стало бы более серьезным обвинением, чем убийство старика. Ведь в случае с Бауманном моментально выплыл бы преднамеренный характер моих действий, а в случае со стариком меня немного выручал дьявольский план хозяйки. Судите сами: история с телеграммой доказывала, что, по идее, я не должен был остаться в доме наедине со стариком. Следовательно, если я и убил дедушку, то только под влиянием минутной слабости.
Мой адвокат избрал в качестве главного аргумента именно это. Он упирал на мою невменяемость. Он долго распространялся насчет бутылки с пуншем: по его словам, я тогда изрядно набрался. А когда окосел, то почувствовал жажду крови, пошел к деду и перерезал ему глотку. Забрал его бумаги, по-идиотски запрятал их под свой клоповник, а потом взял да и лег спать. По мнению адвоката, тот факт, что я не ушел из дома после преступления, красноречиво свидетельствовал о моей ненормальности.
Это было не бог весть что, но я понимал, что лучшей защиты в такой безвыходной ситуации не найти.
Очная ставка с Эммой ничего не дала. Она пришла во всем черном, величавая в своей безмерной скорби, и смотрела на меня презрительно-свысока: мол, пригрела змею на груди… Честное слово, она и сама верила в свои байки!
Ну, я решил вести себя соответственно: ироничный взгляд, спокойный голос, сдержанные жесты… Моя версия была такова: я оставил Эмму у постели паралитика, поднялся в свою комнату и как следует приложился к бутылке. Потом заснул, и из объятий Морфея меня вынули уже полицейские…
Это объяснение, по крайней мере, позволяло обойтись без лишней болтовни. И я придерживался его, несмотря на пощечины следователей и умелые расспросы судьи.
Только вот мой побег из тюрьмы на всем ставил крест…
Эмма объяснила, что ее муж привез меня в дом под чужой фамилией. Дескать, он встретил меня в баре, и в разговоре я обмолвился, что ищу работу водителя.
Все это была чисто формальная трепня, которая ровным счетом ничего не меняла. Дело разучили и разыграли, как вестерн, где можно с самого начала угадать, что малыш Билли женится на дочке шерифа. А мне выпадало жениться на вдове[452], да только не на той, на которой я собирался!..
Эмма, небось, от души смеялась надо мной. Да уж, устроил я ей манну небесную: монеты сыпались — только фартук подставляй! Наследство мужа, наследство старика… Теперь можно и в Америку! Пампасы принадлежат ей и только ей! Разве что за ее клячей будет гарцевать уже не Капут…
* * *
Мой процесс разворачивался как во сне, и я следил за ним достаточно спокойно. Я знал, что после его окончания на меня натянут холщовую робу, повесят на руки цепи, и я стану живой куклой в квартале приговоренных к смерти…
Со своей скамьи я наблюдал за различными этапами церемонии. Показания полицейских, жандармов, от которых я убежал… Показания свидетелей, начиная с Эммы, чьему горю прокурор «искренне сочувствовал». Показания Робби…
Прокурор говорил четыре часа подряд, выставляя меня в самом что ни на есть неприглядном виде. Он требовал моей башки, засучив рукава и закусив удила. Казалось, он питается головами преступников и как раз здорово проголодался.
Потом настал черед моего адвоката. Волновался малыш — ой-ой-ой! Ведь мы с ним как-никак в первый раз выступали перед присяжными в паре. Он тоже часа три пробрызгал слюной на свою любимую тему.
Во время его речи я смотрел на Эмму, сидевшую в первом ряду среди почтеннейшей публики. Она ни разу не подняла на меня глаз.
Она казалась далекой и бесчувственной. Дожидалась финала, чтобы принять последние оставшиеся меры. Ведь это была женщина аккуратная и организованная. Она ничего не предпринимала до окончательного завершения дела.
А дело обещало завершиться в два счета. Судя по тому, как мямлил мой адвокат, мне оставалось совсем недолго. Парень еще надеялся выхлопотать мне пожизненную каторгу в качестве смягчения приговора, но я на это не рассчитывал. Глядя на рожи присяжных, я понимал, что дело швах. Не приглянулся я этим дамам-господам, не в их вкусе был. У них — свои магазинчики, солидные должности, семьи и болячки, которые им компенсирует касса социального обеспечения. Гадов вроде меня они привыкли истреблять, как крыс в своем подвале. Общество ждет от них помощи и защиты…
Я раздумывал над всем этим, пока мой защитничек не перестал балабонить. Тогда наступила полная тишина, и прокурор спросил, хочу ли я что-нибудь сказать в свое оправдание.
Я решил молчать — пускай сами решают, что со мной делать. Я все больше казался себе соломинкой, затерявшейся в бурном водовороте обстоятельств, Но когда я встал, собираясь ответить «нет», мои глаза встретились с глазами Эммы. И то, что я в них увидел, поразило меня. В ее взгляде сквозило страшное беспокойство. Куда и подевалась спокойная уверенность, составлявшая ее главную силу…
Эмма боялась. Я был в этом полностью убежден. И боялась, видно, потому, что имела основания опасаться чего-то с моей стороны. Но чего? Того, что я скажу правду? Нет, это слишком просто. Это она должна была предусмотреть. Она страшилась чего-то другого…
— Отвечайте, — повторил главный паяц. — Желаете ли вы что-нибудь сказать в свое оправдание?
И тут — о чудо! — в зале заседаний зазвучал голос. Голос четкий, спокойный и уверенный.
И принадлежал этот голос мне. Я и узнал-то его не сразу…
Я начал говорить автоматически, не зная точно, куда веду и что хочу пояснить. Честно говоря, я не собирался ничего доказывать. Я взял слово только для того, чтобы встревожить эту бабу, которая смотрела на меня, напрягшись и сжавшись в комок. Чтобы она подрожала, пообливалась холодным потом хотя бы несколько минут. Это был последний и единственный способ как-то ей отомстить.
— Господин прокурор, господа присяжные… Мне нечего сказать в свое оправдание. (Шепот в зале). Потому что мне незачем оправдываться. Оправдываются виновные, а я невиновен. (Новый шепот, переходящий в гул).
Паяц крикнул: «Прошу тишины!» — и, как заведено, пригрозил, что прикажет очистить помещение.
Я сглотнул слюну и посмотрел на Эмму. Она была бледна, и губы, которые она не накрасила, чтобы больше походить на безутешную вдову, казались совершенно бескровными.
— Я знаю: я изрядный подонок, — продолжал я тем же ровным голосом. — Это роковой для меня факт, и я не питаю на свой счет никаких иллюзий. Однако душой и совестью, как у вас принято говорить, я отвергаю предъявленные мне обвинения, поскольку они являются ложными. Ложными от начала и до конца. Господа судьи! Я взял слово, собственно, только для того, чтобы доказать вам, что я умен. Это вовсе не проявление ребяческого самолюбия, хотя умный человек всегда самолюбив. Главное — вы должны понять: я вовсе не то кровожадное животное, каким меня только что выставлял мой адвокат — пусть даже и с благими намерениями… И если вы признаете меня нормальным человеком, то ни на минуту не допустите, что я действовал так, как полагает обвинение. Судите сами, господа: я бежал из тюрьмы, где отбывал срок за кражу. Заметьте, за простую кражу! Мне оставалось сидеть всего год. Совершив побег, я поступаю на работу к частному лицу. Мне хорошо платят, я живу спокойно, здесь меня не найдут… И вдруг однажды ночью я совершаю убийство. Убиваю паралитика. Между тем, вздумай я его ограбить — мне достаточно было попросту забрать все у него на глазах. Зачем мне понадобилось его убивать? Чтобы он на меня не донес? Но разве я лег бы тогда спать, разве стал бы спокойно дожидаться приезда полиции?.. Будем рассуждать дальше. Я, дескать, оставил свои отпечатки на ноже. Я сунул бумаги старика под свой матрац. Пожалуй, пьяница или душевнобольной действительно могли бы так поступить. Но разве пьяница, душевнобольной или «кровожадное животное» способны выдумать трюк с телеграммой, отправленной сообщником из другого города, чтобы убрать из дома остальных жильцов? Согласитесь, эта уже предумышленное убийство. А убийца, который планирует свое преступление заранее, — вовсе не слабоумное животное!
Я умолк, чтобы перевести дух. В зале стояла такая тишина, что можно было бы услышать, как ворует лучший в мире карманник. Никто не смел шевельнуть пальцем. Изумленно выпучив глаза, все с нетерпением ждали, что я скажу дальше. Адвокат, прокурор, присяжные — все смотрели на меня так, словно видели впервые. Это был великий миг.
Я бросил взгляд на Эмму; она будто превратилась в белую мраморную статую. Бледное лицо резко выделялось на фоне траурных одежд. Я нашел ее некрасивой. Да, она подурнела от испуга, и это согрело мне сердце. Уничтожить ее красоту — разве это не прекрасное отмщение?
Я провел рукой по лбу. Теперь главное — не потерять нить. Я чувствовал: еще немного — и эта нить меня куда-нибудь приведет. Свой рассказ я вел прежде всего для себя. Я убеждал себя в собственной невиновности. О, незабываемая минута!
— Продолжим, господа, игру в «допущения» и допустим, что я действительно подстроил отправку этой телеграммы из Орлеана. Но где гарантия, что она позволила бы мне остаться дома одному? Прошу вас, послушайте меня внимательно!
Впрочем, в этом призыве не было никакой необходимости. Все едва не лопались от напряжения. Даже, небось, жалели, что у них всего по два уха, неплохо бы еще… Я видел, что все просто поражены моей грамотной речью, ясностью моих аргументов, полным отсутствием нервозности. Я был холоден и точен. А это для преступника явление довольно редкое.
— Послушайте внимательно: Бауманн уехал на машине. По логике вещей, получив телеграмму с тревожной вестью, мадам Бауманн должна была бы сесть на поезд… Через Орлеан проходит очень много поездов! Но раз уж она решила взять напрокат автомобиль, то почему не посадила за руль меня? Ведь шофером в доме был именно я!
Эти слова произвели эффект камня, брошенного в тихий пруд. В зале одобрительно загудели. Я был на верном пути.
— Далее, господа: я нахожу несколько странным поведение мадам Бауманн. Она узнает о том, что ее мать при смерти. Вместо того, чтобы кинуться на вокзал, она находит время взять напрокат машину, причем среди ночи, что не так-то легко. Затем, опять же среди ночи, она останавливается в Этампе и ужинает там в дорожном кафе — а ведь она уже успела поесть дома и к тому же следит за фигурой, как всякая молодая женщина. Она сажает за руль вышеупомянутой машины своего работника, который не является шофером. Вас это удивляет? Меня — нет, поскольку я прекрасно вижу ее цель. Все это позволило ей увезти Робби с собой и оставить меня в доме одного. Это требовалось для того, чтобы обвинить меня в убийстве. Ведь Эмма Бауманн знала, кто я такой: я сам ей сказал!
Тут уж поднялся настоящий тарарам. Все завопили на разные лады, все глаза устремились на Эмму.
Это всеобщее пучеглазие дало себя знать. Она встала, пожала плечами и попыталась что-то сказать, но председатель жестом велел ей сесть.
— Продолжайте! — крикнул он мне.
Я по-римски поднял руку, требуя тишины, и мгновенно ее получил.
— Существует, — сказал я, — старое полицейское правило: ищи того, кому преступление выгодно. Его можно прекрасно применить к данному случаю. Кому было выгодно это преступление? Мне, укравшему несколько бумажек, которые и продать-то трудно, и дожидавшемуся полиции, лежа на этих бумагах, как собака на косточке? Или же той, которая унаследовала состояние убитого? Неужели вы допустите, что я мог проявить такую чудовищную глупость и беспечность? Надеюсь, что нет. В течение всего процесса я молчал потому, что это ничего не изменило бы. Теперь же судите меня, как сочтете нужным. Какой бы вердикт вы не вынесли — я в вашей власти!
На задних рядах зааплодировали. Председатель зазвонил в колокольчик. Когда шум затих, он вызвал к барьеру Эмму и спросил, что она может сказать в ответ на мое заявление.
Она печально улыбнулась и еще раз подчеркнула, что в момент убийства старика сама находилась в Этампе. Затем пояснила, что машину взяла напрокат для большей свободы передвижения, а поесть остановилась потому, что поездки ее всегда утомляют. И, наконец, сказала, что с презрением отметает все мои злонамеренные измышления.
Я почувствовал, что она несколько выровняла положение. Но не до конца: мои слова произвели огромный эффект. Суд удалился на совещание. Они вернулись через десять минут, и прокурор объявил взбудораженному залу, что процесс приостанавливается до получения более полной информации.
XII
Я снова окунулся в изнуряюще-монотонную атмосферу тюрьмы.
Моя красивая болтовня помогла мне выиграть время и поколебать «душу и совесть» присяжных. Но я не пытался обманывать себя: с их стороны это было не отступление, а лишь разбег перед прыжком, потому что, в сущности, мои разглагольствования не выдерживали критики. Они произвели впечатление только потому, что я выдал их в нужный момент и в нужной форме.
Продемонстрировав сначала высокомерное безразличие к своему процессу и преспокойно позволив им замесить свое судебное тесто, я дождался решающего момента и изложил свою точку зрения — не более того. В психологическом плане моя речь могла взволновать и смутить немало рядовых слушателей. Но в ходе дальнейшего расследования эти волнующие моменты испарятся, как роса на солнце, и я окажусь перед лицом
действительности. А действительность такова: меня обнаружили под одной крышей с убитым стариком. Мои возражения разобьют в пух и прах. Мне скажут: я остался в доме, так как считал, что времени еще хватает, и никак не ожидал приезда полицейских с сообщением о «случайной» гибели Бауманна (О, ирония судьбы!). Более того: в моем поступке даже усмотрят бездушие и цинизм. Да уж, хреново мне придется, когда они опомнятся и наберутся новых сил… О, они заставят меня дорого заплатить за мое блестящее выступление! Не простят, что пытался обуть их всех, начиная со своего же адвоката! Вот уж когда все полезет через край: их мудреные словечки, слепленные из мягкого сыра выводы, их мозговая мастурбация, их опыт и карьера…
Однажды утром, после душа, ко мне в камеру приперся охранник. Он держал под мышкой сверток из коричневой бумаги. Бечевку уже кто-то развязывал, и бумагу потом свернули кое-как.
— Вам передача! — объявил цербер.
Передачи мне получать не запрещалось, ведь я все еще оставался в камере предварительного заключения. Однако я слегка оторопел:
— Передача?!
— Да, от вашей девушки.
У меня не было никакой девушки и ни одного родственника, так что я совершенно не представлял, кто мог прислать этот сверток.
Я развернул бумагу. В картонной коробке размером с обувную оказалось полно всякого добра: колбаса, пачка печенья, шоколад, конфеты. Приятно, спору нет… Только без подписи — и это меня слегка озадачивало. Колбасу тюремное начальство разрезало пополам — проверяло, не тот ли это сорт, который с напильниками. Пачку с печеньем вскрыли, шоколад тоже. Не упустили ничего.
Но все выглядело безобидным и вполне съедобным.
В полдень я навернул колбаски. Она оказалась из хорошей свинины и доставила мне массу удовольствия. Потом поел печенья и шоколада.
Вы себе представить не можете, до чего тоскливо проводить время в КПЗ! После нее, конечно, тоже приятного мало… Но сидеть в неведении — хуже не бывает.
Жратва меня на время отвлекла. Даже на приличное время, потому что больным я себя почувствовал только через пару часов.
Началось с колик в желудке. Они возникали все чаще и наконец сменились нестерпимыми болями. Я мигом сообразил, что к чему, и тут же нажал на кнопку вызова охранника.
— Мне срочно нужен врач, — прохрипел я. — У меня отравление: кто-то накормил мышьяком…
По моему виду он сразу понял, что я не прикидываюсь. Рожа у меня стала зелененькая, как майский лужок. Глаза ввалились от боли, желудок горел огнем, на лбу выступил холодный пот.
Я прекрасно понимал, в чем дело. Это был подарочек от малышки Эммы. Лапуля ничего лучшего не придумала, как отправить меня в страну вечных снов и тем самым пресечь все мои поползновения. Ей не нравилось, что я лезу вон из упряжки. Она боялась за свою безопасность и считала, что когда я подохну, ей станет намного легче.
Тюремный врач прибежал в два счета: высокий черт в больших окулярах, корчивший суровую мину, котораяему вовсе не шла. Он взглянул на меня, велел показать язык, осмотрел мои испражнения и помрачнел.
— Немедленно в больницу! — приказал он.
Идти я уже не мог. Пока посылали за носилками, Айболит всадил мне в задницу укол. Потом двое здоровил ухватились за ручки носилок и как бешеные понеслись со мной по коридорам. Я впервые путешествовал таким транспортом, и, честно говоря, предпочел бы железную дорогу!
В «скорой помощи» я все время кряхтел:
— Я должен поговорить с директором! Срочно!
Но в больнице я отъехал. Это произошло как-то незаметно. Когда-то давно я катался на катере по Савойскому озеру, и катер зашел в тоннель из зарослей. Так вот, у меня было точно такое же ощущение. Все проходило медленно и сладко, в наступающих сумерках было что-то величественное. Темнота принесла приятную прохладу, и у меня мелькнула мысль, что умирать, в сущности, не так уж неприятно…
Придя в себя после промывания желудка, я почувствовал невероятную слабость. Но боли уже почти не было: только живот онемел и отяжелел. Я лежал в белой постели и смотрел в окно на кусочек пасмурного неба. Уже пришла весна, но погожие деньки все никак не наступали.
Ко мне подошел мужик, которого я уже где-то видел.
— Как вы себя чувствуете?
— Лучше…
— Вы меня не узнаете?
— Вы директор тюрьмы?
— Да. Кажется, вы хотели со мной поговорить?
— Хотел.
— Слушаю вас.
— Меня отравили…
— Я знаю.
— Нужно отдать на анализ то, что осталось от моей передачи.
— Я уже принял необходимые меры.
— Надо бы выяснить, кто мне ее прислал…
Он едва заметно пожал плечами, и на его лице появилась мимолетная тень раздражения. Он словно говорил: «Ты что, сопляк, учить меня собираешься?»
— У вас есть соображения относительно личности человека, который направил вам эту посылку?
— Да…
— Кто это?
— Она! — буркнул я. — Она, эта сучка паршивая…
Я отвернулся к стене и начал засыпать. Прогулка на катере возобновилась — с ее зелеными тенями и нежным запахом смерти.
Очнулся я ночью. Рядом со мной сидел медбрат и при свете голубоватого ночника читал вечернюю газету.
Я зашевелился, и он поднял голову. Это был краснолицый толстяк с лицом мясника и спокойным, немного осуждающим взглядом.
— Что, очухался малость?
— Ага…
— Я тут как раз про тебя читаю. — Он сунул газету мне под нос. — Вот, полюбуйся…
Читать я, понятно, не мог: едва взглянул на печатную страницу, как буквы заплясали вприсядку.
— Кажись, тебе в печенье мухоморчиков накрошили! Так и загнуться недолго…
— Спасибо за новость, — проворчал я.
— Только поганцам одним и везет. Случись такое с честным малым — точно б загнулся!
Я уже понял, какие он ко мне питает чувства. Работа в палатах для правонарушителей сделала его черствым и угрюмым. В душе он, наверное, стыдился того, что ухаживает за уголовниками, как учитель, которому подсунули дебильный класс.
— А что обо мне пишут?
— Ищут, кто принес «смертоносную посылку», как ее назвали газетчики. Похоже, какая-то девчонка принесла. Идут по следу…
Я вздохнул. «Девчонка!» Сами понимаете, Эмма как следует перестраховалась. На этот раз она все сделала чисто: у нее было время подготовиться.
Я чувствовал в животе космическую пустоту.
— Есть хочется…
— Ни фига себе! Быстро же ты оклемался…
— Так можно мне чего-нибудь пожрать?
— Погоди, посмотрю.
Он вышел и долго не возвращался. Потом принес большую чашку бульона с луком.
— Держи.
— И все?
— Ну ты даешь! Не антрекот же с кровью тебе жрать после такой процедуры!
— А что, если хочется…
— Да, брюхо у тебя будь здоров. Сразу видно — молодой!
Тут он удостоил меня восхищенной гримасой исключительно по причине моей физической выносливости.
— Завтра тебя перекинут в изолятор тюрьмы «Санте». Нечего тебе тут прохлаждаться.
Он забрал у меня газетку и продолжил чтение, но уже через пять минут начал клевать носом и захрапел. Я понял, что на кухню он ходил не только за бульоном, а заодно приложился и к бутылочке красненького — от него на два метра разило винищем.
«Санте»! Опять тюремная жизнь в ожидании решения судьбы! Я сжал кулаки, охваченный отвращением ко всему человечеству. От устроенной мне водокачки я как бы родился заново. Я был усталым и разбитым, но в то же время чувствовал в себе больше сил, чем до отравления.
Я посмотрел на затылок спящего медбрата. Потом на сосуд для мочи, стоявший на столике за его спиной. Я ухватил банку; она была из толстенного стекла. Я покрепче сжал ее в руке и размахнулся…
Банка разлетелась вдребезги; толстяк упал со стула головой вперед, грохнулся на паркет и несколько раз конвульсивно вздрогнул. Видимо, я основательно его оглушил. Я встал с кровати, и только тут понял, какую совершил глупость; я не мог держаться на ногах, все кружилось и прыгало у меня перед глазами… Я зажмурился и сел; тогда мне немного полегчало. Но когда я опять распахнул форточки, сарабанда возобновилась.
Я страшно разозлился на себя за свою глупость. «Браво, молодчина!» — говорил я себе. Я только что провел черту под столбиком подсчетов. Оставалось только поставить результат. А результат был ясен: смерть.
Я уже чувствовал на шее прикосновение холодных ножниц, которыми мне срежут воротник. Вот меня кладут на доску гильотины, вот моя голова катится в опилки…
— Дурак ты, Капут, дурак! — бормотал я. — Что ты сделал? Что ты сделал?!
Медбрат больше не дергался.
Я медленно, как привидение, двинулся по комнате, говоря себе: «Иди или сдохни! Иди или сдохни! Если ты сейчас не удерешь, тебя точно подставят под главную косилку…»
Поверьте, воля — это сила номер один: куда там до нее атомной энергии! Я смог справиться с головокружением, потому что очень этого захотел. Стены стали вертеться все медленнее и наконец-то остановились, совсем как деревянные лошадки в парке, когда карусельщик потянет за рычаг.
Я наклонился к санитару; меня била страшная дрожь. С огромным трудом мне удалось стащить с него штаны. Я надел их и сразу стал похож на старого слона с отвислой задницей.
Перекатывая толстяка по полу, я снял и халат. Потом обул его белые мокасины, водрузил на голову его круглый колпак…
На эту церемонию мне понадобилось не меньше часа. Толстяк хрипел; похоже, от удара у него треснула тыква, и ему была уготована нешуточная трепанация…
Медленными короткими шажками я направился к двери. Труднее всего было одолеть эту проклятую дрожь.
Пожалуй, по части дерзких побегов я мог за себя не беспокоиться.
XIII
Сюда, в больницу «Куско», меня привезли в отключке, и я понятия не имел, где тут ходы-выходы.
Открывая дверь, я входил в неизвестность — в Неизвестность с большой буквы. Стрелка моего страхометра прыгала где-то ниже нуля. Я двигался, как в безумном бреду. В глазах еще плыл туман, и к горлу порой подступала жестокая тошнота. Побег в таком состоянии — это, скажу я вам, не хрен собачий.
Я выбрался в коридор, где пахло болезнью и эфиром. На горизонте маячила только застекленная дверь. Я прошел и ее.
В этот момент я увидел легавого в форме, со сдвинутым на затылок кепи и приоткрытым ртом, безмятежно сидевшего верхом на стуле. Его присутствие меня удивило, но тут я вспомнил, что нахожусь в «Куско», в отделении для зеков. Совершенно естественно, что загребалы направили сюда своего представителя…
Я подмигнул охраннику, и он в ответ по-жабьи мигнул мне. Выполнив эту формальность, я оказался на свободе. Так что не надо, пожалуйста, глядеть в рот журналистам, которые гордо размазывают подобные побеги на нескольких полосах сразу: обычно такие хохмы проходят очень просто. Я не спеша протопал через всё просторное здание «Куско» и уже у самого выхода столкнулся нос к носу с какой-то монашкой. Она оторопело воззрилась на меня.
— Но, однако же… — пролепетала она.
Вероятно, она досконально знала всех обитателей заведения, и мое появление показалось ей подозрительным.
Я состроил широкоформатную улыбку.
— Не пугайтесь, сестра, я работаю в изоляторе «Санте». Ходил осматривать заключенного, которого недавно привезли.
Монашка была довольно молодой, с розовыми щечками и ясным взглядом.
Она нахмурилась.
— Да вы же и есть тот заключенный, — проговорила она. — Я сама видела, как вам делали промывание…
Я огляделся по сторонам: никого. Я мигом сменил рожу и голос.
— О'кей, тогда знаешь что, сестричка? Я не люблю бить женщин, тем более монашек; но я убежал, чтобы спасти свою голову, а ради своей головы можно сотворить что угодно. Так что пошли на улицу, и постарайся не вести себя как дура, не в обиду тебе будь сказано.
Она посмотрела на меня с беспокойной гримаской. Я понял, что она боится не за себя, а за меня — или, точнее, за спасение моей души. Но в тот момент душа меня не слишком волновала — благодарю покорно! Насчет этого я не переживал, несмотря на все содеянное.
— Идите с богом, — сказала она мне, — вы сами себе судья. Но знайте: вы совершаете ошибку…
Я понял, что она будет помалкивать. Добродетель ее была столь велика, что не уместилась бы и в Луврском музее.
Я сказал ей спасибо и поинтересовался, где тут выход. Мой вопрос ее, похоже, шокировал:
— Ну, это уж слишком… — И она исчезла за одной из дверей. Я хоть и не беспокоился на ее счет, но все же решил поскорее шевелить ходулями.
К счастью, вскоре я заметил на стенах черные стрелки, указывающие выход, и через три минуты оказался у паперти Собора Парижской Богоматери. Сбоку к больнице то и дело подскакивали «скорые» с грузом потерпевших.
Я жадно всосал пьянящий воздух Парижа. Веял легкий ветерок; башенные часы начали добросовестно отбивать полночь. Мое головокружение сменилось чем-то вроде сильного похмелья. Я сунул руку в карман своих белых штанов, но чертов санитар не носил при себе ни гроша…
Я стоял посреди Парижа, переодетый в мешковатого санитара, в белых мокасинах на босу ногу, и мне некому и не на что было даже позвонить.
Моя вылазка была обречена на провал. Что, по-вашему, может предпринять в Париже беглый преступник без денег и знакомых?
Я поднял воротник халата и побрел по мосту через Сену. Кусачий ветер щипал мне лопухи. Погода стояла прямо-таки отвратная; торчавшие под ледяным нёбом деревья без почек грозили ночному путнику корявыми пальцами.
Маленькие улочки всегда притягивают сильнее, чем оживленные магистрали. По Риволи можно было шагать без всякой опаски. Я повернул на узкую улицу Сен-Мартен, темную в этот час, как туннель, и двинулся по ней параллельно бульвару Севастополь.
Куда идти? Пока что моя больничная форма не грозила привлечь внимание. Меня могли принять за санитара, бегущего на срочный вызов. Зато когда рассветет и когда станет известно о моем исчезновении, у меня не останется и одного шанса из тысячи. Тем более что сейчас мне было не до подвигов. После пережитого потрясения я мог с минуты на минуту ослабеть ходулями и грохнуться на тротуар. То-то бы получился финальный аккорд! Лучшего хэппи-энда с торжеством добра над злом и не придумаешь…
На углу улицы мелькнула тень. Я сжался, но тут же разглядел: это панельщица.
Она засекла меня с левого борта и, привлеченная моим нарядом, поглаживала себя по бокам, проверяя, клюну я или нет. В это ночное время клиент — штука редкая, и она решилась на абордаж.
— Куда это мой красавчик идет? — замурлыкала она.
Страшнее уродищу нельзя было и вообразить. Ей было не меньше шестидесяти, а в таких летах мастерица тротуара, сами понимаете, уже не конфетка. Эта же выглядела отвратительнее, чем общественный туалет. Зенки ее свисали на щеки, а красно-помадная улыбка вылезла за пределы рта на добрый десяток сантиметров. Прибавьте к этому пузо беременной коровы и рожу цыганки, предсказывающей судьбу за десять франков в ярмарочном шатре с вывеской «мадам Ирма»…
Она навела меня на одну мысль. Неважнецкую, правда… Но если ты забрел в глухой тупик с огромными черными стенами, из чего тебе выбирать? Надо выпутываться любыми средствами.
Я глазел на нее без всякого выражения; она решила, что я раздумываю.
— Тебе не холодно, зайчик?
«Зайчик» и вправду стучал зубами, но погода здесь была уже ни при чем.
— Да уж не жарко, — буркнул я. — Надо же, оставил, как последний кретин, свои шмотки в шкафу сотрудника, а этот козел возьми да и унеси ключ с собой… Вот и шлепаю домой в рабочем, а на дворе-то не Африка…
Она загыгыкала.
— А тебе так очень идет, котик мой. В больнице работаешь?
— Да. Санитаром.
— Если твои деньжата не остались в том шкафу — хочешь, погрею? Идем, скучать не будешь…
От этого обещания меня чуть не разобрал смех. Ее рожа явно не дотягивала до таких высот. Или — перетягивала, что было бы еще забавнее.
— Знаешь что? — сказал я с видом человека, у которого зреет решение. — У меня тут появилась одна идейка.
— Да ну?
— Вот что: если не заломишь лишнего, идем. Тогда мне и домой возвращаться не надо, я утром пойду прямиком на работу.
— Сколько же ты мне дашь?
— А сколько ты хочешь?
— Десять тысяч!
— Да ты, никак, принимаешь себя за Мисс Европу!
— Ну, тогда скажи свою цену, зайчик мой…
Не имея при себе ни шиша, я мог пообещать ей столько, сколько она пожелает. Но чтобы не вызвать подозрений, полагалось поторговаться.
— Четыре тысячи, — предложил я.
— Ладно, ты мне приглянулся: добавь еще две — и я твоя на всю ночь…
— Годится.
Она зашагала к подворотне, где крепко штыняло гнилью, подошла к одной задрипанной дверюшке и обернулась.
— Деньги хоть при тебе? Фирма в кредит не работает, понятно?
Я обиженно похлопал себя по карману.
— За кого ты меня держишь?
— Ну-ну, — сказала она, успокаиваясь. — Не сердись, миленький, я просто так спросила…
Мы стали взбираться по деревянной лестнице, такой ветхой и расшатанной, что казалось — она только вас и дожидается, чтобы рухнуть.
Ее каморка оказалась на пятом этаже и состояла из убогой комнатушки и куска кухни. Рядом с кухней была маленькая кладовка.
— Это, конечно, не «Риц»… — признала она, поймав мой взгляд.
Да, это был не «Риц», и даже не третьесортный отель для экстазов по сходной цене. Крыша с мансардой, в комнате — кровать с железной сеткой, в ее головах, у стенки — шаль, воображающая себя испанской. Еще комод, низкий стол, стул, проигрыватель и пластмассовый таз.
Больше всего меня манила кровать. Я сразу же на ней и растянулся.
— А ничего у тебя, — сказал я вежливо. — Одна живешь?
— Ага. Последнего дружочка выгнала в три шеи! Пропивал, паразит, все, что я приносила… И потом, знаешь ли, я натура независимая.
Это хорошо укладывалось в мои планы. Хоть на этот раз случай сработал на меня…
— Ну так как, миленький, ты мне сделаешь подарочек?
Я порылся в карманах и прикинулся, будто посеял бумажник.
Бабкино лицо вмиг сделалось водонепроницаемым. Еще бы: после пятидесяти лет работы эту песню она знала лучше, чем «Марсельезу»…
— Да ладно, — проскрипела она, как ржавый флюгер. — Можешь не стараться. Так ты, значит, пустой, а, поганец? А я-то из-за тебя столько времени даром потеряла! Я тебе не Дед Мороз! А ну, пошел отсюда, козел!
Я двинулся к двери. Она решила, что я повинуюсь, и пуще прежнего нажала на ругательную педаль. Но быстро заглохла, увидев, что я не умотал, а повернул в двери ключ и сунул его «in the pocet»[453].
— Эй… Эй, ты чего это?
Для нее не стоило громоздить целый роман: можно было говорить открытым текстом.
— А я это того, что лежал в «Куско» и только что оттуда свалил. Да еще вырубил мужика, что меня стерег…
На комоде как раз лежала вечерняя газета с моей фотографией.
— Вот он, ваш покорный слуга, — кивнул я.
Она быстренько посмотрела на фото — просто чтобы проверить сходство.
— Ах, так ты в бегах… — сказала она. — И что ж думаешь делать?
— Еще не знаю. Первым делом — поспать и кинуть что-нибудь на зуб.
Она, похоже, не больно этому обрадовалась. Впрочем, она так и сказала:
— Не нравится это мне. Сколько уже работаю — ни разу носа не запачкала…
— Ну ясно-ясно: в общем и целом живешь спокойно, — хмыкнул я.
— И впредь не собираюсь!
— Так ты у нас кандидат на орден Почетного легиона?
— Нет, но я, представь себе, привыкла к свежему воздуху…
— Зато я уже отвык. Так что захлопни пасть, или я рассержусь. Я остаюсь здесь, раз пришел. И не возникай, иначе что-то случится.
Она уяснила.
Ее квартира была просто создана для таких, как я. Один выход — через дверь. Я наглухо забаррикадировал ее, подтащив вплотную кровать. Потом выглянул в форточку: за ней виднелась крыша соседнего дома. Порядок…
— Слушай, дай чего-нибудь пожрать.
— Чего дать-то?
— Все равно.
— Тут осталось немного фасоли…
— Тащи.
Я выскреб сковородку, потом проглотил две чашки горячего кофе. Стало получше. Оставалось победить усталость; для этого существовала только койка.
И я улегся на ее клоповник, зорко вертя башкой.
— Ты тоже можешь ложиться, красавица. Не бойся, мне что-то не хочется тебя насиловать.
Она сидела надутая — страшно злилась на меня и на свой плохой нюх, по вине которого сама же ко мне и прицепилась.
— Только не пытайся меня обставить, — добавил я напоследок. — У меня очень чуткий сон. Мошка пролетит — и я уже на ногах…
Я закрыл глаза, и все бесшумно рухнуло куда-то вниз.
XIV
Легкий шорох вытащил меня из облаков. Я не врал карге насчет своего чуткого сна. В моем положении человек все время начеку, а если нет — у него что-то не в порядке с головой.
Я открыл один глаз. Была ночь, в форточку заползал лунный свет. В этом зеленоватом сиянии я увидел, что потаскуха шастает в комбинашке по комнате. Я лежал молча. Может, она просто в сортир? По мере того как глаза привыкали к темноте, я смог разглядеть ее получше. Куда там развалинам древних городов! Ее сиськи лежали на животе, как на подушке. Лицо давно разлезлось по швам, и без косметики она была сущая ведьма. На мгновение мне подумалось, что вот сейчас она вытащит из шкафа метлу и вылетит на ней сквозь черепичную крышу…
Она подошла к косолапому комоду и с величайшей осторожностью выдвинула нижний ящик. Теперь я уже не упускал ни одного ее движения: было ясно, что эта бравая кошелка замышляет какое-то гадство.
Тогда я, тихий, как кошачья тень, свесил с лежанки копыта. Теперь мне достаточно было протянуть руку, чтобы достать прилепленный слева от двери выключатель. Так я и сделал.
Вспыхнул свет, и бабищу будто окатили ведром холодной воды. Она подскочила, и жутковатый ножичек, что был у нее в руке, вывалился на пол.
Прикидываете, что за бесовские планы вынашивала эта матрона? Готовилась выпустить из меня всю водичку, как из борова, жмыдра подлючая!
— За грибами собралась? — спросил я.
Она не ответила.
— Сразу видно, ты не из Шотландии, — продолжал я. — С гостеприимством у тебя туговато…
Она начала отступать в дальний угол комнаты; туда, впрочем, было совсем недалеко.
— Будешь подходить — заору, — сказала она с решимостью.
Я немного растерялся. Эта плесень запросто могла завопить на весь дом, что ее убивают. Ночью слышно хорошо, и жильцы обязательно закопошатся.
Я цапнул сковороду, из которой доедал фасоль — увесистую чугунную «кокотку» с. длинной ручкой. Она отлично заменяла дубинку. Определенно, я становился профессиональным молотобойцем. Передо мной открывалась блестящая карьера глушителя быков…
Карга разинула рот, чтоб выпустить свой крик на волю, но так и не успела взять верхнее «до». Я заехал ей сковородой по щеке. Раздалось красивое «динннь!» Она схватилась рукой за башку и, похоже, поплыла.
Но у баб шкура крепкая. Они — как слоны: чтобы завалить, надо вцелить в нужное место… Хрычовка только заскулила, потирая фасад.
Тогда я приблизился и подобрал пырку. Зубочистка оказалась неслабая, из шведской стали. Она раскрывалась простым нажатием кнопки. Видать, ножик позабыл бывший бабкин кавалер.
Лезвие выскочило с такой силой, что я едва не уронил нож. Я посмотрел на бабку. Она не видела, что я делаю. Я уставился на лезвие… И тут все вокруг загудело; стены и мебель начали корчить мне жуткие гримасы, в голове поплыл красный туман.
То, что произошло потом, я описать не могу. Помню лишь, что через минуту я был весь в поту и в крови. Кисть правой руки, сжимавшая нож, полностью окрасилась в багровый цвет, а баба лежала у меня под ногами, как куча окровавленного тряпья.
Я положил нож на треснувшую крышку комода, перед фотографией военного в рамке из ракушек. Потом ухватил бабку за ноги и затащил в кладовку около кухни. Там, где она лежала, осталась лужа густой крови, от которой меня всего передернуло. Я накрыл старуху драным ковриком, лежавшим у кровати, и вымыл в раковине руки.
Понемногу ко мне вернулось спокойствие — и тогда нахлынула великая печаль.
— Мания, что ли… — пробормотал я.
Я был поражен, насколько легко человек становится закоренелым убийцей. Я убивал не раздумывая, не испытывая ни малейшего волнения. «Капут!» Я полностью оправдывал это прозвище, которое дружбаны прилепили мне просто так…
* * *
Честно говоря, я и после этого почти не помню, что творил… Как бы то ни было, я снова лег в кровать и заснул. Трудно представить, до чего мне требовалось отключиться.
И вот, проснувшись, я понял, что теперь уже окончательно очухался, пришел в норму и нагнал свое прежнее крепкое здоровье. От моего отравления не осталось и следа.
В форточку лезла уже не луна, а солнце. Отличное солнце, густое, как пудинг. Я смотрел, зевая, на него; оно согревало мне глаза. Но мое блаженство нарушил ужасный запах: едкий, пресный запах крови и смерти.
И мне вспомнилось сразу все: старуха, нож и случившийся со мной припадок душегубства.
Я встал, увидел на своем халате кровь и с отвращением его сбросил. Лезвие лежавшего на комоде ножа сделалось почти черным, и мужик на фотографии, казалось, смотрел на него с каким-то удовлетворением.
Я не мог позволить себе оставаться здесь: в комнате нечем было дышать. Я выдвинул все ящики комода, уже не заботясь о том, что оставляю отпечатки пальцев: слишком уж сильно я наследил за эту бурную ночь. Легаши обязательно догадаются, чьих это рук дело. Воображая их лица, я едва не задыхался от восторга. Да и рожи судей, отложивших слушание дела, тоже стоило увидеть. Наверняка начнут, бедняги, комплексовать от своей излишней снисходительности, упадут в глазах жен… Ох и солоно придется парням, которые предстанут в ближайшее время перед судом! Это я точно знал.
В комоде я нашел пятьдесят тысяч мелкими купюрами. Наверное, из-за них старуха и обнажила ночью шпагу: боялась, что я их захапаю. Это единоразовое пособие меня очень ободрило. Если подфартит — того и гляди, выберусь из тупика…
Только теперь в моем убранстве разгуливать было невозможно. К этому времени уже вся столица знала, что небезызвестный Капут улизнул из «Куско», разодетый честным пихальщиком термометров… Я охотно променял бы бабкины пятьдесят штук на менее броский наряд.
Я облазил всю квартиру, но откопал только старый черный женский плащ, к тому же слишком узкий в плечах. Тут у меня появилась идея — не ахти какая, но все-таки… Я взял ножницы и отрезал низ плаща, превратив его в куртку. Потом снял с печки трубу: на пол высыпалась кучка сажи. Я набрал полную пригоршню, измазал себе лицо, руки, одежду и через две минуты стал похож на камерунского камергера.
Идея моя была вовсе не так уж плоха — сейчас сами увидите. Я помнил, что накануне, по пути сюда, видел на этаже стремянку. По ней, видимо, забирались в чердачный люк. После санитара мне предстояло теперь попритворяться трубочистом. В психологическом плане это было отменное прикрытие: легаши высматривают «мужчину в белом», и им не будет дела до бравого парня-сажетруса, шагающего по столице со стремянкой на плече…
Скажу вам, я просто ликовал. В довершение всего никто даже не видел, как я выходил из подворотни. Я выпорхнул на улицу Сен-Мартен, насвистывая во все щеки. Маскарадный костюм и слой сажи отгораживали меня от мира и надежно прятали от полицменов. А найденные у старой лоханки пятьдесят билетов еще больше поднимали мне настроение.
Я зашагал к площади Республики, намереваясь добраться до торговых рядов и купить какие-нибудь расхожие шмотки.
Это оказалось несложно. Старый седой Якоб отвалил мне за восемь штук американский костюм с карманами-клапанами, исполосованный вдоль и поперек застежками-«молниями».
Зажав сверток под мышкой, я взял курс на Сену. Там, забравшись под мост, я смыл сажу, после чего нацепил купленную защитно-зеленую форму.
Меня сильно тревожила моя щетина; но соваться к стригуну было опасно. Бигудистам сам бог велел проводить внимательные осмотры: пока бреют, успевают поразмыслить, а пока не бреют, читают утренние газеты и порой начинают делать нездоровые выводы…
Я долго смотрел, как валит вдаль зеленая вода, и втягивал носом мощный речной дух. Солнце шло мне на пользу.
Наконец я тряхнул головой.
— Ну, что дальше, парень?
Выбор был невелик. Всего два варианта: попытаться покинуть Париж, а потом и Францию, или же…
Я проголосовал за второе. Наверное, это у меня от рождения: каждый раз, когда мне приходилось выбирать между благоразумием и идиотизмом, я без колебаний выбирал идиотизм.
Так что я выбрался на набережную и купил в киоске газету. И обо мне опять вопили на первой странице. Теперь уже газеты принимали меня всерьез. Я обещал стать для них настоящей находкой, поскольку власти пока что сдерживались и не объявляли мне войну. Меня окрестили «ходячей пропажей». Мой побег из «Куско» вызвал настоящий переполох. Санитар загнулся через час после моего ухода от кровоизлияния в мозг. Полицмейстеры признавались, что теряются в догадках относительно моего нынешнего местонахождения. Предполагалось, что у меня имеются сообщники. Участились облавы в «злачных» местечках…
Из всего этого следовало, что мне никак нельзя было появляться на Монмартре, куда стекаются — прямо в лапы легавым — все беглые преступники Франции.
Я не стал дочитывать статью до конца. Написанное меня почти не интересовало. Свой гороскоп я составлял сам, и газетенки не могли сообщить мне ничего нового.
Я зашел в небольшую столовку для водителей грузовиков. В своем наряде я от них почти не отличался, а ведь не выпадать из общей картины — это и есть лучшее средство оставаться незамеченным. Пример тому — хамелеон.
В придачу ко всему я приобрел еще и кепочку с козырьком, которая мне чертовски шла.
Я заказал чем заморить червяка и купил у кассирши телефонный жетон.
В кабине висел старый справочник. Его первые страницы оборвали мужики, бежавшие без бумажки в расположенный по соседству сортир. Катастрофу потерпели абоненты по фамилии Абель и Адриен: книга начиналась с буквы «Б». Но меня это устраивало: ведь искал я Бауманна.
Бауманнов набралось с полстраницы, но только один из них жил на Рю де ля Помп.
Я набрал номер, услышал гудок, потом второй, третий… Потом перестал считать, повесил трубку и открыл указатель по названиям улиц. Бауманны наверняка жили в богатеньком доме, и у консьержки должен был стоять телефон. Я решил непременно взять у дамочки интервью. Фамилия у нее была Бифен, а голос прекрасно подошел бы для «Комеди-Франсез».
— Вам звонят из службы водоснабжения. Скажите, у Бауманнов есть кто-нибудь дома?
— О нет, после смерти мужа мадам уехала на юг.
— Ах вот оно что! А у вас, случайно, нет ее адреса?
— Есть, подождите-ка…
Я подождал. Юг — это мне годилось. Чем меньше я проживу в Париже, тем будет полезней для здоровья…
— Алло?..
— Да, я слушаю?
— Вот адрес: Сен-Тропез, отель «Тамарис».
— Спасибо!
Я положил трубку и уселся перед тарелкой, где на ложе из горелой капусты покоилась сосиска по-тулузски.
XV
Пожевывая, я немного освежил свои проекты. Нет ничего лучше жратвы, когда хочешь зарядить башку шариками. Набьешь мешок — и сразу крепчают мозги.
Я заказал кофе и принялся разрабатывать ближайшее будущее, которое казалось мне идеальном. До сих пор, даже во время приступов безумной дерзости, я действовал как босс. Ни одной психологической ошибки, все в точку…
Я отхлебнул чернушки, подув на раскаленную чашку, как ослик на ведро с водой. За соседним столом сидело четверо «дальнобойщиков». Они уминали колбасу и базарили о работе.
Вскоре я остановил свое внимание на одном из них: здоровенном пучеглазом детине с прической ежиком. В этом бегемоте было нечто забавное, вызывавшее к нему мгновенную симпатию.
Он говорил, что возвращается в Ниццу и что в этом для него мало радости, ибо его напарник лежит пластом с суровой ангиной и каждые четыре часа получает в задницу заряд пенициллина.
Я подвалил прямо к нему.
— Извините, ребята, что лезу в разговор, но мне тут тоже не повезло. У моего «доджа» на въезде в Мелен мост полетел… Я звякнул в контору; говорят — приезжай, не жди, пока починят. Так что, если хочешь, — я повернулся к здоровяку, — могу составить компанию. Для меня это лучше, чем поезд: в поезде — скукота…
Мужик обрадовался. Рожа его засияла, а глазищи будто приготовились к ночному походу;
— Опа! — сказал он. — Хряпни стопочку, паренек, я угощаю!
Мы выпили по три.
Бугай шлепнул меня по ляжке.
— Ты где пашешь? — спросил он. — Кажись, я тебя уже где-то видел.
Тут я малость растерялся.
— У Мартена, — осторожно буркнул я.
— У Мартена из Фрежю?
— Ага…
— А Пузыря знаешь?
— Спрашиваешь!
Тут я ступал на скользкую дорожку и рисковал вляпаться, но деваться было некуда.
— Пузырь — еще тот перец, — заявил здоровяк. — Ни разу не видел его трезвым за рулем. Он где сейчас?
— Кажется, в Лилле…
— Какое там в Лилле! — вмешался другой водила. — Я с ним вчера у Либурна разъехался!
— А, а я-то думал…
В конце концов разговор пошел о другом, и у меня отлегло от сердца.
Мы со здоровилой вышли из столовки уже вместе. У него был громадный двадцатитонный тягач с полуприцепом; чтоб водить такую махину, аттестата зрелости явно не хватало.
— Будем по ходу дела меняться, — сказал мой напарник.
— Ладно. Только из города выезжай ты, а то я с твоим аппаратом пока не знаком.
Я не торопился закатывать рукава: мне ни разу в жизни не доводилось править этаким крейсером. Не говоря уже о том, что мои грузовые права еще лежали девственно чистыми в хранилище бланков какой-нибудь префектуры…
Детина рулил и что-то напевал себе под нос. Вдруг он замолчал, взглянул на меня как-то уж очень быстро и пробурчал:
— Слушай, я тебя точно где-то видел!
Я-то знал, где он меня видел: в газетке, где моя физиономия простиралась на две полосы, да так четко, что впору было зубами скрипеть… Видна была даже родинка на челюсти.
— С нашей работенкой это неудивительно, — ответил я. — Мне вот тоже сдается, что я тебя уже встречал.
Он спросил:
— Тебе не случалось останавливаться в Вермантоне и заходить в кафешку под горой?
— Бывало…
— Ну, значит, там…
Час шел за часом; мы все ехали и ехали. Пригревало солнышко, дорога мягко стлалась нам под колеса… Мне было классно. Вот уже много месяцев, а то и лет, я мечтал о настоящем большом путешествии…
Мы пересекли лес Фонтенбло, потом спикировали на Санс. Где-то на колокольне часы пробили четыре.
Я быстро подсчитал, что мне пора садиться за руль, чтобы не захапать ночную смену.
— Слушай, перелазь, погляжу-ка я, что у тебя тут куда…
Он не заставил себя упрашивать.
Перед этим я долго наблюдал за его действиями, чтоб не показаться полной дубиной. И даже удивился, до чего легко оказалось управлять таким монстром. Поначалу мне ощутимо отдавало в руки и тянуло плечи, но в остальном все шло хорошо.
Моего здоровилу звали Пьеро. Он ляпнул мне свое имя, прежде чем поудобнее устроиться в кресле и дать храпака.
В эту пору дорога была в целом свободна. Турист еще не попер полным ходом — довольствовался пока что Парижем и музеем «Гревен». Я проехал Санс, потом Жуани…
Смеркалось. В Эпино-ле-Вов между тополями крепко вклеилась темнота.
Я потолкал Пьеро, чей храп заглушал шум мотора.
— Теперь давай ты, у меня уже плавники болят.
— Однако же, блин!.. — сказал он, глядя на меня.
— Что, парень?
— Ей-Богу, я тебя сегодня утром где-то видел!
— Вот же заладил…
Меня опять начало подергивать: бугай упорно хотел меня вспомнить. И я, осторожный и сговорчивый, опять признал, что так оно могло и быть, ведь я, мол, все утро проторчал в том районе…
Он повел грузовик дальше, пожевывая вынутый из-за уха окурок и напевая что-то из допотопного Азнавурчика. Пока он пел, мне нечего было опасаться…
Однако что-то подсказывало мне: держи ухо востро. Я чувствовал его озабоченность. Не иначе, он слишком долго таращился на мою фотографию в газетке, и она вертелась в его дырявой памяти, как дохлая псина в речном водовороте.
По моим подсчетам, рассвет должен был застать нас в районе Валенцы. Там я решил сказать, что мне надо позвонить начальству, а потом — что оно велит поймать на трассе какую-нибудь машину, принадлежащую фирме Мартена… И когда мой напарник поймет, что подвозил беглого заключенного, и пойдет заявлять, полицейским останется только гадать, куда я направился дальше. О юге они точно не подумают. Головешки у них с кулачок, даром что лапы здоровые… Они рассудят, что Валенца — это почти Гренобль, а Гренобль — можно сказать, ворота в Италию… А я, не будь дураком, доберусь мелкими скачками до Сен-Тропеза. Сначала на автобусах: Валенца — Монтелимар, Монтелимар — Авиньон… В Авиньоне сяду на поезд до Сен-Рафаэля. Маршрут что надо: минимум риска, почти верняк…
Снова потянулись часы за часами. Около десяти показался Аваллон, и мы остановились у дорожного кафе.
Там негде было задницу приткнуть. Но мы все же нашли два места на углу стола, и вислогубая девчонка принесла нам два пережаренных бифштекса с недожаренной картошкой.
Лопали быстро. Темп задавал я — из опаски, что пучеглазый Пьеро нашарит брошенную кем-нибудь газетку и раззявится на мой портрет.
Я расплатился за двоих. Он был против, но я настоял.
— Тяпнем по маленькой? — предложил он.
— Нет, на ночь не буду. Ну что, давай я порулю?
— Давай, я бы еще поспал.
Он поведал мне про свою кишечную напасть: он был уже немолод, и пищеварение действовало на него усыпляюще. Ему приходилось жрать стимуляторы, чтоб не мерещилась теплая белая постелька: такие грезы всегда заканчиваются у первого столба.
Я полез за руль. Мне спать ничуть не хотелось. Напротив, я чувствовал себя просто отлично.
— Ты не возражаешь, если я влезу на полку? — спросил он. — Как устанешь, толкни…
— Ради бога. Спи давай.
Он забрался назад, включил ночник и укрылся пропахшим потом и грязью одеялом.
Я придавил педаль. Дорога была пуста, лишь изредка мы обгоняли фуры наподобие нашей, едущие потише и увешанные лампочками, как новогодние елки.
Не знаю, в какой момент он проснулся. Но проспал совсем недолго. Ночник за моей спиной загорелся снова, выдернув меня из ленивого, но не сонного оцепенения.
Я услышал, как он шуршит бумагой.
— В клозет что ли собрался? — спросил я. — Остановить?
Он не ответил. Он одним махом соскочил с полки на сиденье.
Я покосился на него. Его лицо резко изменилось. Оно стало серьезным и напряженным. Пьеро держал в руке газету, и со своего места я видел в ней свое фотогеничное лицо под жирным, как куриный бульон, заголовком.
— А ну, сними свою кепку, — сказал толстый Пьеро.
Я молча ехал дальше, размышляя, как теперь себя вести.
Он протянул руку и сорвал с меня мой американский картуз.
— Ну-ка, останови, — сказал он.
Вместо ответа я сильнее нажал на грибок. Скорость полезла из глушителя, как паста из тюбика; стрелка подпрыгнула до восьмидесяти пяти, а для такого грузовика это не кисло…
— Стой, гад вонючий! — заорал Пьеро.
— Заткнись!
Тут толстый сорвался с катушек и двинул мне в правую скулу. Руки у него росли откуда надо: мне показалось, что в рожу с разгона въехала «альфа-ромео».
Я резко затормозил; грузовик душераздирающе завопил и остановился в полуметре от высоковольтного столба.
Пока я выполнял остановочный маневр, Пьеро не терял времени и вовсю дубасил меня своим кузнечным молотом. Бил он правой: левая была прижата ко мне. Его чудовищная ручища, твердая, как камень, попадала мне то по зубам, то по виску…
— Получай, зараза! — приговаривал шофер. — Получай, паскуда!
Я еле дождался, пока можно будет убрать руки с руля. Наконец, когда грузовик остановился и кабина наполнилась печальными звуками ночи, я тоже принялся за дело. На меня снова наплыл тот красный туман, что стоял в глазах прошлой ночью в квартире уличной бабы. Я перестал чувствовать на лице каменные фаланги Пьеро. Я высвободил левую руку и тоже зарядил ему по чайнику, попав прямо в нос.
Он стерпел молча, но разъярился пуще прежнего. Нужно было поскорее врезать ему в нужное место, пока он не озверел окончательно.
Вот так, сидя бок о бок в кабине, мы не могли придумать ничего лучше, чем лупить друг друга по морде: он меня — правой, а я его — левой. Это могло продолжаться еще довольно долго.
Он понял это. И сообразил, что меня лучше заловить на открытой местности. Он не сомневался в своей силе и знал, что тогда устроит мне настоящую раздачу.
Мимо нас проехал грузовик, который мы недавно обогнали. Если б тот водила знал, что творится в нашей будке, то обязательно остановился бы полюбоваться, и…
Продолжая молотить напарничка, я увидел, как удаляются красные огни того грузовика… Вдруг Пьеро открыл дверцу и спрыгнул на дорогу. Потом быстро нагнулся. С его стороны, под ступенькой, висел ящик с инструментами. Я услышал, как он гремит железками, и понял: он ищет дебелый гаечный ключ или рычаг от домкрата, чтоб наскочить на меня с ним с другой стороны.
Он стал обходить кабину спереди, похожий в мощном свете фар на громадную гориллу. Ему пришлось подобрать пузо, протискиваясь между передком машины и столбом.
Я опустил глаза и увидел, что грузовик остался на скорости. Я включил стартер, машина дернулась вперед… Послышался мягкий удар, потом жуткий крик Пьеро… Я увидел, как он взмахнул руками и уронил голову на грудь. Его наглухо припечатало к столбу; изо рта текла кровь.
Тут я заметил в зеркале фары новой машины. Я быстро выключил все огни и чуть отъехал назад, чтобы освободить труп толстяка. Он тут же исчез. Сжавшись в комок, я подождал, пока проедет тот грузовик. Потом спустился из кабины на дорогу.
Пьеро выглядел, прямо скажем, неважно. Ему раздавило грудную клетку, и от этого он будто уменьшился в размерах. Это здорово меняло его внешность.
С минуту я раздумывал, что делать дальше. Удобнее всего было положить труп в грузовик и продолжить путь. Это оставляло мне запас
времени — как минимум сутки. Чего еще желать?
Я открыл заднюю дверь фургона. За ней оказалась гора ящиков. Но оставалось там место и для пассажира — тем более для такого непритязательного, каким стал сейчас Пьеро-потухшие-фары.
Затолкать его в фургон оказалось сущим мучением. Он весил, что корова, этот свежезабитый увалень. А я и так дрожал, как осиновый листок, — измучился, пока молотил его по балде.
В конце концов я рванул его, как штангу, и сдюжил. Сотня килограммов в нем была — никак не меньше.
Я закрыл дверь фургона и вернулся в кабину. Все здесь воняло толстяком: его потом, его жиром. Ко всему этому примешивался водочный перегар.
Я чувствовал грустную горечь во рту…
XVI
Усталость навалилась в Морване, на подъезде к Ла-Рошпо. Началось с такого ощущения, будто укачивает на качелях, и нужно срочно остановиться, иначе потроха застрянут в глотке… Я не стал упорствовать — поставил крейсер на обочине, включил габаритные огни и улегся на сиденье. На лежанку, хоть и удобную, забираться не стал: от нее воняло толстяком.
Он тоже спал — там, сзади. Успокоившись навсегда с расплющенной грудью и перекошенным от боли лицом. Теперь-то он уже все понял и скинул карты…
Мне было немного жаль его. Неплохой был малый, где-то даже симпатичный. Намотал тысячи и тысячи километров — и вот, пожалуйста, доехал до этой роковой минуты.
В моем новом убийстве меня впечатляла только его предначертанность: в плане совести все было в порядке. Это определенно начало входить в привычку.
Рядом со мной все дохло — только успевай считать. Я один стоил целой эпидемии испанского гриппа…
Больше всего меня поражала этакая непринужденность, с которой я превратился в убийцу. До того, как меня посадили, я выступал по мелочам и ничем особенным похвастать не мог. Теперь же у меня появилась железная уверенность. Я сеял смерть полной горстью, хладнокровно, без малейших колебаний.
Санитар, старая кобыла, теперь вот — Пьеро…
Засыпая, я думал о них. Об этих троих, умерших только из-за того, что их дороги пересеклись с моей. И я находил, что судьба подсунула здоровенную свинью как им, так и мне.
Я проспал довольно долго, но сон мой был зыбким и непрочным. Всякий раз, когда мимо проезжала машина, я ее «осознавал» и испытывал смутную тревогу. Но в конце концов я все же забыл, что нахожусь на шоссе, и вошел в полосу полной пустоты.
Меня разбудили крики и стук в дверь. Я распахнул бельма и увидел потолок кабины, а под ним — грошового чертика на веревочке, которого прицепил на счастье Пьеро.
Стучали будто мне по чайнику. Я сел, зыркнул в окошко и тут же почуял слабость в коленках. Около грузовика стояли двое из дорожной полиции: с мотоциклами, в шлемах, сапогах и со злыми физиономиями. На груди у них висели медные бляхи, совсем как у быков-медалистов с сельхозвыставки.
Тот, что играл на дверце Вагнера, заговорил первым.
— Вы — Пьер Гиден? — спросил он.
Я на секунду растерялся, так как эта фамилия мне ни о чем не говорила, но тут вспомнил, что в Париже, в водительском кафе, соседи по столу называли толстяка Пьеро именно так.
— Да, а в чем дело? Я разве что-то нарушил? Стою с габаритами, как полагается…
Я говорил просто так, от фонаря, потому что уже наступил день — и, видать, давно наступил. Паршивый день — серый и какой-то больной.
— Дело не в этом, — сказал мотоциклист. — Вы брали в Париже попутчика?
Черт! Моя задница тут же захлопала половинками. Быстро же они меня вычислили! К счастью, мотоциклисты, похоже, плохо разглядели мою физиономию, или же она порядком изменилась от ударов толстяка.
— Да, — сказал я. — Было дело, подсадил одного братишку. Он обломался, ну, и…
— Это он вам все наплел: на самом деле это опасный преступник, бежавший из тюрьмы. Настоящий убийца. Куда он делся?
— Я его высадил в Аваллоне.
— Почему?
— Остановились пожрать. Потом он вышел покурить или нужду справить. Пришел и говорит, что его согласился подбросить какой-то турист. Оно и понятно: на легковушке-то быстрее, чем на моем паровозе.
Мотоциклисты набычились. Они-то, небось, уже воображали, как притащат с собой старину Капута и загребут поздравления, повышения, гип-гип-ура, портреты в газетах. А тут — на-ка, выкуси, птичка улетела!
— Преступник, говорите? — пробормотал я. — Ну и дела! Я-то думал, коллега… До чего ж люди притворяться умеют!
— Вы видели машину, в которую он сел?
— Да.
— Что за машина?
— Серый «пежо».
— Ах, вот как?
— Ага…
— А номер случайно не записали?
— А на кой черт? Если я начну записывать все, что по дороге попадается, этим записям конца и края не будет. Помню только, что регистрационные цифры 75.
— Это уже кое-что, — сказал первый мотоциклист.
Он записал липовый номер в свой блокнот: это какую же дырявую башку надо иметь, чтоб не запомнить такую элементарщину!
Пока он писал, второй спросил меня:
— А что это с вами стряслось?
Я поднес руку к лицу: на нем и вправду живого места не было.
— Не попал на подножку, когда слазил. Ночью, знаете, все не слава богу…
— Ну что ж, могло быть и хуже, — участливо брякнул он.
— Это уж точно!
Первый уже укладывал блокнот в карман, сунув карандаш в переплет.
— Как приедете в Ниццу, зайдите в комиссариат Для записи показаний.
— Хорошо.
— Кстати, мы уже звонили вашему шефу.
— На фига?! — завопил я. — Хотите, чтоб меня выперли? Старикашка строго-настрого запрещает нам брать пассажиров!
— Впредь будете осторожнее.
Вот скотина, а!
— Да откуда же я знал, что он…
— До свиданья! — перебил мотоциклист и по-отечески кивнул головой, будто предупреждая: «Смотри, парень, без фокусов, не то сцапаю когда-нибудь на вираже…»
Но я-то как раз не хотел, чтоб они меня сцапали, эти черти на колесиках!
Об этом я думал, глядя, как они один за другим удаляются по голубой дороге, похожие на игрушки из универмага.
Я знал, что мне не поздоровится, если я надолго засяду в этом грузовике. Через час-другой эти легавые усекут где-нибудь мою рожу — благо, ее показывают по всем каналам — и обман раскроется.
Я завел свою колымагу и притопил на полную. Но этот чертов шкаф будто топтался на месте. «Ягуар» мне был нужен, да и то…
Я добрался до Шаньи и на окраине города свернул на грунтовую дорогу. Я поставил грузовик вдали от шоссе, за густыми деревьями, чтобы его не сразу нашли, потом вернулся на дорогу и принялся голосовать.
Вскоре остановился один чудик-швейцарец, который ни фига не прорубал по-французски. Я попросил высадить меня в Шалон-де-Саоне; шоссе начинало вредить моему здоровью.
В Шалоне я купил себе новые тряпки в дремучем пригородном магазинчике, где наверняка не читали газет. Я вышел оттуда похожим на принарядившегося к празднику фермера, но меня это не смущало.
Мягкая шляпа, зеленые солнцезащитные очки — и я изменился достаточно, чтобы сунуться на вокзал. Мне повезло: через десять минут после моего появления в туннельном доме поезд уже уносил меня в Марсель.
* * *
Путешествие прошло без инцидентов. Я храпел в своем углу напротив старенького седого кюре. В ручонке он, как и полагается, держал молитвенник, но почему-то предпочитал глазеть на пейзаж.
В два часа дня я приехал в Марсель, а в три уже зацапал автобус на Сен-Рафаэль. Я чувствовал себя прекрасно: успел сходить побриться к марсельскому брадоскребу. В Марселе, городе, чья история уходит корнями в античность (как пишут спортивные журналисты, чьи авторучки всегда до отказа заправлены дежурными штампами), парикмахерам не в диковинку брить парня в синяках и со ссадиной на скуле.
Цирюльник, добродушный грек, побрил меня, стараясь не задевать ссадины и рассказывая, о предстоящем матче Реймс-Марсель, который должен был наделать шума в следующее воскресенье. По мне, так лучше такой разговор, чем сами знаете какой. Чтобы ему угодить, я сказал, что ничуть не сомневаюсь в победе марсельцев, и он тут же бесплатно пшикнул на меня облачком лавандовой воды…
Я вышел из автобуса на пересечении с дорогой в Гримо. В этом месте есть заправка, и я без труда нашел тачку, ехавшую в Сен-Тропез.
Солнце лупило вовсю, и Средиземное море изо всех сил старалось выглядеть, как на плакате в бюро путешествий. Жить было хорошо.
А Эмма-то, небось, и в ус не дует, думал я. Знай себе щелкает денежки, добытые благодаря такому идиоту, как я, которому палач едва не устроил великую стрижку… Правда, узнав, что я решил проветриться, она должна была чуток погрустнеть.
В Сен-Тропезе я поехал прямо в порт — в приморских городах иначе не бывает — и устроился на террасе кафе «Сенекье».
Тут уже начал попадаться англичашка; но не тот, что трясется над отпускными, а другой — богатенький психованный педик, приехавший поохотиться под ласковым южным солнцем на малолетних рыбаков и чистильщиков.
Я заказал пастис и разнежился. Было тепло, в воздухе веяло чем-то приятным, девчонки уже оделись по-весеннему, в яркое и цветастое… Только я не затем сюда притащился, чтоб на их задницы глазеть. Нет, у меня в голове зрел другой, более прибыльный проект.
Чтобы вылезти из дерьма, мне требовались деньги, и не какие-нибудь, а приличные.
А денег мне могла отвалить только одна персона — моя ненаглядная Эмма.
Взявшись за дело как следует, я смогу достичь цели. Я хотел этого изо всех сил. Я снова писал в повестке дня: «Иди или сдохни». Учитывая то, чем я за последнее время украсил свою биографию, полпорции пастиса такого обжору, как я, уже не устраивало.
Консьержка сказала — «Тамарис». Но тут, похоже, виллы и отели с таким названием встречались на каждом углу. Надо было найти именно тот, где жила Эмма, причем так, чтобы при этом не нашли меня. А отыскав его, нужно было еще туда войти. Вот тут могли начаться неприятности: ведь после моего побега Эмма непременно понаставила вокруг себя капканов. Она была слишком крученой, чтоб не догадаться, что я направлюсь к ней… А может быть, и наручных дел мастера тоже до этого доперли и уже навострили сюда свои кованые ботинки…
Я заказал еще один пастис. Он пошел, как в сказке. Маленький кубик льда в этой темно-зеленой водичке казался как раз на своем месте. Я смотрел, как этот крошечный айсберг плавает на поверхности и понемногу тает на солнце.
В воздухе витал здоровый запах шафрана. На синее море опускались спокойные сумерки. У берега покачивались кораблики. Благодать, да и только… Я подумал: пусть даже меня изловят — приехать сюда все равно стоило…
Мимо проходил жутких размеров мужик в нахлобучке с кокардой и вопил, что, мол, вышел свежий номер «Франс-Суар». Я купил, чтобы узнать, как обстоят мои дела.
В газетке говорилось, что кое-где отыскались мои следы: один продавец бананов видел, как я выходил из дома в обличье, или, скорее, оброжье трубочиста, одна влюбленная парочка видела, как я переодевался под мостом… Все тебя видят! Думаешь, что ты один, в покое, что кроме твоего ангела-хранителя никто на тебя не смотрит, а на самом деле весь мир изучает тебя, будто ты зажат между стеклышками микроскопа… Аж противно!
К моменту выхода «Франс-Суар» в печать они дошли только до моего бегства из Парижа на грузовике. Причем считали, что я сделал это ночью, и тут попали пальцем в небо. Зато уже расписывали, как меня сцапают, закуют в кандалы, привезут в Париж под надежной охраной. Облизывались уже. Тут пахло тремя колонками на первой странице! Благодаря моим выкрутасам бедняги марсиане могли малость передохнуть и поставить свои тарелки на техосмотр.
Я прочитал и анекдоты; они оказались куда веселее, чем статья обо мне. Я даже посмеялся, прочитав про ежика, который по ошибке полез вместо ежихи на одежную щетку. И пастис был что надо. В общем, хорошо мне было… Да только не мог я всю жизнь сидеть на этой террасе.
Я расплатился и отправился на поиски какого-нибудь тихого ресторанчика. А найдя, заказал рыбный суп и барабульку с укропом. В тюрьме-то рыбкой не баловали…
Потом я рассудил, что мне нужен отель. Но вот это уж было и вправду рискованно. За всеми портовыми гостиницами присматривают, как за молоком на плите. Без документов я на следующее же утро оказался бы в местной каталажке, что по соседству с мэрией.
И тогда меня посетила хорошая мысль. В стороне от порта стояло несколько старых, пришедших в негодность катеров. Оставалось только купить одеяло — и спи себе в брюхе любой посудины… Там, конечно, не три звездочки и даже не полторы, но все-таки крыша… Да еще в качестве бесплатного приложения — баюканье синих волн, которое доводит до слез матросских матерей…
Чтоб на меня не косились, я скорчил из себя мерзляка-отпускника, возвращающегося в Париж. Я пошел в магазин для туристов и купил там шотландское дорожное одеяло, бритву и кусок мыла. Потом небрежно добавил:
— Да, и дайте еще школьный ножичек для моего пацана…
С этим ножиком я, конечно, не мог начать блокаду Ленинграда, но чувствовал себя спокойнее.
XVII
Корабль своей мечты я нашел без труда. Он был пришвартован довольно далеко, на левой оконечности порта. От него осталась только ржавая обшивка: внутри его вычистили, как орех. Он казался огромным.
Я перелез через борт, положив на него вместо трапа длинную доску. С ножом я решил не расставаться: слишком уж он отвечал моей репутации. Правда, резал он не лучше дирижерской палочки… Я долго тер его о кусок железа, пока не почувствовал, что лезвие ожило. Тогда я сунул ножик в чехол и положил во внутренний карман пиджака.
Сон не приходил, и мне было одиноко. Одиноко, как потерпевшему кораблекрушение. Сидя в чреве пустого корабля, я забывал о том, что совсем рядом — шумный суетливый город. Я будто задыхался.
«Ну, парень, тебе еще клаустрофобии не хватало», — сказал я себе.
На колокольне бомкнуло девять раз. Вечер был теплым и ясным. Я взошел по доске к борту, и от морского ветра мне сразу стало веселее. Далеко слева праздничной гирляндой горели огни Сен-Рафаэля.
Мне нужен был свет. Темнота уже начала меня доставать. Темнота камеры, темнота убогой квартиры проститутки, темнота дороги, прошитой фарами грузовика… Нет уж, хватит! Я живой человек! Свет — это жизнь, так же, как звук и тепло…
Я спрыгнул на причал и медленно пошел к порту, где напротив прогулочных яхт выстроились роскошные американские автомобили.
И… я узнал среди них машину Бауманна. Эмма оставила ее себе. Ей, наверное, нравилась эта здоровенная зеленая тачка, вся хромированная, как ванная комната. Номер тоже был мне знаком: там стояли три девятки. Раз машина здесь — значит, Эмма или Робби тоже недалеко.
Вот она, желанная возможность повидать мою милую детку… Я бесшумно открыл заднюю дверь. И вдруг почему-то заволновался, как пацан, который впервые лезет на бабу.
В машине витал запах Эммы: этот аккуратный, хрупкий, сладкий запах, который всегда предшествовал ее появлению и который следовало вдыхать кончиком носа, как пробуют краешками губ хорошее вино.
Да, это была уже почти она. Я с изумлением понял, что по-прежнему в нее влюблен. Об этом мне говорило мое тело. Оно дрожало и терялось. И я задыхался, будто мне завязали на глотке узел.
Вот это был уж кайф так кайф. Хорошо, что я входил с ней в контакт через посредство духов. Иначе, если бы вдруг оказался с ней лицом к лицу, то остолбенел бы и даже пальцем не подумал шевельнуть.
Я уселся на коврике возле сиденья. Места, слава богу, хватало. Прислонившись спиной к дверце и опустив кнопку замка, чтобы не застали врасплох, я крепко задумался.
То, что я задумал и начал выполнять, было страшно рискованным. Но риска-то я и хотел. Мне нужно было как-то применить новые силы, бурлившие в моих жилах. А там — будь что будет.
Я постепенно привык к запаху, к атмосфере машины. И во мне мало-помалу снова проснулась ненависть к этой женщине. Я подогревал эту ненависть своими черными мыслями. Я думал о том, что она сделала, думал о той золотой паутине, которую она терпеливо соткала, чтобы поймать и погубить меня. Это ведь она сделала из меня пропащего человека, человека вне закона, убийцу…
Она пленила меня запахами своих духов и своей нежной кожей, завлекла влажными поцелуями и сочащимися любовью взглядами — и все для того, чтобы заставить меня убить ее мужа. Она с великолепной изобретательностью повесила на меня убийство, которого я не совершал… А потом к этому прибавилось и все остальное: медбрат из «Куско», шлюха из подворотни, толстый водила Пьеро, которому сейчас уже, небось, душновато становилось внутри фургона! Всех их следовало записать на ее счет. Но впереди всех — меня. Потому что я стал во всей этой истории пострадавшим номер 1.
Остальные посеяли в ней только свои жизни: эта незадача рано или поздно случается со всеми. Но я — я потерял нечто более редкое и, пожалуй, более ценное, чем жизнь: я потерял равновесие. Теперь передо мной навсегда закрылась одна дверь: стальная дверь, которую уже никто и ничто не откроет. Я навсегда попал за черту и был обречен убивать до тех пор, пока в один прекрасный день не подстрелят меня самого. Был обречен вечно убегать, изворачиваться, ночевать в трюмах брошенных кораблей, бриться под открытым небом…
Сами понимаете, к тому моменту, когда Эмма пришла забирать машину, я от подобных размышлений уже раскалился добела.
Она была одна. Я услышал, как она приближается: ее каблуки щелкали о бетонные плиты набережной. Она открыла переднюю дверцу, села за руль и захлопнула дверь за собой. Ее точеные руки нашли замок зажигания сразу, не ощупывая. Машина реагировала на малейшее нажатие педали. Она рвалась вперед, как корабль по тихой воде: беззвучно, без единого рывка…
Я затаил дыхание и с небывалой осторожностью вынул из кожаного чехла нож. Держа его в руке, я был уже другим человеком, а именно — тем, кого она из меня сделала.
Я стал сильным, резким, мощным.
Я почувствовал, что мы съезжаем с набережной и поворачиваем на узкую боковую улицу. Машина ехала не спеша. Высовываться мне было еще рано.
Начни я действовать прямо здесь — Эмма, чего доброго, затрепыхается и всполошит народ. За этим дело не станет: в такое время провансальцы еще не спят. Они лазят по своим городишкам и нюхают вечерний бриз. И правильно делают: он того стоит…
Наконец Эмма нажала на газ, и в окнах завыл встречный ветер.
Тогда я принял более естественную позу. Я двигался, стараясь не делать шума, но она почувствовала за спиной чужое присутствие. Я услышал, как она пробормотала «но…», затем сняла ногу с педали.
Мы находились на темном проспекте с двумя рядами деревьев. Можно было приступать.
— Ты, пожалуй, притормози, Эмма, — сказал я, блеснув ножом в лунном свете.
Она повела себя очень прилично, очень достойно. Машина плавно остановилась у обочины. Несколько мгновений мы сидели, туповато и немного смущенно уставившись друг на друга.
Справа поблескивало под луной море: ночная синева и серебро — прямо картинка для комнаты горничной, только живая. Даром что в этих местах жил сам Пикассо — живая природа неповторима и незаменима.
— Ну? — сказала Эмма.
Она уже успела взять себя в руки. Она уже полностью владела собой. Ее фиалковый взгляд протыкал мою шкуру насквозь. Я видел ее руки на руле: ни один пальчик не шевелился. Ее руки словно лежали на бархатной подушке, напоминая гипсовые или восковые слепки. Я невольно залюбовался ими.
Поскольку я, онемев от наскочившей эмоции, не отвечал, она с удесятеренной решительностью повторила:
— Ну?
— Ну, — сказал я наконец, радуясь, что голос мой звучит твердо, — я, как видишь, приехал тебя навестить.
Она покосилась на блестящее лезвие ножа.
— Интересная у тебя манера навещать.
— Не обессудь, — проворчал я. — Твоя манера прощаться требует достойного ответа.
Она пару раз хлопнула ресницами: мой удар достиг цели.
— Ты, я вижу, на меня в обиде…
— А ты как думаешь, моя прелесть? Мне ведь все шишки достались.
Между нами снова холодной рекой потекло молчание. Я раздумывал, как начать. Она размышляла, как отвертеться.
— Я знаю, милый, — прошептала она, — ты считаешь меня стервой.
«Милый»! Она называет меня милым! Ничего себе, наглость! Я тут же обрел прежнюю уверенность убийцы. Я вспомнил, что у меня в руках перо, и четко представлял себе, как в случае чего пущу его в ход.
— Только не надо! — бросил я.
— Что?
— Тебе субтитры написать, или как?
Она пожала плечами.
— Конечно, все свидетельствует не в мою пользу…
Тут я здорово разозлился. Она снова пыталась меня одурачить — и это после всего, что произошло! Видно, она меня совсем за дурака принимала.
Свободной рукой я залепил ей в рожу и в полумраке увидел, как на глазах у нее заблестели слезы.
— Я ни в чем не виновата! — несмотря на это, продолжала она. — Я стала жертвой обстоятельств…
Новая оплеуха заставила ее заткнуться.
— Тихо, — сказал я. — Говорить буду я. Знаешь, девочка, ты мне лихо перетряхнула жизнь. Благодаря твоим соблазнительским номерам я свернул на тропинку, которой не ждал. Эти несколько месяцев в тюрьме заставили меня хорошенько подумать, и я, представь, выбрал для себя лучшую философию, какая только бывает: философию приятия. Вместо того чтобы хныкать, я все принимаю, а потом — использую… Я замолчал. Она слушала подобострастно, с тем боязливым и встревоженным видом, который я впервые заметил за ней на суде и который делал ее совершенно другим человеком.
— Эпилог тут ни к чему. Знай только, что я умею проигрывать… ну, умею на свой манер. Ты хорошая актриса. Восхищаюсь и снимаю шляпу. Но, как ты, может быть, заметила в зале заседаний, я тоже могу работать тыквой, когда меня суют в дерьмо… Я в последнее время немало размышлял, извини, что повторяюсь.
— Я знаю.
Она и это знала — она всегда все знала. К тому же за меня красноречиво говорила моя физиономия. Мой моральный дух уже выплыл на поверхность, как всплывает со дна озера дохлая собака.
— Я одурачил легавых один раз — в тот день, когда мы познакомились. Мне это удалось и во второй раз, когда я в последний момент остановил свой процесс. И в третий — когда дал деру из больницы… Ты читала газеты?
— Конечно.
— И тебе не пришло в голову, что я могу направиться к тебе?
— Честно говоря, нет. Я предупредила консьержку, чтоб никому не давала моего адреса, и потом…
— И потом, ты думала, что я не смогу долго водить полицию за нос, верно?
— Думала или не думала — что теперь…
— Ладно, молчи.
Она замолчала.
— Ну, теперь ты видишь, в кого я превратился? Эх, Эмма, скверную ты у меня выработала привычку… Теперь я убиваю так же легко, как дышу, и задумываюсь над своими поступками не больше, чем когда выплевываю углекислый газ. Понимаешь?
— Я понимаю одно, — сказала она. — Ты был убийцей с самого начала. И мы сразу это поняли…
— Кто — «мы»?
— Мы…
Я не стал допытываться.
Она продолжала:
— Убийцей рождаются, Капут. Это как раз твой случай. Ты об этом не подозревал. Может быть, именно я заставила тебя это понять, но моя роль тут невелика. Рано или поздно ты понял бы это сам. Когда ты сел к нам в машину, то считал себя всего-навсего мелким жуликом и неудачливым воришкой. Ведь ты умен. Очень умен: это и сдерживало твой инстинкт.
— Может быть.
— Точно, Капут, точно.
Раньше она никогда не называла меня «Капут». Но теперь все время награждала этой кличкой, потому что я ее действительно заслуживал.
— Зачем ты приехал?
Я удивленно посмотрел на нее.
— Угадай!
— Чтобы спрятаться? Но это очень неосторожно…
— Нет.
— Чтобы…
— За деньгами, Эмма. За большими деньгами. Ведь в каком-то смысле я твой компаньон. Это благодаря мне ты сегодня купаешься в деньгах. Вот я и приехал за своей долей.
Она вздохнула.
— Ну, ты, однако…
— Что — я? Я тебе мешаю, да, Эмма? Тебе так хотелось, чтобы я поскорее подох, что ты отправила мне в тюрягу отравленную жратву. Кстати, именно благодаря ей, а значит, и тебе, я смог оттуда вырваться. Правда, смешно?
— Сколько ты хочешь?
— А сколько ты предлагаешь?
Она помедлила.
— Миллион устроит?
Я расхохотался.
— Эмма, я ведь не милостыню прошу, а то, что мне причитается!
— Пять?
— Нет, десять миллионов. Это еще и немного, я тебе по дружбе уступаю. Я давно мечтал загрести чемодан с пачками денег. И рад, что получу его от тебя. Я чувствую, что это принесет мне счастье…
Она пожала плечами.
— Ладно.
— Но ты хотя бы скажи, что считаешь сделку честной.
— Я считаю сделку честной, Капут!
XVIII
Она не двигалась. Я наклонился к ней, не забыв выставить вперед лезвие ножа, чтобы быть готовым к любой неожиданности.
— Ты что это? — спросила она.
Я приблизил свои губы к ее.
— Позволь-ка…
Она ответила на мой поцелуй, наполовину прикрыв глаза и оставив в них лишь тонкую щелочку фиалкового взгляда, жгучего, как огненная струя.
Вот теперь порядок. В тюрьме я много раз представлял себе эту минуту. Я ждал ее с таким остервенением, что она просто не могла не наступить.
Это было хорошо. Отодвинувшись от нее, я почувствовал такое облегчение, словно только что ею обладал.
— Ну, что теперь? — спросила она.
Я перешагнул через спинку сиденья и устроился рядом с ней.
— Кто у тебя обитает?
Она замялась.
— Никто…
— Не трынди, лапуля.
— Ну… Робби, кто ж еще.
— Ага, Робби. Его я тоже рад буду увидеть снова. Это твой любовник, да?
— Глупый ты.
— Раньше был, но теперь пошел на поправку. Таблетки от глупости принимал: «камерол» называются. Очень помогает. Вы с ним сообща все придумали, так ведь?
— Да нет же, милый, клянусь тебе…
— Вот клясться не надо. И «милым» меня тоже не надо называть. В нашем с тобой случае это звучит чуток по-идиотски. Ладно, теперь, когда мы снова вместе, давай к делу. Поехали!
— Куда?
— К тебе, красавица, куда же еще?
Она снова завела машину. Ездила она хорошо, этого дара я в ней еще открыть не успел. Обычно это дано немногим бабам.
Некоторое время мы катили по извилистой дороге, поднимавшейся в гору. Справа расстилалось под луной море. Я думал о старой посудине, где меня ждали мои одеяло и бритва. Пожалуй, я поторопился с покупкой этого скарба. Мне предстояло спать в более удобном месте.
— Только не надо глупостей, Эмма, — добавил я. — Можешь не сомневаться: если попробуешь меня прокатить, я без малейших колебаний перережу твою прелестную шейку.
Она пожала плечами:
— Понятно.
Она сделала резковатый поворот, видимо, занервничав от моей угрозы. Потом свернула с шоссе на дорогу, обсаженную худосочными пальмами. Их пересадили сюда уже взрослыми, и они, похоже, не слишком обрадовались предложенной им новой почве.
Тем не менее при лунном свете, среди стрекотанья цикад и на фоне моря они производили определенный эффект.
В глубине долины возвышалась великолепная вилла в провансальском стиле — янтарно-желтая, с полукруглой черепицей на крыше и лепкой вокруг окон.
— Скажите, пожалуйста… — проворчал я. — И давно ты сделала это приобретение?
— Нет, недавно.
— Я думал, твоя мечта — Южная Америка, но вижу, тебе достаточно и нашего южного побережья?
— Достаточно, пока…
Она хотела, видно, сказать «пока не закроют дело», но смолчала, сообразив, что это была бы чудовищная промашка. Дело могло закрыться только с моей смертью. И до тех пор Францию ей покидать было нельзя. Временами она явно теряла ориентировку — от излишнего нетерпения.
— Ты уверена, что Робби один?
— Уверена.
— Ты уверена, что у него не болтается в кармане пистолетище? В его-то карманах скорее найдешь пушку, чем авторучку… Ну, ладно, поглядим. Но если у него все же есть карманная артиллерия, скажи лучше, чтоб подальше запрятал: в случае чего в первую очередь достанется тебе.
Она не ответила. Машина безукоризненно ровно остановилась перед крыльцом.
— Молодчина, девка. Теперь веди себя спокойно, что бы ни случилось.
Мы вышли из машины и стали подниматься по ступенькам. Робби показался в тот момент, когда мы открывали входную дверь. Он стоял, выпрямившись во весь рост, в большой гостиной с белыми и серыми плитами на полу. При виде меня у него сделалось немного туповатое лицо, будто он получил по черепу дубинкой. Я опасался, что он завопит и к нему подоспеет подмога. Но ничего подобного не произошло, и Робби, совершенно растерянный, молча стоял предо мной.
— Привет, парень, — сказал я, подходя. — Рад, небось, видеть приятеля?
Этот здоровенный кретин улыбнулся потухшей улыбкой.
— О, Капут! — неуверенно отозвался он.
— Что, друг, прищурился?
— Ну, мы-то знали, конечно, что ты смотался, но…
— Ты приехал брать у него интервью? — язвительно спросила Эмма.
— А что, уже и поговорить нельзя? Подожди, крошка, скоро я буду в твоем распоряжении. Только прежде мне надо подвести кое-какие итоги с этим куском червивого мяса…
— Остынь, — огрызнулся Робби. — Будут всякие тут меня доставать. Особенно шавки вроде тебя. Ложил я на таких убийц!
Я вытащил нож и стал подходить, недобро глядя на него. В моей голове раздался негромкий едкий звонок, что звучал всякий раз, когда мне не терпелось кого-то закопать. Я увидел Робби сквозь багровую вуаль. Лицо у него было в красных тонах, и все вокруг подернулось той же кровавой дымкой.
— Эй, ты чего? — сказал он. — Чего ты, Капут? Что я тебе сделал? Что на тебя нашло?
Тут он понял, что его бредни меня не остановят. Теперь было уже поздно, я пересек свою черту и ничем ему помочь не мог. Моя совесть резко закрылась. Я превратился в сплошную убийственную волю, управлявшую этим ножом. Нож, который я терпеливо точил, накануне, сделался моим продолжением, частью моего существа. Он был чем-то вроде шпоры у бойцового петуха.
Робби схватил старинный стул, довольно тяжелый на вид. Но мужик он был крепкий и держал его легко, как тросточку.
— Береги шкуру, Робби, — сказал я горячим от ненависти голосом. — Береги шкуру, дружище… Тебе скоро обеих рук не хватит, чтоб свои потроха удержать…
Он резко отошел назад для размаха и швырнул стул в меня. Угоди он мне в рожу, башка разлетелась бы вдребезги. А до этого было совсем недолго. Я увидел, как старинная древесина летит прямо в мою физиономию, пригнулся, у меня свистнуло в ушах, и стул разбился о стену.
Я оглянулся через плечо. Эмма стояла у двери, прямая и бледная. Если бы она решила смыться, то запросто могла бы это сделать. Но не догадалась… Или же не хотела. Может быть, эта цыпочка любила острые ощущения, и ей надоело видеть драки только в вестернах!
Робби сейчас приходилось туговато. Он в отчаянии поискал вокруг себя другой стул, но в том углу других не оказалось. Тогда он храбро кинулся вперед, яростно размахивая обоими кулаками. Это он неплохо придумал. Я хотел увернуться, но на этот раз промедлил, и колотушка весом в добрую тонну попала мне прямым ходом в правый висок. У меня чуть не треснула башка. Некоторое время я не помнил ничего: ни кто я такой, ни где я нахожусь, ни зачем я здесь… Вторая плюха пришлась мне по носу — и вызвала что-то вроде отрезвляющего шока. Боль вытащила меня из моей летаргии. Я выбросил вперед руку, вооруженную ножом; она встретила пустоту. В это время Робби как раз пытался добавить хуком, но моя же неловкость помогла мне избежать удара, и Робби по инерции завалился вперед.
Он наскочил прямо на меня, и я рухнул вместе с ним. Подобный бой должен был неважно смотреться со стороны. Во Дворце спорта нас бы освистали будь здоров!
Руки Робби устремились к моей глотке, и он основательно сцапал меня за шею. Его большие пальцы вдавили мне кадык, и я начал отплывать. Воздух сматывался из легких с невероятной быстротой.
Тогда я наугад двинул пыркой и почувствовал, как лезвие вошло во что-то мягкое. Робби мигом ослабил захват, и из его ноздрей вырвалось рычание раненого зверя.
Я рывком вытащил лезвие и встал. Он остался лежать на полу, корчась от боли и зажав обеими руками брюхо. Но двум рукам еще никогда не удавалось задержать кровищу, бьющую из такого глубокого глазка. Лезвие ножа едва покраснело, но стало липким и вонючим. Запах был просто отвратительный. Я вытер нож о пиджак Робби и сунул его обратно в кожаный футляр — аккуратно, как примерный скаут, папенькин и маменькин любимчик. Всегда готов!..
— Принимай работу, — сказал я Эмме. — Видишь, я уже кое-чему научился. Заметь, что в данном случае это почти что необходимая оборона…
Она не ответила и подошла к Робби. Тот уже позеленел, как бутылочное стекло, и его рвало на ковер.
— Эй, Робби, — сказал я ему, — веди себя приличнее. Для слуги из хорошей семьи это дурной тон!
Меня распаляла злая радость. Мне было чертовски приятно видеть, как этот гад с хрипом выплевывает на пол остатки жизни.
Эмма скорчила гримасу.
— Он ужасно страдает, — пробормотала она. Несмотря на отвращение, ее голос звучал спокойно. — Что теперь делать?
Я пожал плечами.
— Может, ты еще в больницу предложишь позвонить? Три дня будут зашивать, а потом, если очухается, посоветуют глотать поменьше толченого стекла. Нет уж!
Я подобрал одну из ножек разбитого стула и воспользовался ею как дубинкой. Поскольку Робби лежал на полу, это было не так-то просто. Каждый раз, когда я грохал его по чайнику, он весь дергался. Наконец он открыл глаза, потом рот, и выдохнул нескончаемое «а-а-а!» И после этого — уже все: мужик подвел черту под своим дневником.
— Кажись, я и вправду стал большим специалистом по дубинке, — проговорил я. — Привычное уже дело: глушу, как кроликов.
Говоря это, я закатывал труп Робби в ковер. В качестве савана настоящий «тегеран» был толстоват, да уж ладно, пусть потешится парень. Тем более что похороны я ему готовил вовсе не с государственными почестями.
— Слушай, Эмма, я видел во дворе колодец. Он настоящий или просто для вида?
— Настоящий, только воды нет.
— Ничего, это даже лучше: не простудим твоего херувимчика. Идем-ка со мной.
Я взвалил Робби на плечи. Тяжеловат он оказался, мягко говоря. Но когда на тебя смотрит женщина, сразу чувствуешь себя могучим, как Кассиус Клей.
Я скинул его в колодец. Падение длилось довольно долго — бездонный он, что ли? — но наконец раздалось глухое «гуп».
— Вот так. Пошли, вдвоем спокойнее.
Мы вернулись в дом. Эмма выглядела задумчивой, Я запер за нами входную дверь.
XIX
Наступило долгое замешательство. Мы оба не знали, что сказать и что делать, драка с Робби была слишком сильной встряской.
— Ну и видок у нас, небось, — нарушил я наконец это долгое молчание. — Будто парень и девушка, которых только что познакомила тетка-сватья. Скажи?
Она вздохнула.
— Тебе что, жалко Робби?
— Я к нему привыкла…
— Он тебя дрючил, а? Не бойся, я не ревнивый.
— Нет, — пробормотала она. — Ты ошибаешься. Он был кем-то вроде верного пса. С ним было так надежно, спокойно… Честно говоря, мне его будет очень не хватать.
— Извини за нанесенный тебе ущерб, но я прежде всего думал о своей безопасности…
— Конечно. Хочешь чего-нибудь выпить?
— А что, дельная мысль.
— У меня есть неплохое виски.
— Тащи!
— Вон, стоит на камине.
Это была бутылка весьма почтенного скотча. Не того, что делают в Бордо, а настоящего, шотландского, в Кильте!
Я взял с полки два толстых, как иллюминаторы, стакана.
— Компанию составишь?
— Нет, спасибо. Не хочу я пить.
— А то давай — поможет взбодриться.
— Не надо мне взбадриваться…
— Ладно, как хочешь.
Я вернулся и сел в кресло напротив нее. Потом налил себе полстакана и поставил бутылку на пол рядом с креслом.
— Интересно, о чем ты сейчас думаешь, — вздохнул я.
Она отвела глаза.
— Может, все-таки скажешь?
— Пффф… Разве когда-нибудь удается выразить мысль до конца? — ответила Эмма. — Ты приехал сюда, произошла куча странных событий… и так далее. Наверное, я невольно пытаюсь все это понять… Вот скажи, Капут, как тебе видится будущее?
— Ничего мне не видится, Эмма. Я просто наслаждаюсь этим благословенным кусочком настоящего. Я свободен, ты красива… Впереди у меня — деньги, другие города… Чего же еще сейчас желать?
— Понятно.
Я поднял стакан к носу.
— За твое здоровье, милая дамочка.
Она посмотрела на меня.
— За твое, Капут.
Что заставило меня в эту минуту почувствовать опасность? Внезапно мной овладела страшная тревога, словно обрела ясные очертания какая-то неминуемая угроза. Между тем ночь была бесконечно спокойной, и я знал, что больше в доме никого нет. Человек, дошедший до моего состояния, умеет это безошибочно определять…
Я начал быстро размышлять. Опасность наверняка таилась где-то в этой комнате. Да: опасность исходила от НЕЕ! Именно ее взгляд подключал меня к сети высокого напряжения. Я узнавал этот взгляд: глаза убийцы, которая вот-вот убьет! Такой взгляд, наверное, появлялся и у меня, когда я высоко поднимал тяжелый предмет, собираясь обрушить его человеку на голову.
Я посмотрел на ее руки. Они лежали спокойно — как тогда на руле. Значит, смерть придет не от нее.
Ее взгляд начал меняться. В нем уже преобладало удивление, смешанное со страхом. Причем преобладало так явно, что я уже решил, будто пресловутый убийственный блеск мне только примерещился.
Мы посмотрели друг другу прямо в глаза. Мои чувства были обострены чуть ли не до крика. И тут я все понял. Понял очень легко, очень глупо. Понял потому, что она думала только об «этом», и между нами произошел некий телепатический феномен. Один из нас, похоже, обладал талантом медиума. А может быть, даже оба?
А она поняла, что я понял. Это была знаменитая минута: такая значимая, такая человеческая!
Я протянул ей свой стакан:
— Сделай милость, Эмма, выпей-ка это виски. Я знаю, что ты его любишь. Чтобы пить виски, не обязательно испытывать жажду. Совсем наоборот.
Она ничего не ответила. И я почувствовал себя счастливым, просто счастливым, потому что впервые по-настоящему одержал над ней верх. Она сдавала позиции. Я оказался сильнее.
Я сунул стакан ей в руки.
— Пей, Эмма! Пей… Если не выпьешь, я, чего доброго, перережу тебе горло… Так что успокой меня, доставь мне удовольствие: выпей!
И я перешел на крик:
— Пей! Да пей же ты, стерва!
Вместо ответа она вылила содержимое стакана на пол. Я посмотрел, как по плитке побежал ручеек.
— Ты ждала меня, верно, моя красавица? — продолжал я спокойным тоном. — Ты знала, что я еду к тебе. К тому же и в газетах сообщалось, что я взял курс на юг. Ты поставила машину в порту в качестве приманки. До чего же ты умна, Эмма! Ты все знаешь, все предвидишь! Ты заготовила виски для моей встречи. Если бы я выпил этот стакан, то сейчас был бы уже в вечном нокауте. Ведь именно этого ты желаешь всей душой, а? Тебе не живется, пока я живу. Для тебя ничего не начнется до моего конца!
Она пожала плечами.
— Для таких, как мы, жизнь — сложная штука, Капут…
Ее голос звучал устало и грустно. Хотите — верьте, хотите — считайте меня лопухом, но я почувствовал, что она испытывает искреннее отчаяние. Эмме все это уже давно опротивело. Ее нервы были на пределе.
— Признай — ты ведь меня ждала!
— Я ждала тебя, Капут.
— Ты хотела моей смерти.
— Хотела.
— Я тебя пугаю?
— Да… И потом, как ни странно, я тебя, наверное, люблю… Но твоя жизнь для меня невыносима, потому что она связывает мою. Зная, что ты существуешь, я не могу жить полной жизнью, понимаешь?
Тут она не врала. В этом я тоже не сомневался. Она уже не могла врать: не было сил, но главное — не было желания!
— Ты любишь меня, Эмма?
— Да… Я поняла это на суде, когда ты встал и заговорил. Ты этого разве не почувствовал, Капут?
— Более или менее.
— И вовсе не слов твоих я тогда боялась, а того чувства, которое просыпалось во мне…
Она плакала. Я увидел ее слезы, и на плечи мне навалилась розовая печаль. Добрая печаль, служившая мне компенсацией за мои беды. Мне было наплевать на то, что меня могли застрелить полицейские. Если меня сцапают, я уже не стану рваться на волю. Я пойду на гильотину с легким сердцем, потому что теперь уже замкнул свой круг. Я понял великий жизненный принцип, который осознают очень немногие: ничто ничему не служит; ничто не существует по-настоящему, кроме любви. Лишь любовью люди хоть как-то оправдывают свою жизнь. Причем все — от мелюзги до грандов.
— Я тоже люблю тебя, Эмма… Это так просто, так сладко…
— Я знаю…
— Что нам теперь делать, скажи?
— А что ты намерен делать?
— Что если уехать?
— Куда?
— Куда-нибудь… Например, в Италию. У меня есть в Ницце один дружбан, он может это устроить… А уже там, у макаронников, найдем капитана корабля, который не слишком придирается к паспорту…
Она слабо улыбнулась.
— Как в книгах, Капут?
— Да, Эмма, как в книгах…
Она помолчала. В ее фиалковых глазах парили облака, как в летнем закатном небе.
— Хорошо… — прошептала она.
Я вздохнул:
— Да, сейчас-то хорошо, только это долго не продлится. Скоро наступит рассвет. Наступит день со всеми его опасностями… Ищейки из кожи вон лезут ради твоего ненаглядного женишка…
Я встал на колени в луже виски и положил голову ей на грудь. Я чувствовал, как в моем черепе устанавливается медленный ритм ее дыхания.
— Ты не ответила на мой вопрос, Эмма… Ты хочешь уехать со мной?
Она покачала головой.
— Нет, любовь моя, это невозможно.
— Почему невозможно? Ты боишься?
— О, нет…
Я посмотрел на нее.
— У тебя… У тебя кто-то есть?
Она кивнула.
— Кто-то есть… — промямлил я, совершенно обалдев.
В этот момент зазвонил телефон.
XX
Аппарат стоял на камине, сложенном из розового кирпича.
Рекомендую: нет ничего лучше телефона, чтобы у вас все опустилось и опало! Ко второму звонку наш момент истины уже порядком размазался.
Я проворно вскочил на ноги.
— Что там еще? — злобно прошипел я, готовый все вокруг разнести.
— Это ОН! — сказала Эмма.
— Плюнь.
— Нет, я должна ответить.
— А я говорю — плюнь…
Она жестом остановила меня.
— Поверь, это и в твоих интересах тоже!
Это немного сбило меня с толку. Эмма встала и подняла трубку, прежде чем я успел ей помешать. Я бросился следом за ней и схватил второй наушник. Мужской голос на другом конце провода лихорадочно выкрикивал одно «алло» за другим. Он звучал очень встревоженно, и поэтому я не сразу его узнал.
— Это ты?! — крикнул голос.
— Да…
— О, слава Богу. А я уже испугался. Ну, что?
— Все в порядке, — проговорила Эмма, глядя на меня.
— Он…
— Да, — живо перебила она.
ЕГО облегченный вздох неприятно защекотал мне ухо.
— А Робби?
— Робби… Господи!..
— Для него все прошло не очень удачно, да?
— Крайне неудачно…
Он засмеялся — противным, пугающим смехом.
— Тебе, милая, наверное, очень одиноко среди этих двух мумий. А что касается Робби — так я даже рад. Это лучшее, что с ним могло случиться. Ладно, еду.
И он торопливо бросил трубку.
— Этого не может быть! — сказал я Эмме.
Она улыбнулась. Потом подставила мне губы, и ее тело — гибкое, послушное — вжалось в мое, плотно повторив мою географию.
Я жадно пожирал ее губы. Я до удушья прижимал ее к себе. В конце концов я опрокинул ее на кресло и овладел ею, как солдат-насильник.
Когда мы разъединились, она откинулась назад, обессиленная этим грубым объятием.
— Ты меня просто убил, — вздохнула она.
Я хотел что-то ответить, но она знаком повелела мне молчать.
— А сейчас я должна тебе кое-что рассказать!
И она рассказала. Но я и так уже знал часть того, что она говорила.
* * *
Я притаился за дверью. Эмма осталась сидеть в кресле.
На улице послышался шум мотора. У крыльца он затих. Хлопнула дверца машины, по каменным ступенькам застучали каблуки. Он вошел, прикрыл дверь, не заметив меня, — он смотрел только на Эмму.
— Где он?
Я ответил сам:
— Здесь!
Тогда Бауманн обернулся, и мы посмотрели друг на друга так, как никогда еще не смотрели друг на друга двое мужчин.
Он не изменился. Это был все тот же элегантный и аккуратный мужчина; от него веяло все той же изысканной непринужденностью. Разве что в его седеющей шевелюре появилось несколько новых серебряных нитей. Его глаза смотрели еще холоднее, чем прежде.
На его аристократической физиономии начало медленно-медленно появляться изумление. Первым его чувством была, несомненно, ненависть. Но сейчас он уже все понимал и видел, что баба его провела.
— Для покойника вы выглядите очень неплохо, мсье Бауманн…
Я сделал легкое движение, от которого заблестело лезвие ножа в моей руке. Он спокойно посмотрел на перо и повернулся к Эмме. Вот это было по-мужски. Надо иметь классную закалку, чтобы вот так отвернуться от наставленного на тебя ножа.
— Он угрожал тебе, пока ты говорила со мной по телефону, верно? — спросил он.
Она не ответила, и я сделал это за нее.
— Я ей не угрожал, Бауманн. Она действовала по своей доброй воле, и после, того как вы повесили трубку, мы с удовольствием занялись любовью. Вы уж извините: нам так давно не представлялось случая…
Его лицо побледнело.
— Она все мне объяснила, — продолжал я. — Все. Ваша афера была организована превосходно. Браво! Итак, вы с вашим нью-йоркским братом торговали фальшивыми долларами?
На этот раз он понял, что я не блефую и что жена его вправду предала. Я не мог всего этого угадать. Это могла мне рассказать только Эмма.
Внешне он не дрогнул, только сразу будто постарел, и под глазами у него появились темные полукруги, как от неумеренного секса.
Я не впустую трепал языком. Эмма мне действительно обо всем рассказала. Так я и узнал, что организатором во всей этой истории являлась не она, а он.
Да, по части серого вещества этот мужик любому мог дать сто очков вперед.
Много лет подряд он получал фальшивые купюры из Штатов, где закрепился его брательник. Но в последнее время отношения между ними испортились. Бауманн — француз начал запускать лапу в долю Бауманна-американца. Тот разозлился и объявил, что едет разбираться.
Поль только этого и ждал. Мое присутствие под его крышей навело его на мысль уладить дела и ловко испариться. Уладить дела он собирался, разумеется, на свой манер: ликвидировать братца, который вздумал лезть вон из упряжки, а заодно с ним — и старика, завещавшего ему свое состояние.
Брат Бауманна был невероятно похож на него. Поль решил воспользоваться этим сходством и на цыпочках сойти с дорожки, которая запахла жареным.
Накануне убийства он встретился с братом и пообещал, что рассчитается, как только получит наследство старика. Разумеется, для получения наследства требовалось, чтобы старик откинул копыта. А он, похоже, с этим не спешил, несмотря на все свои недуги. Так что Бауманн решил ему чуток подсобить и попросил брата обеспечить ему алиби. Брат согласился поехать в Руан и выдать себя за него при встрече с новыми клиентами. Поль дал ему свои документы, чтобы тот показал их в отеле, а себе оставил бумаги «американца». Брат, доверившись ему, отлично сыграл свою роль. Его-то я и убил на той темной улице, обманутый их сходством и пребывая в полной уверенности, что передо мной Поль…
Теперь, когда я все знал, мне отлично вспомнилось то странное гнетущее чувство, охватившее меня на ночной улице у театра, когда преследуемый обернулся. Он, казалось,
не узнавал меня… Еще бы — ничего удивительного. Помнил я и другое странное ощущение, подступившее к горлу в тот момент, когда я спихивал труп в канализационную траншею. Ощущение было вызвано тем, что мой инстинкт, мои пальцы, мои нервы не признавали его. Да только я был слишком взбудоражен и ничего тогда не заметил.
Эмма была лишь послушным инструментом в руках этого супермошенника. Пока она готовила свое персональное алиби, Бауманн спокойно зарезал старика и растворился в природе, оставив труп на моей совести.
Когда я начал брыкаться на процессе, он не на шутку струхнул. Испугался, что я все разболтаю, чтобы уберечь свою голову, что труп его брата подвергнут повторному вскрытию — и тогда уж точно обнаружат подмену. И он придумал фокус с отравленными лакомствами. Их отнесла в тюрьму подружка Робби.
Перед такой великолепной махинацией мне оставалось только снять шляпу. Все было сработано по высшему классу. Получив деньги брата и наследство старика, они стали по-настоящему богаты и дожидались только развязки моего дела, чтобы спокойно поднять якорь. Но сообщение о моем побеге их порядком всполошило. Бауманн тотчас же понял, что я приеду в Сен-Тропез вымогать у Эммы деньги и мстить ей за обман. Они подготовились к моему приезду. И все действительно произошло согласно его предположениям, даже смерть Робби, которой Бауманн горячо желал. Робби был для него опасен: знал гораздо больше, чем нужно…
К несчастью для Бауманна, возникли непредвиденные обстоятельства…
Я торжествовал.
— Ты считал себя умнее всех, Бауманн. Ты казался себе королем преступного мира, человеком, которому удалось невозможное… Но на деле, как видишь, ты всего-навсего жалкий рогоносец.
Я решил, что он сейчас грохнется в обморок — до того он побледнел. Он поднес руку к груди.
— Так ты что, еще и сердечник? — спросил я.
Он отвел руку от груди — быстро, очень быстро. Она сжимала пистолет, такой же элегантный, как сам Бауманн.
Красивую американскую пушку для уважающих себя гангстеров. Может быть, подарочек почившего братца?
Я бросился вперед, крепко сжимая нож. Но когда добежал до него, было поздно: он уже стрелял в Эмму. Честь одержала в нем верх над осторожностью, и он начал с нее. Мужики — все сплошь идиоты. Жалкие придурки, которыми безраздельно властвует их собственное сердце.
У меня до сих пор стоит в ушах звук четырех выстрелов, которые прорвали стоявшую в комнате тягостную тишину. И короткий крик Эммы.
Потом она прошептала:
— Поль!
Потом умолкла: не очень-то много удается сказать, когда у тебя в груди четыре пули такого калибра. Я взмахнул ножом. На этот раз не было ни красного тумана, ни звона в голове. Движение моей руки было предначертано судьбой. Оно принадлежало не только мне одному: это через посредство человека совершалось неизбежное.
Бауманн остался стоять. Я выпустил рукоятку и дикими глазами смотрел, как она торчит перпендикулярно человеческой спине. Целую вечность картина оставалась неизменной и, казалось, застыла навсегда.
Наконец то, чего я с таким нетерпением ждал, произошло: Бауманн рухнул на пол.
Теперь уже ошибки не было: я укатал именно его. Он наконец получил свое.
Тогда я подошел к Эмме. Она тоже распрощалась с жизнью. Ее фиалковые глаза будто сразу выцвели и утратили былую загадочность. На лице осталась лишь сильная тревога и, как мне казалось, капелька любви ко мне.
— Эмма, — прошептал я, — Эмма…
Я все еще повторял ее имя, когда шагал по шоссе на восток, к итальянской границе.
Я знал, что на этот раз выкручусь, что все для меня сложится удачно, и целая куча народу только меня и ждет, чтобы благополучно протянуть ноги на бескрайних мировых просторах.
Я повторял «Эмма, Эмма» в такт своим шагам. И каждый раз слышал в ответ злобный скрипучий смешок судьбы.
Что ж, пусть попробует бросить мне вызов: я ее не боюсь. Ни ее, ни кого-либо другого.
Чтобы как следует себя в этом убедить, я остановился у придорожных скал, покрепче уперся ногами в землю, вызывающе уставился в небо — и запел.
Часть вторая
СВОИХ И ЧУЖИХ
I
На белом свете полно людей, которые мечтают увидеть Венецию, прежде чем лечь на два метра под землю и нюхать корешки одуванчиков.
Венеция была у меня перед глазами, но подыхать я не собирался. Совсем наоборот. Слишком уж я изголодался по жизни. А что может лучше утолить этот голод, чем вольный воздух Адриатики?
Вот уже три дня я бродил по узким улочкам города и мало-помалу утрачивал привычку оборачиваться на каждом шагу. Французские полицейские, казалось, остались в каком-то далеком, почти несуществующем мире, откуда я вырвался раз и навсегда. Теперь в голове у меня была только одна забота — ничтожная по сравнению с теми, что мучили меня раньше: добывать по нескольку лир в день, чтобы хоть как-то прокормиться.
Мне было чертовски спокойно жить под итальянским небом. Италия — одна из тех немногих стран, где можно щелкать клювом с голодухи, не испытывая никаких комплексов. Здесь голод — тетка, с которой можно совокупляться без всякого стыда. Так что голодал я с этакой беззаботной легкостью, и когда зубищи мои начинали слишком уж выпирать изо рта, я старался выдать этот голодный оскал за улыбку…
Надо сказать, мне до сих пор не верилось, что я так удачно выбрался из той трясины. После всех своих злоключений я нашел-таки своего приятеля из Ниццы, который и устроил мне круиз в страну яичной вермишели. Маленький катерок, возивший туда главным образом блондинок, высадил меня на генуэзской пристани, и я начал всеми мочалками вдыхать теплый портовый воздух.
Приятель подкинул мне адресок своего знакомого — воришки, который мог пристроить меня в Неаполе, но, поразмыслив, я не поехал, — Не люблю я путешествовать по туристическим путевкам. К тому же я понимал, что с моей биографией новую жизнь так просто не начнешь.
Интерпол обязательно разошлет меня в профиль и анфас всем ищейкам полуострова. И с Неаполем, пожалуй, надо было повременить: туда сползается жулье со всей Италии. А где жулик, там и легаш: арифметика простая.
Венеция показалась мне более заманчивой из-за обилия туристов. Денег у меня хватило только на поезд, на белые льняные штаны и очки в белой перламутровой оправе. Нацепив все это, я сразу стал типичным Джузеппе.
План у меня был простой: снять какую-нибудь англичанку в районе Риальто. Я решил искать именно «инглиш», потому что их, как правило, легче всего окрутить. Они наивнее остальных: сразу верят в вашу пламенную любовь, стоит лишь поцапать их за буфера и помурлыкать «ай лав ю». Кстати, это, пожалуй, было все, что я мог сказать по-английски, но я решил, что хватит и этого. Тем более что я хотел подцепить бабу постарше, чтоб была охоча до молодых парней. Ну и, конечно, побогаче. Но я быстро понял, что замки на песке строить трудновато, особенно если и песка-то поблизости нет. Романтическая встреча с богатой тетенькой в стиле «пекинес и несоленое печеньице» — такое бывает только в трехгрошовых книжонках. Напрасно я расхаживал по всему городу и поигрывал усами, как только на горизонте возникала какая-нибудь уродина. Бабы воротили нос даже от такого красавчика, как я. Надо признать, в этих краях свирепствовала страшная конкуренция. В Венеции каждый здоровый мужчина от четырнадцати до восьмидесяти годков только и ищет, куда бы пристроить своего молодца. Тут никак не скажешь, что мужик нынче пошел не тот. Везде их полно, прямо под ногами путаются — только успевай переступать!
Ясное дело, турист женского пола был начеку. Возможно, в бюро путешествий родного города дамочкам даже вручали памятку, предостерегающую от озабоченных итальяшек. Мне так и виделась напечатанная на всех языках фраза: «Советуем поберечь Ваши чемоданы и Вашу честь…»
В день приезда я на последние гроши купил себе полдюжины горячих пирожков и позавчерашний номер «Франс-Суар». И то, и другое переварить оказалось нелегко. Пирожки жарили на горьком масле, а газету, по-моему, слишком уж наперчили.
В ней была здоровенная статья насчет Капута. В этот раз мне уже посвятили чуть ли не всю первую страницу. От моих подвигов у всех глаза на лоб лезли. Между строчками так и брызгала желчь. В верхах и в низах, похоже, всполошились как никогда. Все — от комиссаров до лесников — летели вверх тормашками с насиженных мест… За каждый прокол кто-то должен отвечать, и когда до главного виновника не добраться, находят других. Так было всегда, и ничего тут не поделаешь. Вспомните, сколько тумаков зарабатывают ни в чем не повинные мальцы, когда папочку заставляют заплатить квартальный налог или когда у мамочки красный день календаря! Такова жизнь…
Полиция предполагала, что я сбежал в Италию; и я поздравил себя с тем, что пренебрег маршрутом, который начертил мне приятель из Ниццы.
Здесь я чувствовал себя по-настоящему свободным, несмотря на окружавшую меня со всех сторон воду и на нехватку денег…
Но все же паршиво было сидеть без гроша! Я, правда, осуществил мелкую кражу на борту пароходика, курсирующего взад-вперед по Большому каналу, но поскольку сдуру залез в сумочку какой-то местной старушенции, то выудил лишь одну сиротливую бумажку в сто лир…
Я совсем приуныл желудком, и мне казалось, что с каждым часом у меня вырастает дюжина новых зубов. В голове постепенно становилось так же пусто, как в брюхе, а в ушах то и дело раздавался колокольный звон. Виной тому была моя слабость, да и сами колокола, впрочем, тоже. Их в Италии без счета. А священников сколько! Нет-нет да и увяжется один: тычет под нос деревяшку с ликом святого и плачется в жилетку, пока не отстегнешь деньгу. Правда, начиная с сегодняшнего утра они ко мне уже не цеплялись. И по этому признаку я понял, что моя бедность окончательно выплыла на свет. Безденежье — это как неизлечимая болезнь. Поначалу незаметная, она точит вас медленно, но верно, пока не наступает роковая минута ее внешних проявлений.
* * *
Больше всего меня беспокоила та маленькая гостиница, в которой я остановился, с красивым названием «Стелла де Оро». Она располагалась на маленькой жуликоватой улочке у площади Святого Марка. Я рискнул снять там номер, не имея в кармане ни одного медяка. Как писал кто-то: «У хозяина был орден Почетного легиона, и я доверился ему»… В данном случае поверил он, хозяин. Но это, видно, была лишь минутная слабость, поскольку утром на подносе с завтраком лежал счет: пять тысяч лир с небольшим… Для любого другого сумма была вполне терпимая, но для меня тут же вылезла за всякие рамки.
Возвращаться без денег было нельзя: это грозило крупной разборкой с хозяином. Тем более что на вид он был не из сговорчивых. Его длинные черные усищи а-ля Версингеторикс ничего хорошего не предвещали, равно как и глаза цвета кьянти. Он наверняка держал в ящике под кассой солидную резиновую колотушку, чтоб раскошеливать халявщиков… Такие приключения часто заканчиваются порчей портрета и визитом к карабинерам. Они потребуют показать документы, тут все и раскроется. Чтоб отправить меня на родину, им достаточно будет всего лишь пересечь Италию в ширину, а это сущий пустяк. Если бы в длину, тогда еще ладно: успел бы поразмыслить…
Спускались сумерки. Это просто так говорят — спускались. На самом деле они стекали с неба, будто ячменный сироп. Воздух был липким и сладким.
Я сел на скамейку на площади Святого Марка и стал смотреть на голубей, представляя их ощипанными и лежащими на блюде с зеленым горошком. Получался отличный натюрморт, от которого в желудке булькало и урчало. А еще ныло в кишках и покалывало под языком…
Конечно, можно было попробовать сцапать одного из них, но как его изжарить? В общем, дело было дрянь. Свобода с туго затянутым поясом — это не предел мечтаний…
Я чисто машинально посучил пальцами, будто крошил хлеб, и зашептал «цыпа, цыпа» самому храброму из голубей, который безрассудно ворковал прямо под моим носом.
Тут чей-то голос спросил:
— Вы француз?
Я живо поднял нос и увидел его.
Он был довольно высокий — повыше меня, — хорошо сложенный, с тонкими чертами лица, светлыми и вдобавок обесцвеченными волосами, глазами дикой лани и прочими внешними проявлениями своих нетрадиционных наклонностей. Я сразу признал в нем стопроцентного гомика. Не только по легкому светло-желтому костюму и нежно-розовой рубашке, а в основном по мелким аккуратненьким жестам и улыбке «пользуйтесь пастой «Колгейт»»!
В руках он держал фотоаппарат.
— Да, я француз, и не очень-то этому рад, — ответил я.
Мое неприветливое обхождение его не отпугнуло. Он выставил мне два ряда влажных, блестящих, завлекательных зубов.
— Вы не могли бы сфотографировать меня на фоне голубей?
Он и сам чем-то напоминал мне голубя, этот пижон-прилипала.
— Сфотографировать? В такое время? А вам не кажется, что у вас получится битва негров в туннеле?
— Нет, у меня хороший аппарат: «Роллей». И диафрагму я уже отрегулировал. Прекрасный выйдет закат.
Я догадывался: он приехал в Венецию по путевке и спешит нащелкать фотографий, чтоб потом похвастать перед друзьями, Его «Роллей» действительно внушал уважение. Я слыхал, что такие штуковины стоят целое состояние.
— Но учтите: я не умею им пользоваться…
— О, это сущий пустяк! Центрируете меня в окошке и нажимаете вот на эту кнопочку, видите?
Я с большей охотой зацентрировал бы ему в рожу кулаком, потому что «уйдзи, процивный, я с тобой не дружу» — это не мой стиль. Но в голове у меня уже начало кое-что выстраиваться, причем полным ходом. И для успешного осуществления моих надежд калечить этого милого дружочка было нельзя.
Я старательно заснял его портрет.
— Вот спасибо! — прощебетал он. — Как это любезно с вашей стороны… Позвольте, я угощу вас аперитивом?
Отлично: я ему, похоже, понравился.
— С удовольствием…
Чего-чего, а забегаловок в стране гондольеров хватает. Мы уселись на террасе какого-то кафе.
— Что будете пить? Я, пожалуй, выпью белого «чинзано»… Он такой нежный и приятный…
— Я тоже. И, если вас не затруднит, я бы еще заказал бутерброд…
Он удивленно моргнул: подобные манеры показались ему мало совместимыми с правилами хорошего тона.
Я улыбнулся.
— Вы, может быть, приняли меня за попрошайку… Действительно, черт возьми: в этих краях их полно. Но со мной случилось нечто иное…
Он наклонил голову, готовясь выслушать вранье, не выходящее за рамки допустимого.
— Я остался без гроша, — сказал я. — Три дня назад, в день моего приезда, ко мне подошел очень приличный с виду парень…
Как видите, я подсунул ему первоклассную затравку: как раз по его части…
Его нарастающий интерес и бокал «чинзано», который вторгся в мой пустой желудок, как армия завоевателей, вызвали у меня небывалый прилив красноречия. Я сплел ему отличную сказочку — он, похоже, был не прочь, чтобы и с ним такое приключилось…
У того парня, сказал я, были очень приятные манеры; но он пригласил меня в заведение, пользующееся дурной репутацией, и там он и его дружки отобрали у меня бумажник. И вот теперь я сижу на бобах и жду, пока брат, которому я отправил телеграмму с просьбой о помощи, вышлет мне деньги в письме, да еще боюсь, как бы конверт не вскрыли на французском почтамте, и так далее, и тому подобное…
Он то изумленно охал, то испуганно ахал, то кудахтал, как почтенная матрона: «Боже! Какой ужас! Не может быть!» Он меня до того раздражал, что мне все сильнее хотелось щелкнуть его костяшками по челюсти, чтобы успокоить нервы.
Он сразу же предложил одолжить мне денег. Я, разумеется, изобразил из себя гордого кабальеро. Я, мол, не тот, за кого вы меня принимаете, у меня, мол, собственного достоинства — девать некуда, и все такое. Он начал настаивать, и через три минуты у меня в руке оказался десятитысячный билет.
— Ладно, — сказал я. — Соглашаюсь только потому, что вы мой соотечественник. Но тогда скажите мне, пожалуйста, свою фамилию и адрес.
— Да не стоит вам беспокоиться из-за такого пустяка!
— Нет. Долг — это святое.
Ну, он и раскололся: зовут его Робер Рапен (счастливые, по его мнению, инициалы). Остановился он в «Альберго Реджина» — роскошном заведении в районе Лидо… Он ни в чем себе не отказывал, и вместо подушки у него, похоже, был пузатый мешок с деньжатами, навевающий безмятежные радужные сны.
Потом начал рассказывать он. Мне на его историю было наплевать, но я был вынужден уделить ему немного внимания — хотя бы на его десять тысяч лир. Купюра жгла мне карман. В голове вертелась одна мысль: как бы поскорее пойти разменять ее в ресторане и заказать столько жратвы, чтоб потом штаны было не застегнуть!
А он все трепался, трепался… Жил он в Париже. По крайней мере, до смерти отца… Тут его глаза увлажнились:
— Папы не стало месяц назад. Для меня это был ужасный удар! Он держал антикварный магазин… Я все продал. Все подчистую: и магазин, и квартиру, и нашу виллу в Марн-ла-Кокетт…
Надо было слышать, как он произносит название этой дыры!
— Что поделаешь, — продолжал этот хлястик, — я остался совершенно одиноким. А Париж всегда был для меня невыносим. Вот я и решил съездить в Италию, чтобы хоть как-то развеяться, а вернувшись, поселиться на Лазурном берегу и открыть магазин спорттоваров…
Я покосился на него. Нечего сказать, странная у него была манера носить траур. Правда, глубина горя измеряется вовсе не цветом одежды… Пожалуй, он все же здорово переживал, но итальянское солнце залечило его душевную рану. Я видел, что теперь он уже доволен жизнью, как молодой кот. Пусть почтенный папашка кормит червячков — отжил свое, и черт с ним! Все теперь — сынишке: билеты с портретами, кремовые костюмчики, гондолы и гондольеры! Монеты в его ручонках, похоже, долго не держались.
— Может быть, поужинаете со мной?
Он скучал. Он, видно, уже пытался снять парочку коридорных из отеля, но цеплять местных жителей все же побаивался — мало ли что им в голову взбредет. Моя французская национальность, мой бархатный взгляд и мои городские манеры внушали ему гораздо больше доверия. А то, что я сидел без гроша, сразу давало ему бесспорное преимущество предо мной. Он уже играл себе марш победителя, этот самый Робер. Я был как нельзя более подходящей добычей…
— Охотно… — как бы со стороны услышал я собственный ответ. В конце концов, почему бы еще и не пожрать задарма? Сэкономленные деньги означали для меня выигрыш во времени.
Мы отправились в какой-то модный кабак. С артистами международного класса и американскими попками. Чтоб культурненько поскучать и позевать, лучше места и не надо. Съехавшиеся отовсюду важные шишки хвастались своими прилипалами-подружками; порция икры стоила три тысячи, и тот бедняга, который вздумал бы заказать для начала форель с печеными яблоками, рисковал заслужить всеобщее презрение…
Я был не совсем подходяще одет, чтобы хряцать цыпленка с карри, но мой синьор Роберто просто ликовал. У присутствующих уже не осталось на наш счет никаких сомнений. То, что я его любимый дружок, — это было так же заметно, как Эйфелева башня на кухонном буфете. С виду я относился к категории соблазнителей из низшего сословия, от которых чаще всего балдеют как раз гомики — аристократы. Когда мы входили, на нас таращились вовсю. Дамочки смотрели на меня с симпатией и интересом, потому что педы всегда вызывают у них тайную нежность и подогревают их скрытые желания. Мужчины — настоящие, разумеется, — слегка морщили нос, но те, другие, прямо пожирали меня взглядом. Им всем страшно хотелось отведать стройного красавчика вроде меня. А один Паша в тюрбане — тот вообще, видно, готов был загнать на барахолке весь свой гарем, чтоб купить хоть чуток противоестественного экстазу.
Вы себе представить не можете, что чувствуешь, когда забрасываешь в пустое брюхо ужин вроде того, что он мне устроил. Я подметал его глазами, втягивал носом, уплетал за обе щеки… Я исходил слюной, как старый немощный пес, сидящий у подвала колбасной лавки… Это был настоящий рай. Я почти обессилел от удовольствия. Я чувствовал себя маленьким мальчишкой. Куда и подевался убийца Капут… Мой аппетит, мое наслаждение делали меня безобидным и безвинным. Все будто началось заново. Я будто только что выскочил из маминой утробы, и первородного греха во мне было не больше, чем денег в кармане у папуаса.
Рапен с умилением смотрел, как я чавкаю: даже про собствённый ужин забыл.
— До чего же вы, видно, изголодались! — пробормотал он, когда я выплюнул в пустую тарелку последнюю персиковую косточку.
Теперь меня охватил легкий стыд. Все вокруг смотрели на меня, как смотрят на только что вышедшего из-за кулис шпагоглотателя: с любопытством и даже с некоторым восхищением.
— Хотите, поедем в какой-нибудь клуб? — спросил Робер. — Я тут знаю несколько довольно любопытных местечек…
Я покачал головой.
— Нет, сегодня не могу. Извините, но мне нужно отдохнуть. Я падаю с ног…
— Что ж, тогда я вас отвезу, ладно?
И отвез — на моторной лодке, которой управлял одетый в форму лодочник. Меня уже не интересовали ни полная яркая луна, ни залив, ни цветные витражи дворцов, отражающиеся в темной воде… Я, как святыню, вез домой в животе свой ужин. Я радовался начинающемуся во мне трудному и благородному процессу пищеварения. Радовался простой, почти животной радостью…
Я понял, что ему хочется засечь, где я живу. Он проникновенно сказал мне «до свиданья» у входа в мою «Стеллу де Оро», и я тяжело вполз по крутой лестнице наверх.
Хозяин встретил меня пристальным взглядом, выстукивая пальцами «Риголетто» на крышке стола.
Я без единого слова положил перед ним десятитысячную купюру.
Его лицо засияло, как Париж вечером 14 июля. Он отсчитал мне сдачу и воскликнул завидным бельканто:
— Буона нотте, синьоре!
— Чтоб ты сдох, засранец! — ответил я ему с сердечной улыбкой.
Жратва возвращала мне силы: я полным ходом превращался в прежнего Капута.
II
На следующее утро, когда я храпел громче «боинга», в дверь осторожно постучали.
Я зевнул, как аллигатор, пытаясь сообразить, кто это может быть. Потом мои подозрительность и недоверчивость резко выставились вперед, как антенны насекомого. Когда стучат в дверь гостиничного номера, в котором живет убийца, — это ничего хорошего не предвещает. Это может означать многое: например, приход карабинеров с полными карманами железа.
— Кто там? — спросил я.
— Это я, Робер…
Я узнал его сладенький голосок. Этот хлыщ времени не терял: решил застать меня еще в постели, чтобы я не успел упорхнуть.
Накануне, видя мою усталость, он решил не настаивать, но сегодня утром будущее принадлежало ему.
Я открыл.
Ни дать ни взять — картинка из журнала мод! На нем были сиреневые брючки и белый пуловер, а на запястье — золотой браслет, пробудивший у меня некоторый интерес. Наглаженный, причесанный, надушенный, он опять улыбался, как на рекламе зубной пасты.
— Доброе утро, соня вы этакая! — сюсюкнул он.
— Доброе утро.
— Я хотел предложить вам прогулку к морю…
— Да я вообще-то не готов…
— Да что там готовиться! Держу пари, это займет у вас не больше трех минут. Кстати, я захватил вам свитер.
Надо же, какой внимательный… Обо всем подумал.
— Мне очень рекомендовали один ресторанчик в лагуне. Туда нужно добираться по берегу моря. Местечко, говорят, замечательное: стоит среди скал, в сказочно красивом уголке…
«Местечко» я себе уже представлял: мандолины и кьянти, кьянти и мандолины…
— Хорошо. Подождите меня внизу. Видели там плетеное кресло? Оно заменяет здесь светский салон.
Робер тоненько хихикнул.
— Какой вы забавный. Послушайте, а почему бы вам не переехать в мой отель? Обслуживание у нас превосходное…
— Потому что мои средства к существованию не позволяют мне обитать во дворцах…
Он пожал плечами:
— Ну, к этому мы еще вернемся…
Он никак не мог заставить себя выйти. Ему, видно, хотелось поглазеть на мой утренний туалет. Меня все это уже начинало порядком доставать. Я чуть было не послал его ко всем чертям прямо на месте, но сдержался, вспомнив, что должен ему десять тысяч лир.
— И все же — прошу прощения. Я сейчас спущусь.
Он нехотя убрался. Я закрыл дверь и задвинул засов.
Если б этот тип не раздражал меня до такой степени своими педерастическими ужимками, приключение могло бы показаться мне даже в какой-то степени занимательным. Но он был мне слишком уж неприятен, а долгого соседства с неприятными мужиками я никогда не мог выносить.
Внезапно у меня возникла идея. Причем идея отличная. Такая, которую не стыдно было бы вписать в историю достижений человеческого мозга…
Я быстро побрился, вытащил из-под матраца свои штаны, натянул его лимонно-желтый свитер и старательно причесал волосы.
Результат получился неплохой. Я стал красивым парнишкой — со спокойным загорелым лицом и в довольно приличных шмотках.
Я сунул свои последние деньги в задний карман брюк и спустился к гомику.
Он сидел в том самом косолапом кресле и листал «ла газетту».
— Вы просто очаровательны! — восхищенно воскликнул он.
Я молча потянул его к выходу.
На моей узкой улочке было полно народу. Здесь витали запахи кислого вина и плесени, к которым примешивался слабый душок горячего подсолнечного масла. Горожане болтали, как попугаи…
Мы медленной и счастливой походкой дошли до площади Сан-Марко. Я раздумывал, с чего лучше начать, и испытывал некоторые затруднения: с одной стороны, мне не хотелось сразу хватать быка за рога, но с другой, я чувствовал, что гомик вот-вот заработает лучший за всю мою карьеру удар правой в челюсть.
Я выпалил свою заготовленную тираду посреди залитой солнцем площади, в окружении сотни голубей:
— Робер, я парень прямой. Я не хотел бы вас шокировать, но…
Он побледнел, решив, что я собираюсь объявить об ортодоксальности моих нравов. Бедный херувимчик уже горько сожалел, что обманулся и зря потратил время на ухаживания. Поэтому мои дальнейшие слова подействовали на него лучше, чем ведро крема на больного геморроем.
— Знаете, вы мне очень нравитесь. Я чувствую, что между нами зарождается крепкая привязанность…
(Держи карман шире).
Ну, он, конечно, сразу расцвел и возбудился до упора.
— …Вот только Венецию я в последнее время не переношу. Я столько здесь натерпелся, что этот город стал мне просто отвратителен. Скажите, вас здесь ничто не держит?
— Нет-нет, — поспешно заверил он. — Даже наоборот: я собирался отправиться во Флоренцию…
— Так давайте уедем?
— Когда же?
— Прямо сейчас!
— Ого, дружочек, какой вы решительный!
— Вы себе даже не представляете, насколько вы правы, — искренне подтвердил я.
Уговорить его не составило никакого труда. Он любил жизнь, а значит, и неожиданности.
— Хорошо. Я только заеду к себе в отель, заплачу за номер и соберу вещи. А вы пока тоже собирайтесь. Встречаемся на причале Сан-Марко через час. Договорились?
— Идет.
И я бросил ему такой взгляд, от которого растаяла бы ледяная гора.
— А вы молодчина, Робер…
Он томно улыбнулся, нисколько не сомневаясь в том, что уже меня покорил, что я уже стал его могучим тигром и пушистым зайчиком…
Я посмотрел, как он удаляется своей танцующей женской походочкой… Да, есть все-таки на свете люди, которые сами мчатся, нагнув голову, навстречу своей судьбе.
Часом позже, усевшись на причал и поставив рядом свой тощий чемоданчик, я смотрел в грязно-зеленую воду Большого канала, по которому плыли пучки соломы, гнилые овощи и дохлые коты. Увидеть в этой вонючей клоаке поэзию мог только последний псих. А между тем в этот самый момент во всем мире люди пускали слюни, разглядывая венецианские каналы на цветных календарях…
— Э-эй! — крикнула моя «Роберта».
«Она» подплывала к причалу на моторке, которой правил служащий «ее» отеля.
Я поднялся на борт.
— Мы куда — на вокзал? — спросил я.
Он удивленно моргнул:
— Зачем — на вокзал? У меня машина.
— Ах, вот как…
В каком-то смысле это меня очень даже устраивало…
Тачка у него была, я вам скажу, — не бабкина каталка. Рапен отхватил себе «альфа-ромео»… Классный метеор, державшийся на дороге не хуже укатчика. На таком снаряде можно было давить сто восемьдесят по прямой и даже этого не замечать.
Я устроился по его десницу. Он включил радио, и на фоне ветра какой-то малый затянул сиропно-сладкую песенку. Вкупе с солнцем и морем это било наповал. Мне казалось, что я залез прямо в фильм компании «Парамаунт».
— Скоро собираетесь возвращаться во Францию? — спросил я.
Он вел машину неплохо, только как-то напряженно. Сев за руль, он сразу утратил свою обычную любезность. Над его бровями появились дугообразные морщины, и он покусывал нижнюю губу.
— Вообще-то спешить мне некуда, — ответил он спустя несколько секунд. — Главное — успеть вернуться до пятнадцатого.
— Разве вас никто не ждет?
— Никто. Других родственников, кроме отца, у меня не осталось, а с парижскими друзьями я надолго попрощался…
Слышать все это мне было намного приятнее, чем песню того мудика, что драл глотку перед миланским микрофоном.
По шоссе все время сновала взад-вперед куча разномастных автомобилей. Это меня никак не устраивало. Лучше было отпустить поводья и ждать своего часа, надеясь, что он пробьет вовремя, потому что вскоре мой озабоченный дружок должен был начать массированное наступление…
Мы проехали несколько деревушек, добела раскаленных адриатическим солнцем. На запруженных улицах за машиной скакали драные пацаны, протягивая грязные руки.
— Страна протянутых рук! — пробормотал я.
Рапен легонько, чуть презрительно улыбнулся.
— Хорошая страна. Здесь каждый готов на что угодно ради чего угодно…
Скотина! Он раздражал меня все сильнее и сильнее.
В полдень мы сделали остановку, чтобы пожрать в маленькой кафешке для пижонов. Там он начал ухаживать за мной уже всерьез. Окружавшая нас романтическая атмосфера окончательно завертела этому везунчику башку. Я сдерживался, как мог, отвечая на его рукопожатия вымученными улыбками, от которых он еще больше распалялся…
Но я довольно быстро нашел подходящее продолжение. Когда мы выходили из ресторана, я сказал:
— Знаете что, Робер? По-моему, сейчас было бы очень неплохо отдохнуть на песочке в какой-нибудь укромной бухте…
От волнения его физиономия изменила цвет и стала розовой, как конфетка.
— О, вас всегда осеняют такие удачные мысли!
Мы стали наугад пробираться к берегу по пустынным дорогам, на которых в ослепительном свете солнечного круга сверкала белая пыль. Машина то и дело подпрыгивала на ухабах.
Берег показался мне голым, облезлым и каким-то диким. Перед нами было одно только море — зеленое и проворное, как кипящая в кастрюле вода.
— Смотрите — мы совершенно одни, — промурлыкал Робер.
— Совершенно, Робер…
— И это прекрасно, ведь так?
— Еще бы!
Мы вышли из машины, потому что дальше дорога превращалась в едва заметную тропинку, сползающую прямо на пляж из мелкой гальки.
— Плавки брать? — спросил он.
— Да нет, не стоит…
Действительно, плавки ему были ни к чему.
Воздух обжигал. Насколько хватало глаз, справа и слева простирался только этот выцветший пляж, в который вгрызалось зеленое море. И — никого. Мы были в полном одиночестве.
Я вздохнул полными легкими, но это не дало мне ожидаемого ощущения бодрости.
Я подобрал большой голыш странной формы — сдавленный посредине, как некоторые картофелины.
Рапен шел впереди меня. Его волосы развевались по ветру. Он выглядел счастливым.
Ненависти я не испытывал. Я был спокоен, как хороший мастер, выполняющий работу, для которой рожден.
Я отвел руку назад, изогнулся, как дискобол, и изо всех сил опустил камень ему на затылок.
Шок получился мгновенный. Он сразу же упал ничком.
Я бросил камень и боязливым пальцем дотронулся до раны. Все основание черепа сделалось необычно мягким… Он попал в нокаут раз и навсегда.
По лицу у меня струился пот. Не от волнения — я хранил олимпийское спокойствие, — а от этой безжалостной жары. В небесах не было ни одной птицы, в море — ни одного паруса. У меня создавалось странное впечатление, что я — последний человек на нашей дурацкой планете. От этого делалось как-то не по себе и даже слегка захватывало дух.
Я посмотрел вокруг. Позади, метрах в тридцати, возвышался холмик из красноватых камней. Я ухватил Рапена за руку и оттащил туда. Потом приступил к грязной работе. Сначала его следовало раздеть. Шмоток на нем было немного: свитер, брюки и трусы.
Я уложил его головой на широкий плоский камень, потом, поднатужившись, поднял на полметра приличный обломок скалы и уронил его на рожу покойника. Из-под обломка брызнуло во все стороны. Я снова поднял камень, чтобы посмотреть, что получилось. Я должен был это увидеть: не из садизма, а потому что мой план требовал сделать его лицо неузнаваемым.
На этот счет я мог больше не беспокоиться: его башку раздавило, как помидор. На месте лица была неописуемая багровая каша, из которой торчали клочки светлых волос.
От этого мне стало малость противно, и я снова накрыл это гадкое месиво тем обломком скалы. Потом насобирал деревяшек, которые море всегда выбрасывает на берег. Я сложил их в кучу, бросил сверху свитер, брюки, трусы — и поджег. На такой жаре можно было поджечь даже снеговика. Деревяшки мигом затрещали и запылали, как факел.
Когда как следует разгорелось, я сунул в огонь обе руки Рапена. Что делать — того требовал мой план. Из костра потянуло противным запахом горелой свиной щетины. Я похвалил себя за то, что выбрал такой дикий уголок: этот запах должен был разноситься очень далеко.
Когда огонь догорел, от одежды осталась лишь кучка черного пепла. Руки трупа тоже почернели. Его вздувшиеся поджаренные ладони потрескались, как картошка в печи. Попробуй-ка сними с него теперь отпечатки…
Я осмотрел местность. Чтобы увидеть труп, нужно было наткнуться прямо на него. Я понял, что «Роберту» вряд ли найдут в ближайшие дни, если, конечно, не произойдет никакого каприза судьбы. А к тому времени жаркое солнце превратит мертвеца в такое, чему и название-то нельзя будет подыскать. С опознанием карабинерам придется подождать. Подождать, пока рак на горе свистнет…
Я разделся и нырнул в море. Вода оказалась очень теплой. Я перевернулся на спину, раскинув руки и ноги. Ощущение было чертовски приятное — будто лежишь на качающейся перине. В глазах стояло небо — светло-голубое, почти белое.
Освежившись и отдохнув, я оделся и пошел к машине.
При виде ее у меня возникла соответствующая реакция: я испугался. На меня напала противная паника, с которой удалось справиться далеко не сразу. Эта машина, стоявшая среди такого марсианского пейзажа, бросалась в глаза, как гора Сен-Мишель! Нужно было сматываться, и как можно скорее.
Я уселся за руль и нажал на стартер, который успел хорошо разглядеть по дороге сюда, Мотор чихнул — и все. Мне показалось, что волосы у меня на башке встают дыбом. Я мгновенно сообразил, что ключ зажигания остался у Робера в кармане. Тогда я не догадался обшарить его брюки, но теперь вспомнил, как он вытащил ключ из замка, прежде чем выйти из машины: это автоматический жест любого водителя.
Без ключа я уехать не мог и продолжал дрожать от страха. Я не находил в себе мужества снова подойти к той дохлятине, которая уже начала гнить на галечном пляже. Но что было делать?..
Я бегом вернулся обратно. Мое сердце будто сорвалось с привычного места и разгуливало в груди, как пацан на перемене.
При моем приближении в воздух с недовольным жужжанием поднялась целая эскадрилья зеленых мух. На их пиру я был незваным гостем. Они только начали читать праздничное меню, а я взял да и испортил им банкет…
Но когда они поняли, что мне нет до них никакого дела, то снова обсели неподвижного голого человека. Я начал лихорадочно разгребать пепел. Ох и воняло же от него! Этот запах услышишь, даже если ноздри залепишь пластилином. Его чувствуешь не одним только шнобелем — всей своей полезной площадью. Он проникает в тебя через поры…
Ключ был здесь — только весь посинел от огня. Я зажал его в кулаке и помчался к «альфе». Заводя мотор, я увидел себя в зеркале заднего вида: я был красный, как рак, с безумными глазами, которые нагнали на меня еще больше страху…
Я проделал обратный путь по той же разбитой дороге. Машина прыгала, как коза, я то и дело ударялся лбом
о стекло. Выжать сто километров на такой терке мог только псих, не испытывающий никакой жалости к амортизаторам. Рессоры трещали, как бретельки лифчиков в районном кинотеатре. Но я все-таки справился. Вскоре впереди показалось шоссе. Я остановился за кустами и подождал, пока на трассе будет посвободнее. Когда справа и слева стало пусто, я выехал на асфальт и дал жару.
Машина снова поехала почти беззвучно. Меня никто не видел…
Я снизил скорость и включил приемник. Какая-то девчонка голосила по-итальянски песню, изготовленную в США. И я постепенно проникся окружающим меня счастьем — нежными красками, теплом, мелодичными звуками…
Я был доволен собой. Мне в один присест удалось заполучить деньги, машину и… и новую личность. Словом — полный набор.
Теперь, если, конечно, соблюдать определенную осторожность, может получиться, что я выбрался из болота навсегда!
III
Вот так, не зная куда, я проехал несколько часов. Я давил на газ, доверившись судьбе и инстинктивно стараясь держаться подальше от побережья. К четырем часам дня я очутился в пригороде Болоньи. Настало время принимать решение. Я остановился и начал обследовать содержимое чемоданов. Да уж, Роберу Рапену не грозила опасность остаться с голой задницей. У него оказалось сумасшедшее количество костюмов, причем один невообразимее другого. Предпочтение он явно отдавал фиолетовым тканям. Честное слово, среди его предков наверняка были монахи! Это, кстати, во многом объясняло бы его наклонности…
Помимо одежды, я нашел в чемоданах кучу разных хрустальных флакончиков, купленные в Италии эротические романы, шкатулку с несколькими мужскими украшениями… и револьвер. Причем не какую-нибудь игрушку, которой следовало ожидать, а серьезный парабеллум калибра 38. Эта выбивалка для пальто, скорее всего, придавала Рапену уверенности, когда он снимал парнишек. Но в конечном итоге, как видите, ничем ему не помогла.
Я сунул револьвер под кожаный чехол своего сиденья, чтоб был все время под рукой. С этим попутчиком я уже не чувствовал себя одиноким.
Документы и деньги моего покойничка оказались в кармане, устроенном в дверце машины. Я нашел сначала паспорт, потом пачку грошиков, завернутую в газету «Стампа». Я даже присвистнул от радости: там было двести тысяч лир, плюс сто билетов по пять тысяч французских франков и восемьдесят долларов десятками. Всего получалось около семисот тысяч. Я мог с уверенностью смотреть в будущее.
Рассовав деньги по разным карманам, я стал рассматривать фотографию на паспорте. Конечно, я имел мало общего с этой картинкой, но если обесцветить патлы, сбрить усы и вовремя поджимать губы, можно было надеяться, что пограничники ни к чему не придерутся.
Я положил паспорт на место, в карман на дверце, и тут мои пальцы наткнулись в глубине кармана на какой-то новый предмет. Вернее, на два предмета. Это были чековая книжка и книжка банковского счета в Парижском биржевом обществе.
В чековой книжке была использована только одна страница; на корешке стояла надпись: «Я — 600 000». Это выглядело весьма театрально. Я пролистал банковские бумаги, и когда увидел итоговую сумму в колонке кредита, у меня захватило дух. Десять миллионов четыреста десять тысяч! Целое состояние…
Я разозлился от мысли, что такая сумма будет многие месяцы лежать на счету мертвым грузом и в конце концов утонет в дырявом кармане государства.
Однако чем черт не шутит? Может быть, поработав как следует мозгами, я сумею ее усыновить. Но это было не к спеху. Пока что мой план состоял лишь в том, чтобы затаиться в какой-нибудь захудалой провинциальной дыре и спокойно почитывать газетки. Если труп Рапена не обнаружат на ближайшей неделе — тогда уж можно будет подумать о будущем всерьез.
Успокоенный этим решением, я въехал в Болонью.
Мне не составило никакого труда найти шикарную парикмахерскую. Внутри салон напоминал флорентийский дворец: розовый мрамор и зеркала в декоративных рамках.
Играя роль гомика, как настоящий водевильный актер, я объяснил, что хочу обесцветить волосы. Мне волей-неволей приходилось перевоплощаться в моего персонажа. В данный момент меня звали Робер Рапен (счастливые инициалы, как сказал этот несчастный идиот!), и это возлагало на меня определенные обязательства…
* * *
Без усов и со светлыми волосами я стал выглядеть еще голубее, чем мой «натурщик». Мне сделалось намного спокойнее: никто, кроме тех, кто близко знал Рапена, не мог заподозрить подмену. Мне повезло еще и в том, что у моего «клиента» не осталось родственников, Я перехватил его как раз на жизненном повороте. А когда жизнь совершает поворот, наступает лучше время для смерти. И я вовремя преподнес ему этот подарок.
Кто знает, может быть, я, сам того не подозревая, совершил идеальное преступление!
В Болонье я перекусил, причем с большим аппетитом. Я больше не думал о том трупе с раздробленным черепом и обугленными руками, что остался лежать на пляже. А если и думал, то разве что так, как вспоминаешь о неудачном фильме, на который пошел от нечего делать.
После еды мне захотелось перепихнуться с бабой. Еще бы: я уже сто лет не расстегивал свой пояс целомудрия, и пора было догонять.
Если у тебя «альфа-ромео», то «бета-джульетту» найти проще простого. Особенно в Италии. Я немного покатался по центру города, кидая смертельные взгляды на фланирующих девок. Одна улыбнулась мне; я остановился, открыл дверь… Она без лишних церемоний залезла в машину. Это была красивая брюнетка с матовой кожей. От нее хорошо пахло, под мышками у нее виднелись черные закрученные волоски. Вообще-то я не люблю чересчур мохнатых баб и обеими руками голосую за стопроцентную женственность; но эта меня все же возбуждала.
На ней было красное платье с большим декольте и ярко-зеленая жакетка. Когда все это уселось рядом со мной, у меня создалось впечатление, что я на карнавале в Ницце. Я дружески поглаживал ее по ляжке, чтобы компенсировать свою неразговорчивость.
В конце концов я увез ее в укромное местечко и лихо вздрючил прямо в машине. С отелем мне связываться не хотелось. Дело было не в экономии: просто торопило время.
Скачка удалась на славу: настоящая симфония для задних рессор! Амортизаторам «альфы» опять, если можно так выразиться, грозил конец…
Я отвалил девчонке двадцать тысяч За такие деньги она готова была отдаться всем придворным эфиопского царя, несмотря на давний итало-абиссинский конфликт. Она извивалась как припадочная и вопила так, что закладывало уши. В общем, такая заводная оказалась — будто съела нитроглицерина или приняла отвар из шпанской мушки. Мне говорили, что у итальянок в этом месте свербит, но таких номеров я, признаться, не ожидал.
Когда она стала кончать, то издала неистовый вопль, навалилась на меня и принялась обнимать, душить, царапать. У меня было такое ощущение, что я поссорился с тигрицей.
Я мягко отстранил ее, открыл дверцу с ее стороны, выпихнул ногами на траву и уехал. Мне требовалась от нее лишь минутка экстаза; для спектаклей она могла искать себе другого партнера.
Ночь была прекрасна и нежна.
Я покинул Болонью. Мне следовало соблюдать свою программу и искать спокойную деревушку, в которой я мог бы ненадолго поселиться.
Около полуночи я остановился в поселке под названием Боккатине, расположенном посредине между Болоньей и Генуей. Я изрядно устал, и мне как раз призывно подмигивала вывеска ярко освещенного отеля.
Я вышел из машины и пошел договариваться насчет комнаты. Входя в двери заведения, я машинально сунул руку в карман — и меня словно окатили ледяной водой. Я вынул руку из кармана и порылся в других: все оказались пустыми. Тут я понял, почему шлюха из Болоньи устроила мне такое родео: старательно изображая удовольствие, она потихоньку занималась моими карманами… У меня остались только те восемьдесят долларов, которые я сунул в задний кармашек на брюках — только и всего. Но комнату я все-таки взял.
IV
Я попросил у хозяина гостиницы бутылку чего-нибудь покрепче, чтоб легче было примириться с поражением. Ей-богу, я чувствовал себя круглым идиотом! Провернуть такое мощное дело — и позволить первой попавшейся козе увести у себя всю наличность… Тут было отчего приуныть. Поначалу мне даже захотелось вернуться в Болонью и поискать ту девчонку. Это было вполне естественное желание. И если б я ее нашел, то уж показал бы этой поганой тротуарной подстилке, где раки зимуют. Мигом проветрил бы ей потроха… Но обдумав все по второму разу — а второй раз всегда удачнее первого, — я отменил этот план, потому что выполнить его было не так-то легко. После такой кражи девка обязательно спрячется. Но Даже если я ее разыщу, она станет все отрицать, позовет на помощь, и в конце концов дело обернется против меня. Что ж, придется пока жить на оставшиеся несколько долларов…
Я провел в отеле четыре дня, почти не отрываясь от бутылки. Я читал все газеты, насколько это позволяли мои скудные познания в итальянском языке и карманный словарик, купленный у торговца сувенирами. Но насчет трупа на пляже в газетах не было ни слова. Мой Робер, похоже, продолжал спокойно разлагаться под солнцем Адриатики. Когда его найдут, он, наверное, уже будет похож на селедочный хребет. Пусть тогда легаши попробуют опознать эту кучу дерьма! Им только и останется, что сообщить приблизительные приметы убитого в тот отдел, что занимается без вести пропавшими, а поскольку официально Робер Рапен по-прежнему жив и здоров, там не смогут установить ровным счетом ничего.
На этот счет я мог быть вполне спокоен.
Я снова начал видеть жизнь в розовом цвете и раздумывать над тем, как организовать свое завтра. Меня заботила одна немаловажная вещь: где-то во Франции лежат и пропадают на банковском счету осиротевшие десять миллионов франков, которые самое время прибрать к рукам. Но добраться до них представлялось делом весьма нелегким.
Час за часом я вертел эту проблему в своей башке, лежа на кровати с сигаретой в зубах и сопровождая раздумья местным вином. Вино было не бог весть какое, но довольно приятно отдавало виноградом. Алкоголь отлично прочищает мозги — и в конце концов я придумал.
Я не мог просто так заявиться в банк и снять деньги со счета, поскольку настоящего Рапена там наверняка хорошо знали. Конечно, в моем распоряжении была его книжка вкладчика, а в паспорте стоял образец его подписи, подделать которую для меня было сущим пустяком. Я уже попробовал это сделать и получил довольно неплохой результат. Однако деньги следовало изъять из банка обходным путем, и у меня уже появились на этот счет кое-какие соображения.
На четвертый день я бодро собрал чемоданы и собрался отчаливать. К этому времени я подписал в книжке три чистых чека, чтобы не нужно было смотреть на образец, если придется выписывать чек в присутствии посторонних.
Раз уж я стал Рапеном, то буду играть его роль. Играть правдиво, до конца… И чтобы иллюзия была полной, я возвращался во Францию.
Кто-то скажет: нужно быть настоящим безумцем, чтобы на такое решиться. Однако должен сказать, что авантюра была не такой безрассудной, как могло показаться при первом рассмотрении. Во-первых, я бежал из Франции всего десять дней назад, и полиция считала, что я скрываюсь в Италии. Во-вторых, у меня была солидная «крыша», и я существенно изменил свой облик. А в-третьих, я вознамерился осесть в каком-нибудь тихом местечке и поменьше высовывать оттуда нос. Мой выбор пал на городок Мантон: он был удобно расположен у самой границы.
Я выехал ранним утром, и уже к вечеру без малейших осложнений пересек французскую границу. Когда заявляешься куда-нибудь за рулем «альфа-ромео», никто к тебе, как правило, не цепляется. Мои бумажки были в полном порядке, и таможенники даже не стали заглядывать в чемодан.
Я въехал в Мантон с видом бравого туриста, возвращающегося в родные пенаты. Городок мне понравился: это был настоящий райский уголок, утопавший в кустах мимозы и лимонника. Голубое небо, лавандовое море, золотистые холмы… Узкие улочки, пахнущие шафраном… Жить здесь было так же приятно, как в Италии, и далеко не так утомительно.
В первый вечер я снял номер в непримечательном отеле. Воздух Франции пьянил и будоражил меня. Я жадно вдыхал старые родные запахи. Несколько дней, проведенные вдали от родных мест, прибавили мне сил, но я был бесконечно рад, что вернулся.
На следующий день я немного покрутился по центру города и остановился у агентства по сдаче недвижимости. Его широкие голубые плакаты сулили клиентам сказочные апартаменты по вполне доступным ценам.
Я вошел.
В холле висела небольшая овальная табличка со стрелкой и важной надписью:
«АДМИНИСТРАЦИЯ»
Я постучал. Чей-то жалкий голосок посоветовал мне войти; я переступил порог и оказался в этаком веселеньком бедламе. Просторная комната была оклеена желто-серыми обоями, на которых виднелись длинные потеки. Интерьер составляли металлические шкафы с выдвижными ящиками, невероятно древний письменный стол, красная статуэтка Будды с угрожающей улыбкой на лице и велосипед эпохи инквизиции.
За столом восседал маленький старичок в сером суконном костюме и черной шляпе-канотье. Он страшно косил; дужки его толстых очков были скреплены лейкопластырем. Его огромный носище с синими прожилками напоминал карту судоходных путей.
Вдобавок ко всему он еще и шепелявил.
— Что вам угодно?
— Мой врач посоветовал мне пожить несколько месяцев на побережье; мне нужен небольшой уютный домик с пальмой у крыльца и видом на море.
Он оживленно улыбнулся.
— Вы хотите купить или снять?
— Снять.
Он оценивающе оглядел мой стильный фланелевый костюм. Осмотр его, похоже, удовлетворил. Он вздохнул так, будто у него вырывали три метра кишок, и сказал:
— У нас есть то, что вам нужно. Дом на окраине города, четыре комнаты, ванная. Сдается на четыре месяца по смехотворной цене — двести тысяч франков… Желаете взглянуть?
— Пожалуй…
Стоявшая у тротуара «альфа», которую мне вымыли перед выездом из отеля, сверкала вовсю. Старикан даже заморгал; он сразу пожалел, что назвал такую низкую цену.
— Дом сдается просто задаром, — бормотал он, усаживаясь на кожаное сиденье. — Это только потому, что сезон уже заканчивается. Зато в мае, например, вам пришлось бы платить вдвое больше…
Домишко действительно оказался что надо. Светло-голубые стены и золотисто-желтая крыша. Он был сработан в грубоватом деревенском стиле, но выглядел удобным и сразу же мне понравился.
— Годится, — сказал я. — Заверните.
Мы вернулись в его немыслимый кабинет, и он вручил мне квитанцию на проживание в обмен на выписанный мною чек. Я получил в четырехмесячное пользование отличный домик на склоне холма! Я вылетел из агентства, будто на крыльях. В этот раз я все организовал как надо, без единой фальшивой ноты. Затерявшись в этом закоулке Франции, проживая под чужой фамилией, я мог наконец расслабиться и спокойно ждать, пока подвиги старины Капута предадут забвению.
Я спросил у какого-то полицейского, есть ли в Мантоне филиал Парижского биржевого общества. Он сказал, что есть, и объяснил, как его найти. Мне жутко понравилось, что теперь я могу обращаться за помощью к самим легавым. Я все чаще замечал, что моя новая шкура делает меня честным человеком и даже постепенно превращает в консервативного буржуа.
В банке я рассказал заранее заготовленную историю: я приехал на несколько месяцев из Парижа, собираюсь снять в Мантоне дом и хотел бы перевести свои деньги в местный филиал агентства.
Я показывал свою квитанцию на дом с гордостью карапуза, которому купили свисток. У меня наконец — то появился свой, настоящий адрес! Такое событие свершилось в моей жизни впервые за много лет.
Служащие обошлись со мной вежливо и предупредительно, тем более что работы я им задал совсем немного. Все прошло на ура: мне открыли счет, и я выписал в качестве залога чек на десять тысяч двести. Через несколько дней сокровища Робера Рапена будут у моих ног — и жизнь забьет ключом. Нет-нет: никаких излишеств. Напротив, спокойная размеренная жизнь. Коньячок, фирменные блюда и время от времени — легкие на подъем девочки.
Я купил себе продуктов, книг, французских и итальянских газет и поехал в свой домище. Погода стояла роскошная. Безоблачное небо излучало горячий свет, и море было видно чуть ли не до самого Алжира. Перед самой дверью моего дома росло лимонное дерево. Для «альфы» нашелся гараж, а за домом оказался небольшой садовый участок.
Все это было так здорово, что я чуть не прослезился. Мне не хотелось вспоминать годы, прожитые вне закона, и кровь, что стекала с рук и покрывала красными пятнами мой жизненный путь. Мне хотелось стать совсем новым. Все будто начиналось сначала… Я становился другим человеком, возродившимся из кровавых сумерек своего прошлого. Теперь все должно было измениться, и хотя я уже не мечтал стать полностью честным — у судьбы нельзя требовать невозможного, — мне представился желанный случай наладить свою жизнь и зарабатывать на хлеб головой, а не револьвером: от револьверов слишком много шума!
Я приготовил себе ужин и поел в одиночестве, глядя на море. Оно так блестело на солнце, что больно было глазам. Я подумал, что неплохо было бы обзавестись темными очками; это, кстати, удачно дополнило бы мой новый облик.
Из всех комнат мне больше всего нравилась гостиная. Она была обставлена в грубоватом деревенском стиле — «под Левитана», но все же выглядела очень мило: наверное, благодаря плетеным стульям и полотняным занавескам.
После еды я завалился на диван и задремал под звуки романсов, доносившиеся из соседских радиоприемников.
Я спал и даже во сне испытывал смутное ощущение покоя и благоденствия.
V
Два дня подряд я вел ленивую байбачью жизнь. Я казался себе похожим на шелковичного червя, спящего в своем коконе. Я медленно, тихо перерождался. Мне не нужно было ничего, кроме жратвы и сна. Я выходил из дому только для того, чтоб купить газетки и сигареты. На третий день после приезда я прочел в «Стампе», что труп Рапена наконец нашли. Преступлению посвятили две колонки. В статье я понял не все, но в целом уяснил, что бояться мне нечего. Журналист писал, что убийство, скорее всего, совершили сицилийцы. Поскольку труп специально изуродовали до неузнаваемости, полиция предполагала, что убитый являлся руководителем какой-нибудь преступной группы. Версия о сведении счетов между мафиози меня вполне устраивала. Теперь мне можно было основательно облечься в новую индивидуальность. Я ничуть не волновался: в ближайшие год и один день никто не явится за ней в бюро пропавших вещей!
Меня охватила жажда веселой беззаботной жизни. Я надел самое красивое, что у меня нашлось, и отправился на прогулку в центр города.
В это время года Мантон превращался из курорта в обычный провинциальный городок. Почти все отдыхающие уже смотали удочки; остались одни старикашки, греющие на южном солнышке свой радикулит. И все приезжие неизменно собирались в одном и том же месте: в казино.
Эти бравые дедушки спешили туда с самого утра, как рабочие на завод. Многие проводили за зеленым столом целый день, делая с великой осторожностью мизерные грошовые ставки.
Мне хотелось последовать их примеру, однако за подобными заведениями обычно присматривают, и их посещение связано с немалым риском. Охрана в казино состоит из ребят с наметанным глазом, и их прямая обязанность — разглядывать рожи, появляющиеся в игорных залах. Мне вовсе не хотелось лезть прямо в волчью пасть.
Я долго колебался, но к вечеру все-таки решился пойти. Для успокоения я говорил себе, что казино Мантона не такое уж крупное и что в этот мертвый сезон служба надзора не в полной мере оправдывает свое название.
Я непринужденным шагом взошел по ступенькам, поглядывая по сторонам из-под своих темных очков. Квартал оказался еще безлюднее, чем я предполагал.
Я купил в кассе месячный абонемент, набрал жетонов на пятьдесят тысяч франков и двинулся к единственному столу с работающей рулеткой.
Стол окружало человек шесть, включая крупье. Там были какой-то плюгавенький отставной чиновник, три пожилые иностранки, размалеванные, как куклы, и заглядывающие в свои записи, прежде чем сделать очередную ставку, а еще молодая рыжеволосая женщина с миловидным лицом. Она была элегантно упакована в черное платье с блестящими чешуйками на груди. У нее были длинные загнутые ресницы, красиво оттенявшие сине-зеленые глаза, и кожа, как у настоящих рыженьких — бледная и нежная. Ее продолговатое лицо напоминало испанские портреты семнадцатого века. На ее правом запястье поблескивал великолепный золотой браслет, инкрустированный зелеными камнями, который, похоже, не позволял ей долго держать руку в горизонтальном положении…
Разумеется, я мигом перенес на нее все свое внимание, но сколько ни бросал роковые взгляды, она ни разу не подняла на меня глаз. Она была слишком занята игрой.
Прежде чем присоединиться к играющим, я некоторое время понаблюдал за капризами рулеточного шарика. Потом поставил жетон в пятьсот франков пополам на «8» и «5». Выпало «26». Я заупрямился и в десять приемов спустил все свои пятьдесят тысяч. Этого было вполне достаточно. Я не ощущал азарта игры. Она возбуждала меня не больше, чем простая партия в белот в обшарпанном кафе на Торговой площади. Игра — это авантюра для маленьких людей, это источник их маленьких остреньких ощущеньиц. Меня она покорить не могла: морфинист нечувствителен к аспирину.
Я отодвинулся от стола и принялся наблюдать за действиями рыжеволосой женщины. Она не заглядывала в шпаргалки, подобно всем остальным кретинам. Она играла не спеша, но довольно любопытным образом: дожидалась, пока сделают ставки ее соседи, при этом внимательно следила за их выбором, держа в правой руке горстку жетонов, и когда все остальные выкладывали свои пластмассовые кружочки и крупье уже готовился пустить по кастрюле шарик, спешила распределить по зеленому сукну свои собственные.
Мне понадобилось немало времени, чтобы разгадать ее хитрость. А сообразив, в чем дело, я сразу понял причину ее медлительности, но главное — назначение ее огромного браслета. Действовала она так: раскладывала жетоны по самым дальним от нее квадратам, из-за чего ей приходилось вытягивать руку, и на обратном пути ее браслет сдвигал ставку другого игрока на соседнюю клетку. Когда я это усек, то сначала решил, что у нее это выходит нечаянно. И правда, какой смысл изменять чужую ставку?
Но, пошевелив мозгами, я понял, какой. Она поступала так потому, что остальные играли по «системе». То есть уделяли гораздо больше внимания своим подсчетам, чем событиям, разворачивающимся на зеленом столе. Они ставили на определенный номер, и если выпадал другой, то даже не поднимали головы. Так, старушенция, поставившая на «18», и бровью не вела, когда крупье объявлял, что выиграл «21» — соседний номер, на который рыжая сдвинула жетон с восемнадцатой клетки.
Один раз, когда браслет перетащил пятисотенный жетон с «16» на «19», а выиграл шестнадцатый, я ожидал, что начнется настоящий бедлам. Действительно, старуха, поставившая на «шестнадцать», подняла гвалт, но крупье сразу поставил ее на место, вежливо сказав, что она либо ошиблась, либо должна срочно сбегать в магазин братьев Лиссак, где продают отличные очки по умеренным ценам. На этом все и закончилось.
В общем, фокус рыжей девчонки удавался на славу. У нее каждый раз был дополнительный бесплатный шанс сорвать деньгу, а поскольку сдвинутый жетон играл не наполовину, а целиком, при совпадении номера пингвин с граблями выдавал ей очень приличный выигрыш. Судя по тому, как увеличивалась куча лежавших перед ней жетонов, этот маленький бизнес должен был обеспечивать ей довольно безоблачную жизнь.
Я еще немного понаблюдал за ней, потом вышел из казино, перебрался на террасу соседнего кафе и кинул в горло стаканчик пастиса. Оттуда мне были хорошо видны двери игорного заведения. Погода стояла замечательная. Воздух казался каким-то удивительно мягким. Фонари выдергивали из темноты цветочные клумбы на площади. Где-то за домами Раздавался гулкий недовольный рокот моря…
Я выпил три пастиса, покуривая сигареты и размышляя. Эта девчонка очень наглядно продемонстрировала, чего можно достичь на побережье при определенной хитрости. Я решил пока что задержаться в Мантоне и устраивать свои делишки с помощью старых кляч, сидевших с утра до ночи в казино. Теперь, когда меня звали Робер Рапен, когда у меня были машина, вилла и счет в банке, для этого открывались прекрасные возможности.
Так я рассуждал, когда рыжая дамочка наконец вышла из игорной лавочки. До сих пор я видел ее только в сидячем положении, но в полный рост она оказалась еще козырнее: высокая, талия не шире салфеточного кольца, грудь как надувная игрушка и крайне симпатичная попка.
Расплатившись, я спустился с террасы и зашагал навстречу женщине. Она не сразу поняла, что меня интересует именно ее персона. Мне пришлось остановиться прямо перед ней, и только тогда она бросила на меня выразительный, враждебный взгляд.
— Добрый вечер, — промурлыкал я с улыбочкой молодого парикмахера-ловеласа.
— Ради бога, оставьте! — резко ответила она.
Я засмеялся.
— Целомудрие в опасности! Прекрасно. Женщинам очень идет, когда они сердятся. Почему вы так сердито на меня смотрите: я не в вашем вкусе?
— Нахалы меня никогда не привлекали, — проговорила она.
— Может быть, мне представится возможность продемонстрировать вам и другие свои качества?
— Спасибо, не надо: я не увлекаюсь исследованием человеческих характеров.
Я стал серьезным. Эта девка с ее высокомерием и уничижительным взглядом начала выводить меня из себя.
— Значит, больше увлекаетесь рулеткой?
Ее лицо омрачила легкая тень, и глаза будто превратились в прорезанные ножиком щелочки. Она внимательно вгляделась в меня.
— Постойте, — сказала она как бы сама себе, — ведь я недавно видела вас в игорном зале…
Я ответил с нажимом, который не оставлял места для беспечности:
— А я вас не просто видел: я вас принял, как принимают экстренное сообщение…
Она снова посмотрела на меня.
— Разумеется, фраза не моя. Мне было бы стыдно выдавать ее за собственную. Я выдрал ее из одной претенциозной книженции.
Теперь она уже колебалась, стоит ли играть прежнюю роль или же лучше пойти на попятную? Она чувствовала, что в моей болтовне кроется какая-то неясная угроза, и в ней боролись два желания: послать меня в турецкую баню и изучить меня получше.
В конце концов любопытство оказалось сильнее.
— Позвольте пригласить вас в приличный бар на бутылочку шампанского, — продолжал я.
— Я не люблю шампанское.
— Тогда, может быть, виски?
— Методы у вас, однако, довольно… скоростные.
— Прошу расценивать это лишь как проявление моей непосредственности.
На этом наши препирательства закончились, и я повел ее в ночной бар на тихой улице, выходящей к морю. С моря дул легкий ветерок; город давно затих. Дамочка была, бесспорно, красива; ее формы сушили мне глотку и вызывали всякие-разные мысли. У нее была осторожная походка и необычайно строгий вид.
Заведение, куда мы пришли, ничем особо не выделялось. Стены увешаны рыбацкими сетями, по углам — традиционное барахло, снятое со старых кораблей: рулевое колесо, фонари, канаты и все такое.
Кроме нас, там не оказалось ни одного клиента. Был только хозяин — маленький толстый итальяшка с заплывшими жиром глазами.
Наш приход стал для него главным событием вечера. Он рассыпался в салям-алейкумах, от которых сразу начинало ныть в желудке.
— Два виски и пять минут покоя! — заказал я.
В двух анусах, служивших ему глазами, блеснул недобрый огонек. Но я посмотрел на него еще злее, и он понял, что перед ним вовсе не тряпка.
Мы с рыжей красоткой остались одни; звуковым фоном служил блюз, доносившийся неизвестно откуда.
Она ждала, когда я перейду в наступление, но мне некуда было спешить. В конце концов она заговорила первой.
— Итак? — спросила она боязливым голосом, который меня слегка взволновал.
— Итак? — повторил я.
Мои глаза смеялись.
— Мне кажется, вы надо мной насмехаетесь, — заметила она.
— Женщинам это кажется всегда, когда мужчина замолкает. Для них мужская вежливость состоит в разговорах… Не правда ли, нам здесь неплохо вдвоем?
— Странное у вас представление о комфорте.
— Хотите поговорить? Ладно, начинайте вы. Вы здесь одна?
— Да.
— Без мужчины?
— Без.
— Когда на вас смотришь, это кажется просто невероятным…
— Но когда меня знаешь, это кажется вполне естественным.
Один-ноль в ее пользу! Непростая, похоже, была особа. Поначалу я даже испугался, что напал на мужененавистницу. Однако вблизи становилось ясно, что лесбийские забавы — это не по ее части.
— Защищаться вы умеете…
— Как все одинокие женщины.
— Вы не признаете любви?
— Признаю, но мужчины нравятся мне меньше, чем одиночество…
Она пожала плечами:
— Сидеть дома и ждать мужчину, как ждут почтальона или сантехника… Нет уж, это не для меня!
Она начинала мне жутко нравиться. Я воображал ее голой, лежащей на диване в моей «деревенской» спальне, когда ночь озарена сиянием моря… Это наверняка стоило бы затраченных усилий. Я хотел ее. С момента той злосчастной встречи с проституткой из Болоньи я ни разу не занимался парным катанием по постели… А в моем возрасте воздержание ни к чему хорошему не ведет.
— Если вы все же признаете любовь — я могу вас ею наделить.
— Это обещают все мужчины. А в кровати оказывается, что девять из десяти никуда не годятся…
— Быть может, я — тот, десятый?
— Какой вы самоуверенный!
— Попробуйте, ведь это лучший способ проверить.
— Нет, лучше уж я поверю вам на слово.
— Значит, я все-таки не в вашем вкусе?
— У меня нет определенных вкусов в этом вопросе, но ночевать я сегодня буду у себя дома.
Она, похоже, была настроена весьма решительно.
— Хотите поскорее спрятать деньжата?
Она чуть заметно вздрогнула, под глазами появились испуганные круги. Она решила, что я охочусь за ее монетами.
— Что вы имеете в виду?
— Только то, что говорю, милое дитя. Вы… ну, допустим, выиграли в рулетку мешок денег и боитесь, что я его отниму. Поэтому и говорите мне «только не сегодня», как мамочка папочке.
Я достал из кармана крупную купюру и протянул ее в направлении занавески из фальшивого жемчуга, за которой — я это знал — шпионил итальяшка. Пузач набросился на деньги, как форель на мотыля. Может, ему уже нечем было платить за электричество?..
Мы вышли на улицу.
— Зайдем ко мне? Есть бутылочка «Джонни Уокера»…
— В другой раз.
— Как хотите…
Она протянула мне руку.
— Спасибо за виски.
— Не стоит благодарности. Напротив, это мне следует вас поблагодарить, моя красавица…
— Вот как? И за что же?
— За урок игры в рулетку. Я очень оценил ту ловкость, с которой вы использовали чужие ставки. Скажите, между нами: крупье с вами заодно?
Ее сразили не сами слова, а то, как и когда я их произнес.
Она замерла с открытым ртом, как игрушечная лягушка. Мне показалось, что ее вот-вот хватит удар: ее губы побледнели даже под слоем помады.
Она не стала возражать: не было сил. Я будто треснул ее по башке дубиной, и прийти в себя ей было суждено еще не скоро. Ее тревога еще больше усиливалась от неизвестности. Она еще не знала, к кому меня следует относить: к полицейским, к шантажистам Или к собратьям по профессии…
Я сохранял полную серьезность, чтобы окончательно ее запугать. Но ей и без того было вовсе не до смеха.
— Вы, я вижу, чем-то огорчены? Идемте ко мне, пропустим по стаканчику… Я живу там, на холме, в прелестном голубеньком домике…
Она кивнула. Теперь она была готова на все. Мне оставалось только снять с дивана покрывало и подождать, пока она стащит с себя трусы.
— Хорошо, — прошептала она. — Я согласна.
И тогда я повел себя как настоящий мужчина. Я ухватил ее за воротник платья и прижал к стене.
— Спасибо, — сказал я. — Мне достаточно твоего согласия. Если ты решила купить меня своей задницей, то ошиблась: ты-то продаешься, но я — нет.
Не сводя с нее глаз, я достал из кармана сигарету, зажег ее свободной рукой, выпустил в лицо рыжей длинную струю дыма и исчез в вечерних сумерках.
VI
Прежде чем лечь спать, я пересчитал свои деньги. Это не заняло много времени: у меня оказалось в наличии только две бумажки по десять долларов. Оставалось надеяться, что перевод суммы из банка в банк произойдет быстро: иначе я очень скоро сяду на мель. Только бы не вышло никакого прокола! Что если Рапен поступил, как поступают многие: придумал для банка какую-то особую подпись? А я подделал ту, что была в паспорте, и может оказаться, что очень опрометчиво… Но в любом случае я рассчитывал, что этот перевод не привлечет такого пристального внимания парижского агентства, как прямое снятие денег со счета. Да, хитрость была все же неплоха.
Я бросил две американские бумажки на стол и прижал их зажигалкой, как пресс-папье. Раздеваясь, я все время смотрел на банкноты и заметил одну, вроде бы незначительную, деталь: обе купюры имели в одном и том же месте маленькую дырочку. Еще я вспомнил, что те, которые я уже обменял на франки, тоже были с дырочкой, словно их когда-то сшивали иглой.
Я нехотя улегся в постель. Рыжая баба пробудила у меня горизонтальные мысли. Еще немного — и я бы оделся и пошел в первый попавшийся бар с «девочками». Удержало меня лишь чувство собственного достоинства. Нет уж, я не из тех, кто покупает женщин за деньги. Тем более что они зачастую норовят обчистить клиента и от них рано или поздно подцепишь какую-нибудь заразу.
В конце концов мне все же удалось заснуть, хотя и не без труда.
* * *
Она заявилась на следующее утро, когда я заканчивал расправляться с завтраком. Дожевывая рогалик, я увидел ее силуэт у садовой калитки. На ней было белое нейлоновое платье, которое обтягивало ее, как чулок. Наряд дополняли розовая соломенная шляпка, розовые перчатки, черная плетеная сумочка и черный пояс. В этом снаряжении она могла бы утереть нос не одной голливудской звезде. Я торопливо, едва не подавившись, проглотил свой кусок. Я, конечно, предполагал, что мы с ней еще увидимся, но ее появление здесь меня все же удивило.
Я еще не успел переодеться и разгуливал в нежно-голубой пижаме с белыми манжетами и белым воротником, которая придавала мне некоторое сходство с гаитянским офицером.
Распахнув застекленную дверь, я вышел в сад.
— А, моя прекрасная мошенница! Какой приятный сюрприз!
Она улыбнулась. Видимо, она полночи собиралась с мыслями и готовила для меня какой-то новый спектакль.
— Вы так восхитительны, что рядом с вами останавливается время! — объявил я. — Входите же скорее!
Она вошла.
— Садитесь.
Соломенная шляпка отбрасывала на ее хрупкое лицо розоватую тень. Такое создание не отважился бы тронуть самый наглый из наглецов. Казалось — она разобьется вдребезги от малейшего прикосновения. Она была чем-то вроде живой мечты, неправдоподобной и от этого еще более хрупкой.
Она серьезно посмотрела на меня.
— Кто вы?
— Меня зовут Робер Рапен. Прошу прощения, что не представился вчера…
Она взмахнула пальцами, отметая прочь мою словесную шелуху.
— Я знаю. Об этом я уже спрашивала у соседей.
— У соседей? Но я здесь еще никого не знаю, я ведь только что приехал.
— Вы не знаете, зато вас знают. Соседи для того и существуют. Что им еще делать? К солнцу и к морю, знаете ли, быстро привыкаешь, а привыкнув — переходишь к другим, более прозаическим развлечениям…
— Сегодня вы еще красивее, чем вчера, хотя я, признаться, не думал, что такое возможно.
— Спасибо.
— Я не лгу.
— Я знаю.
— Это для того, чтобы меня соблазнить?
— Возможно…
— Тогда вам это удалось. Виски выпьете?
— Для виски еще рановато.
— Извините, у меня неправильный организм. Наверное, мама кормила меня вместо молока рыбьими хвостами.
Она засмеялась, довольная тем, что я весел, расслаблен и чертовски рад видеть ее у себя.
— Тогда кофе?
— Нет, ничего не нужно. Я ведь не пить сюда пришла…
— А зачем вы пришли?
— Чтобы увидеться с вами.
— Просто увидеться?
— Ну, и поговорить тоже.
— Тогда попытаюсь вас выслушать. Хотя когда на вас смотришь, это, поверьте, нелегко. Мысли, знаете ли, все время сворачивают куда-то в сторону.
— Я по поводу вашего вчерашнего намека.
— Какого намека?
— На мою… манеру игры.
— Так что же?
— Я хотела бы знать, что вы о ней думаете.
Я налил себе солидную порцию виски. Она перешла прямо к делу: она требовала, чтобы я выложил карты на стол, и мне следовало для начала привести эти карты в порядок.
— Я слушаю! — поторопила она.
— Что я могу вам сказать? Я заметил, что вы мошенничаете, и сообщил вам об этом. Только и всего. Скажите, вы ведь действуете заодно с крупье, верно? Обычно у этих ребят глаза на месте…
Она вздохнула.
— Он купился на мои улыбки… Крупье — такие же мужчины, как и все остальные… Старые дамы, которые донимают его с утра до вечера, не вызывают у него никакого сочувствия. Он наверняка что-то заметил, но молчит. Думаю, в какой-то степени это его даже забавляет…
— А в остальном, моя красавица?
— Не понимаю.
— Вы надеетесь, что ваша комбинация будет работать бесконечно?
— Нет…
— Давно вы здесь?
— Десять дней.
— Тогда мой вам совет: смените занятие. В один прекрасный день владелец казино сцапает вас за шиворот, и потом уж такое начнется… Что если он не растает от улыбок мисс Европы?
Она немного помолчала, затем ответила:
— Спасибо за совет, я им непременно воспользуюсь.
— Вы профессионалка?
— Без пяти минут.
— Вы бы лучше посвятили себя какой-нибудь свободной профессии…
Она опять посмотрела на меня, неуверенно и беспокойно.
— Кто вы? — повторила она.
— Я уже говорил.
Она раздраженно пожала плечами.
— Что мне ваше имя? Я спрашиваю — кто вы по жизни?
— А как по-вашему?
После секундного колебания она смело заявила:
— Странный тип.
— Вот как?
— Да.
Тут настал мой черед испытывать замешательство.
— Почему?
— Сама не знаю, в том-то и дело. Вы похожи и на богатого бездельника, и…
— И?..
— И на гангстера.
Я начал задаваться вопросом, не напрасно ли я вызвал эту птичку на откровенность.
— Вы преувеличиваете. В обоих случаях. Я ни то, ни другое. Просто проворачиваю иногда кое-какие дела, вот и все. А сейчас отдыхаю.
— Для рантье вы слишком молоды.
— В старости успех уже не радует.
— И сколько вы намерены… бездельничать?
— Смотря по обстоятельствам.
— По каким обстоятельствам?
— Смотря по тому, насколько быстро я истрачу свои сбережения.
— И долго это может продлиться?
— Довольно долго, если не позволять себе лишнего.
— Жаль.
— Почему?
Она бросила на меня вызывающий взгляд.
— Потому что мы могли бы заключить союз…
— И купить бакалейную лавку?
— Нет: поиграть вместе.
— Во что поиграть? Если в папу и маму — тогда я согласен, а так…
— И в это, и в другое. Рулетка вас не привлекает?
Ага, вот оно, началось… Дамочка и впрямь была не из простых и, похоже, умела набивать карманы… А то, что сна решила передо мной открыться, лишний раз доказывало ее смелость.
— У вас есть конкретный план?
— Да.
— Интересно…
— У двоих будет больше возможностей. Я работаю уже довольно давно. За это время я много размышляла и многое поняла.
— Не расскажете ли чуть подробнее?
— Я разорвала брак с одним милым, но бедным парнем, У меня были независимые взгляды и любовь к роскоши. Сюда я приехала с одним промышленником, которого встретила в баре на Елисейских полях. Он говорил, что продаст ради меня свой завод. Но через неделю вдруг передумал и исчез. А я осталась в Мантоне. Стала играть в казино, надеясь заработать немного денег. Но все время проигрывала и в конце концов начала мошенничать. Если захотеть, к случаю можно приноровиться. Можно даже обмануть его.
Она продолжала, все больше увлекаясь своим рассказом;
— Каждый, кто играет в рулетку, пытается разработать свою систему. Все стараются придать какую-то закономерность игре, в которой закономерностей нет и быть не может. На случай полагается только один человек — крупье. В результате в настоящем выигрыше остается только он, причем постоянно. Вот я и подумала: если случай не удается уложить в рамки правил, то его нужно просто приручить, понимаете?
— Что ж, принцип неплохой.
— Конечно, на практике его применить трудновато, Hcf, как вы сами видели, это все же удается.
— Да…
— И объединив свои… идеи, мы могли бы добиться большего, чем я одна.
— Вы полагаете?
— Я в этом убеждена. Хотите пример?
— Валяйте!
— Предположим, что мы с вами действуем заодно и приходим в игорный зал поодиночке. У вас в руке — десяток жетонов по тысяче франков. Я сижу по другую сторону стола. Вы садитесь рядом с крупье. Он бросает шарик. Вы краем глаза смотрите, где он остановился. Допустим, выпадает «восемь». Вы сразу — прежде чем крупье успевает объявить выигрышную цифру — кричите: «Шесть тысяч на «восьмерку»!» И кладете на этот квадрат свои десять тысяч. Естественно, крупье возмущается и велит вам забрать вашу запоздалую ставку. Вы повинуетесь. В этот момент я протестую и говорю, что ставила на «восьмерку» четыре тысячи. Вы смущаетесь, пересчитываете свои жетоны, признаете свою ошибку и кладете «мои» четыре тысячи обратно. Выигрыш — сто сорок тысяч. На вас. смотрят как на мошенника, и вы покидаете зал; я же забираю деньги. Проделав этот фокус по одному разу в каждом казино побережья, мы быстро заработаем очень приличную сумму.
Я
обалдел. Дамочка действительно умела шевелить мозгами…
— Слушайте, — спросил я, — вы до этого сами додумались?
— Да, Что скажете?
— Здорово. Только вот…
— Только вот — что?
— У меня есть к вам встречное предложение.
— Какое?
— Когда мы проделаем этот номер во всех здешних залах, то пора будет уносить ноги, верно?
— И что же?
— А то, что мне здесь нравится. И прежде я хочу с чувством истратить свои оставшиеся деньги. Хотите мне в этом помочь? Скажите только — «да», и мы тут же полетим в ваш несчастный пансион за вашими вещами. Мне кажется, из нас получится неплохая парочка. Во всех отношениях. Вы так не считаете?
Она слегка покраснела; это было ей очень к лицу. И быстро сказала:
— Пожалуй, да.
VII
Ее звали Эрминия.
Не говорите мне, что нельзя соединиться с женщиной через рукопожатие. Можно. У нас с ней это сразу получилось. Когда она прошептала «я согласна», ее рука потянулась ко мне, как некая величественная рептилия, и на ее конце расцвели тонкие белые пальцы. Я взволнованно посмотрел на эти пальцы. Потом пожал их — и, честное слово, ощущение было такое, будто я самым настоящим образом овладел ею на диване. Наши ладони плотно впечатались друг в друга, наши пальцы тесно переплелись. Мы долгое время сидели так — неподвижные, соединенные этими руками, утонув в глазах друг друга и чувствуя, как сердце беспорядочно колотится в животе.
— Вы появились в моей жизни в довольно важный момент, Эрминия…
— Вы, по-моему, тоже, — ответила она.
Мы съездили за ее вещами, и через час она уже поселилась под моей крышей.
Неужели я мог находить этот дом приятным до ее появления? Вот смехота! Она в два счета окропила его нежностью и грацией. Все вокруг стало теплым и ласковым, и даже радио Монте-Карло начало передавать песни, полные любви.
Эта девушка была настоящей сенсацией. Я был страшно благодарен себе за то, как именно взял ее на абордаж. Я вел себя тогда как настоящий мужчина, а на женщин это всегда действует безотказно.
Под вечер мы в первый раз легли вместе в постель.
Перед этим мы съели холодного цыпленка, запивая его шампанским… Приемник передавал фламенко. Наверное, из-за этой самой музыки все и началось. Тот парень, что играл на гитаре, будто щипал за самые кишки…
Я посмотрел на Эрминию, и она сразу все поняла. Она растянулась на диване, закинула руки за голову и стала ждать.
Я пошел к ней, как путник, добравшийся до конца своих странствий. У меня подгибались колени, я был измучен, но по первому же знаку силы вернулись ко мне в квадрате! Мы устроили себе невиданный сеанс, уж поверьте мне. В постели моя рыжая красавица своего не уступала… Мне казалось, что я сражаюсь с гигантским удавом. Она обвивалась вокруг меня, подобно плющу, и это сводило меня с ума. Наш дуэт продолжался несколько часов. Ей тоже нужно было восполнить приличный пробел по этой части. Когда мы закончили, по радио передавали уже не гитару: какой-то мужик рассказывал о жизни бобров…
Напрашивалась прогулка по набережной. Так мы и поступили. Было просто потрясающе катить по этой извилистой дороге вместе с моей избранницей… Мне казалось, что я сделался совершенно неуязвимым. Нет, фараоны уже ничего не могли со мной сделать. На этот раз Капут умер окончательно. Это ему я раздробил голову там, на итальянском пляже. Наконец-то мне удалось его уничтожить…
Я пел, проезжая вдоль моря и красных скал, вдоль золотых пляжей, утыканных разноцветными палатками…
— Я люблю тебя, Эрминия…
— Я люблю тебя, Робер…
Я не моргнул глазом. Это была правда. Меня звали Робер. Я любил это имя, как любят свое собственное, и уже не вспоминал о том, другом.
— О чем ты думаешь, Робер?
— О нас с тобой…
Мы поужинали, в Ницце, в ресторане с видом на море. Потом вернулись домой, как настоящая влюбленная парочка. Впервые в жизни я отправился в свадебное путешествие. Это было прекрасно.
Когда мы вернулись домой, я нашел в почтовом ящике банковское уведомление: перечисление денег уже состоялось. Я глубоко вздохнул. Нет ничего приятнее успеха. Не обязательно такого, который приносит плоды, а просто успеха как такового.
— Ты выглядишь очень счастливым, Робер…
— Я действительно счастлив.
И поскольку счастье всегда нужно с кем-то разделить, я занялся с ней любовью прямо в саду, под громовое стрекотание цикад.
VIII
В последующие дни мы не возвращались в казино. Она, впрочем, по нему и не скучала. Те, кто мошенничает, обычно не любят игру. Для них рулетка или стол для «баккары» — все равно что заводской станок. К тому же, в целях выполнения грандиозного проекта Эрминии, нам нельзя было появляться в подобных заведениях вместе.
Мы принялись спокойно проживать мои деньжата. Не допуская излишеств, но и ни в чем себе не отказывая. Словом, для нас началась эта самая «красивая жизнь»…
Мы валялись в постели до самого позднего утра. Потом я шел купить что-нибудь на завтрак, а она наводила порядок в доме. Мы с ней лопали из одной тарелки ветчину и уматывали до самого вечера в соседний поселок или на пляж. Потом ужинали в дорогом ресторане, распивали бутылочку в кабаре на набережной, возвращались домой и ложились в постель.
Я никак не мог насытиться этой женщиной. Я специально сдерживал себя целый день, чтобы придать больше веса той благословенной минуте, когда мы оказывались наедине, без свидетелей… Когда она наступала, я будто взрывался и разгуливал за пределами жизни, в тех местах, где можно встретить маленьких человечков с ореолом над головой… Но вот в один прекрасный день все это порвалось, огни погасли, и я понял, что никому не дано размозжить собственную голову камнем…
Все началось поутру, когда я возвращался с покупками… Я любил ходить по магазинам. Может быть, вам смешно представить себе, как крутой гангстер торгуется с молочницей или складывает в авоську апельсины? А мне это нравилось. Чего я только не покупал в эти дни: ананасы в банках, икру, всякие изысканные колбаски… Словом, все, чего я был лишен в своем поганом детстве и на что мог тогда лишь таращиться, расплющив нос о витрину.
Когда я ставил сумку на стол, Эрминия вышла из кухни; ее фигуру обтягивал черный шелковый халат с китайскими мотивами.
— Слушай, тебя тут только что спрашивали…
Если вы когда-нибудь решите снять фильм по моим воспоминаниям, не забудьте влепить в этом месте могучие звуки трубы. Да, чтобы передать мое тогдашнее состояние, нужен был большущий кусок Армстронга…
Я посмотрел на Эрминию. Красивые рыжие волосы стянуты в «конский хвост», глаза напоминают очертаниями два миндальных ореха, губы не накрашены, бледная кожа усыпана крохотными веснушками…
— Спрашивали? — пробормотал я.
— Да. Это тебя, похоже, взволновало?
— А кто?
— Да такой забавный коротышка…
Я рассмеялся.
— Так это же домовладелец!
— А, может быть.
— Он ничего не просил передать?
— Нет, сказал, что зайдет после обеда, около двух.
Я пошел к телефону, чтобы рассеять оставшиеся сомнения, и позвонил в свое агентство по недвижимости. Мне ответил сам старичок в черном канотье. Он удивился моему вопросу. Нет, он меня сегодня не спрашивал… Я положил трубку на рычаг, чувствуя, как холодеют руки.
Если меня спрашивал не домовладелец, то кто же? Кроме него, меня никто не знал!
Я окликнул Эрминию, которая, насвистывая, готовила нам еду.
— Что?
— Слушай, какой он из себя, этот твой забавный коротышка?
Она подумала.
— Погоди-ка… Ну, он чем-то похож на хозяина кафе или пивной. Почти лысый, одет совсем обыкновенно, лицо круглое, глаза наполовину закрыты. Знаешь кого-нибудь такого?
Нет, я не знал, решительно не знал; это меня и тревожило.
В моей голове тоненько пищал сигнал тревоги. «Что если это легавый?» — подумал я.
Но это было мало вероятно. Легавые ходят парами, как улитки.
Тогда кто?
Но сколько я ни ломал башку, вразумительного ответа найти не мог. Разве что… Да, это мог оказаться кто-нибудь из моего банка. Или же… Или же просто рекламный агент, узнавший мою фамилию у соседей. Ведь говорила же Эрминия в тот первый день: соседи все знают.
Ладно, что толку гадать? Главное, чтобы упомянутый коротышка не оказался сыщиком. На остальное мне было наплевать.
И все же за обедом я чувствовал себя неважнецки. Эрминия это заметила.
— По-моему, ты опасаешься прихода этого человека.
— С чего ты взяла?
— Ну видно же, что ты озабочен…
— Ну, озабочен, но не встревожен. Просто интересно…
— Что?
— Что ему от меня нужно. Мне очень дорого наше спокойствие. Ненавижу всяких проныр…
— Почему ты решил, что он проныра?
А действительно — почему? Тут она была права.
Я помогал ей убирать со стола, когда ОН постучал в застекленную дверь. Я не помню, чтобы под его ногами шуршал гравий. Этот тип передвигался неслышно, как кот.
На первый взгляд он и впрямь казался забавным, но вблизи выглядел скорее угрожающе. На нем был серый поношенный костюм, грязная рубашка, перекрученный галстук. Бледную лысину окружали редкие светлые волоски. Из-за плеши его и без того круглая рожа казалась еще круглее, но она была вовсе не добродушной, а наибольшее беспокойство вызывал его взгляд. Вернее, отсутствие взгляда. Его выпуклые веки были почти полностью опущены, и ему даже приходилось отклонять башку назад, чтобы посмотреть на собеседника…
— Это он, — шепнула мне Эрминия.
— Ладно, оставь нас одних…
Она ушла в кухню, но, похоже, стала прислушиваться.
Я открыл дверь. Коротышка промычал «угу» и одновременно кивнул головой. Потом вошел — быстрой крадущейся походкой, которая вовсе не вязалась с его округлой фигурой.
— Что вам угодно? — спросил я как можно спокойнее.
— Я хотел бы поговорить с Робером Рапеном.
Он не сказал с «мсье Робером Рапеном», и это встревожило меня еще больше.
— Это я.
Тогда по его физиономии распространилось выражение сильного удивления. Он поднял подбородок и внимательно посмотрел на меня из-под своих жабьих век.
Наконец он покачал головой и вяло произнес:
— Вы не Робер Рапен.
Это прозвучало, как удар гонга. Я понял, что гость опасен. И тем более опасен, что сам я ничего о нем не знаю.
Я попытался обороняться:
— Что за чепуха! Мне-то уж лучше знать, кто я такой…
Его верхняя губа вздернулась в мимолетной улыбке.
— Я не знаю, кто вы такой, но я знаю, что вы не Робер Рапен. Я знаком с Робером Рапеном. Даже очень хорошо знаком. Это не вы.
— Значит, это ошибка. Это довольно распространенные имя и фамилия.
— Нет, не ошибка.
— А я говорю — ошибка!
— Клянусь вам, что нет.
— Посудите сами: я Робер Рапен, но вы меня не признаете. Вывод: я не тот человек, которого вы ищете.
Я говорил и чувствовал, как меня охватывает великая тоска. Почти физическая печаль, которая все сильнее обесцвечивала жизнь. Мне снова нужно было точить когти, занимать оборону… Неужели золотые деньки уже закончились? Так быстро…
Эрминия вышла из кухни и с беспокойством наблюдала за нами.
— Кто вы? — спросил я.
— Бидон!
Это было, очевидно, прозвище, причем довольно дурацкое; но то, как коротышка его произносил, не вызывало никакого желания смеяться.
— Такого не знаю, — заявил я. — О Бидоне ни разу не слыхал.
— Даже от Рапена?
— Послушайте, давайте прекратим эту глупую игру…
— Я тоже не прочь поговорить серьезно.
— Я — Рапен.
— Тогда покажите документ с фотографией…
Я сжал кулаки.
— Знаете что? С меня довольно! Подумаешь, инквизитор нашелся! Убирайтесь, или я вызову полицию…
Он вытащил из-под стола стул и сел. Потом положил ногу на ногу и разгладил складку на своих потертых штанах.
— Давайте, — сказал он. — Зовите полицию, я давно уже от души не смеялся.
Его уверенность и олимпийское спокойствие выводили меня из равновесия. Я охотно вырвал бы ему глотку, но сейчас не время было опускаться до насилия. Нет, лучше было завладеть инициативой. Однако немое присутствие Эрминии меня порядком раздражало.
— Послушай, дорогая, — сказал я, — переодевайся и иди на пляж, я скоро приду.
Она помедлила, ее глаза встретились с моими, и она прочла там нечто, не располагавшее к возражениям.
— Хорошо.
Через три минуты она ушла.
— А она у вас примерная, — заметил Бидон.
— Итак, я вас слушаю.
— Кто вы такой?
— Давайте к этому больше не возвращаться.
— Где Рапен?
— И к этому тоже…
— Увы, придется: это единственная цель моего визита.
— Вот как?
— Да. Мне нужно во что бы то ни стало переговорить с Рапеном. И чем раньше, тем лучше. Только не говорите снова, что здесь ошибка: я уже видел в гараже его «альфу»…
Эх, черт! Мне нужно было срочно подыскать подходящую линию поведения. Этот мужик был силен, и нечего было пытаться продавать ему прошлогодние листья, Кто он и что ему нужно? Мне срочно требовалось это узнать.
— Чего вы добиваетесь?
— Мне нужно с ним поговорить.
— О чем?
Он усмехнулся.
— С человеком, который надул тебя на двенадцать миллионов, всегда найдется о чем поговорить.
Честное слово: будь у меня вставная челюсть, она тут же выпала бы на пол.
— На двенадцать миллионов?!
— Да… Эта скотина сбежала с моими денежками.
Он встал, и над его кулаком появилось черное жерло автоматического пистолета.
— Ладно, не будем же мы молоть языками до следующего года. Послушайте, я готов на самое худшее. Когда человек остается без гроша, он постепенно перестает чувствовать угрызения совести…
— Я знаю.
— Тогда мы, пожалуй, сможем понять друг друга. По причине, которую объяснять ни к чему, Рапен задолжал мне двенадцать миллионов, а затем исчез. Я провел маленькое расследование и выяснил, что он смотался в Италию. Поехать туда я не мог, поскольку недавно сбежал из дома с тысячей дверей… Значит, коллега… Ко мне начал возвращаться прежний апломб.
— О, вот как?
— Да. Это вас шокирует?
— Нет. Но все же хотелось бы знать…
— Что?
— Как вы оказались здесь.
Он любезно улыбнулся и откинул свой чайник назад, чтобы вволю меня рассмотреть. Мое любопытство ему льстило.
— Я рассчитал, что рано или поздно Рапен вернется во Францию, потому что наверняка не стал забирать деньги к макаронникам. Не всякий решится тайно вывезти за границу двадцать четыре миллиона. А этот субчик — тем более. Он слишком осторожен…
Двадцать четыре миллиона…
— Ну-ну?
— Тогда я постарался узнать, не положил ли он деньги в свой банк. Его банк я уже знал, потому что он когда-то выписывал мне чек. Раньше, еще до… до аферы.
До аферы! Мне становилось все интереснее.
— Я начал заходить в банк и познакомился с одним клерком, который за десять тысяч заглянул в его бумаги. Там оказалось всего лишь немногим больше десяти миллионов.
Это я знал. И теперь мне было ясно, откуда у Бидона появился мой адрес. Клерк обнаружил перечисление денег в Мантонский филиал банка и сообщил о нем человеку с опущенными веками. Это лишний раз доказывало, что предчувствия сбываются: проделывая эту операцию, я предполагал, что она повлечет за собой нечто непредвиденное.
Гость повел рукой, державшей пистолет:
— Ладно, теперь ваша очередь говорить…
— С чего начать: с настоящего или с будущего?
— С прошлого! О настоящем я позабочусь сам, а мое будущее зависит от прошлого.
Мало-помалу я начал привыкать к его глазам. Вернее, к отсутствию глаз. Он уже казался мне старым знакомым. Когда один преступник встречает другого, то сразу же чувствует себя на своей территории. Я почти успокоился, несмотря на пушку, которую он по-прежнему сжимал в своей толстой волосатой лапе.
Слово «афера», которым он обозначил свои предыдущие дела с Рапеном, погружало меня в море наслаждения. Оно свидетельствовало о том, что Рапен был правонарушителем, и от этого я чувствовал сладкую дрожь в позвоночнике. Я усматривал в этом теплую дарственную надпись судьбы.
— Дело пойдет быстрее, если вы сами будете задавать вопросы! — заявил я.
— Кто вы такой?
— Для всех — Робер Рапен. Для вас, в порядке исключения, ваш доброжелатель.
— Ладно. Где Рапен?
Вместо ответа я просвистел начало похоронного марша Он, видимо, был немножко меломаном, поскольку понял. Его физиономия удлинилась чуть ли не вдвое.
— Мертв?
— Самую малость…
— Ты его убил?
Он в этом не сомневался, и спонтанно, по-братски, перешел на «ты».
— Нет. Он упал со скалы и разбился насмерть… Это было на итальянском пляже. Я нашел его первым. Он был уже мертв. Мне как раз нужны были новые документы, и случай подвернулся просто сказочный. Не так ли?
— Ты действительно его не убивал?
— Не убивал. Хотя, заметь, результат был бы тот же самый.
— Деньги перевел ты?
— У него в машине оказались чековая и банковская книжки. Ну, я и подумал: почему бы не воспользоваться? Посмотри, как здесь хорошо: солнышко греет, девочки — красавицы. Видел рекламный образец?
— Видел.
Он спрятал свою пушку и задумался.
— Значит, ты надел его шкуру?
— Раз она мне подошла…
— А ты знаешь, что он был педиком?
— Знаю…
Это вырвалось у меня само собой, и я сразу начал догадываться о масштабах предстоящего стихийного бедствия.
Он тут же набросился на мой промах.
— Ага, так ты знал его живым!
— То есть?
— Значит — ты и пришил!
— Отвали: это мое личное дело.
— Нет, и мое тоже. Перед тем как смыться, этот парень припрятал больше двадцати миллионов… Мне, в общем-то, плевать на его смерть, но только если она не помешает мне найти кубышку, ясно тебе?
— Да.
— Ты случайно не знаешь, где они могут быть, эти деньги?
— Я не знал, что у него есть что-то еще, помимо счета в банке…
— Неужели?
В его руке снова появился револьвер.
— Что у тебя за привычка? — усмехнулся я. — Убери свою хлопушку, горемыка. Я не знаю ничего, ровно ничего… Но с удовольствием узнал бы. Двадцать миллионов — это, представь себе, может заинтересовать и меня.
Он упрямо помотал головой.
— Врешь. Рассказывай.
— Да я впервые слышу об этих деньгах!
— Только не надо! Ты поехал за Рапеном в Италию, выпытал его тайну, угрохал его и вернулся сюда. Что ж, неплохо сработано. Только половина этой суммы принадлежит мне, и я от нее не отступлюсь. Рапен был хитер, но ты парень симпатичный, на это ты его и поймал, верно?
Ух, и проворный оказался мужик этот Бидон! В жизни он разбирался что надо.
— Ты угадал. Только про деньги я все-таки не знал.
— Что ты делал в Италии?
— Прятался.
Он внимательно посмотрел на меня.
— Эй, постой-ка… А ты, случайно, не тот парень, из-за которого легавые недавно подняли такой шум? Как там тебя… Капут?
IX
Едва лишь он произнес это имя, как я перестал бояться.
Капут! Он назвал меня моим старым прозвищем. Это было приятно: все равно что надеть домашние тапочки после долгого хождения по городу.
По взгляду, который я на него бросил, он понял, что не ошибся. И это мигом сбило с него спесь. Пистолет в его руке задрожал.
— Убери, — проговорил я. — Не люблю я таких посредников.
Но вместо того чтобы повиноваться, он поднял ствол повыше. Маленькое черное отверстие находилось как раз на уровне моей груди. Нас. разделяла только ширина стола. Если бы ему пришло в голову нажать на спусковой крючок, я получил бы сполна.
— Убери! — повторил я.
Но я знал, что он не подчинится. Только что сделанное открытие превратило его в статую. В начале встречи он позволил себе говорить со мной, как с последней шавкой, и это вызывало у него запоздалый страх.
Вдруг он высоким голосом протявкал:
— Не двигайся! Не двигайся, или я буду стрелять!
Ему было безумно страшно. С одной стороны, это могло показаться мне лестным, но с другой — делало его еще опаснее. В панике он мог надавить пальцем на крючок и посильнее.
Я пожал плечами и как можно равнодушнее пробормотал:
— На кой черт нам изображать из себя крутых парней, Бидон? Ведь куда проще договориться.
Он в замешательстве задрал нос, чтобы как следует ко мне присмотреться. И тогда я быстро уперся руками в край стола и грохнул Бидона этим импровизированным тараном. Противоположный край врезался ему в живот. Он даже не успел пальнуть: он полетел вверх тормашками через стул. Я обеими ногами прыгнул ему на грудь, и он сделал шумный, бесконечно долгий выдох.
Я сцапал валявшийся на полу пистолет. Мне было радостно, что после стольких дней безделья я сохранил прежнюю прекрасную форму.
— Ну как, полегчало, Бидон?
Оружие жгло мне пальцы. Желание убивать, которое я считал окончательно уснувшим, возрождалось во мне с еще большей силой.
Я с удовольствием стрельнул бы в Бидона. Парочку шариков в пузо, чтоб попускал слюни.
Он сумел поднять свои шторы и теперь смотрел на меня белыми глазами с красными прожилками.
Я переложил пушку в левую руку и налил полный стакан виски.
— На-ка вот, выпей, лучше станет.
Он взял стакан и глотнул.
— Все допивай!
Он осушил стакан до дна. Я наполнил его снова.
— Давай еще это.
— Но…
Мой план уже созрел.
— Пей, виски отлично усваивается. Скажи спасибо, что балую: пойло отменное, по семь тысяч флакон!
Он стал пить, еще не понимая, что я затеял. А между тем все было просто. Я решил залить ему глаза, чтоб размягчить его волю. Я надеялся, что алкоголь заставит его скорее отвечать на мои вопросы, чем угрозы и побои.
Когда он управился со вторым стаканом, я внимательно осмотрел результат. Его щеки пылали, взгляд затуманился, голова слегка покачивалась.
— Как ты себя чувствуешь?
— Х-х-хорошо…
Он всхлипнул.
— Не убивай меня, я же ничего тебе не сделал! О, до чего ж ты злой, Капут, до чего злой!..
Он был пьян, как извозчик.
— Не реви, рожа, не реви… А то мне хочется тебя хлопнуть.
— О, нет! Нет!..
Я видел, что он уже вполне созрел и должен заговорить, как ребенок во сне.
— Сейчас ты все расскажешь, Бидон. Ты все расскажеш, иначе я продырявлю тебе шкуру, скотина ты паршивая!
— Не надо… Хорошо, хорошо, расскажу…
Он громко и пьяно икнул. Похоже, анестезия удалась как нельзя лучше.
— Расскажи-ка о том деле, которое вы провернули с Рапеном.
— Ага, значит, так…
Он слабо улыбнулся; голова его закачалась, как маятник, и он повалился носом на ковер. Я, видно, не рассчитал дозу. Два больших стакана неразбавленного виски — это, пожалуй, все же резковато.
Я взял с буфета графин и вылил воду ему на затылок. Потом пнул ногой в бок, и он ожил.
— Ай! Что? Что вы себе… Ах, да…
— Не надо отъезжать, Бидон. Отвечай на вопросы, пока я не рассердился.
— Но…
— Что у вас была за афера?
Он несколько протрезвел. Можно было надеяться на вразумительную беседу. Он обхватил голову руками и начал, не глядя на меня:
— Я познакомился с Рапеном в одном кабаке за Лионским вокзалом… В баре для арабов… Я продавал там наркоту. Пустяковую…
— Рапен что, принимал наркотики?
— Нет, он просто любил вертеться среди арабов. Лучшего места, чем у Али, для этого не найдешь. Ну, мы с ним вроде как подружились…
Бидон опять сильно икнул; я подумал, что его сейчас вырвет на пол, но он сдержался. Его рожа приняла бутылочно-зеленый оттенок — как раз подходящий к случаю.
— Говори, я слушаю.
Я действительно слушал, да еще как! Я чувствовал, что он выдаст мне историю не из обычных…
Он спросил:
— Слушай, у тебя вода найдется, а?
Я взял графин и пошел на кухню подоить кран. А когда вернулся — Бидона в комнате уже не было… Я поставил графин и выскочил из дома с рычанием, которое затмило бы льва из «Метро-Голдвин-Мейер».
Мерзавец обманул меня. Он был трезвее, чем мне казалось.
Я увидел, как он бежит по аллее, обсаженной апельсиновыми деревьями. Он спотыкался, и порой его ноги слабели и подгибались. Догнать его не составляло никакого труда.
Я мигом поравнялся с ним и лишь тронул его за плечо. Он остановился, подвывая:
— Не убивай меня, Капут, не убивай!
— Заткни пасть! — проворчал я. — Заткнись, иначе я распорю тебе брюхо, как кролику!
Это его сразу успокоило.
— Пошли обратно. Только спокойно. И не делай такую жалкую рожу: на нас смотрят.
Когда мы снова вошли в дом, его начало знобить, и мне вовсе расхотелось его убивать. Мне было противно даже смотреть на его несчастную физиономию.
— Не вздумай больше выкидывать такие номера, если тебе дорога твоя паршивая жизнь, понял? Иначе заработаешь себе отличное сосновое пальто без рукавов…
На этот раз он был укрощен.
Я налил ему стакан водички; он пил и дрожал. Его зубы стучали о край стакана…
— Теперь тебе лучше?
— Да…
— О'кей, тогда продолжай. Мы остановились на баре у Лионского вокзала, где ты познакомился с Рапеном.
— Да, Ох и гнилой же был парень… У него недавно помер папаша, и он полным ходом просаживал наследство. Кутил по-черному…
— А дальше?
— Ну, мы толковали с ним о том, о сем, и как-то раз он сказал, что умеет водить самолет…
— Кто — он?! — воскликнул я.
— Да. Ну, гомик, но зато сорвиголова! Надо было видеть, как он выжимал сто восемьдесят на своей «альфе».
— Ага. Ну, а почему тебя заинтересовало то, что он умел летать?
Бидон сел на стул и вытянул ноги. У него становился все более жалкий вид. Видно, алкоголь крепко выкручивал ему потроха, а его мандраж еще и усугублял дело.
— Когда я продавал свой порошок, то встречался с кучей деляг из Северной Африки. Один в свое время спрашивал, нет ли у меня знакомого пилота, который не прочь заработать контрабандой. В конце светило три миллиона!
— Что нужно было делать?
— Доставить сто килограммов золота из Швейцарии в Шершелл. Это в Алжире. Когда я узнал, что Рапен водит самолет, то намекнул ему на это. А он, представь себе, ответил, что может очень даже здорово все это устроить, потому что у него в Швейцарии, в Нешателе, живет друг, и у этого друга есть четырехместный самолет. Только тот парень, дескать, самый что ни на есть честный и на такое дело не пойдет. Его нужно было взять хитростью. Ну, мы все продумали что надо. Рапен написал ему, что хочет срочно увидеться с ним в Париже. Они договорились о встрече. Накануне их свидания мы с Робером сели в его «альфу» и рванули в Швейцарию… К вечеру мы добрались до места и оставили машину на хранение в гараже. Потом отправились на разведку. Рапен уже водил самолет друга и знал его ангар. Все прошло по высшему классу: мы прихватили с собой инструменты, которыми можно было взломать любой замок. Оставалось только ждать своего часа…
У Бидона пересохло во рту. Он протянул руку к графину и надолго присосался к горлышку. Вода стекала ему на шею…
— Не знаю, в курсе ты или нет, но прежде чем взлетать, каждый пилот должен сообщить маршрут полета и целую кучу других сведений.
— Знаю.
— Но мы-то, сам понимаешь, всего этого сообщить не могли…
— Конечно.
— Надо было упорхнуть втихомолку, то есть до шести утра. К счастью, аэропорт в Нешателе совсем маленький. И до шести часов там никого нет. Мы решили стартовать в четыре. Самолет мог лететь без посадки десять часов: вполне достаточно, чтоб слетать туда и обратно… Мы собирались выгрузить товар в Африке и сразу же вернуться в Европу. Приземлиться в Веркоре, дождаться ночи и вернуть самолет на место до следующего утра.
— Неплохо.
— Ага, скажи? Это все я сам придумал!
— Ну, ты резкий мужик, Бидон!
— Могу иногда…
— Рассказывай дальше, у тебя к этому настоящий талант!
— В полночь приехали те хрычи, что отправляли «голд». Привезли груз и небольшие бочки с горючим. Золото они уложили в кожаные мешки, чтобы оно не воткнулось в землю, когда упадет с высоты…
— Неглупо…
— Ага. Ну вот, мы взломали ангар, вывели самолет. Те продавцы привезли с собой механика, и он его проверил. Мы заправили баки и провели последнее совещание. Самым трудным было, конечно, сбросить товар и забрать деньги — особенно забрать деньги. Мы должны были обойтись без посадки. Для этого придумали вот что: арабы, которые ждали нас на плоскогорье, должны были натянуть нейлоновую леску между двумя высокими шестами, так, чтобы леска держалась не слишком прочно. На нее было нанизано двадцать четыре миллиона франков — в долларах…
Я издал негромкое восклицание.
— Чего ты? — спросил человек
с полузакрытыми глазами.
Теперь я понимал, почему все мои доллары — вернее, те, что я нашел у Рапена — были с маленькой дырочкой.
— Короче, — сказал я, — вы скинули рыжуху и зацепили леску висящим на веревке крючком.
— Откуда ты знаешь? — спросил он. Потом проворчал: — Ну, ясно: Рапен тебе все выложил! Мурыжишь тут меня для виду, а сам-то давно всю кассу зацапал, зараза! Что, натешился моими денежками, а, подлюга?
Я зарядил ему башмаком в морду. Из носа у него потекла кровь, и это его вовсе не украсило.
— Это чтоб научить тебя вежливости. И логике тоже. Тебе не кажется, что если б я знал всю эту историю, то не стал бы терять время на то, чтобы ее из тебя вытянуть?
Он утерся платком, которым, похоже, недавно чистили печные трубы.
— Продолжай!
— Ну, привезли мы посылочку, подцепили доллары. А было их, скажу тебе, ого-го! Рапен повел самолет в Веркор, мы сели на безлюдном поле и решили перекусить. Рапен перед отлетом заготовил в Нешателе корзинку со жратвой. После еды я сразу уснул. Этот сукин сын подсыпал в вино снотворного… Проснулся — ни Рапена, ни денег… Я, конечно, немножко обиделся…
В этом я был с Бидоном согласен. Тут было отчего схватить сердечный приступ. Я представил его одного в поле, рядом с самолетом, которым он не умел управлять…
— Да, ничего себе, наколка…
— Еще бы!
— И что ж ты сделал?
— Я умудрился вернуться в Швейцарию. Проехал границу на туристском автобусе. И на следующий вечер был уже в Нешателе. Те деляги нас все еще ждали. Они меня чуть не пристукнули. Представляешь — двадцать четыре миллиона! Мы поехали в гараж, где Рапен оставил свою тачку. Ее там уже не было. Оказалось, он тайком договорился с хозяином гаража, чтобы тот отогнал ее в Женеву, и сунул ему за это двести швейцарских франков… Словом, все продумал.
Я на мгновение замечтался. Этот виртуозный ход вызвал у меня ретроспективное уважение к Рапену. Это изнеженное создание, этот слащавый пижончик, которого я относил к отряду беспозвоночных, смог обставить контрабандистов, надуть гангстеров и умыкнуть двадцать четыре миллиона! Браво, браво. Он заслуживал бронзового памятника и золотой надгробной эпитафии… Я даже пожалел, что разбомбил ему купол: внутри кое-что шевелилось!
— И что ты делал потом?
— Вернулся в Париж и стал ждать. Я тебе уже рассказывал, как подкупил того парня из банка, что следил за его счетом…
— Куда он, по-твоему, мог подевать деньжата? Может, все-таки забрал с собой в Италию?
— Вряд ли. Где ему было их хранить?
Действительно: хитрюга, которому удалось провернуть такое мощное дело, ни за что не рискнул бы тащить эту кипу долларов с собой через границу. Нет, скорее всего, он оставил их во Франции.
Положить их на счет он не мог: доллары на счет не принимают. Зато мог положить в сейф.
— У какого города вы сели?
— В двадцати километрах от Гренобля…
— Может быть, он нанял в Гренобле сейф?
— Нет, дело было в субботу, и после обеда банки не работали. Да я об этом уже думал, за кого ты меня держишь?
— Может быть, у него был сообщник?
— Если бы он хотел взять кого-нибудь в долю, то скорее предложил бы мне наколоть продавцов золота. Разве не так?
— Так…
Хотя, с другой стороны, исчезнуть с золотом на руках было бы крайне неосторожно.
Нам нужно было справиться с головоломкой. У нас были только кусочки, которые следовало собрать вместе.
— Когда все это было?
— Почти три недели назад…
В этот момент в дверном проеме появился силуэт Эрминии. До чего же она была красива! Ее шорты открывали длинные правильные ноги, которые уже успело немного позолотить здешнее солнце.
Она бросила на нас критический взгляд.
— Ну? — спросила она. — Как успехи?
X
Ее неожиданный приход раздосадовал меня, потому что я как раз подобрался к самой важной главе: той, где порядком запутавшийся парень ищет способ избежать неприятностей.
Разыгранный Бидоном спектакль вышел ему боком; и все же он держал меня в кулаке, поскольку во время «беседы» узнал, кто я такой на самом деле. Мимо подобных открытий обычно не проходят.
Я оказался в положении человека, который мчится с горы на машине без тормозов. Пока вокруг меня вертелся тип, знавший, что я за фрукт, я мог ожидать чего угодно, в том числе быстрого прощания с головой.
Эрминия посмотрела на меня, потом на моего «гостя».
— Что ему нужно? — спросила она.
— Ему нужен человек, которого я не могу ему предоставить…
Она спокойно села на стул.
— Он тебя шантажирует?
— Чем ему меня шантажировать?
— Для шантажа всегда можно найти множество мотивов…
Она посмотрела мне прямо в глаза. Ее зрачки были немного расширены — как у кошки в темноте.
— Например, — проговорила она, — он может знать твое настоящее имя…
Я оторопел, но постарался скрыть изумление, в которое меня повергли ее слова.
Теперь я смотрел на нее уже другими глазами. Однажды меня уже обвела вокруг пальца женщина — причем очень ловко, — и я считал, что это больше никогда не повторится. Однако тот факт, что эта девчонка знала, кто я такой, и не признавалась, казался мне своего рода предательством с ее стороны.
— Какое — настоящее? — спросил я.
Она улыбнулась.
— Ну как же, Робер: ты ведь опасный бандит… Как-то утром…
Тут она засмеялась. Но мне было вовсе не до смеха. И мое лицо должно было недвусмысленно об этом говорить.
— Как-то утром, Эрминия?..
— Ты вернулся из лавки с апельсинами, завернутыми в старую газету. И на этой разорванной газетной странице была твоя фотография. Глупо, правда?
— Почему ты промолчала?
— Потому что ты перестал бы мне доверять… Я люблю тебя, Робер… И не хочу тебя терять.
Мне хотелось сорвать с нее лицо, чтобы увидеть, что происходит за ним. Правду она говорит или нет? Внутри меня будто завертелись ржавые скрипучие шестерни…
Я боялся ее и в то же время невольно ждал от нее чего-то… Я не знал, чего именно. Может быть, именно ее любви…
Изгои вроде меня всегда одиноки: от рождения и до смерти. Им холодно и страшно, как всем одиноким людям. И они пытаются отомстить за эти неудобства окружающим простакам…
Она знаком увела меня в угол комнаты. Бидон с беспокойством наблюдал за нами.
— Послушай, — прошептала она. — Он знает, кто ты такой, верно?
— Да…
— Тогда ему нельзя жить, Робер…
Ее глаза оставались ясными, лицо излучало невинность. Мне было приятно слышать ее дыхание.
— Это говоришь ты?
— Да, любимый, я…
— Тебе не страшно сознавать, кто я такой?
Она скромно опустила голову — ни дать ни взять девица, только что выпорхнувшая из пансиона.
— Немного страшно, — призналась она. — Да, немного страшно, но когда любишь человека — это ничего. Бидон, видимо, начал о чем-то догадываться.
— Эй, вы что там затеваете? — проскулил он.
Ему тоже было страшно. Но это был вовсе не тот деликатный страшок, который пощипывал Эрминию. Это был настоящий черный мандраж, который расквашивал ему рожу и рисовал синие круги под распухшими веками.
— Закройся, дядя.
Он уже готов был завопить. Страх рвался наружу из его горла, как крыса из клетки.
Я взял бутылку с виски и снова наполнил стакан до краев.
— Пей!
— Нет! Нет! Я же подохну… Хватит с меня тех двух…
Я поднял пистолет.
— От пули в башке умирают намного быстрее, Бидон… Ее даже распробовать не успевают. Глотай, говорю!
Он выпил — морщась, длинными глотками.
В бутылке оставалось еще немного. Я налил ему и это.
— Давай, допивай. Хорошая примета: в этом году женишься!
У него уже не было сил возникать. Он допил; его кадык жалобно дернулся, в глотке забулькало, он противно рыгнул и со смехом растянулся на полу.
Теперь у него был безмятежный и совершенно безобидный вид. Алкоголь — лучшее средство успокаивать нервных людей, не причиняя им зла. Средство простое и эффективное. Рецепт стоило запомнить…
Эрминия приблизилась, чтобы лучше его рассмотреть.
— Неплохо, — сказала она. — Я знаю, что мы теперь сделаем.
— Мы?
— Слушай: ты незаметно погрузишь его в машину. Назад. Потом отвезешь меня на пляж, и я возьму напрокат лодку. Сам поедешь вдоль берега в направлении Монако. Помнишь ту бухточку, в которой мы иногда купались?
Еще бы я не помнил! Ведь мы с ней почти каждый день обнимались там голые на теплом песке…
— Ну, и что?
— Будешь ждать меня там. Я подъеду на лодке, мы положим в нее этого типа… А потом ты вернешься на пляж и дождешься меня в баре за стаканчиком виски…
— А ты?
— А я совершу маленькую морскую прогулку…
— И?..
Она сделала протестующий жест.
— О, милый, не заставляй меня уточнять. Есть вещи, которые легко сделать, но трудно описать словами…
И она добавила как бы про себя:
— Он пьян… На нем нет никаких следов побоев. Подумают, что он напился и упал в воду. Главное — чтобы ты в этом не участвовал. Мы должны быть осторожными, Робер… Тебя может узнать еще кто-нибудь. Видишь — газеты не умирают, как листки календаря: с возрастом они превращаются в бумагу. А бумага может еще долго прослужить…
Да, подруга у меня была еще та.
XI
Я ждал на берегу маленькой бухточки, о которой говорила моя пассия. В это время дня дорога была почти безлюдной. Лишь иногда по ней проносились могучие грузовики, от которых содрогалась моя машина.
Бидон яростно храпел на заднем сиденье, подогнув ноги и свесив голову вниз.
Я торчал на берегу уже около получаса, и солнечные блики на воде успели порядком исколоть мне глаза.
В этот день Средиземное море было лучезарно-зеленым, с серебристыми гребешками, располагавшими к сочинению стихов. Но мне что-то не хотелось строить из себя Ламартина. Я ждал лодку Эрминии и, высматривая ее среди волн, думал о том, что ей предстоит сделать.
Я до сих пор не мог переварить ее заявление о приеме на работу. Чтобы мелкая авантюристка вроде нее согласилась жить с человеком, совершившим несколько убийств — это еще можно допустить. Но чтобы она любезно предложила спустить в морскую пучину совершенно незнакомого человека — тут уж я мог только развести руками перед сложностью женского характера.
В каждой женщине сидит чудовище. Эрминия, конечно, утверждала, что печется о моей безопасности, но я сильно подозревал, что ей хочется утопить Бидона ради неизведанных острых ощущений… Попроси ее кто-нибудь утопить новорожденных котят — она, небось, раскричалась бы от возмущения. А человека — пожалуйста, готова…
На этом этапе своих размышлений я и увидел Эрминию; она появилась из-за скалистого выступа на плоскодонке с мотором.
Она весело, широко махнула мне рукой. И у нее, У будущей убийцы, это движение получилось точно таким же, как у юной девственницы, которую терзает наступающая зрелость.
Все они невинны, как ангелочки с церковного календаря. И в то же время готовы не раздумывая перерезать веревочку, на которой висит небо, и обрушить его вам на голову.
Эрминия правила своим корытом, как старый морской волк. Вскоре она тихо причалила к узкому песчаному пляжу.
— Эй, эй!
Она смеялась и махала мне рукой. Честное слово, она вела себя, как на волейбольном матче!
Я повертел вокруг головой, как перископом. Никого. Наш отрезок дороги был пуст, а справа и слева возвышались отвесные скалы.
Я открыл левую дверцу — ту, что была со стороны моря, наклонил спинку переднего сиденья и вытащил Бидона из машины. Он что-то ворчал, но еще не успел очухаться от алкоголя, который я в него влил.
— Ну, давай, поганец!
Я схватил его за руку и потащил, как мешок. А дотащив до лодки, плюхнул его туда. Посудина угрожающе закачалась.
— Смотри сама не нырни, — предупредил я.
— Не беспокойся…
— Может быть, эту морскую прогулку лучше совершить мне?
— Нет, Робер, нам нужно думать о твоей безопасности…
— Ладно, будь осторожна.
Я не спеша вернулся на машине в городок. По дороге я время от времени смотрел на море и различал среди сверкающих волн темное пятнышко, скользящее к выпуклой линии горизонта. Но когда приехал на Мантонский пляж, сколько ни вглядывался — ничего уже не увидел.
Курортный сезон уже приказывал долго жить, и почти все разноцветные шезлонги стояли без седоков. За стойкой бара молодой черноволосый парнишка в белой куртке выжимал сок из апельсинов с помощью аппарата, купленного на последней выставке бытовой техники.
— Один джин-фицц, малыш!
Я уселся под голубым навесом бара… По случаю моего прихода парнишка поставил пластинку с мексиканской песней, от которой лапы покрывались мурашками.
Я долго смотрел на кубик льда в своем стакане. Он плавал почти на самой поверхности и напоминал мне о Бидоне, который вот-вот начнет кормить рыб.
Эрминия что-то задерживалась…
XII
Наконец она появилась. Она отдала свой пароход пляжному прокатчику и выглядела почти радостной.
— Выпьешь чего-нибудь?
— Да.
— Покрепче?
Ее взгляд заставил меня покраснеть.
— Зачем — покрепче? — дерзко спросила она. — Я просто хочу пить. Возьми мне апельсиновый сок.
Она залпом осушила свой стакан; на ее щеках был румянец, но лоб оставался бледным из-за физического утомления.
— Заплати, и пойдем сядем в сторонке.
Она увела меня подальше от бара, к шезлонгам. Некоторое время мы сидели, не говоря
ни слова, наблюдая за монотонным движением воды и за бескрайним небом, по которому тащились маленькие жилистые тучки.
Я желал ее, желал со страшной силой…
— Может быть, поедем домой, Эрминия? У меня появились кое-какие планы…
Это была наша условная формула. Но она покачала головой.
— Не сейчас.
— Переволновалась?
— Нет, разве что немного устала. Ох, и тяжелый он был!
— Но все прошло удачно?
— Прошло, а это главное.
— Значит, теперь мы можем говорить… как убийца с убийцей?
— В каком-то смысле — да. Но не вижу необходимости об этом вспоминать.
Странный у нее был видок, у этой крошки. Посмотришь на нее, так сначала ничего такого и не заметишь: девчонка как девчонка. А потом, счистив верхний слой, находишь под ним остальное: волнующую, даже опасную женщину, способную на все: на мошенничество, на убийство… Но вот могла ли она любить? Это слегка морщило мне череп. Я испытывал к ней серьезное расположение, но это нельзя было назвать любовью… Любовь я познал с Другой, и та история была еще слишком свежей и сырой, чтобы я мог загореться снова.
И все же я дорожил Эрминией. Хотя бы потому, что ее кожа говорила с моей. Как если бы нас с ней скроили из одной и той же шкуры.
— Ты хочешь поговорить о чем-нибудь другом?
— Пожалуй.
— О чем?
— О будущем.
— О свадьбе, что ли?
Я хотел подурачиться, но она сердито выпятила губу, что придало очертаниям ее рта преувеличенную чувственность.
— Перестань шутить. И давай подведем итоги. Ты выдаешь себя за другого человека. Этого человека хотел найти твой недавний посетитель. Зачем он его искал? Решил за что-то отомстить?
— Почти что так… Но скорее — свести счеты, в буквальном смысле. А счеты у них немалые: двадцать четыре миллиона…
Я пересказал ей всю историю, не упустив ни слова. Она слушала с чрезвычайно заинтересованным видом, а когда я закончил, погрузилась в глубокие размышления.
— Значит, ты считаешь, что этот Рапен не стал вывозить деньги за границу?
— Я в этом уверен. Я достаточно хорошо изучил его характер. И то, что я узнал о нем впоследствии, лишь подтверждает мои догадки. Это был умный и осторожный тип…
Я улыбнулся.
— Его единственная неосторожность — это я. У каждого бывают в жизни минуты, когда секс затуманивает рассудок.
— Так что с этими деньгами?
Она, как видно, не собиралась упускать этот вопрос из виду.
— Он, скорее всего, спрятал их во Франции.
— Но где?
* * *
Слово за слово — и на следующий день мы с Эрминией были уже в Гренобле. Я ждал Эрминию в кафешке: она отправилась в редакцию «Дофине Либере».
Редакция газеты была последним местом, куда мне следовало соваться. У газетчиков всегда развешана под носом масса фотографий, и меня могли запросто засечь.
Через четверть часа она вернулась — веселая, красивая до боли в глазах в своем голубом костюме и оранжевом пуловере. Такой девчонке, конечно, не составляло никакого труда раздобыть нужные сведения…
— Узнала, — объявила она.
Она допила свой стакан томатного сока, который начала перед уходом. Мы вышли.
— Поехали на Визиль… Там повернешь направо, и сразу начнется небольшая возвышенность, на которой нашли самолет…
— Им не показалось странным, что ты задаешь подобные вопросы?
— Как же, буду я спрашивать! Я просто попросила подшивку и нашла нужную статью.
Через полчаса мы выехали на огромную пустынную равнину. Именно здесь Робер Рапен посадил три недели назад свой летательный аппарат. Здесь он одурманил Бидона снотворным и смотался, унеся с собой кассу алжирцев.
— Нужно поставить себя на его место, — говорила Эрминия. — Итак, он один, без машины, с чемоданом, набитым долларами… У него одна забота: спрятать большую часть денег и добраться до Женевы, где его дожидается машина. Он знает, что те, кого он обманул, будут его искать. Поэтому он должен смыться за границу. Взять деньги с собой он не может. В банк их тоже не сдашь — банки закрыты. Отправить их куда-нибудь по почте нельзя: доллары там не принимают. Обменять тоже не получится: слишком крупная сумма.
— И все-таки он знает, что делать с деньгами. Он продумал свой фокус заранее, потому что заплатил гаражисту из Нешателя за доставку своей машины в Женеву…
Мы стали говорить о Робере Рапене в настоящем времени, и призрак гомика мгновенно возник передо мной на этой равнине… Я отчетливо представил себе его высокую фигуру, танцующую походку, развевающиеся на ветру светлые волосы.
В чемодане — двадцать четыре миллиона, времени остается несколько часов, в Женеве ждет машина, которую обязательно нужно забрать, в брюхе копошится предательский страх.
Тут уж Рапену было не до мальчиков. Ему следовало пошевеливаться, да еще как…
Мы развернулись и стали возвращаться в Визиль. Важно было в точности повторить маршрут Рапена.
— Скажи-ка, лапуля…
— Что?
— Какого числа нашли самолет? Ты ведь читала газеты?
— Двадцать девятого. А что?
— Да так…
Она не стала упорствовать, понимая, что я крепко задумался и, может быть, вот-вот высеку из своей башки искру, от которой вспыхнет весь пороховой склад.
Мы доехали до небольшой деревушки, вернее, хутора: там было всего четыре дома и куча навоза на берегу ручья, Я заглушил мотор.
— Что ты задумал?
Мимо нас как раз проходил скрюченный дедок с моржовыми усищами и огромными бровями.
— Будьте любезны, мсье!..
Он посмотрел на машину, на женщину, потом сосредоточил внимание на мне, и я прочел в его глазах все недоверие, которое питают крестьяне к хорошо одетым людям.
— Вы помните, как в прошлом месяце здесь, на равнине, нашли самолет?
— Да…
Он поднял брови, чтобы лучше усечь, куда я клоню.
— Накануне того дня, когда обнаружили самолет, или, может быть, даже несколькими днями раньше не видели ли вы здесь незнакомого мужчину?
— Мужчину?
— Молодого блондина в светлой одежде… — Я рискнул прибавить эту последнюю деталь, поскольку знал гардероб Рапена достаточно хорошо.
Старик задумался.
— Верно, был такой за два дня до самолета. Только видел его не я, а мой сын. И не тут он проходил, а низом, мимо леса…
Я едва не запрыгал от радости и протянул ему тысячу франков.
Он непонимающе посмотрел на меня, потом бросил на деньги такой взгляд, словно впервые в жизни видел французский банковский билет.
— Это чего? — спросил он.
— Вам…
— Нам милостыни не надо!
Мне показалось, что он готов тюкнуть меня киркой по темечку. Оскорбленное достоинство лезло у него изо всех дыр.
— Ну-ну, не обижайтесь…
Мы снова подняли паруса и понеслись к Визилю.
— Не понимаю… — проговорила Эрминия.
— Чего ты не понимаешь? И вообще — разве с тобой такое бывает?
— Как Рапен — если это был он — мог появиться здесь за два дня до своего приземления?
Тут я блеснул мозгой:
— С чего ты взяла, что до приземления? Почему бы не предположить, что самолет нашли только два дня спустя?
Она слегка наклонила голову:
— Да, действительно… Значит, приземлились они двадцать седьмого.
— Несомненно. А Бидона никто не видел, потому что он проспал до поздней ночи.
— Вывод?
— Вывод такой: человек, который проходил здесь двадцать седьмого числа (или двадцать восьмого, если дед ошибся) — действительно Рапен. И доллары были при нем. Мы на верном пути.
До Визиля мы доехали не торопясь.
— Как по-твоему, — спросила Эрминия, — он не мог закопать деньги где-нибудь в лесу?
— Ни в коем случае. Только крестьянин доверяет свою кубышку земле… Рапен был слишком тонкой натурой, чтобы копать яму. И потом — чем ему было копать? И куда он положил бы деньги? Не говоря уже о том, что это вообще рискованно: в лесу человека замечают чаще, чем может показаться…
Тем временем мы въехали в Визиль. И тут у меня родилась идея… Родилась в тот момент, когда я увидел пузатого почтальона с кожаной сумкой через плечо.
Я резко затормозил, шины взвизгнули, прохожие обернулись на нас.
— Эй, господин почтальон, можно вас на секундочку?
Он важно приблизился.
— У меня к вам один вопрос: сколько времени может ждать адресата письмо или посылка «до востребования»?
Я почувствовал, как сидящая рядом Эрминия вздрогнула.
Она поняла. Черт возьми, разве это не лучший выход? Обменять свои доллары Рапен временно не мог. Увезти с собой за границу тоже не мог, а уезжать нужно было немедля. Значит… Доллары, упакованные как следует в коричневую бумагу, превращаются в безобидную посылку. Посылку, которую можно отправить куда угодно…
Но очень многое зависело еще и от ответа толстяка почтальона.
— Письма и посылки «до востребования» хранятся в почтовых отделениях в течение двух недель, следующих за неделей поступления… — отбарабанил он заученную наизусть формулировку.
Мои руки, лежавшие на руле, начали дрожать.
— Следовательно, письмо, отправленное двадцать седьмого числа прошлого месяца, хранится до…
— До пятнадцатого.
Сегодня было четырнадцатое…
— Включительно?
— Включительно.
Он оказался не таким гордым, как тот старый сморчок, и поспешно сцапал тысячную бумажку, которую тот отверг.
— О, благодарю, мсье…
Еще бы: ему выпала нежданная возможность наклюкаться, не подрывая семейного бюджета…
XIII
Мы с ней ничего не сказали друг другу.
Для нас наступил решающий, вернее, даже критический момент. Как будто нам предстояло пройти по канату, натянутому над Ниагарским водопадом.
Один неверный шаг — и все пропало!
Если Рапен действительно оставил деньги на почте до востребования, нам нужно было забрать их в ближайшие несколько часов. Иначе просроченная посылка пойдет дальше, и на ней можно будет поставить крест.
Я спросил у почтальона, где находится почта. Я почти не сомневался, что Рапен отправил (если вообще отправил) свою посылку именно отсюда: его торопило время.
Бидон говорил, что после приземления они ели. Потом он заснул… Значит, Рапен покинул равнину уже после полудня. Он шел пешком, и сюда должен был добраться к двум, а то и к трем часам. Он направлялся в Гренобль, но не был уверен, что успеет туда до закрытия почты, и наверняка решил выгрузить свою добычу в первом же поселке.
На почте сидели за окошками две девушки-брюнетки. Я обратился к той, которая ведала посылками:
— Скажите, мадемуазель, вы все время работаете в этом отделе?
Она, видимо, приняла меня за приставалу и нахмурилась.
— А что?
— О, не хмурьте брови, мои помыслы совершенно чисты. Я ищу своего друга, с которым мне обязательно нужно увидеться, и надеюсь, что вы сможете меня выручить.
Она смягчилась.
— Нет, я здесь не одна. Мы сменяемся каждую неделю.
— А двадцать седьмого или двадцать восьмого числа прошлого месяца была ваша смена?
Она взглянула на большой настенный календарь и кивнула.
— В таком случае у меня к вам разговор. Я смотрю, уже без пяти двенадцать; позвольте нам с женой пригласить вас в ближайшее кафе. Можете не сомневаться, мы вас отблагодарим.
Она помедлила, но в конце концов согласилась — то ли потому что я оказался С «женой», то ли клюнула на это «отблагодарим».
* * *
— Все класс, — сказал я Эрминии. — Идем в кафешку. Там посылочницу легче будет пытать…
Девчонка пришла через семь минут после первого знакомства. На ней было цветастое платье, пиджак от костюма и белые носки. Во всем этом облачении она, похоже, казалась себе законодательницей мод. Ее губы были накрашены в виде фиалки, а крепкий южный акцент оправдывал черные волоски на ногах.
— Двадцать седьмого или двадцать восьмого числа прошлого месяца, — начал я, когда ей принесли поесть, — этот мой друг отправлял отсюда посылку до востребования…
Она наморщила лоб.
— Вот как?
Я достал паспорт Рапена и сунул фотографию покойника ей под нос.
— Вот этот парень. Не припоминаете?
Мы с Эрминией затаили дыхание и лишь проникновенно смотрели друг на друга, сознавая, что переживаем сообща неординарную минуту.
— Возможно… — проговорила почтальонша, глядя на фото.
И жизнерадостно добавила:
— Как ни странно, я лучше запомнила не лицо, а фамилию. Рапен… Как у художника.
Молодчина девчонка!
— Фамилия была и на посылке?
— Ну конечно…
Черт возьми, где же еще она могла ее прочесть? Ну и дурацкие же у меня вопросы…
— Значит, к вам приходил именно этот парень?
Она опять наклонилась над фотографией. Ее сделали несколько лет назад, и к тому моменту, когда Рапен появился у окошка почтового отделения, его внешность успела несколько измениться.
— А не было ли у него на шее золотого медальона?
— Верно, был!
Я дико обрадовался.
— Это просто невероятно, мадемуазель! У вас феноменальная память!
Она покраснела.
— Наша профессия требует внимания…
Я выложил ей пятитысячный билет. Она не поверила своим моргалкам.
— Это слишком много, — прошептала она. Потом зиркнула вокруг и, успокоившись, сунула бумажку в карман.
— Спасибо…
— Вас ждет еще одна и покрупнее, если вспомните, куда он отправил эту посылку.
Тут она, видно, почуяла неладное, потому что быстро подняла на меня глаза.
К счастью, Эрминия с ее мягким голосом и ясным взором поспешила прийти мне на помощь:
— Видите ли, парень наверняка отправил посылку самому себе. Но мы ищем его по очень серьезному поводу. И если выясним, куда отослали посылку, то узнаем, где он сейчас живет.
Неумело размалеванная рожа почтарки снова расцвела. Но тут же помрачнела: адреса она не помнила.
Тут нас с Эрминией охватил испуг. Надо же, у самой цели!..
— Я не помню…
— Ну, пожалуйста, постарайтесь!
— Помню только, что адрес где-то на юге… Я сама с юга, и каждый раз, когда отправляю туда письмо или посылку, мне хочется оказаться внутри…
Юг! Да, это совпадало с планами Рапена… Только юг ведь большой…
— И все же — подумайте…
— Я думаю. Но разве тут вспомнишь? Почти три недели прошло… С тех пор столько всего отправляла… Нет, ничего не выйдет.
Это было сказано совершенно определенно.
Эрминия потянула меня за рукав.
— Пожалуй, все же стоит дать мадемуазель еще десять тысяч франков за Труды.
Еще не понимая, я раскошелился на широкоформатную. Почтальонша пустила ее той же дорогой. Потом смущенно встала:
— Извините, мне пора…
Прежде чем уйти, она прошептала:
— Спасибо…
Когда она скрылась, я взорвался:
— Ну ты даешь! Десять штук за провал в памяти!
— Она все же предоставила нам одно ценное сведение.
— Так за это я ей уже заплатил…
— Нет, я имею в виду место назначения посылки.
Какое же?
— Такой драгоценный груз Рапен, скорее всего, отправил ценной бандеролью.
— Ну и что?
— А то, что он наверняка сохранил квитанцию: ведь квитанцию на двадцать миллионов в урну не бросают. А на квитанции обязательно указывается фамилия и адрес получателя!
XIV
Пусть говорят, что хотят, но в тяжелых случаях ничто не может сравниться с женской изобретательностью. Особенно если речь идет о такой женщине, как Эрминия…
Признаться, я уж было запаниковал. Был полдень четырнадцатого числа. Вечером следующего дня на одном из почтовых отделений Франции посылку неизвестных мне размеров должны были предать забвению. Двадцать четыре миллиона рисковали оказаться в заклеенном почтовом мешке и навсегда заснуть в недрах огромного отдела невостребованных отправлений.
Теперь я понимал, почему Рапен говорил, что должен вернуться во Францию не позже пятнадцатого…
Пугало меня и другое: что если почтальон ошибся и срок истекает пятнадцатого утром, а не пятнадцатого вечером?
— Бумажник Рапена у тебя? — спросила Эрминия.
Я достал его крокодиловую шкуру.
— Вот…
— Ну-ка, посмотри хорошенько.
Я опустошил все кармашки; никаких квитанций там не оказалось.
Я ругался, как извозчик, засовывая бумажник обратно в карман. С террасы нашего кафе были видны горы, и эти горы душили меня, как железный обруч. В них было что-то угрожающее и гнетущее…
— Не будем отчаиваться, — проговорила Эрминия. — Давай-ка лучше поразмыслим.
Но мне как раз требовалось совсем другое: действовать. Я чувствовал, как внутри меня клокочет нетерпение. Оно должно было выйти наружу по-хорошему или вырваться силой. Я подозревал, что в конце концов могу просто-напросто выскочить на улицу и прицепиться к первому попавшемуся перцу, чтоб залепить ему в морду.
— Он не мог выбросить эту квитанцию, — повторила моя подружка. — Это было бы полным безумием… Погоди: ты мужчина. Куда мужчина может положить маленькую, но очень ценную бумажку?
— Ну, в бумажник…
— В бумажнике ее нет. Так: скажи-ка, этот бумажник был у Рапена с собой, когда ты его…?
— Нет. В машине.
— А что было при нем?
Я постарался как можно подробнее вспомнить ту жуткую сцену на итальянском пляже.
Я снял с Рапена брюки, свитер, опустошил карманы и сжег все на костре. В одежде ничего остаться не могло. Хотя, впрочем… Да, в брюках иногда бывает крохотный кармашек для зажигалки — спереди, у самого пояса. Рапен мог сунуть пресловутую квитанцию туда.
Однако поразмыслив, я решил, что навряд ли: он слишком часто переодевался и не стал бы каждый раз перекладывать бумажку в другие штаны.
— Скорее всего, он хранил ее в каком-нибудь постоянном месте, — пробормотала Эрминия, словно проследив за моими мыслями.
Наши глаза одновременно устремились на машину. Как ни парадоксально, машина для путешественника — это и есть единственное постоянное место. Это как бы продолжение его квартиры…
Я подозвал официантку, которая отчаянно вытягивала шею и таращила на нас глаза. Мы вышли.
— Поехали за город, — сказала Эрминия.
Я выгнал тачку из населенного пункта, остановил ее на обочине, и мы будто превратились в стаю саранчи. Несчастная машина безропотно терпела наши надругательства.
Мы были похожи на сумасшедших. Мы молча опрокидывали сиденья, срывали резиновые коврики, вытаскивали пепельницы, выворачивали карманы на чехлах, вспарывали солнцезащитные козырьки… Ничего. Ничего!
Мы перетряхнули атлас дорог, облазили весь багажник, отвинтили плафон под потолком… Ничего!
На глазах у Эрминии блестели слезы, а я так сильно сжимал зубы, что болело за ушами.
Отчаявшись, мы сели рядом на сиденье. Погода сделалась угрюмой, лобовое стекло запотело от первых холодов. Я поднял воротник куртки: типичный жест преступника. Жест, свойственный каждому, кого будили на рассвете тюремщики…
— Двадцать четыре миллиона… — пробормотала Эрминия.
— Ага, — сказал я. — На сосиски с горчицей точно бы хватило.
— Пожалуй.
— Поехали бы в круиз, да?
— Да…
— В Америку. Я давно мечтаю…
Тут я вспомнил о своих старых планах, и это брызнуло мне в душу горечью.
— Пока что ты едешь в горы, — сказала она. — Ждать, пока на одной из них свистнет рак.
— А что делать?
— Давай вернемся в Мантон. И как можно скорее. Осмотрим всю одежду Рапена. Ты говорил, что у него были драгоценности… Может быть, квитанция где-то среди них?
— Ну что ж…
Мы рванули обратно по Альпийскому шоссе. На вершинах уже лежал снег; до зимы, похоже, оставалось совсем недолго.
«Альфа» словно специально создана для извилистых дорог. Кажется, мы достигли родных пенатов меньше чем за четыре часа. Мы забыли пообедать, но есть нам и не хотелось. На протяжении всего пути Эрминия не отводила глаз от часов.
— Если мы попадем домой к пяти часам и сразу же найдем квитанцию и если почта, на которую отправлена посылка, Недалеко от Мантона, то сегодня вечером деньги будут у нас!
— Неплохо бы!
Мы полоскали себе горло надеждой, но если разобраться, то все это было под большим вопросом. Появись Бидон хотя бы на несколько дней раньше — мы успели бы объездить все почтовые отделения на побережье и чего-нибудь да достигли… Теперь же время работало против нас. Дело протухло. Почти… И все-таки каждый из нас думал о том, что мы будем делать с двадцатью четырьмя миллионами! Что ни говори, жизнь — штука забавная…
* * *
Мы приехали в Мантон чуть раньше пяти. Я бешено затормозил у дома, и настал черед спальни. Вскоре в доме не осталось ни одной принадлежавшей Рапену тряпки и безделушки, которую мы не прощупали бы от и до. Через полчаса в комнате царил форменный погром, а мы так ничего и не нашли. С нас ручьями бежал пот… Щеки наши горели, а в глазах плыл подозрительный туман.
— Пролет, — вздохнула Эрминия.
Да, это был пролет. Да еще какой. Такой, которого я даже представить не мог, потому что когда мы вернулись в гостиную, собираясь сорвать злость на виски, в ворота сада кто-то постучал. Мы настороженно переглянулись.
— Пойди посмотри, кто там, — велел я Эрминии.
Она пошла открывать и почти сразу же вернулась.
С ней был полицейский. Я едва сдержался, чтобы не схватиться за свою пушку и не бабахнуть в него. Меня остановило то, что меня вряд ли пришел бы арестовывать один-единственный легаш, да еще в форме. Подобные операции обычно проводят одетые в штатское сыщики из уголовки.
Я нашел в себе силы улыбнуться.
— Добрый день, мсье. В чем дело?
Полицейский, молодой парень с бледным вспотевшим лицом, машинально козырнул.
— Я по поводу нарушения вами правил дорожного движения.
— Не может быть!
— Может. Позавчера вы оставили машину в неположенном месте. Мой коллега составил протокол, и я пришел вписать в него ваши личные данные…
— А откуда у вас мой адрес?
— Мне его сообщил домовладелец. Он проходил мимо в тот момент, когда мой коллега записывал номер машины… Здесь ведь все друг друга знают. Я вздохнул посвободнее. Это был всего-навсего пустяковый, ничего не значащий инцидент.
— Ваша фамилия Рапен?
— Да, мсье. Робер Рапен. Присаживайтесь, пожалуйста. Он сел и вытащил из кармана кителя старый засаленный блокнот и карандаш, который, видно, грыз между завтраком и обедом, потому что верхний его конец был похож на кисточку.
— Будьте любезны показать ваши документы.
Парень старался говорить нейтральным тоном. В нем боролись типично полицейская мания величия и инстинктивное уважение государственного служащего к субъекту, который нарушает правила на «альфа-ромео» ценой в три миллиона.
— Разумеется…
И тут меня мгновенно прошиб такой пот, будто я провел целый день в турецкой бане. Я только теперь сообразил, что у меня нет водительского удостоверения…
Рапен, видимо, держал права в кармане джемпера, и я спалил их вместе с тряпками. Кто знает, может быть, там же лежала и квитанция?
Все это пронеслось у меня в голове на полном скаку.
— Вот техпаспорт, мсье. Может быть, желаете стаканчик виски, а?
Надеясь задобрить его, я стал сама любезность.
— Нет, спасибо, я не пью спиртного.
Он начал что-то записывать.
— Ваши права, пожалуйста.
— Э-э… Одну секундочку.
Я пытался поймать взгляд своей подруги, сообщить ей о своем бедственном положении, попросить помощи. Но она вертела ручки приемника, желая от нечего делать напустить в комнату музычки.
Чтобы выиграть время, я сделал вид, что ищу права.
— Черт возьми! — воскликнул я вдруг. — Эрминия, неужели ты не осмотрела карманы моего пиджака, когда относила его в чистку?
Она выключила приемник, обернулась и ответила самым что ни на есть спокойным тоном:
— Как, дорогой, разве этого не сделал ты?
Она не раздумывала ни секунды.
— Да нет же! — вскричал я. — Черт, вот так история! Ведь там остались мои водительские права!
— Ну, я завтра к ним схожу…
— Да, но господину полицейскому права нужны не завтра, а сейчас…
— Может быть, вы помните номер? — спросил легавый.
— Постойте-ка: кажется, «А — 10999».
— Какая префектура?
— Нижняя Сена.
— Так. Я записываю. Если обнаружите, что ошиблись, зайдите в комиссариат.
— Хорошо.
Я решил, что все позади.
— И покажите мне, пожалуйста, какой-нибудь другой документ.
Я поколебался, затем небрежно подал ему паспорт.
Он записал данные, и вдруг воскликнул:
— Вам тридцать пять лет?
— Ну да…
— Странно! Вы выглядите гораздо моложе…
Еще бы: я был на двенадцать лет моложе Рапена.
— Да, мне часто говорят, что я молодо выгляжу… И тут случилась хреновина из хреновин. Он машинально посмотрел на фотографию в паспорте: Если придраться, то подмену можно было обнаружить. И он обнаружил ее за рекордно короткое время.
— Но, — воскликнул он, — это же не вы!
Он все смотрел и смотрел на маленький прямоугольник из глянцевого картона, изучая рожу Рапена… Потом поглядел на меня. Его острые, как булавки, глаза протыкали меня насквозь.
— Что это значит?
Наступила самая скверная в моей жизни пауза.
Этот кусок легаша в форме таращился на меня, вытаскивал меня на свет, рассекречивал, понимал, что сунул нос в историю, о которой даже не мечтал…
Он медленно поднялся со своего стула.
— Вам придется пройти со мной в комиссариат для выяснения обстоятельств, мсье…
— Ну, вперед!
Но я имел в виду вовсе не комиссариат. И Эрминия это знала. Она включила радио на полную громкость, и я, обходя полицейского сзади, схватил его обеими руками за горло.
Прикосновение к его коже было мне противно. Но чем противнее мне становилось, тем крепче я сжимал пальцы…
Руки у меня сильные. Например, я могу поднять стул горизонтально на вытянутой руке, взяв его за нижнюю перекладину. Попробуйте: с виду это пустяк, но если у вас в жилах течет кисель, фокус не удастся.
Под моими пальцами что-то хрустнуло… Я продолжал давить, и шея парня становилась все тверже.
Из ноздрей у него вырывался глухой хрип; я скорее догадывался об этом, нежели слышал, потому что радио гремело вовсю.
И вот в какой-то момент мое отвращение разом улеглось, и я начал чувствовать одну только буйную радость. Радость мощную, горячую, которой я не испытывал уже несколько недель, которой не было даже тогда, когда я утрамбовал Рапена. Я улыбался… Я был свободен, счастлив, окрылен…
Эрминия прислонилась к стене с серым, как пепел, лицом. Она в ужасе смотрела на меня и не могла поверить своим глазам.
— О, нет, нет! — бормотала она.
Это звучало вовсе не по поводу полицейского: она прекрасно знала, что другого выхода у нас не было. Что ее по-настоящему ужаснуло, так это радость, нарисованная на моей физиономии.
Я разжал руки. Пальцы побелели. Я стал тереть ладони друг о друга, чтобы восстановить кровообращение. Полицейский остался неподвижно сидеть на стуле: изогнутая спинка поддерживала его и не давала упасть.
— Готово дело, — объявил я, глубоко вздохнув.
Я сел около трупа и хорошенько приложился к бутылке — не для храбрости, а потому что хотелось.
Я опять убил человека. Об этом мог догадаться любой дурак: результат был налицо. Я посмотрел на труп. Левая рука фараона лежала на столе, и на безымянном пальце блестело золотое кольцо. У этого несчастного дурня была семья! Значит, переполоха следовало ожидать очень скоро. Вместо двадцати четырех миллионов мне светили наручники и фургон с мигалкой. Прощайте, банковский счет, «альфа» и все остальное…
— Ну? — спросила Эрминия.
— Что?
— Что дальше?
Она уже успела обрести обычное спокойствие.
Я обхватил голову руками.
— Так… Сначала надо запрятать эту дохлятину. Потом ты пойдешь за черной и белой краской…
— Для чего?
— Чтоб нарисовать машине другие номера. Будем сматываться.
Она вздохнула:
— Куда?
— Подальше, Тут пахнет паленым.
— Но подумай сам: такая машина не может проехать незамеченной, даже с другими номерами. К тому же они не будут соответствовать техпаспорту. Стоит первому попавшемуся инспектору тебя остановить, и…
— Ты можешь предложить что-нибудь получше?
— Да… Мы спрячем труп и уберемся отсюда… Переночуем где-нибудь в другом месте. Утром я схожу на разведку. Если к тому времени ничего еще не обнаружат, ты пойдешь в банк и снимешь со счета деньги. Не все, но большую часть. Потом мы пересечем границу и доберемся до Генуи. Там ты продашь машину — пусть даже за бесценок: дело не в деньгах, а в скрытности. Ведь новому хозяину придется ее перекрасить — из-за французских номеров. Это позволит нам выиграть время. Мы сядем на поезд до Рима…
Она опять была права.
— Что ж, неплохо…
Подвала в доме не было, и спрятать труп оказалось нелегко. Я долго рыскал в поисках подходящего места и в конце концов остановился на угольном чулане. Я отнес туда убитого один, взвалив на плечо. Я сбросил его в угол и закидал всей дрянью, которую только смог найти в доме. Этого было вполне достаточно: нам требовалось выиграть лишь несколько часов.
Мы наспех собрали вещи, взяв только самое необходимое, и Настало время уезжать. У меня сжалось сердце: я уже успел привыкнуть к нашей вилле. Я пережил здесь славные минуты — минуты спокойствия, которые были в моей жизни большой редкостью.
Выйдя на улицу, я вздрогнул. Рядом с «альфой» стоял черный велосипед, велосипед полицейского.
Я открыл багажник машины, и мне удалось засунуть туда велик, сняв предварительно колесо и повернув руль.
— Выкинем его где-нибудь на берегу, — сказал я Эрминии. — В каком-то смысле это нам даже на руку: подозрения не сразу падут на меня…
Вскоре мы уже покинули Мантон. Я чувствовал сильную усталость от многочасовой езды.
— Куда едем?
— В Монте-Карло…
По дороге мы сбросили велосипед с обрыва на песчаный пляж, так, чтобы он сразу привлекал внимание. Когда я вернулся после этого к машине, в глазах Эрминии стояли слезы.
— Что это с тобой?
— Я все думаю об этих миллионах…
— Да брось ты! Накрылись они, ну и черт с ними! Ну, успокойся, моя прелесть…
XV
Внезапно машину начало уводить в сторону.
— Что это? — забеспокоилась Эрминия.
— Похоже, пробили колесо.
Действительно: задняя левая шина сплющилась в блин.
Я терпеть не могу менять колесо в дороге и сначала хотел позвонить в какой-нибудь гараж. Однако, поразмыслив, решил, что лучше справиться самому: механик может нас запомнить, и это будет совсем некстати, если к тому времени нас уже хватится мантонский домовладелец.
Я снял куртку и засучил рукава, как и полагается обломавшемуся автомобилисту.
Домкрат лежал в багажнике. Я подставил его под машину, а Эрминия вылезла и стала прохаживаться взад — вперед. Я немного повертел рукояткой, потом решил ослабить гайки, пока пробитое колесо не оторвалось от земли. Сняв колпак, я непонимающе уставился на ступицу. К ней была прикреплена маленькая пластиковая обертка от визитной карточки, испачканная смазкой. Я раскрыл обертку; внутри нее оказалась почтовая квитанция.
Хотите верьте, хотите нет, но я не слишком удивился. Бывают моменты, когда на чудеса почти не реагируешь…
Эрминия, наблюдавшая за мной, невероятно спокойным голосом спросила:
— Квитанция?
— Да…
— Какой город?
— Каньес…
Она прижала руку к груди, словно пытаясь сдержать Удары сердца. Я сел рядом с ней на насыпь. На квитанции был почтовый штамп Визиля и стояла дата — двадцать седьмое. Наш расчет оказался точным.
— Это совсем рядом, — пробормотал я. — Заночуем в Каньесе, рядом с нашими миллионами, а? И завтра, с утра пораньше…
— Еще как!
После этого потрясения я менял колесо целых полчаса: руки сделались будто ватными.
Мы плюхнулись на сиденье, как двое влюбленных, которые только что впервые нашалили и до сих пор от этого не опомнились.
Я засмеялся — блеющим старческим смехом.
— Что скажешь, Эрминия?
— Мой отец всегда говорил, что последнее слово остается за случаем.
— Он мудрый человек. Кстати, ты мне о нем никогда не рассказывала. Где он живет?
— Далеко…
Но мне, в общем-то, было наплевать на ее папашку, и я быстро оставил его в покое.
— Представляешь, лапуля, бывает же такое!.. Наверное, и у душегубов есть своя счастливая звезда…
— Не иначе.
— Значит, завтра — вперед, на Италию?
— Да…
— А доллары?
— Что — доллары?
— Как Нам их провезти?
— Я положу их под корсет: куплю его специально по такому случаю.
— Но ты в нем сразу растолстеешь. Будешь выглядеть как беременная.
— Дай бог каждой женщине родить двадцать четыре миллиона…
— Надо будет забрать и те десять, что лежат у меня на счету. Что-то у меня аппетит разгорелся… А потом… После Италии? Я там долго киснуть не собираюсь.
— Так в чем дело? Найдем самолет в Северную Африку… Там доберемся до Танжера… А после Танжера — весь мир у наших ног…
— Тем более что это край фальшивых паспортов…
Болтая без умолку, мы доехали до Кадьеса. На ближней его окраине красовался отличный мотель. Мы свернули к нему, и я поспешил запрятать нашу тачку в самый дальний угол подземного гаража. Потом снял в мотеле номер, назвав вымышленную фамилию. Я не хотел засыпаться, подойдя к цели так близко… Слишком уж красиво было то, что с нами происходило… Нам все-таки представилась возможность выполнить задуманное: то есть сначала зацапать желанный мешок, а потом уж навострить лыжи.
Переехав границу, я намеревался подарить родине Данте еще один труп. У меня уже было достаточно опыта, и я знал, что вдвоем с бабой далеко не уйдешь. К тому же Эрминия знала, кто я такой, и я не мог позволить ей увезти с собой такую тайну. Даже наши миллионы — и те не заставят ее держать язык за зубами. Рано или поздно наступает момент, когда самые крутые, самые умные, самые любящие и скрытные женщины роняют непростительную фразу.
Конечно, мне жаль было ее кончать после всего, что она для меня сделала. Но другого выхода у меня не было.
Мы вошли в обеденный зал заведения. Он был выполнен в старинном стиле, с огромным количеством меди и лакированной мебелью.
— Похоже, их фирменное блюдо — волчатина в укропе, — сказала Эрминия. — Ее и закажем.
В этот вечер мы жрали и делали все остальное с той ненасытностью, которую рождает у человека близкое соседство огромной денежной суммы…
XVI
На следующее утро мы поднялись в семь часов. Наступал великий день. Откровенно говоря, я был слегка взволнован.
Нам подали кофе; мы сидели в дальнем углу зала, у окна. Погода стояла отличная: на побережье будто вернулось лето. Все вокруг было светлым, радостным, ярким…
Обмакнув в кофе рогалик, я случайно взглянул на местную газету, лежавшую на соседнем столе. Я прочел вверх ногами жирный заголовок на первой странице и мгновенно перестал жевать.
«УБИЙЦА ПО КЛИЧКЕ КАПУТ СКРЫВАЕТСЯ НА ЮЖНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ».
Я схватил газету. Под заголовком была помещена моя фотография, все та же, которую отсняли в момент моего последнего ареста. На ней я напоминал этакого мелкого хулигана. С тех пор я слегка прибавил в весе, и мой взгляд уже утратил то затравленное выражение. А с обесцвеченными волосами я стал и вовсе неузнаваем.
Эрминия тоже перестала есть, и мы с ней принялись читать статью, почти соприкасаясь щеками.
Я сразу понял, что сгорел: властям стало известно, под чьей фамилией я скрывался, и все потому, что я совершил чудовищную глупость.
Черный велосипед, который я забросил в машину, принадлежал вовсе не полицейскому. Он принадлежал посыльному из мясной лавки, который доставлял кому-то из соседей товар. Соседки, сидевшие в засаде за шторами, видели, как я утащил велик, и посыльный побежал жаловаться на «Рапена» в комиссариат. Комиссар, который как раз дожидался своего подчиненного, поспешил к «Рапену» домой и нашел труп. Мои отпечатки — а их в доме было хоть отбавляй — и позволили установить мою личность, поскольку карточка с моими данными имелась в каждом полицейском участке Франции. Я посмотрел на Эрминию.
— Похоже, я опять становлюсь знаменитым, а?
— Похоже…
— Плакали теперь наши миллионы, верно?
— Почему?
— Ну как же? Теперь все знают, что Рапен — это Капут… И мне нельзя соваться на почту под этой фамилией.
— Погоди, с чего ты взял, что на почте все уже вбили себе в голову эту фамилию? С чего ты взял? Даже если допустить, что там читали эту газету — а это вовсе не обязательно, ведь еще рано, — то они наверняка интересовались только подвигами самого Капута. На все остальное люди обычно внимания не обращают.
Она опять была права. Это входило у нее в привычку.
— Так что будем делать?
— Заплатим за гостиницу и бросим машину здесь. По ней нас быстро найдут. Пока что я не рискую привлечь к тебе внимание: тут написано только, что ты жил с красивой молодой женщиной, а приметы мои не указаны.
— Какие же мы дураки, что увезли велосипед…
— Что поделаешь, излишняя добросовестность часто выходит боком… Да и велосипед был типично… полицейский!
Я попросил счет и сказал, что мы отправляемся на прогулку.
— Машину я заберу вечером…
— Как вам будет угодно, мсье.
Выйдя на улицу, я вздохнул немного свободнее, но внутри у меня залегла не то грусть, не то досада… Я снова попал в полосу бегства и страха. Нет, в этом мире у меня определенно не было надежды искупить свои грехи, переродиться и стать другим.
— Не делай такое лицо, — проговорила Эрминия, — не то все начнут оборачиваться. Можно подумать, что ты уже в наручниках.
Почта была еще закрыта. До начала рабочего дня оставалось минут десять. В ожидании мы принялись расхаживать по аллее, обсаженной пиниями.
— Мой банковский счет наверняка арестовали, — заметил я. — Вот уже десяти миллионов как не бывало.
— Жаль, — проронила Эрминия.
От солнца ее рыжие волосы отбрасывали странные, необычные отблески. Ее кожа почти не загорала; она лишь становилась более матовой, сохраняя все тот же нежный вид.
Я смотрел на нее и думал, что теперь мне не обязательно ее убивать. Это было бессмысленно: меня ведь все равно уже раскрыли. Тем лучше: она мне нравилась и была мне нужна. Минувшей ночью я овладевал ею несколько раз, не в силах насытиться ее живым, содрогающимся, словно наэлектризованным телом.
— О чем ты думаешь?
— О тебе…
— Нашел время…
Действительно, думать следовало о другом. На городской колокольне пробило восемь. Мое сердце заработало в форсированном режиме. У меня даже заболело в груди. Мне казалось, что я сейчас не выдержу, взорвусь, что меня вот-вот разнесет на мелкие куски.
— Пошли! — Я потянул ее за руку. На пороге почты она спросила:
— У тебя есть документ без фотографии?
— Погоди-ка…
Я достал бумажник и выругался: в нем лежал только технический паспорт автомобиля. Паспорт Рапена остался на вилле. Он шлепнулся на пол, пока я душил полицейского, и я в спешке забыл его подобрать…
— Ну, знаешь! — вскричала Эрминия. В ее глазах появилась явная враждебность. Этого она простить уже не могла.
— Помолчи. Попробуем обойтись техпаспортом.
Мы вошли. Посетителей в помещении не было. Были только две тетки, сидевшие за своими окошками и квохтавшие, как целый курятник. Насколько я понял, речь шла о муже одной из них, завитой усатой толстухи, и о ревматизме, которым страдал вышеупомянутый муж.
Я просмотрел указатели на картонных табличках и подошел к окошку с надписью «До востребования». За ним как раз сидела жена ревматика.
— Я за посылкой, — сказал я.
— На чье имя?
— Робер Рапен.
Она абсолютно не изменилась в лице.
— Минутку…
Она вышла в соседнюю комнату, и я услышал, как она шарудит по полкам…
— Эге-ге! — донеслось оттуда. — А пылищи-то на ней, пылищи! Да, вовремя вы пришли: того и гляди, отправили бы ее, бедолагу, на свалку!
Она вернулась, сдувая пыль с посылки величиной с коробку для обуви.
Стоявшая за моей спиной Эрминия издала легкий вздох… Мне хотелось заорать — так я был напряжен. Вот они, миллионы, прямо под рукой! Если б эта тетка знала, что там внутри…
— Документ есть?
— Конечно…
Я протянул техпаспорт и вкрадчиво спросил:
— За доставку с меня что-нибудь причитается?
— Нет, все уже оплачено.
Она цапнула мой техпаспорт.
— Постойте, но это же не документ!
— Как? Почему же?
— Нет-нет, — продолжала она. — Ведь техпаспорт может передаваться в другие руки вместе с машиной… И на нем нет фотографии.
Судьба опять подкладывала мне свинью! Я уже привык к ее поворотам, но на этот раз она явно хватила через край…
Я попытался уговорить тетку:
— Понимаете, мы здесь проездом, и у меня нет с собой других документов. Я…
— Тогда приходите в другой раз.
— Но у посылки вот-вот выйдет срок…
— Ну, я оставлю ее еще на пару дней — в порядке исключения.
Она была спокойна, уверена в себе. Она наглухо забаррикадировалась своими инструкциями и правилами и ничего другого знать не желала.
Я в замешательстве посмотрел на Эрминию. Но она только морщила нос и не отрывала взгляда от пыльной коробки.
Тут почтмейстерша воскликнула:
— Послушайте, мсье!..
— Да?
— Раз вы даете техпаспорт, значит, вы на машине?
— Разумеется…
— А раз вы на машине, то у вас должно быть водительское удостоверение! Вот оно как раз подойдет!
Это был последний удар дубиной по моей бедной голове. А между тем толстуха говорила как нельзя вежливее и определенно радовалась, что нашла выход из положения.
— Видите ли, я оставил его в отеле, в другом бумажнике.
— Ну, привезите…
Я достал тысячу франков.
— Послушайте, милочка… (Чтобы назвать эту цистерну «милочкой», надо было совсем рехнуться.) — Послушайте, милочка, мы очень спешим. Вот, возьмите, и выручите нас, пожалуйста…
И я протянул ей деньги: ничего другого не оставалось.
В черных глазах почтмейстерши блеснул жадный огонек. Но она упрямо покачала головой:
— Что вы себе позволяете?
Думаете, меня можно купить?
Представляете — эта стерва еще и решила разыгрывать оскорбленное достоинство!
Это оказалось сильнее меня: я вытащил пистолет. Меня не могла остановить ни угроза полиции, ни крик Эрминии.
— Давай сюда коробку, сука!
Она, спотыкаясь, понесла мне посылку. Ее толстые губы дрожали. Я просунул руку в окошко и выхватил коробку у нее из рук. Потом приставил ствол к ее пухлой груди, не помещавшейся в лифчике.
— Получай, корова, вот тебе документ!
Я выстрелил всего один раз. Пуля вошла пониже левого плеча и, казалось, не причинила ей никакой боли. Она грузно опустилась на стул, и на ее кофте начало быстро расплываться красное пятно.
Ее коллега завопила во всю глотку и забилась в истерике. Пора было рвать когти. Первой это поняла Эрминия: она уже выскочила за дверь и, как безумная, понеслась прочь.
И я поскакал под ярким солнцем вслед за ней.
XVII
Я догнал ее и через силу пропыхтел:
— Ну и дурак же я… Надо было приехать на машине.
— Спрячь! — ответила она, указав на пистолет, который я до сих пор держал в руке.
Я сунул пистолет в карман, зажимая под мышкой твердую коробку с деньгами.
Эта коробка придавала мне невероятное мужество. Ради нее мне позарез нужно было выплыть из всего этого дерьма. Но легко сказать… Убийство почтальонши обещало наделать грома. Уже сейчас сотрудницы толстухи, небось, вовсю накручивали телефон… Оборудование-то у них для этого было как раз самое подходящее!
Я плоховато соображал, что нужно делать, и машинально следовал за Эрминией, как малолетний мальчонка следует за своей мамашей. В плане соображаловки я ей полностью доверял.
Мы безболезненно добрались до первого перекрестка. Но поставленные в известность полицмены тоже, наверное, шевелили задницами, и медлить нам было нельзя. Ох, какую нам готовили свадьбу! С крупнокалиберным органом и шестизарядными скрипками, с кровавыми гвоздиками в петлицах…
На перекрестке мы замешкались. Решать нужно было как можно скорее.
— Туда! — приказала Эрминия и кинулась к фургончику марки «рено», стоявшему возле бакалейной лавки. Она прыгнула за руль, я уселся рядом. Это была машина, на которой подвозили товар, и в ней крепко пахло колбасой.
Увидев, что его железяка куда-то рванула, бакалейщик выскочил на тротуар, отчаянно размахивая граблями.
— Надо было мне сесть за руль, — сказал я Эрминии. Но меняться было уже поздно.
— Не волнуйся.
Действительно, разницы не было никакой, потому что из этой колымаги все равно не удалось бы выжать больше. Бедняжка пыхтела, как только могла, Мы пронеслись мимо пальм, вырулили на шоссе и погнали к Антибу.
— Слышь, — пробормотал я, выглянув в окно, — за нами, похоже, увязались.
Она посмотрела в зеркало, укрепленное на левом крыле.
— Это «форд», — сказала она, будто бы успокоившись.
— Ну, «форд»…
— Хорошо.
— Что — «хорошо»? Можно подумать, ты только рада тому, что за нами гонятся!
— Я кое-что придумала.
— Что?
— Бакалейщик, скорее всего, уже заявил в полицию об угоне своей машины…
— Ну и что?
— Мы сменим машину и повернем обратно.
— Отлично. Только как?
— Подожди.
Долго ждать мне не пришлось. Она слегка сбавила газ. Ехавший сзади «форд» обогнал нас. В тот момент, когда он проходил мимо, Эрминия высунула руку в окно и замахала водителю, чтобы тот остановился. Он тут же подчинился и затормозил прямо перед нами.
Тогда Эрминия вырвала у меня из рук коробку с деньгами и побежала к «форду». Я был так потрясен, что отреагировал только через несколько секунд. Я выскочил из фургона, выхватил пушку и прицелился в девчонку, но механизм издал лишь негромкий идиотский щелчок. Обойма была пуста. Я побежал…
«Форд» резко сорвался с места, и водитель бешено разогнал его на второй передаче. Узкий задок машины стал быстро уменьшаться.
У меня вырвался бешеный поток ругательств. Я позволил облапошить себя, как мальчик из церковного хора. Как настоящий деревенский дурачок! Позволил какой-то фифочке увести у себя богатство, которое добывал с пистолетом в руках, и преспокойно улизнуть с другим мужиком. От этого у любого могли лопнуть сосуды… Ах ты, сука! Я сел за руль и дал по газам.
Легаши могли загораживать дорогу чем угодно: я до того взбесился, что готов был протаранить бетонную стену… Но напрасно я втаптывал педаль в пол: о том, чтобы догнать американскую тачку, нечего было и мечтать. Мой фургон с ней тягаться не мог. Я плакал от злости и во весь голос орал:
— Сука! Сука!
Меня опять обставила баба. А ведь я старался держаться начеку… Но эти стервы, выходит, сильнее нас. Им будто сам дьявол помогает. Вы еще скребете в башке и стараетесь угадать, какую пакость они для вас припасли, как вдруг — бац, готово дело!
Я орал и плакал, плакал и орал… Нет уж, все! Я должен найти ту машину. Я должен поймать эту гадюку и вернуть свои пачки. Интересно, что она такого сказала водителю «форда», чтобы его уговорить?
В окнах фургона свистел ветер. Я обгонял все машины подряд, едва не сшибая по пути прохожих, и встречные водилы крутили пальцем у виска, чтоб показать, что они обо мне думают.
Внезапно «форд» исчез за поворотом, и я понял, что продул. Тогда меня словно что-то дернуло: пора было сбавить обороты. Месть подождет; главное сейчас было — не получить подарочек от легашей в виде двух никелированных браслетов. Чтобы этого избежать, мне следовало, как и советовала эта сволочь Эрминия, поскорее сменить машину.
Я затормозил, скорее по необходимости, потому что в сотне метров впереди начиналась пробка. Это был тот самый заслон, которого я ожидал. Я съехал на обочину и уже собрался было развернуться, но тут заметил в фургоне серый халат бакалейщика и его кожаную сумку. У меня появилась мысль. Я напялил халат, повесил на плечо сумку и храбро зашагал к стоявшим машинам. «Форд», без сомнения, задержали вместе со всеми, и у меня мог появиться шанс догнать мои миллионы.
Я пошел быстрее. Действительно, это был заслон. Четверо мотоциклистов перегородили ту половину шоссе, по которой мы ехали, и осматривали машины.
Поравнявшись с ними, я увидел, как «форд» уезжает. Я только и успел, что заметить его номер. Номер выдали в департаменте Сена-и-Уаза, и среди его цифр было четыре единицы.
Я постарался накрепко вбить этот номер себе в голову и отметил еще одну интересную деталь: левое крыло «форда» было слегка помято.
Полицейские не обращали на меня ни малейшего внимания: они знай себе проверяли подъезжающие машины и высокомерно кивали головами.
Я подошел к грузовику, который только что остановился в хвосте колонны. За рулем сидел мужик в майке и с сигарой в зубах.
— Слушай, приятель, я поломался, подвезешь до Канн?
— Садись…
Первым делом он объяснил мне, что грузовик его собственный. Похоже, я уязвил его достоинство, обратившись на «ты»… Я поспешил переменить прицел. Зачем обижать человека, который согласился помочь?
Мы проехали без осложнений. Полицейские даже не взглянули на наше транспортное средство. Ни ума у этих ребят, ни фантазии…
Я слез в Каннах, сказал мужику спасибо… Поскольку я все еще находился в опасной близости от мест моих недавних свершений, в голове у меня было только одно: поскорее смыться, и как можно дальше. Этого южного побережья я уже наелся сполна. Пожил я здесь, правда, неплохо, но последние несколько часов были такими страшными, что эти места я даже на открытке видеть не хотел.
Я надеялся, что мои обесцвеченные волосы будут достаточно надежным прикрытием. Разумеется, вторая почтмейстерша уже дала мои приметы, но навряд ли она хорошо разглядела меня через свою решетку. До тех пор, пока я не начал стрелять, ее внимание было обращено главным образом на Эрминию. Женщины обычно смотрят на женщин… Мужчины, к сожалению, тоже!
Темные очки и экстравагантный пиджак, купленный у портового торговца, меня на время спасли. Я сел в автобус, идущий в Сен-Рафаэль — там видно будет… Я забился в самый дальний угол. Пассажиров было немного, и ко мне никто не присматривался.
Теперь можно было спокойно поразмыслить. Только это оказалось не такой уж большой удачей. От размышлений я все больше злился и временами даже привскакивал от бешенства… Я думал только о двадцати миллионах, которые исчезли вместе с Эрминией. Быстро же она ускакала, зараза! Мне постоянно рисовалась та сцена: она мгновенно выхватывает у меня коробку и несется к остановившемуся автомобилю…
Похоже, девчонка была чертовски уверена в себе…
Когда она поняла, что мы сползаем в дерьмо, то подумала о том же, что и я: пора расставаться. Только ей требовались деньжата на карманные расходы, а делиться она, как я теперь видел, не любила.
Ну, подожди, поймаю я тебя, сучка! Ну, подожди, поймаю… Я призвал себя к спокойствию. Внутренний голос шептал: «Ну-ну, Капут, остынь… Ты на свободе, а это главное. У тебя в запасе еще много хитростей, ты опять оставишь легавых с носом… И посвятишь свою жизнь Эрминии. Жизнь — она большая, а земля наша маленькая. И не только маленькая, а еще и круглая. На ней никому ни от кого не скрыться. Когда-нибудь, может быть, ищейки тебя и настигнут, но прежде ты настигнешь эту стерву!»
Я невольно улыбнулся. Ко мне возвращалось хорошее настроение. А значит, и удача.
Кажется, я ненадолго задремал. Автобус ехал вдоль берега, и на каждом повороте перед нами появлялось огромное, серовато-синее море. Изгибы дороги все настойчивее убаюкивали меня. Я открыл глаза уже в Ла-Напуль. Автобус стоял в тени платанов, в него садились новые пассажиры, мистраль гнал по улицам красную пыль…
Урчание в желудке неожиданно напомнило мне о жратве. Я ничего не ел с самого утра. А, черт с ним, поем в Сен-Рафаэле, думал я, но все же провожал голодными глазами каждый ресторан.
Вот так я и заметил у одного из придорожных кафе «форд» с помятым крылом.
XVIII
И номер был тот же: с четырьмя единицами. Все сходилось: это был тот самый автомобиль, на котором Эрминия умчалась с моими деньгами.
Сама она, скорее всего, уже далеко, но ведь водитель может сказать, где высадил мою бывшую подругу. А если не захочет сказать, то надолго запомнит мое лекарство от немоты… Нервы у меня были на пределе.
Подходя к кафе, я увидел Эрминию, сидевшую спиной к окну. Внутри у меня все так и запрыгало. Удача была просто невероятная. Его Величество Случай мне на этот раз здорово подсобил! Я нашел деньги за поистине рекордное время.
Значит, девка все же не рассталась с водителем «форда»? А может, он вообще с ней заодно?
Что если она подготовила все это вчера, когда я уже пошел спать? Помню, она непременно хотела принять ванну. А ведь ванная сообщалась с гостиной, так что она вполне могла выйти и потихоньку позвонить кому-нибудь из своих старых приятелей… Чем больше я об этом думал, тем больше мне казалось, что так оно и есть. Взять хотя бы то, как резко она затормозила, после того как подала знак тому водителю… А я-то, дурак, ничего и не заподозрил. Я должен, должен был ожидать от нее какой-нибудь пакости. Когда речь идет о миллионах, на чувства полагаться уже нельзя. Любовные узы развязываются мгновенно, сами собой!
Я сосредоточил свое внимание на витрине кафе. Нужно было поразмыслить и действовать очень осмотрительно: заявившись в общий зал, я рисковал вляпаться. Теперь я знал, что за птица эта Эрминия. Она была вполне способна завопить на все кафе, кто я такой, и в суматохе дать деру. Она знала, что я не вооружен: она сама видела, как у меня закончились патроны.
Так что же???
Времени у меня было совсем немного; его следовало использовать с умом.
Я украдкой приблизился к «форду», открыл дверцу и осмотрел салон. Личная карточка водителя была на имя Франсуа Буде, проживающего в Пеке. Мне это ни о чем не говорило.
Я открыл «бардачок» и тут. же испытал изрядное удовлетворение, обнаружив завернутый в дорожную карту изящный пистолет калибра 6,35. Хлопушка была, конечно, слабенькая, но с близкого расстояния пуля этого калибра бьет, «как взрослая». Не зря ведь пистолеты 6,35 называют «оружием адюльтера».
Я вынул обойму: она оказалась полной. Проверив работу механизма, я дослал патрон в ствол — и сразу почувствовал себя увереннее.
Сначала я решил спрятаться в машине, но потом передумал: схорониться в «форде-кабриолете» не так-то просто. Поэтому я открыл капот, отключил катушку зажигания и укрылся за кустами.
Я был удивительно спокоен. Я снова стал прежним Капутом и готовился объехать их всех на повороте: Эрминию, ее сообщника, легавых — всех до одного…
Что ж, раз мне суждено было стать гангстером, ничего не попишешь… Оставалось держаться на высоте.
Я прождал около двадцати минут. Наконец Эрминия вышла; ее сопровождал Бидон.
Увидев человека с опущенными веками, я удивился, но это продолжалось недолго. Через секунду я все понял. Да уж, задумано было неплохо…
Бидон действительно разыскал меня благодаря переводу денег из парижского банка в другой город, только задолго до своего визита ко мне. Они с Эрминией были заодно, и Бидон подсунул ее мне, потому что не понимал, зачем я выдаю себя за Рапена.
Поскольку моя связь с девчонкой ничего не дала, он решил разыграть свою собственную карту… Да, теперь мне все было ясно. Я понимал, почему Эрминия ворвалась в комнату в тот момент, когда я размышлял, как поступить с Бидоном, почему она вызвалась утопить его сама… Еще бы!
Какой же я идиот, что не догадался с самого начала…
Они сели в машину. Бидон включил стартер, и мотор закашлял, как целый туберкулезный санаторий. Этот кретин еще несколько раз поворачивал ключ в замке, одновременно впрыскивая в карбюратор лошадиные дозы бензина. Как можно быть таким туполобым? Еще немного — и щетки, стартера приказали бы Долго жить.
Наконец он вылез, поднял капот и полностью скрылся за ним. Я решил, что пора браться за дело. В два прыжка я достиг машины и открыл левую дверь.
Эрминия была занята тем, чем обычно заняты все бабы после еды: она пудрила рожу.
Увидев меня в зеркальце своей пудреницы, она на мгновение замерла. Потом, будто желая продемонстрировать свое самообладание, снова начала штукатурить фасад.
— Ну, здравствуй, — сказал я.
Пудреница захлопнулась, издав негромкий жалобный треск. Эрминия лишь молча кивнула в ответ: ей, видно, порядком сдавило глотку.
— Учти, Эрминия: у меня есть другая пушка. В ней-то уж патронов достаточно. И знаешь, какая у меня самая заветная мечта? Влепить тебе пулю в башку. Поняла?
Она снова кивнула.
Я наклонился к ней. Посылка лежала между дверцей и ее бедром. Я схватил ее и почувствовал, как девчонка задрожала.
— Спокойно! Одно движение — и смерть. Ты же помнишь: когда я злой, то даже о себе забываю.
Она помнила. Расстрелянная в упор почтальонша должна была еще стоять у нее перед глазами.
Я жестом приказал Эрминии сесть за руль.
Впереди раздался грохот: Бидон захлопнул капот и вытирал руки носовым платком, не глядя на машину. Лишь подойдя к дверце, он увидел меня и отшатнулся Я высунул голову из окна и холодно произнес:
— Садись вперед, Бидон, или твоя дочь умрет!
Поскольку теперь мне было уже ясно, что она его дочь, У них был один и тот же подбородок, одни и те же губы… Только он был эачуханным и уродливым, а она — красивой и сияющей. Просто поразительно, как из одного теста выходят такие разные люди…
Он сподобился открыть глазенки, не откидывая голову назад. В его взгляде было что-то гадючье: он был юрким и острым.
— Ну, что стоишь? Залезай, пока я не причинил вам великое горе…
Он подчинился; я устроился сзади, направив на них пистолет.
— Включил катушку?
— Да.
— Отлично. Тогда полный вперед!
Мне было хорошо. Мои дорогие миллионы, мой дорогой пистолетик, моя дорогая Эрминия — все было при мне. Что еще нужно для полного счастья?
— Куда ехать? — спросила она.
— Поворачивай на Экс…
Машина тронулась с места.
Они, наверное, думали, что я начну поносить их на чем свет стоит, но я помалкивал. Я предпочитал сковать их своим ледяным молчанием: это было гораздо неприятнее.
Мы миновали Фрежю и выехали на Бриньольское шоссе. Наконец Бидон не выдержал:
— Ты, наверное, считаешь нас мерзавцами, Капут, но пойми, я стал жертвой Рапена. Ведь если разобраться, это миллионное дело организовал я. Согласен, я должен был с тобой поделиться. Но нас сильно тревожила твоя репутация… Вот мы и подумали, что…
— Слушай, помолчи.
Он закрыл рот. Я тоже замолчал. Я молчал и думал о своем. Что ж, до поры до времени я их укротил, но мое превосходство было весьма шатким. С одним лишь пистолетом калибра 6,35 двух человек долго удержать не удастся. Рано или поздно нам придется остановиться на заправке или у ресторана…
Единственным выходом было прикончить их обоих и смыться на машине, увозя с собой драгоценную посылку…
Счетчик продолжал наматывать километры. Время шло незаметно. И их, и меня будто кружило в каком-то странном водовороте.
Окрестности мало-помалу становились безлюдными. Вскоре мы уже ехали среди невысоких холмов, покрытых выжженными кустарниками. От шоссе там и сям отходили узкие проселочные дороги, петлявшие среди земляничных полян и мастиковых деревьев.
— Тормози! — почти машинально сказал я.
Эрминия затормозила, бросив взгляд в зеркало заднего вида. Но ни впереди, ни сзади на дороге не было ни одной машины. Шлейф поднятой нами белой пыли парил над землей, закручиваясь, как сигаретный дым.
— Вон туда, направо…
Нетрудно было понять, что это означает…
— Поворачивай направо, Эрминия!
Она отрицательно помотала головой.
— Делай, что говорю, иначе вычищу вас прямо здесь…
— Что ты задумал? — спросил Бидон.
— Высажу вас подальше от шоссе, чтоб у меня голова не болела. Я вас, гадов, уже знаю: и тебя, и твою паршивку дочь. Вы же меня первые сдадите со всеми потрохами…
— Клянусь тебе…
— Ага, давай-давай, Бидон, клянись. Когда выходишь на тропу войны, надо понимать, чем это может кончиться. Хотели меня надуть — не получилось; теперь не обижайтесь.
Эрминия впервые за все время обернулась, и ее сине-зеленые глаза обволокли меня подкупающе ласковым взглядом.
— Но ты же не убьешь нас, правда? — спросила она. — Я ведь знаю, ты умный человек, Капут. Те несколько дней, которые мы провели вместе, открыли мне, что ты тоже по-своему чувствителен. Вспомни, как нам было хорошо вдвоем…
— Постыдилась бы отца, сукина дочь! — перебил я. — А ты вспоминала о нас двоих, когда выхватывала у меня из рук коробку?!
— Бедного папу так жестоко обманули…
— Вы с ним друг друга стоите! Сколько ты наблюдала за мной перед тем, как я увидел тебя в казино?
— Два дня…
— Рассчитала, что я туда приду, а, прошмандовка?
— Да, рассчитала. Одинокий скучающий мужчина всегда приходит в игорный зал.
— И знала, кто я такой?
— Нет, это мне стало ясно только на следующий день.
— А мошенничала для того, чтобы привлечь мое внимание?
— Да…
— А подмахивала в койке как бешеная — для того, чтоб меня удержать?
— Ну почему же? Не только…
Я улыбнулся.
— Что ж, спасибо, ты подарила мне много приятных минут. Приятных минут и острых ощущений. Когда понимаешь, как скоротечна жизнь, это бесценный подарок. Как подумаешь, что большинство людишек проводит жизнь, протирая штаны в кабинете или на лавочке… Ладно, давай, поворачивай и не беспокойся о своем будущем. Я о нем сам позабочусь.
Движок Эрминия не выключала; она воткнула первую передачу и тронулась. Дорога, которую я указал, была метрах в тридцати впереди. Но вместо того чтобы свернуть, она продолжала ехать прямо и в рекордное время перешла на четвертую скорость.
— Слушай, милая, — прошипел я, — ты мне это брось. Сейчас ты остановишься и дашь отличный задний ход, понятно?
Но она не слушала. Пригнувшись к рулю, она все сильнее давила на газ.
Мы летели по извилистому шоссе со скоростью сто пятьдесят, и мне казалось, что нас несет на тележке по «американским горкам».
— Стой или я хлопну твоего папашу!
Она проскрежетала:
— Что ж, стреляй, если хочешь… Но если ты его убьешь, я поверну к первому попавшемуся дереву, и можешь не сомневаться: после такого удара мы с тобой попадем на тот свет одновременно.
В моей груди разрасталась ледяная ярость. Мое сердце превращалось в булыжник; я перестал чувствовать его стук. Оно сделалось таким тяжелым, что мне больно было нести его в груди. Мы с Эрминией будто взяли друг у друга в плен. Если она не остановится, я убью Бидона, если я убью Бидона, она нас разобьет…
Она почувствовала, что нашла верный ход и должна выиграть этот тайм. Она уверенным голосом сказала:
— Бросай пистолет в окно!
— Где ты это вычитала? В журнальчиках для домохозяек?
— Если не бросишь, я привезу тебя прямо во двор жандармерии!
— Ну-ну. Только там скажут: «Что за безобразие? Чьи это мозги размазаны по лобовому стеклу?»
— А через день и твоя рожа будет смотреть в небо из корзины с опилками!
— Но зато я еще успею порадоваться тому, что ты подохла как собака!
— Плевать мне на это!
И самое скверное, что ей, похоже, действительно было на это плевать.
Мы на всех парах мчались в направлении Бриньоля и проскакивали поселки на такой скорости, что крестьяне прижимались к стенам домов. Нам вот-вот Должны были упасть на хвост мотоциклисты.
Я повернулся к Бидону.
— Слушай, крысиная жопа, так нам всем настанет конец. Сделай что-нибудь, если хочешь жить!
Он был более чем бледен. От страха у него под глазами появились круги в пол-лица. Он будто только что освободился из лагеря для политзаключенных.
Он вопросительно посмотрел на меня. Этот поединок между мной и его дочерью наполнял его ужасом, сковывал по рукам и ногам.
— Выключи зажигание, Бидон!
Он посмотрел на приборную доску.
Эрминия завопила:
— Не трогай, или я всех нас убью! Мне надоело, что тебя все постоянно обувают! Всю свою жалкую жизнь ты или сидел, или вытаскивал из огня каштаны, чтоб ими обжирались другие!
От этого Бидона передернуло. Он разом вспомнил все свои пятьдесят лет — пятьдесят лет унижений и неудач. Он созрел для первого по-настоящему геройского поступка; у него встали поперек горла все эти тюремные решетки, заношенные костюмы, грязные рубашки, перекрученные галстуки…
Он сполна нахлебался обманов и арестов. Слишком многие воспользовались им как отмычкой и выбросили после употребления…
Но на этот раз, благодаря своей дочке, он стал хозяином положения. Небывалое мужество переполняло все его нутро, подсказывало ему, что он ничем не отличается от сверхчеловека…
— Гони, гони! — крикнул он Эрминии.
Мне стало его жаль.
— Я тебя понимаю, Бидон, — проговорил я. — Я тебя понимаю. Но не будь ты идиотом! Слушай, у меня к тебе предложение. По-моему, честное. Я отдаю вам пять миллионов, и Эрминия останавливается. Я оставляю вас на дороге и уезжаю. Если согласен, скажи…
— Как же, поверю я тебе! Мы остановимся, а ты нас угрохаешь!
— Тогда остановитесь посреди какой-нибудь деревни. Разделим деньги, и вы с девчонкой останетесь… Не буду же я палить в вас на глазах у всего народа, черт побери!
Помолчав, он ответил:
— Нет… Пять — это мало. Ведь дело провернул я! А сколько дерьма уже успел нажраться! Делим пополам, а не хочешь — пропадай все пропадом!
Я задумался. Эрминия слегка повернула голову ко мне, рискуя разбить машину вдребезги.
— Соглашайся! — сказала она. — Это справедливо. У тебя останется десять миллионов и машина. Сообщать в полицию мы, сам понимаешь, не станем. Папа не горит желанием с ней встречаться.
Главное было заставить ее остановиться. А там уж поглядим, что дальше…
— Ладно, согласен.
Она перестала мчать как безумная, и все же на каждом повороте мне казалось, что мы вот-вот попадем в те края, где передвигаются только на крыльях.
— Хватит играть в «Формулу-1», раз уж мы договорились, — проворчал я.
— Что, боишься? — радостно хмыкнул Бидон.
— Нет, Бидон, я не боюсь. Я — как те люди, которым отсрочили смертный приговор: я готов подохнуть в любую минуту!
XIX
Некоторое время я смотрел на затылок девчонки. Шея у Эрминии была грациозной, как цветочный стебель, но больше не вызывала у меня сладкого волнения.
В этот раз я протрезвел окончательно.
Стоит хоть немного попрыгать с бабой в кровати — и начинаешь думать, что она твоя собственность… Иллюзия, самообман! Женщина принадлежит и подчиняется только самой себе, только своим капризам… И зачастую наиболее далека от вас именно в тот момент, когда вам уступает. Я был рад, что понял это. Так, по крайней мере, честнее. Теперь я знал, как себя вести и что говорить, а это всегда важно.
Мы подъезжали к Бриньолю, Возбуждение Бидона понемногу улеглось. Он, небось, говорил себе, что десять миллионов — вполне приличное утешение, и уже начинал размышлять, чем они с дочерью займутся дальше.
А я в это время думал о том, что деньги им оставлять жаль. Жаль и вообще неправильно. Эти люди обманули меня по полной программе, воспользовались мною, чтобы потом бессовестно бросить. При этой мысли вся моя гордость вставала на дыбы. К тому же Бидон был жалким неудачником, и я ронял свое достоинство, заключая сделку с таким ничтожеством, как он. Если я начну спускать флаг перед подобными поганками, мне останется только искать спокойную нудную работенку страхового агента.
В поселке Эрминия начала притормаживать.
— Нет, — сказал я. — Не здесь! Прежде чем вас высадить, я хочу подъехать как можно ближе к Эксан-Прованс. Вперед!
Эрминия резко затормозила и обернулась.
— Или здесь, или нигде, — заявила она.
Мы стояли у тротуара, по которому проплывала оживленно кудахтающая толпа. В этом месте как раз ремонтировали дорогу, и мы явно мешали движению. Стоявший недалеко полицейский поглядывал в нашу сторону, готовясь разобраться с нами, если мы через минуту не уедем.
Стерва отлично выбрала место для остановки…
— Так что, делим? — воскликнул Бидон, указывая на коробку.
— Слушай, дядя: если мы сейчас же не уедем, никаких денег, ты не получишь.
— Зато ты получишь. По морде, В комиссариате. Да еще как!
— Ладно, положим, ты меня сдашь, но тогда и твоя дочурка хорошенько отдохнет в тюряге. Не забывай, что она была со мной, когда я застрелил почтальоншу.
— Ладно, папа, давай проедем дальше, — вмешалась Эрминия. — Раз он так настаивает…
Я заметил, что при этом она легонько толкнула его коленом. Это еще что такое? Нужно было приготовиться ко всему. Эта паршивка одна стоила целого змеиного клубка. Она могла придумать массу гадостей — одна гаже другой…
Она молча поехала дальше. Когда мы поравнялись с постовым, он слегка погрозил нам пальцем — мол, ай-ай-ай, нехорошо… Знай он, с кем имеет дело, мигом схватился бы за пистолет!
Мы снова выбрались на открытое шоссе. Солнце пекло хуже, чем летом; гудрон сверкал, как алмазные россыпи.
Бидон выругался.
— Слушай, Канут, хватит с меня твоих фокусов… Не думай, что тебе удастся меня напарить. Так и быть: едем дальше, но при условии, что ты выбросишь пушку в окно, понятно?
Я посмотрел на спидометр: он снова показывал сто пятьдесят. У Эрминии это, похоже, уже вошло в привычку. Как это ни парадоксально, она чувствовала себя в безопасности только после того, как превышала допустимый предел скорости…
— Выбрасывай оружие, Капут… — приказала она.
— Иначе что? — спросил я.
Наступила пауза: мой вопрос привел ее в замешательство.
— Иначе мы врежемся в дерево!
— Что у тебя за тяга к коллективным самоубийствам! — усмехнулся я. — Сходи как-нибудь к психоаналитику.
Вдруг Бидон воскликнул:
— За нами гонятся!
Я обернулся и посмотрел в заднее стекло. Все дальнейшее произошло мгновенно. Я успел увидеть, как уходит вдаль пустая дорога, потом услышал негромкий свист и, когда поворачивался обратно, получил феноменальный удар по черепу.
Все вокруг подернулось красной пеленой, но сквозь эту пелену я увидел Бидона, стоящего на коленях на переднем сиденье с разводным ключом в руке. Он снова замахнулся ключом; я отклонился в сторону; удар пришелся по левому плечу, и всю грудь обожгла острая боль.
— Бей! Бей! — вопила рыжая стерва.
Машина выписывала резкие зигзаги: движения Бидона мешали Эрминии управлять.
Подлец поднял ключ в третий раз… Вот зачем эта гадина толкала его коленом в Бриньоле! Она, наверное, заметила в дверном кармане рукоятку ключа, и это навело ее на мысль устроить мне такую ловушку.
Красная пелена уже рассеялась. Башка у меня оказалась крепкой. К тому же ключ был слишком длинным и задел за крышу машины; это смягчило удар.
Я поднял пушку и выстрелил. Пуля ударила в лобовое стекло, и оно мгновенно сделалось матовым. Бидон выругался, тормоза отчаянно завизжали, машина заходила ходуном, и в следующую секунду в ней словно произошел ослепительный взрыв.
Мне показалось, что я присутствую на праздничном фейерверке… в качестве ракеты.
Удар, Оглушительный грохот… Затем — тишина. Мы все-таки врезались в дерево. Еще бы: Эрминия столько раз нам это обещала! Правда, произошло это случайно и глупо, когда никто этого уже не хотел.
Бидон уже не мог поделиться своими впечатлениями: он раскроил себе череп о стойку лобового стекла.
Что касается Эрминии, то она из последних сил пыталась набрать в легкие воздуха. Ее зажало между приборной доской, которая ушла далеко назад, и спинкой сиденья. Она стояла на коленях, верхнюю часть ее туловища развернуло ко мне; она задыхалась и тихо скулила; у нее, похоже, был сломан позвоночник.
Я же остался цел и невредим. Пассажиры, сидящие сзади, отделываются при авариях намного легче.
Я сделал глубокий вдох: все было в норме. Больше всего болело плечо — от удара ключом.
— Ну как, понравилось, Эрминия? — со смехом спросил я.
Ее глаза расширились от предсмертного ужаса и были слегка затуманены; рот продолжал судорожно раскрываться, хватая воздух, который не мог найти дороги к легким.
— Что, скрючило тебя, сучка? Погоди, скоро подохнешь… Будешь знать, как строить из себя роковую женщину…
Я сунул пистолет в карман и ударил ее по щеке — за все прошлое. Согласен, это было не слишком красиво, но я не смог удержаться. Слишком уж я на нее злился. Злился еще и за то, что она умирала так глупо и так быстро. Мне казалось, что она заслуживала худшего.
Я навалился на правую дверцу, которую крепко заклинило, с трудом открыл ее и ухватил посылку, лежавшую на коврике у сиденья.
Эрминия умерла, когда я выходил из машины. Она вся склонилась вперед, как марионетка, которую перестали держать за нитки…
Несколько секунд я смотрел на них. Они застыли, смешно повернувшись друг к другу спиной, как благополучные супруги в своей постели.
Однажды я повстречаю их в аду или на небесах, в зависимости от божьей милости, — и мы вместе посмеемся над этими трагическими минутами.
XX
Дорога была сказочно пустынной, но я подозревал, что долго это не продлится.
Первый же водитель обязательно остановится, когда увидит разбитую машину. И если я буду вертеться рядом, это покажется подозрительным. Мне нужно было поскорее исчезнуть.
Я побежал через поле, не разбирая дороги, опьяненный чистым воздухом и своей победой.
Вдали послышался шум мотора. Я остановился и обернулся. К месту аварии приближался здоровенный грузовик.
Я бросился на землю, чтоб меня не заметили, и стал ждать. Но грузовик проехал не останавливаясь. Значит, были еще на свете такие же злыдни, как и я!
Я пошел дальше, и через десять минут меня уже не могли заметить с дороги. Я брел вдоль реки, над которой носились полчища стрекоз.
Я уже изрядно устал и хотел есть, поскольку так и не успел с утра ничего проглотить. Растянувшись на траве и положив под голову коробку с деньгами, я задумался о своей дальнейшей судьбе.
Теперь уж — хватит играть с огнем. После всех этих подвигов нужно было основательно затаиться. По крайней мере, избегать больших городов, портов, не появляться на шоссе.
Я попытался сориентироваться; ближе всего находился Маноск. Это был небольшой городок, словно созданный для того, чтобы спокойно отдыхать в нем после бурных событий. К ночи я непременно найду постоялый двор, где и засну, сожрав яичницу с салом… У меня даже слюнки потекли. Да, яичницу из дюжины яиц, утыканную кусочками сала, поджаристыми снаружи и сочными внутри…
Эта чертова яичница и придала мне сил. Я устремился ей навстречу, как араб стремится в Мекку. Я шел и приговаривал:
— Жрать хочу… О, как я хочу жрать!
И это идиотское бормотание помогало мне брести все дальше и дальше по рыжеватым равнинам, пахнущим свежей лавандой.
— Топай, Капут, топай. Скоро пожрешь. Яичницу, желтую, жирную… Неси свои миллионы, парень… А когда поешь, заснешь в деревенском домике, проснешься с петухами… Завтра будет солнце… Яркое, как раз такое, как ты любишь… Через несколько дней доберешься до Парижа. Обменяешь там свои доллары маленькими партиями, чтобы не привлекать внимания… Не все — только часть… Остальные спрячешь… Заделаешь себе новые документы — и уедешь из Франции. Она прекрасна, но ты ее утомляешь… Ты неисправим, Капут… Тебе обязательно нужно кого-нибудь угробить, Поэтому лучше тебе убраться подальше и сидеть тихо..
Воздух становился все свежее, особенно у реки. Вокруг не было ни души.
Я уже не думал об Эрминии и о Бидоне, то есть не думал о них как о живых людях. С ними было покончено, В этот момент вокруг них, наверное, уже суетилась целая толпа, и Эрминию укладывали на высушенную солнцем и обгаженную бродячими собаками придорожную траву.
Я больше не думал об останках Рапена, гнивших на итальянском кладбище. Не думал о том несчастном страже порядка, который на несколько минут возомнил себя комиссаром Мегрэ. Не думал о почтальонше… Я победно шагал по полю, мягкому, как пушистый ковер.
* * *
Не знаю, сколько километров я прошагал так, закутавшись в свои мысли. Километры придуманы только для дорог. А на природе идешь от забора до одуванчика, от кустика чабреца до черешни… Идёшь от реки до горизонта, от солнца до счастливого изнеможения…
Идешь… Километры — удел других, пунктуальных людей. Они — для путеводителей, для автомобильных счетчиков…
Свобода была прекрасна. Никогда еще я не осязал ее с такой силой и с такой радостью.
Наконец я доплелся до маленькой деревушки с бледными крышами, присосавшейся к толстой сиське холма. Казалось, здесь никогда не видели ни газет, ни телевизора, и я решил остаться…
Первой, кого я увидел, была девочка, игравшая с листом каштана. Она вырывала его жилки через одну, превращая этот обыкновенный лист в какой-то экзотический.
— Красиво у тебя получается…
Она боязливо посмотрела на меня, держа в руке свой кружевной листок.
— Тут есть постоялый двор?
На вид ей было около десяти лет. Ее черные волосы разделялись на две косички с красными заколками. Девочка была красивая, но какая-то нескладная.
— Есть, кафе «Майансон».
— А где оно?
— Напротив церкви.
Я потащился туда. Последние метры оказались самыми трудными. Я вошел в прохладный зал, оклеенный старыми вздутыми обоями с картинами охоты. Навстречу мне вышла толстая хозяйка. Она явно не ожидала увидеть такого посетителя, как я, и остановилась с немного обеспокоенным лицом. «Геностранцы», похоже, заглядывали сюда раз в сто лет.
Я на ходу сочинил незамысловатую историю: мол, доктор посоветовал мне больше ходить пешком, мне нужно где-нибудь переночевать и как следует поужинать, и все такое. Мой костюм и вежливые манеры успокоили ее.
— Можно яичницу с салом?
— А чего ж нельзя?
Я уселся за стол.
Пока она готовила эту чудесную яичницу, запахи которой щекотали мне нос, я распаковывал коробку с деньгами. Я уже долго таскал с собой эти американские картинки, и пора было их пощупать. Коробка банкнот — это стоило шкуры какой-то девки.
Я резким рывком разорвал бечевку. Потом развернул бумагу. Как я и предполагал, внутри оказалась коробка из-под обуви…
Рапен потрудился на совесть: наверное, боялся, что при транспортировке упаковочная бумага порвется. Я посмотрел на застекленную дверь кухни: толстуха колдовала над моей яичницей. Я быстро приподнял крышку белой коробки, взволнованно заглянул внутрь — и отбросил крышку прочь. В коробке лежала кукла. Очень милая куколка, одетая в эльзасский национальный костюм.
Мне показалось, что меня сейчас вырвет — так жестоко меня передернуло от разочарования.
Ватным, непослушным языком горького пьяницы я пробормотал:
— Этого не может быть!
Еще не веря своим глазам, я ощупал куклу, но в ней были только опилки.
Тогда я схватил развернутую упаковочную бумагу, лихорадочно отыскал адрес — и понял. Надпись гласила:
«Каньес,
До востребования,
Господину Роберу Ларпену».
Эта свинья почтальонша по ошибке дала мне не ту посылку. Впрочем, чему тут удивляться? Фамилии были очень похожи, к тому же толстый слой пыли, покрывавший давно не востребованные посылки, мог сбить с толку кого угодно.
— Ой, какая славная кукляшка! — воскликнула хозяйка, ставя передо мной дымящуюся яичницу.
Я тупо смотрел перед собой. Подумать только: из — за этой куклы погибло четыре человека!
Из-за этой кучки тряпок мы с Бидоном и Эрминией разыгрывали весь этот жуткий фарс. Из-за этой кукольной эльзаски мне вцепилась в задницу вся Французская полиция…
Прощайте, миллионы! Случай, который так часто открывал мне выход из тупика, на этот раз ударил меня ниже пояса кованым сапогом.
Всего предвидеть никогда не удается. Разве могло мне прийти в голову, что в последнюю, решающую секунду почтальонша подцепит не ту посылку?!
Часы на колокольне теплым, звонким тенором пробили шесть.
— Шесть часов? — проговорил я.
Почему у меня было такое ощущение, что эти шесть ударов возвещают о конце сражения? Ах да: потому что во Франции почтовые отделения закрываются в шесть часов…
Был вечер пятнадцатого числа, и никем не полученная посылка уходила в отдел невостребованных отправлений.
Все.
Это вызвало у меня даже какое-то облегчение. Что ж, удар был тяжелый, но и он уже позади. Больше предпринять нечего.
С улицы, из-за двери кафе, на меня смотрела та нескладная девчушка. Смотрела серьезно, как они это умеют. Она, похоже, принимала меня чуть ли не за принца, вышедшего из ее самых волшебных снов…
Я поманил ее пальцем и, когда она, дрожа от волнения, встала у моего стола, протянул ей куклу.
— Держи: это тебе.
Бедная маленькая девочка, которой дарят прекрасную куклу: у скольких дамочек киношники вышибали слезу подобной сценой! Но я вовсе не собирался разыгрывать перед самим собой многосерийную «Золушку».
Она осторожно взяла куклу в руки. Потом побежала к двери и вдруг остановилась как вкопанная.
— Спасибо! — крикнула она во весь голос.
И улетела, словно жаворонок. А ее «спасибо» еще долго отдавалось эхом в стенах зала.
От этого «спасибо» я почувствовал в душе блаженство. Глубокое, еще неизведанное блаженство… Такое, которое дано почувствовать только мерзавцам вроде меня.
Этот праздник души вполне стоил двадцати с лишним миллионов. Да это, впрочем, было и немного…
Я наклонился над своей яичницей. Она была уже холодной. Холодной и чересчур соленой. Видимо, от моих слез…
Часть третья
БЕЗ ДУРАКОВ
I
Уже больше двух дней я почти ничего не жрал, и желудок мой возмущался вовсю. Водичка из фонтанов и несколько червивых яблок, подобранных на обочине — это, согласитесь, не бог весть что! От голода я даже начал дрожать, как столетний деревенский старикан, и стыдился самого себя.
Наконец как-то вечером я добрался до крохотного городишки, где буйствовала передвижная ярмарка, и там сказал себе, что пришла пора поправить мое положение. Иначе, если дальше так пойдет, я скоро окажусь среди нищих и начну ночевать в приютах Армии Спасения, в компании всех местных и приезжих попрошаек…
Наверное, меня взбодрили огни и музыка. Я остановился напротив торговца, который продавал под открытым небом вафли, и стал с умилением смотреть на малышей и влюбленных, хрустевших этими сладкими пустышками.
Толпа — это лучшее лекарство для людей в моем положении. Она успокаивает их своим теплом и убаюкивает своим бестолковым гулом. Толпа — это тот же наркотик.
Я стал косить по сторонам в поисках какого-нибудь не слишком герметичного кармана, куда можно было бы сунуть воровской пинцет из двух пальцев. Но деревенщина обычно носит кошелек в кармане штанов, и чтоб его выудить, требуется профессиональное оборудование. Я не хотел рисковать: заметит какой-нибудь зануда — и крику будет на весь городок. Мне сразу начали рисоваться силуэты жандармов, безликие, как в китайском театре теней… Дальше все как всегда: арест, выяснение личности, суд… Нет, погореть на грошовой карманной краже мне было не к лицу. Капут, схваченный за руку в момент похищения кошелька у честного землепашца! Представляете? Вся уголовщина будет хохотать до упаду!
Я подошел к манежу, где ездили, сталкиваясь, маленькие электрические автомобильчики, и засмотрелся на малолеток, которое с воплями и дурацким смехом изображали из себя гонщиков «Формулы-1». Зрелище было яркое, достойное кисти художника-баталиста: цветные машинки-черепашки проворно сновали взад-вперед по жестяной площадке, антенна скребла по железной сетке под потолком, высекая голубые искры… Я просто глаз не мог отвести.
Хозяйка аттракциона сидела на кассе и торопливо рассовывала по рукам билеты: на машинки была очередь. Ее муженек, пузатый, будто накачанный выхлопными газами тип, руководил работой манежа. Он звонком возвещал о старте и
финише, включал и выключал ток да покрикивал на пацанов, влазивших на деревянные перила ограждения.
Его помощник, высокий молодой араб с понурым лицом, собирал билеты у садящихся в машины. Он был гибким, как кошка, и перепрыгивал с одного автомобильчика на другой, не становясь на жестяной пол и даже не держась руками за борта. Когда он заканчивал контроль, пузан включал рубильник, и маленькие разноцветные машинки возобновляли свою идиотскую круговерть, а араб уже на ходу рвал билетики двух последних экипажей. Его акробатический номер тоже был частью программы. Те, кому в этот раз не досталось тачки, наблюдали за прыжками ловкача, чтобы скоротать ожидание.
Я уже собрался было уходить, как вдруг на манеже произошло что-то непредвиденное. Странное дело: у меня, похоже, иногда появляется двойное зрение. Может, голод оттачивает человеку восприятие, и голодный замечает происходящее за секунду до того, как оно случается?! Вот так, когда я уже хотел идти своей дорогой, какое-то предчувствие приковало меня к земле. Я увидел…
Араб спрыгнул с последней машинки. Он собирался занять свое обычное место на платформе, но тут двое пацанов из очереди затеяли свару, началась толкотня, и парня выпихнули на манеж, как раз в тот момент, когда одна из машин летела прямо на него. Послышался удар, крики… Толстяк тут же выключил рубильник. На манеж выскочили люди… Араб корчился на отшлифованном до блеска жестяном полу. Ему сломало лодыжку, и ступня болталась из стороны в сторону. Лицо у бедняги стало яблочно-зеленым, губы побелели. Он так страдал, что не мог выдавить из себя ни слова, и в конце концов принял самое мудрое решение: взял да и отключился. Добрые души отнесли его в кафе на углу площади — в ожидании машины, которая должна была доставить парня в больницу округа.
Манеж остановился на добрые четверть часа; милосердный хозяин первым вызвался помочь своему пострадавшему помощнику.
Я увидел, как он выходит из кафе: бледный, хмурый, покусывающий губы от досады.
— Послушайте, патрон…
Он посмотрел на меня невидящими глазами, думая о своем.
— Ногу сломал, — проговорил он. — Что ж, могло быть и хуже.
— Да… На пару месяцев — гипс, и опять сможет плясать твист как ни в чем не бывало. Значит, остались без помощника?
— Ага. Придется пока одному…
Он грустно посмотрел на деревенских пацанов и девчонок, толпившихся у манежа. Видимо, производил в уме отчаянные подсчеты… Прикидывал, что теряет по меньшей мере один заезд из пяти… Радоваться было нечему. Тем более что приближался конец сезона — самое время развернуться на полную катушку.
— Послушайте, я видел, как работает ваш парень. Это не так уж сложно. Если захотите меня взять, я тоже так смогу — за исключением тройного сальто…
Я почти увидел, как ему защекотало хребет.
— Вы? — пробормотал он и наконец-то посмотрел на меня. Зрелище было, надо сказать, не слишком привлекательное. У меня к этому времени отросла бороденка, и я напоминал скорее подзаборного алкаша, чем Робин Гуда. Да еще, небось, малость попахивал. Когда ночуешь под открытым небом, это неизбежно…
— Не обращайте внимания, — сказал я ему. — Помоюсь, почищусь — и буду как новый.
— Вы нездешний?
— Да, я из Парижа… Там работы не нашел, поехал в Лангедок на виноградники. Урожай уже собрали, и вот ехал домой.
— Ну, на пробу могу взять, — сказал он. — Только учтите: через два месяца мы все равно сворачиваемся.
— Годится.
— Тысяча в день, плюс еда и ночлег. Устраивает?
— Да.
— Вы поняли, в чем будет заключаться ваша работа?
— Понял…
Он все же решил пояснить:
— Клиенты покупают билеты. Когда они сядут в машинки, вы эти билеты надрываете.
— Запросто.
— Смотрите, чтобы вас не зацепили. А впрочем, я буду включать только после того, как вы закончите. Главное — постарайтесь побыстрее: в счет идет каждая минута.
— Не беспокойтесь!
В плане акробатики я, может быть, и уступал тому арабу, зато опережал его по проворству. Мне удавалось обежать все восемь машинок меньше чем за минуту. Хозяин, похоже, остался доволен. Я видел, как он улыбнулся и подмигнул своей мегере во время одной из «гонок».
Хозяйка была самой что ни на есть типичной ярмарочной кассиршей. На вид ей было около полтинника, может, чуть меньше. Волосы светлые, с ресниц сыплется краска, губы кое-как подмалеваны какой-то оранжевой дрянью, шея вся в морщинах… Правда, слеплена она была недурно — особенно выше ватерлинии.
Она смотрела на меня внимательным испытующим взглядом, словно боялась, что я вдруг запихну весь ее аттракцион в карман и убегу. Видно, моя рожа не внушала ей безграничного доверия…
Я делал свое дело как можно лучше и быстрее, стараясь не думать о еде. От голода у меня порой все плыло перед глазами, проклятые машинки начинали кружить меня в чудовищном водовороте, и я напрягал все мышцы, чтобы не отключиться. В животе было совершенно пусто, но меня тошнило, как после обильного ужина с кучей сладостей.
Я уже не соображал, сколько времени прошло с начала работы и сколько осталось. Мне думалось только о том, что сегодня воскресенье, что вечеру не будет конца и что мне придется разорвать еще целый мешок билетов, чтоб получить жратву и постель…
Перед глазами мелькали грязные, красные, ногтистые руки деревенских парней, неловко сующие мне розовый бумажный прямоугольник. Я едва держался на ногах. Эта беготня после двухдневного голодания была хуже каторги.
И все же в глубине души (как говорят в театральных спектаклях) я смеялся и ликовал. Легавые искали меня повсюду: во всех отелях, на всех дорогах, а я, убийца Капут, вертелся здесь, у всех на виду, посреди гуляющей толпы. Пожалуй, именно эта мысль укрепила меня тогда и помогла перенести все мучения.
И вот толпа стала постепенно редеть, и в конце концов у манежа осталось лишь несколько пьяных мужичков, которых хозяин разогнал пинками под зад. Он погасил гирлянду из ламп, окружавшую крышу манежа, оставив только две лампочки по углам. Вечерняя темнота навалилась на меня с такой силой, словно хотела раздавить. Парк аттракционов снова превратился в простую деревенскую площадь. Карусельщик и хозяин тира тоже закрывали свои лавочки. Худые бродячие собаки подбирали вафельные крошки… Наступала прохладная ночь, серебристая, как жестяной пол манежа.
Я обессиленно присел на деревянную платформу. Ноги мои гудели, руки отваливались, желудок казался просторным и гулким, как церковь после богослужения.
Хозяйка пересчитывала выручку. Сбор оказался будь здоров! Там были и тысячные бумажки, и пятисотенные, что побольше размером, но все рекорды побили монеты: полная холщовая сумка! У меня зачесались руки. Я подумал, что хапнуть всю эту кассу будет проще простого. Вытряхивать выручку из торговцев гоночными иллюзиями — это ведь самые азы уголовной науки… Боднуть толстяка головой в живот, врезать бабе ребром ладони по шее — и деньги мои!
Только это ни к чему бы не привело. Лучше было остаться, пожить немного под маской безработного и работать себе на аттракционе, наблюдая, как разворачиваются события вокруг. Это обещало мне хотя бы частичную безопасность. Служить дичью в охоте на человека мне к этому времени уже изрядно осточертело.
Толстяк спросил у своей бабы, сколько за сегодня получилось, потом с довольным видом подошел ко мне.
— Годится, — сказал он. — Теперь надо зачехлить машины.
— Простудятся они, что ли?
Я ляпнул это с явным раздражением, и толстяк нахмурился; тогда я сделал вид, что шутил, и он тут же расцвел, как георгин.
Я укрыл дурацкие автомобильчики клеенчатыми чехлами и спросил толстяка:
— Шеф, нельзя ли чего-нибудь перекусить?
— Да-да… — спохватился он. — Сейчас хозяйка все устроит. Я, видите ли, ем только после сеанса… «Сеанса»! Он, не иначе, воображал себя администратором «Комеди-Франсез»…
Только теперь он познакомил меня со своей старухой.
— Это мадам Джейн, — сказал он. — Моя фамилия Манен, а тебя как зовут?
Я мигом состряпал себе новую личность:
— Антуан Дюран…
Выдумка была не из лучших, но что поделаешь; с пустым брюхом трудно быть гением, Кстати, большая ошибка считать, что гений остается таковым только тогда, когда ему нечего жрать. Совсем напротив! Он ничуть не поглупеет от цыпленка по-охотничьи или антрекота в вине.
— Ладно, топай за нами, — буркнул Манен, сразу переходя на «ты». И то верно: фамилия «Дюран» не располагает к дворянскому величанию…
Я побрел к их фургончику. Внутри все оказалось — высший класс! Манен заделал себе настоящую виллу на колесах. Кухня с газовой плитой, душевая, столовая, спальня… На борту такого парохода сам черт не страшен!
— Можно мне помыться? — спросил я.
Баба под названием Джейн многозначительно потянула носом.
— Даже нужно!
Я сдержался, но подумал, что если она и дальше будет отпускать такие задрочки, то скоро ох как об этом пожалеет…
Я залез в пластмассовый шкаф, служивший душевой, и с блаженством намылил физиономию, растирая кожу чуть ли не до дыр. Ощущение было сказочное. На умывальнике валялась бритва папаши Манена. Я подправил свою молодую бородку, пустив ее ободком, и стал похож чуть ли не на интеллигента из левобережных кварталов столицы.
Когда я вошел в столовую, расчесав волосы на пробор, мамаша Манен захлопала глазами. Моя возрожденная мужская красота стала для нее пикантной неожиданностью; она тут же метнула на меня свой коронный взгляд, которым, наверное, и заарканила своего мужика лет двадцать пять тому назад. Я вежливо улыбнулся ей в ответ.
— На ужин кровяная колбаса с печеными яблоками! — объявила она.
— Отлично!
— Любите?
— Обожаю! Я даже мороженое всегда покупаю не ванильное, а кровяное и колбасное!
Шуточка была, конечно, медвежья, но им понравилась. Они усмотрели в ней доказательство моего чистосердечия. Раз человек шутит — значит, не замышляет ничего дурного…
— Садись! — сказал толстяк.
— Я накинулся на еду, и пока я жевал, Манен рассказывал мне о своей жизни, а его бабуся пихала меня под столом коленкой!..
II
Ночевал я в прицепе их фургона, там, куда укладывали разобранный манеж. В прицепе оказался уголок, отведенный для помощника. Вместо матраца лежали мешки, простыней тоже не было — и все же эта ночь показалась мне самой прекрасной в моей жизни.
Утром меня разбудили деревенские петухи. Распелись, хоть уши затыкай! Да и как им было не петь — утро выдалось просто замечательное.
Подошел Манен — подтяжки болтаются у пяток, старый пуловер завязан на шее шарфом.
— Ну, Антуан, как спалось?
— Классно!
— Не замерз?
— Нисколько!
— Молодчина. Ну, пошли разбирать павильон. В полдень будем выбираться Вечером поработаем в другой деревне, ехать туда километров пятьдесят.
«Вот так и устроена жизнь», — меланхолично подумал я. Гулять сегодня будут в другом месте, а здешние мужики уже принимаются за работу, попивая с похмелья газировку с содой. Мы же ездим от одних к другим, таская с собой свои разноцветные машинки и гирлянды из лампочек, доставляя гулякам удовольствие повертеть руль и устроить всего за сто франков пару-тройку безобидных аварий… Ведь главное в таком аттракционе — это именно столкновения. Люди ради смеха покупают себе катастрофы: дело обстоит именно так. После трех первых кругов придурки, сидящие в наших размалеванных кастрюлях, начинают воображать себя героями и мечтают, как мэр прицепит им орден Почетного легиона на сельской площади в присутствии взволнованных земляков!
Мы свернулись… Переехали… Развернулись…
Так продолжалось неделю. Но мне казалось, что я на каникулах. Это было какое-то пустое время, незаметное движение в невидимом пространстве. Дни сменяли друг друга, сея забытье… И поскольку главным было заставить всех забыть о себе, такая жизнь меня вполне устраивала.
Жратва у Маненов была выше всех похвал. Оба любили хорошо поесть, только вот беда: тетка под названием Джейн любила не только это… Не знаю, может, у ее мужика было короткое замыкание в штанах, только она начала цепляться ко мне со страшной настойчивостью и бесстыдством. Я видел на своем веку не одну заводилу, но таких приставучих — еще никогда! Она хотела меня и сообщала об этом не официальным письмом, а напрямик.
Когда мы с ней оставались в фургоне одни (хозяин любил шататься по пивнушкам), она без промедления шла на абордаж. Она ничего не боялась, ничего не стеснялась, а в быстроте движений могла тягаться с боксером-легковесом…
Я оборонялся — осторожно, чтобы ее не разозлить. Поставив ее на место, я в два счета лишился бы работы, а ведь мне требовалось задержаться у них как можно дольше…
Но вот однажды вечером, когда папаша Манен уже захрапел, она заявилась ко мне в прицеп как раз в тот момент, когда я отходил ко сну.
В такие минуты часто теряешь чувство реальности… Короче говоря, я ее целиком и полностью удовлетворил. Ух, что она вытворяла, эта Джейн! Полвека опыта и практики не проходят даром… У меня, правда, тоже накопилось немало нерастраченных сил… Так что в свой фургон она вернулась на полусогнутых.
С этого дня я превратился в ее любимчика. Она то и дело совала мне пятисотенные бумажки просто для того, чтобы залезть в карман моих штанов и заодно как следует перетряхнуть все мое хозяйство.
В определенном смысле это было мне на руку, поскольку позволяло сделать заначку на черный день — смотри басню «Стрекоза и Муравей». К последнему дню работы у меня набралось около двадцати тысяч. Финансировать следующий фильм Марселя Карне я на них, конечно, не мог, но они должны были на некоторое время спасти меня от помойной ямы.
Джейниха даже всплакнула, когда поняла, что скоро мы распрощаемся навсегда. Но что она могла поделать? Каждый год, в начале ноября, они отвозили свой балаган в большой ангар близ Орлеана и ехали зимовать в дом, который Манен построил в центральном районе страны на деньги своих стукнутых автогонщиков.
— Что поделаешь, — шептал я ей, — деваться некуда…
Но она не могла с этим примириться. Еще немного — и она предложила бы своему пузиле меня усыновить. Да только он, похоже, вовсе не разделял горя своей благоверной. Наверное, он уже хорошо ее изучил и имел кое-какие подозрения на мой счет. Нет, лучше было разойтись по-хорошему.
Свои «прощальные гастроли», как выразился воображала Манен, мы дали в Фонтенбло. История, кстати, свидетельствует, что этот город вообще очень подходит для прощаний.
С момента моих последних неприятностей с полицией прошло целых два месяца, и жандармы уже, наверное, решили, что я улетел в теплые края.
Я начал дышать свободнее; мне уже не казалось, что на мне стальной корсет, стянутый по бокам болтами.
Итак, мы приехали в Фонтенбло… Там лил такой дождь, какой бывает только в книгах Сименона. Выручка оказалась более чем скромной. Автомобилей в тех местах полно, а трахнуться или перепихнуться можно и без билета — в лесу… Так что, сами понимаете, машинки-толкуши слегка теряют здесь свое очарование…
Трое или четверо балбесов, катавшихся на наших машинках, безрезультатно пытались выдавить из себя хоть каплю веселья… Папаша Манен здорово злился оттого, что сезон заканчивается неудачей, а его женушка все смотрела и смотрела на меня. Она была расстроена, как корова, у которой вдруг убрали с глаз железную дорогу на краю пастбища. Впрочем, у меня в голове тоже вертелись довольно мрачноватые мысли. Наверное, от погоды и от самой ситуации. Хотите верьте, хотите нет, но я не работал уже несколько лет, и работа показалась мне, в сущности, не таким уж неприятным делом. Может, я был задуман честным человеком? Да ладно, не смейтесь… Может, я стал преступником лишь по стечению обстоятельств, волею злой судьбы? Иногда я даже мечтал о спокойной, гладенькой жизни, куда не заглядывали бы полицейские… Я завидовал мужикам, которые встают на работу в шесть часов и только к вечеру, выжатые, но довольные, возвращаются в свои тесные квартирки, где пахнет капустным супом. Возвращаются к своей доброй, почти верной женушке, к своим почти чистым детишкам. По субботам — киношка, по воскресеньям — неизменная прогулка в самом нарядном вокруг своего пригородного квартала… Да, все это манило меня, как мягкая постель манит смертельно уставшего путника…
Эти последние два месяца были мне отсрочкой. Но теперь…
Мы закончили работу около одиннадцати. Папаша Манен велел мне приступить к разборке прямо под Дождем. Он хотел уложить свой инвентарь в ангар уже на следующий день, с утра пораньше, и сразу рвануть к себе в Шату — снимать в саду поздние осенние груши, самые, по его словам, вкусные.
Я начал уныло разбирать павильон… Джейниха следила за мной со слезами на глазах. И тут я заметил какого-то типа, который стоял неподалеку, в тени, и тоже смотрел на меня. Все во мне так и застыло: я решил, что это легавый.
Однако разглядев его как следует, я понял, что ошибся. Это был маленький седой старичок лет семидесяти. Губы его прятались под седыми усами а-ля Клемансо. У него был длинный нос в форме банана, раскосые глаза, густые брови; на плечах болтался серый поношенный плащ. Уличный фонарь освещал его сверху, бросая на лицо необычные тени. Пожалуй, он был похож на дьявола, каким его иногда изображают в кино. Он казался добрым, сладеньким и одновременно коварным.
Он все смотрел на меня, и это сильно действовало мне на нервы.
Ничего не замечавшая Джейниха дождалась, пока пузатый Манен пошел в кафе хлебнуть красного винца, и подкатилась ко мне.
— Подумать только: завтра тебя здесь уже не будет… — прошептала она.
— Ну и что? Вас тоже здесь завтра не будет! — сострил я. — Се ля ви… Люди встречаются, потом расстаются…
— Почему ты со мной так сердито разговариваешь, мой волчок?..
Я чувствовал, что пришелец подслушивает, и меня смутило, что эта плесень говорит мне «волчок», да еще таким полуобморочным голосом.
— Сделайте милость, подождите минутку: мне надо разобрать мавзолей, а то ваш бухарик меня не отпустит…
Она, всхлипывая, побрела к своему пульмановскому фургону. Не иначе, собиралась залить свое горе мощной порцией рома. Ром был ее второй по порядку слабостью.
Оставшись один, я вновь принялся выбивать молотком железные клинья из каркаса павильона и на некоторое время позабыл о старичке. Но вскоре он снова всплыл в моей памяти, как некое крайне важное событие. Тогда я обернулся и констатировал, что он приблизился на несколько шагов, чтобы лучше меня видеть. Я бросил молоток и пошел на него, сжимая кулаки.
— Вы что, хотите мою фотографию?
Такие фразы засели у нас в голове еще со школы: дурацкие, спору нет, но когда злишься, ничего другого не находишь.
Он не вздрогнул. Он лишь поднял на меня свой взгляд, удивительно спокойный, острый и глубокий…
— Зачем? — проговорил он. — Я уже видел ее в газетах.
Мне будто вылили на голову ведро ледяной воды. Меня раскрыли. Этот старый огрызок приглядывался, приглядывался — и все-таки узнал. Когда первое удивление улеглось, меня разобрало любопытство. Почему этот дряхлый старикашка так спокойно признался, что вычислил меня? По идее, он должен был поскакать в местный комиссариат и забить тревогу… Но нет, он стоял на месте и все щупал меня своим внимательным взглядом.
Мы с ним были одни в самом темном уголке площади. Одни под проливным дождем. Мне ничего не стоило пристукнуть его одним ударом кулака. Подумают, что он оступился и упал: много ли старику надо? Несколько секунд я обдумывал этот вариант, но потом отбросил его из-за одолевавшего меня любопытства.
Я чувствовал, что он чего-то от меня ждет, и задал самый краткий, но и самый красноречивый вопрос, который только нашел:
— Итак?
— Я пришел уже довольно давно…
— Знаю.
— Если я правильно понял, сегодня вечером вы оставляете свою… работу?
— Вы совершенно правильно поняли.
— У вас есть планы на будущее?
— Это что, интервью? Может быть, вы корреспондент «Франс-Суар»?
Старичок не улыбнулся. Он стал дожидаться более серьезного ответа, и от него исходила такая спокойная сила, что я подчинился:
— Планов нет. Разве что — не пачкать руки.
— Тогда я, пожалуй, могу вам кое-что предложить.
— Да ну?
— Да.
— Можно узнать, что именно?
— Можно. Идемте со мной.
— Куда?
— Ко мне.
Я глубоко вздохнул: перемены происходили с неправдоподобной быстротой. Мне казалось, что я читаю роман с чересчур закрученным сюжетом. На кой черт я мог понадобиться этому старому гному?
— Я к незнакомым людям не хожу, — глупо ответил я.
— А я для того вас и приглашаю, чтобы мы получше познакомились.
После долгого молчания я наконец решился:
— Ладно, идемте…
— Моя машина стоит вон там. Прощайтесь со своими хозяевами — и поедем.
— Сначала мне нужно разобрать эту хреновину!
— Сами разберут.
— Но деньги-то мне надо получить!
— Денег я вам дам.
— Вы что, дежурный Дед Мороз?
— Я гораздо лучше. Дед Мороз — всего-навсего курьер и раздает только игрушки. А я могу дать вам намного больше.
— Подождите минутку.
Я отошел на несколько шагов, затем, ужаленный смутным беспокойством, вернулся к старичку.
— Послушайте, не собираетесь ли вы меня сдать?
— Нет!
— Чем можете доказать?
— Судите сами: где вы видели семидесятидвух-летнего старика, который развлекался бы ловлей беглых преступников? Идите, я вас подожду, только не задерживайтесь: у меня астма, и сырость мне вредит.
Представьте себе, я так и поступил… Я побежал к фургону. Джейниха как раз наливала себе очередной стаканчик огненной воды.
— О, наконец-то! — обрадовалась она.
— Послушай, — сказал я. — Я обращался с тобой так грубо только потому, что очень сильно тебя люблю…
Тут я едва не захохотал. Увидев, какие у этой коровы сделались глазки, любой покатился бы со смеху.
— Правда? — пролепетала она.
— Да… Я от этого просто сам не свой… Но твоя жизнь уже налажена, и я не имею права сбивать тебя с праведного пути. Мне это невыносимо, я больше не могу оставаться с вами… Я ухожу. Придумай сама, что сказать мужу. Денег мне от него не надо… Прощай, Джейн! Я никогда тебя не забуду…
И я поскорее выскочил на улицу, чтоб не лопнуть от смеха.
Согласитесь, с моей стороны было очень любезно устроить ей на прощанье этот бесплатный спектакль. В ее возрасте дамочки уже отвыкли от сиропных романсов… Если молодой паренек вдруг начинает шептать слова любви на ушко почтенной матроне, так и знайте: одной рукой он в это время щупает ее тройное жемчужное ожерелье, а другой — ее чековую книжку!
Я давно уже не совершал таких благотворительных акций и после прощания с Джейн почувствовал себя таким чистым, будто только что вылез из-под горячего душа.
Старичок ждал меня за углом павильона, подняв воротник плаща и нахлобучив на голову вынутый из кармана баскский берет.
— Поехали!
Честно говоря, впервые за всю свою поганую жизнь я следовал за человеком, не зная, куда он меня везет и чего от меня хочет. Меня Заставляли это делать разве что его почтенный возраст и его цепкий, настойчивый взгляд.
На краю площади, под старыми платанами, светились габаритные огни машины. Это оказался старенький горбатый «рено».
— Садитесь.
Он опустился за руль и не спеша завел мотор. Мы тихонечко отъехали от тротуара. Его каракатица была неспособна на молниеносный старт. Да и зачем? Когда на вас хотят произвести впечатление, за вами приезжают на «мерседесе-300». Старичок же, напротив, старался остаться незамеченным.
Я выжидающе молчал. Он тоже держал рот герметично закрытым; если дорога предстояла дальняя, молчание могло затянуться надолго. Но я считал делом чести не задавать вопросов. Раз уж решил играть в его игру — надо тянуть до конца…
Мы ехали сквозь дождь; струйки воды, стекавшие по стеклу, рассекали и искривляли дорогу. Свет фар стремительным ярким потоком проливался на блестящий асфальт.
Некоторое время мы катили по шоссе, затем он повернул направо, на дорогу, обсаженную аккуратно подстриженными кустами. Домишки в этих местах были что надо. Добротные, уютные жилища парижских промышленников: высокие ступени, портики на песчаных аллеях, фонтаны, веранды, зимние сады…
Старичок подъехал к одному из гаражей, вышел из машины, поднял складную металлическую штору, и мы въехали внутрь.
— Можно попросить вас опустить штору? — сказал он.
Я пошел разматывать железный рулон; он погасил фары и включил в гараже свет.
Гараж был рассчитан на две большие машины, и машинка старика выглядела здесь как коза, пасущаяся на футбольном поле. С другой стороны была приоткрытая дверь.
— Идите за мной.
Я пошел за ним, по-прежнему послушный, безмолвный и обеспокоенный. У меня начинало изрядно свербеть в башке. Старикан, похоже, был страшно богат, несмотря на пожеванный плащ, берет и дохленькую машину. В особняке, что возвышался справа от гаража, было по меньшей мере двадцать комнат. Просто глаза разбегались: три этажа, каменные стены, крыша в китайском стиле, балконы… Выглядело все это немного наляписто, но вполне сгодилось бы для средненького герцога или барона.
Я усмехнулся: надо же, не успел и глазом моргнуть, как перенесся из вонючего прицепа в маленький дворец…
Ставни на окнах были задраены, света нигде не было. Все это напоминало сказку о Спящей Красавице. Правда, было не так романтично, но зато куда более впечатляюще.
Старичок пренебрег крыльцом с двумя лестничными пролетами и вошел в дом сзади, через подсобные помещения. Мы оказались в кухне, выложенной от пола до потолка белой плиткой, отчего она смахивала на станцию метро, а оттуда перешли в небольшую странноватую комнатку, где старик, похоже, устроил себе штаб. Там были железная кровать, шкафчик с книгами, стол с грязными тарелками и окурками, два кресла и камин, в котором весело потрескивало пламя. Остальная часть комнаты была завалена дровами.
Я в жизни не видел подобного бедлама. У меня сразу появились сомнения относительно душевного здоровья старика. Может, у него и вправду заело шестеренки? Комнат в доме полно — выбирай любую, — а он ютится в какой-то собачьей конуре! Или же он просто разорился, не может позволить себе домработников и решил жить по-простому? Его поношенная одежда тоже наводила на эту мысль, но если задуматься, кое-что здесь не клеилось: разорившийся человек первым делом пустил бы с молотка дом…
Он указал мне на кресло:
— Располагайтесь. Хотите чего-нибудь выпить?
— Не откажусь…
— Шампанского?
— У вас сегодня день рождения?
— Сделайте милость, принесите сами. Оно на кухне, в холодильнике. А я попытаюсь согреться: я немного замерз там, на площади.
Вдруг мне стало стыдно за себя. что я делаю в компании этого старого мерзляка и астматика? Я стал сам себе противен — надо же, пошел на поводу у такого жалкого человечишки…
Ворча себе под нос что-то сердитое, я поплелся на кухню. В холодильнике стояло четыре бутылки шампанского. Дедуля, видно, его любил. И, по крайней мере, в этом вопросе я был на его стороне.
Я достал из стеклянного буфета два бокала и вернулся в комнату. Он уже снял плащ и сидел в кресле у огня. Под плащом оказался охотничий костюм с дурацкими лошадиными головами на пуговицах.
— Наливайте и присаживайтесь…
Я так и сделал. Если бы меня видели тогда полицейские, идущие по моим следам, они точно ущипнули бы себя, проверяя, не сон ли это… Убийца Капут, изображающий из себя лакея и подчиняющийся каждому слову старого немощного дедка… Ей-богу, в это трудно было поверить даже мне самому!
Он подобрался и начал:
— Мне нравится, как вы себя ведете. Я терпеть не могу людей, неспособных совладать со своим любопытством.
«Неужели начнет разглагольствовать?» — подумал я. Я презирал болтунов не меньше, чем он — любопытных.
— Начнем с самого начала, а именно — обрисуем ситуацию. Вы — опасный бандит, которого разыскивает полиция. У вас нет крыши над головой, нет денег… Я могу вам помочь. Каковы Ваши желания?
Меня едва не разобрал смех. Старый хрыч, похоже, вообразил себя джинном из «Тысячи и одной ночи»!
Он, видимо, уловил мой скептицизм, но нисколько не обиделся.
— Я понимаю ваше недоверие, — продолжал он. — Я, наверное, кажусь вам немного ненормальным… Однако скоро вы убедитесь, что это не так.
Он сказал именно то, что требовалось в данной ситуации, и я сразу стал серьезным.
— Ну что ж, — сказал я. — Моя мечта? Деньги! И возможность уехать в Штаты с приличными документами. Все.
— Многовато…
— Потому я и назвал это мечтой, если вы заметили!
Он улыбнулся из-под своих усов и на мгновение стал похож на доброго дедушку, беседующего с внуком.
— Деньги — это не проблема. Заказать билет на самолет тоже нетрудно. Только вы должны мне подсказать, каким путем хотите получить новые документы.
— Вы говорите серьезно?
— Совершенно серьезно. В моем возрасте шутить уже не хочется.
— Ну, и…
— Да?
— Дорого я должен за это заплатить?
— За что?
— За свою мечту?
— Довольно дорого…
Он поднял свой бокал и посмотрел, как в золотистой жидкости играют пузырьки.
Я не спешил расспрашивать дальше. На данном этапе нашей встречи торопиться было уже некуда.
Я тоже поднял бокал, посмотрел на весело искрящееся шампанское и с наслаждением выпил. Я не видел шампанского уже несколько месяцев; напиток показался мне превосходным.
Я поставил пустой бокал на стол и повернулся к камину. Старичок нагнулся и подбросил в огонь пару толстых поленьев, устроив в камине маленький фейерверк. Красная вспышка огня осветила его напряженное лицо.
— Что я должен сделать? — спросил я, потеряв терпение.
Он немного помолчал, потом сложил руки и ответил:
— Убить человека.
III
Теперь я уже не сомневался, что старик в здравом уме. Передо мной был человек методичный, знающий, чего он хочет, и готовый на все ради достижения своей цели.
— Действительно, дороговато, — пробормотал я и в замешательстве огляделся по сторонам.
Тогда он поднес к моему лицу худую руку с выступающими фиолетовыми венами. Я смотрел на эту руку с отвращением, как на огромного паука, но не двигался с места.
— Послушайте, — сказал старик. — Можете убить меня и унести с собой все ценные вещи, которые найдутся в этом доме. Поверьте, смерть меня нисколько не пугает.
Я нахмурился. Честное благородное слово, о таком я даже не помышлял…
— И еще одно, — продолжал он. — Если мое предложение вас не устраивает, вы можете спокойно покинуть этот дом.
Я молча сидел у огня, взвешивая все «за» и «против». Запах горящего дерева был мне несказанно приятен. Жаркий воздух у камина был ароматным, как только что испеченный пирог.
— Но где гарантия, что вы сдержите свое слово? — спросил я. — Предположим, что я соглашусь и отправлю вашего клиента в рай…
— Ему дорога только в ад.
— …или в ад. И предположим, что после этого вы пошлете меня подальше, а то и сдадите в полицию. Однажды я на этом уже погорел…
Он пожал плечами.
— Послушайте, мсье… э-э… Капут, если не ошибаюсь?
Тут он усмехнулся, что меня слегка разозлило.
Ему не следовало принимать меня за дешевого головореза, иначе он мог очень скоро убедиться в обратном — на собственной шкуре.
— Меня зовут Альфред Бертран. Может быть, вам это имя ни о чем и не говорит, но его знает весь парижский свет. Я долгое время владел самым крупным отделом биржи. У меня был свой ипподром, свой самолет, роскошные женщины… И когда мне хотелось переспать с какой-нибудь актрисой, я брался финансировать ее следующий фильм!
Он проговорил это с чисто мужской гордостью. Он давно состарился, но прошлое грело ему сердце…
— Я говорю все это для того, чтобы вы поняли следующее: я не хотел бы, чтобы мое имя начали связывать с именем гангстера. Я человек смелый, но благоразумный. Чтобы добиться успеха, нужно всех остерегаться, но многим доверять. Жизнь — это цепь рискованных предприятий…
Он умолк и начал поглаживать свои седые усы.
— Вы понимаете?
— Yes, I do[454]!
— Хорошо. В данном случае я доверяю вам. Я следил за вашими приключениями по газетам, и у меня сложилось о вас определенное мнение. Я понял, что вы — человек добросовестный… в своем роде.
Тут он засмеялся, обнажив белые, не вставные, а собственные зубы. Затем его лоб нахмурился и глаза неподвижно остановились на мне.
— Вы убиваете указанного человека, и я сдерживаю свое слово.
— Как вы меня узнали?
— Какой глупый вопрос! Глядя на вас, как же еще! Я проходил по площади днем, когда вы устанавливали свой павильон. Ваше лицо сразу бросилось мне в глаза, поскольку я — отличный физиономист. Я присмотрелся повнимательнее и решил, что где-то вас уже видел. Вернувшись домой, я вспомнил, спустился в подвал и на всякий случай проверил по старым газетам. Вот и все!
— Вот оно что…
Я немного помолчал.
— Кого нужно хлопнуть? Небось, большую шишку?
Старик помрачнел.
— Верно, большую шишку. Поэтому дело будет весьма нелегкое — предупреждаю сразу.
— И сколько я за это получу?
— Много.
— Знаете, я люблю точность.
— А сколько вы пожелали бы. получить?
— Я хочу десять миллионов.
Он уловил нюанс и сдержал раздраженный жест.
— Я заплачу вам двадцать, если хорошо сработаете!
— А они у вас есть?
— Вы сомневаетесь в моей платежеспособности, потому что я скромно живу в одной комнате и езжу на старом «рено»? Не извольте беспокоиться. Я уединился здесь по собственной воле, хотя денег у меня предостаточно. Старикам, знаете ли, хочется покоя… Когда тот человек исчезнет, тогда и я смогу спокойно умереть. Поэтому денег мне не жаль.
— Мне нужен задаток, машина… Не забывайте, что меня по-прежнему ищут. Я должен как следует замаскироваться.
— Обо всем этом я уже подумал…
— Тогда о'кей. Когда начинаем?
— Идите спать… На ночь глядя ничего толкового не придумаешь. Выбирайте себе любую комнату; утром я вас разбужу.
Он действительно разбудил меня поутру. Было еще очень рано, и в незашторенные окна комнаты, на которой я остановил свой выбор, едва пробивался мрачный серый свет.
Он стоял на пороге, запахнувшись в потертый черный халат с красной вышивкой, придававший ему сходство с тренером по боксу. Для столь почтенного возраста его седая шевелюра была еще довольно жесткой и густой.
Я с трудом разлепил глаза. Кровать, на которой я спал, была мягкой, как взбитые сливки… Простыней не было, но это меня не смущало. Под своим одеялом я накопил за ночь приятное животное тепло…
— Вставайте, — сказал Бертран. — Пора все обдумать серьезно.
Я поплелся за ним в его берлогу… Из тлеющих углей очага торчал кофейник, и в комнате вкусно пахло только что сваренным кофе.
Он налил мне большую чашку до краев; на столе лежали печенье и масло.
Пока я ел, он разглядывал меня с живым интересом, как разглядывают только что купленную машину: принесет ли она после обкатки то удовлетворение, которого от нее ждут?
— А теперь идите умываться. Ванная рядом с кухней.
— Спасибо.
Я вернулся минут через пятнадцать, голый до пояса и порозовевший от холодной воды. Я побрился и был в наилучшем виде.
— Вы правильно сделали, что не стали надевать свою одежду, — заметил он. — Я приготовил вам другую…
Он указал на кровать, где лежало что-то черное. Я подошел: это была сутана священника. Тут я уже заартачился.
— Послушайте, господин добрый волшебник, я не люблю маскарады. Вы ни за что не заставите меня надеть эту штуковину. К тому же, хотя это и может показаться диким, я человек богобоязненный…
Он не стал настаивать.
— Жаль, — вздохнул он. — Это было бы отличной маскировкой!
— Ничего, для меня лучше пойти на риск, чем так маскироваться. У вас найдется что-нибудь другое?
— Найдется. Идемте.
Он повел меня в пыльную комнату, которую, похоже, не проветривали с незапамятных времен.
Внутри его дом не был похож ни на один из домов, которые я видел прежде. Чувствовалось, что в один прекрасный вечер он вернулся сюда с совершенно новыми мыслями в голове — и запер все комнаты, оставив себе лишь тесную клетушку по соседству с кухней…
Он открыл старинный шкаф-гардероб, в котором висел целый ворох костюмов.
— Неужели все ваши? — спросил я.
Он не ответил, и поскольку мне, в сущности, было все равно, я перестал задавать вопросы.
Во всяком случае, шмотки там висели что надо! Английский твид, изысканный покрой… Хозяин этих вещей, похоже, обходил районные универмаги десятой дорогой!
Я выбрал светлый костюм в мелкую клетку — я давно такой хотел, — потом подыскал к нему белую рубашку и шелковый галстук цвета морской волны… Зато туфли были слишком тесными для моих клюшек, и мне пришлось почистить свои старые.
— Может быть, наденете темные очки?
Я мысленно улыбнулся наивности старичка: темные очки хороши разве что для стареющих кинозвезд, которые стремятся любой ценой привлечь к себе внимание…
По моему лицу он понял, что ему лучше помалкивать и положиться на меня.
Я аккуратно, не спеша, оделся и протянул руку:
— Теперь немного деньжат, господин добрый волшебник. Такой заказ без аванса не выполнишь!
Он без возражений уронил мне в руку две пачки купюр крупного достоинства. Я мгновенно почувствовал прилив сил. Дело пошло…
— Вы можете одолжить мне свою машину?
— Да.
— О'кей. Не забудьте дать мне техпаспорт и свои права… Иначе все может провалиться из-за какого-нибудь полисмена, который слишком свято чтит правила проезда перекрестков.
Он послушно сделал все, о чем я просил. Работать на такого мужика было сущее удовольствие.
Он понимал, что жизнь диктует свои условия, а между тем старики этого обычно не понимают. У них появляются навязчивые идеи, отвлекающие их от печальной действительности…
— Не соблаговолите ли вы теперь назвать имя господина, о котором идет речь?
— Поль Кармони.
Он смотрел на меня; его правый глаз поблескивал, как осколок кремня, а левый оставался тусклым. Он знал, что я вздрогну, и я действительно подскочил.
— Как вы сказали?
— Поль Кармони, — послушно повторил он.
«Он что, заговаривается, этот старый пень? — подумал я. — Или нарочно врет, чтобы меня испытать?»
— Кармони… — пробормотал я. — Вы что, издеваетесь?
— Вовсе нет, Я же вас предупреждал: дело будет не из легких.
— «Не из легких»! Да мне легче будет грохнуть премьер-министра! Даже двадцать миллионов за такое дело — это почти ничего…
Кармони! Чтобы представлять, о ком идет речь, нужно было хорошо разбираться в преступном мире. Но я-то знал, кто он такой, и понимал, что прежде чем на него замахнуться, нужно как следует пересчитать свои руки и ноги. Король наркомафии! И не только французской, а почти всей европейской… В свое время он приехал из Соединенных Штатов с последними остатками своих головорезов и с чемоданами, набитыми кокаином и автоматами… Этот багаж и невероятная смелость Кармони быстро подняли его на вершину пирамиды. Я услыхал о нем в тюрьме, от своих дружков. По их словам, этот сицилиец, выросший в Марселе, так и не смог прижиться в Америке. Штаты оказались ему не по зубам: несмотря на всю его крутизну, тамошние бандюги быстро поставили его на место. Тогда он дождался удобного момента и вернулся на родину, вынашивая грандиозные и дерзкие планы. Они стали реальностью: меньше чем за десять лет Кармони сделался великим мафиози, и его состояние, по слухам, давно перевалило за миллиард.
Его уже не раз пытались ликвидировать, но лишь нарывались на большие неприятности… У Кармони была отлично организованная команда, С огнестрельными игрушками его парни управлялись что надо. Спасайся кто может! Они плевались пулями с такой легкостью, с какой вы здороваетесь со своим домовладельцем… Кармони уже воображал себя маленьким монархом. Он ездил в бронированном лимузине, как покойный фюрер, и его телохранители были шире в плечах, чем охранники президента США. Ко всему прочему он был недоверчив, как лис: остерегался собственной тени, заставлял своих людей пробовать еду, как Людовик Одиннадцатый, и никогда не рисковал.
Я не понимал, что могло связывать этого босса с благообразным старичком, обещавшим мне награду за его смерть. Я задал старику этот вопрос, но Бертран заявил:
— Это вас не касается…
Я уселся в старое кресло с засаленными подлокотниками.
— Послушайте, мсье Бертран, вы вправду считаете, что я смогу скорчить из себя вершителя правосудия? Вы, наверное, насмотрелись фильмов с Гэри Купером в роли шерифа, очищающего город от злодеев!
Это ему не понравилось.
— Ваш юмор мне не по душе, — проскрипел он. — Я нанял вас не для того, чтобы вы блистали остроумием, а для конкретной работы.
— Но она невыполнима! Кармони не убьешь. Это Уже пробовали сделать многие главари банд, гораздо опытнее меня, и теперь их друзья носят им на кладбище хризантемы!
Он задумчиво покусал усы.
— Я знаю, — сказал он. — Но другие, Капут, были не так изобретательны, как вы!
— Неужели?
Бертран, похоже, хотел ободрить меня лестью, но тут он сильно заблуждался: на сладкое мурлыканье я не клевал.
— Я говорю это вам не ради похвалы, — сказал он. — Я читал о ваших приключениях, которыми недавно захлебывались газеты, и составил о вас представление, Капут. Вы умны, более того: вы хитры и изворотливы, Вы не боитесь ни Бога, ни дьявола. И главное — у вас есть чувство экспромта. Если полиция не смогла схватить вас после стольких преступлений, значит, в вас действительно есть… нечто. Нечто, свойственное людям, которым удаются все их предприятия. Убейте Кармони, и вы получите двадцать пять миллионов. Если же вы считаете себя неспособным довести дело до конца, а значит, так оно и случится, тогда убирайтесь!
С момента нашей встречи он впервые говорил со мной в таком резком, решительном тоне. Я чувствовал: он говорит то, что думает.
Я помедлил. Эти несколько
секунд я, что называется, смотрел на себя со стороны. Я видел себя таким, каким был тогда: без денег, без поддержки, загнанным в угол, всеми проклятым… Бегущим от людей, бегущим от теней, готовым бежать от самого себя! Я был полным ничтожеством. Рано или поздно меня должны были изловить полицейские, наделенные спокойствием, терпением и массой других несомненных достоинств.
Так почему бы не рискнуть? Предположим, что мне удастся разобрать Кармони на запчасти: тогда я, чего доброго, стану крупной величиной в преступном мире и меня начнут уважать все уголовники Франции и ее окрестностей… Это наводило на серьезные размышления.
— Хорошо, мсье Бертран. Я постараюсь заработать ваши двадцать пять миллионов.
Он не то чтобы вздохнул, но я заметил, что его грудь приподнялась чуть сильнее обычного.
— Я знал, — пробормотал он.
— Не подскажете ли, где я могу навести справки о Кармони?
— Понятия не имею. Вам придется все выяснить самому.
— Прелестно.
— У вас получится! — хрипло сказал он. Его глаза были сейчас еще острее прежнего — словно два отточенных ножика.
— Вы остаетесь здесь?
— Да.
— Вы будете держать деньги в моем распоряжений, когда подойдет время? Если оно, конечно, настанет…
— Оно настанет. Можете не сомневаться, деньги будут готовы.
— Только предупреждаю: никаких чеков!
— Вы что, принимаете меня за мальчишку? Получите наличные, и можете не опасаться, что номера банкнот где-то записаны. Мы с вами заключаем честную сделку. Спросите кого угодно: я никогда не изменял своему слову.
Он не протянул мне руки; я тоже не сделал ни малейшего движения. Я знал, что если суну ему свою лапу, он ее пожмет, но сделает это через силу. Он был выходцем из высшего света, я — всего лишь презренным висельником, и разделявшую нас пропасть нельзя было преодолеть одним прыжком…
IV
Топливный датчик предупреждал о том, что бак почти опустел; я остановился на заправочной станции.
За рулем этого драндулета я казался себе уважаемым человеком. Я воображал себя этаким добропорядочным начальником отдела в Министерстве штанопротирания, спокойно едущим в это туманное утро на работу. Будь у меня могучая американская тачка, все обстояло бы иначе, но эта честная бюрократская машинка подходила мне как нельзя лучше.
Я вышел в туалет, внимательно осмотрел себя в зеркало и остался доволен: я совершенно перевоплотился. Аккуратно подстриженная бородка делала меня похожим на кого угодно, только не на бандита.
Я продолжил свой путь в Париж. Добирался я до него Целый час, но до чего же приятно было оказаться там вновь! Как давно я не вдыхал этот неповторимый запах столицы! Он, безусловно, стоил затраченных усилий…
Моей первой мыслью было остановиться в отеле под липовой фамилией или под фамилией Бертран, поскольку У меня в кармане лежало его водительское удостоверение. Однако, подумав, я решил воздержаться. Чаще всего полиция достигает своей цели именно «через постель». Рано или поздно беглый тип начинает искать угол, где можно приткнуться на ночь, и сам лезет в мышеловку вроде отеля или постоялого двора. Ведь хозяева этих заведений, как правило, хлебают из полицейского корыта.
Раз уж Бертран предоставил мне убежище в своем доме, лучше будет там и ночевать. От города далеко, спору нет, зато безопасно…
Первым делом мне следовало обзавестись одним из тех инструментов, которых не найдешь в хозяйственных магазинах и которые плюются свинцовыми косточками. Однако если я начну вертеться в подозрительных местах, где ими обычно торгуют, то сразу поползут слухи, что старина Капут вернулся в столицу… И я решил приступить к делу пока что с пустыми руками; перед последним, решающим этапом операции мне еще нужно было как следует расчистить почву. А когда всерьез понадобится пушка, обращусь к Бертрану. Учитывая его преклонный возраст, у него наверняка есть разрешение…
Я оставил свою таратайку на площади Сен-Мишель и зашел в какую-то кафешку, чтобы спокойно поразмыслить. Кармони был в Париже, но, где именно, я не знал. Начинать нужно было с нуля: задачка, скажу я вам, не из легких… Мне было известно о нем только то, что он заправляет торговлей наркотиками. Это было для меня единственной проезжей дорогой — дорогой извилистой и усеянной множеством неприятностей.
В кафешке было полно чернокожих студентов, которые пили кофе — почему-то с молоком — и громко трепались по-своему, скаля белые зубищи. Им, похоже, не меньше моего нравилось быть в Париже и разглядывать пеструю уличную толпу. Надоели, небось, кокосовые пальмы и макаки, висящие на хвостах…
Я допил свое белое вино — пахучий мускат, деликатный, как покашливание юной девы — и постановил, что мне следует плотно заняться проблемой наркотиков. До сих пор у меня не было ни одного знакомого из этих кругов. А если бы и были, я все равно не стал бы к ним обращаться, потому что именно друзья и знакомые в конце концов топят вас в дерьме, Я чувствовал, что смогу добиться успеха только в том случае, если буду действовать совершенно один.
Итак, для начала мне нужно было изловить какого-нибудь кайфолова и побеседовать с ним «в спокойной обстановке». Поднимаясь вверх по пирамиде, я, может быть, доберусь до Самого. Вот только на дворе было всего десять часов утра: в такое время найти свободного наркошу почти невозможно. Наркоманов не следовало путать с мойщиками тротуаров, которые прохаживались за окнами кафе.
Район мне нравился. Я не стал забирать машину со стоянки и отправился пешком в Люксембургский сад. В этот час влюбленные парочки уже клевали друг другу рожи под желтеющими деревьями и сбежавшие с уроков пацаны пускали в фонтане бумажные броненосцы.
Я измерил шагами весь сад, то останавливаясь перед теннисными кортами, где юные девственницы со зверскими рожами лупили по мячу, то подходя к площадкам, на которых старые пердуны боролись со своим радикулитом, играя в шары.
Незаметно наступил полдень, и над Парижем взорвалась двенадцатью ударами бездна колоколов.
Я поел в закусочной, после чего отправился в кино и посмотрел немного плаксивый, но, в общем-то, приятный фильм. Потом — опять кино и ужин: на этот раз в китайском ресторане.
Затем я решил рвануть в «Фоли-Бержер», тем более что ни разу еще там не бывал. С моей стороны это выглядело немного по-деревенски, но мне уж больно хотелось поглазеть на красивые попки и пощуриться на яркий свет…
До начала представления я выпил кофе в баре на улице Рише. Там сидело несколько танцовщиц из «Фоли»; они болтали за чашкой чая, дожидаясь, пока настанет время совать в задницу перья… Одна из них спросила, куда подевалась Жильберта; другая ответила, что та заболела и пока что не может выступать у себя в «Кокосе». Почему я отметил про себя именно эту часть разговора? Не знаю. Бывают моменты, когда ваше подсознание вкалывает без посторонней помощи, как взрослое…
Как бы там ни было, после спектакля я снова вспомнил историю с этой Жильбертой из «Кокоса». Я спросил у швейцара, знает ли он такое заведение, и он ответил, что оно стоит на небольшой улочке, перпендикулярной «Фоли»: между улицей Рише и Большими Бульварами.
Я поблагодарил и решительным шагом двинулся в указанном направлении.
Это оказался небольшой, но довольно людный кабачок в африканском стиле. Клиентуру составляли в основном танцовщицы из «Фоли» и кавалеры, которые встречали их после представления.
Я взял бутылку красненького и забился в уголок. Первый из двух негров-музыкантов зверствовал за пианино; второй корчил из себя Луи Армстронга и так фукал в трубу, словно хотел, чтоб ее разорвало.
Я все сидел. В рамках культурной программы посетителям предложили довольно убогий номерок: танцевальный дуэт, якобы из Перу; на самом деле они были такими же перуанцами, как я. Их выступление не интересовало никого, даже традиционную супружескую пару из провинции, которая сдуру забрела сюда, клюнув на трехметровую неоновую вывеску.
Когда моя бутылка опустела, я почувствовал себя почти счастливым. Все это было приятным разнообразием после многих километров шоссе, после павильона с машинками и пухлой груди Джейн.
Я подозвал официанта и выложил ему десятитысячный билет. Я подождал сдачу, поднялся из-за стола и направился прямиком за кулисы, к служебному выходу. Там я наткнулся на перуанского танцора, который уже переоделся китайским мандарином и готовился жонглировать тарелками.
— Вы кого-то ищете? — спросил он.
Это был высокий мужик с большим крючковатым носом, и если он с таким шнобелем хотел сойти за китайца, то я мог смело выдавать себя за герцога Виндзорского!
— Я ищу Жильберту.
Он решил, что я ее знакомый, и сразу подобрел.
— Вы знаете, она болеет…
— Не может быть!
— Да-да.
— И давно?
— Уже два дня. Кажется, ангина.
— Какая досада… Мне нужно было ей кое-что передать.
— Так передайте моей жене… Она в ложе, в конце коридора.
— Спасибо.
В коридоре нашлась лишь одна комната с гордой надписью «ложа»; в ней обычно переодевались здешние «звезды эстрады». Женщина крикнула «войдите!»; я вошел и увидел, что она стоит почти голой перед зеркалом и сладострастно гладит себе сиськи.
Она посмотрела на меня без малейшего смущения. Для нее я был всего-навсего мужчиной, а мужчин она не боялась.
— Что вам угодно?
— Я искал Жильберту, но мне сказали, что она больна…
— Похоже, что так.
— Очень жаль, мне нужно было ей кое-что передать…
— Ну, передайте мне, завтра я ее увижу.
Я изобразил смущение и сказал:
— Да нет… Это очень личное.
Лицо танцовщицы тут же зарумянилось от любопытства. Вообще она была очень недурно сложена.
Я то и дело поглядывал на ее грудь. Она увидела, что я к ней, так сказать, расположен, и сразу перешла на ласковый тон:
— Вы мне не доверяете?
— Ну почему же… — вяло ответил я, еще сильнее подогревая ее любопытство. В сущности, то, что я делал, было довольно глупо: результат мог оказаться ниже всех ожиданий. Я добирался до Кармони самой что ни на есть дальней дорогой.
— Видите ли, — ляпнул я наконец, — это… что-то вроде нюхательного табака. Вы понимаете, что я имею в виду?
Она разинула рот.
— Серьезно?! Значит, Жильберта «шмыгает»?
— Я не знаю, ей это предназначено или нет. Меня просто попросили передать. Честно говоря, мне эти дела не очень-то по душе…
Теперь, когда танцорша выведала мою тайну, ей было на меня глубоко плевать, и она быстро затолкала свои гулящие сиськи в черный шелковый корсет. Я понял, что ее нельзя расхолаживать, иначе я останусь у разбитого корыта.
— Послушайте, мне неохота таскать это с собой. К тому же я заплатил свои деньги и хочу их поскорее вернуть. Вы, случайно, не знаете, кому тут можно это спихнуть?
Я знал, что вступаю на скользкую тропу. Если она испугается, мне впору будет возвращаться восвояси. Так что я постарался сказать это с самой невинной и самой глупой рожей, которую только мог состроить.
Она стала натягивать через голову блестящее платье; наконец из воротника вылезло ее чуть покрасневшее лицо.
— Спросите Лили.
— А кто это — Лили?
— Гардеробщица.
— А вы не могли бы сами меня с ней познакомить? С меня шампанское за труды…
Она сделала ужасную гримасу.
— Нет уж! Мы в нем тут купаемся за хозяйский счет…
Нужно было срочно что-нибудь предпринять.
Я достал десятитысячную купюру и положил ее на трюмо.
— Танцовщицам всегда нужны чулки… Вот, купите себе несколько пар…
От этого она сразу расцвела.
— Подождите секундочку, я вас отведу!
Пока она заканчивала наряжаться, у меня, признаться, здорово чесались руки. Наверное, виной тому был стоявший в «ложе» запах — странная смесь духов и подмышек. Я вовремя удержался, чтобы не цапнуть ее за ляжку: не хватало, чтобы она залепила мне пощечину!
Через минуту мы уже стояли перед вышеупомянутой Лили, высокой тридцатилетней бабой с довольно глупым лицом и черными, коротко подстриженными волосами.
— Знакомьтесь, — сказала танцовщица. — Это приятель Жильберты, да и мой тоже.
(До чего быстро вас записывают в друзья, когда вы бросаетесь деньгами!)
— Ему нужно кое-что продать, — продолжала вертипопка. — Думаю, вы договоритесь.
И, решив, что ее миссия выполнена, она оставила нас наедине.
Я вежливо улыбнулся, но этой Лили было начхать на предисловия… Я ее сразу раскусил — по глазам, Баба была скупой. Жадность читалась на ее лице, как в книге. Она наверняка промышляла «снежком» среди здешних кайфистов.
— Что вы хотите продать? — спросила она с легким недоверием.
Ее следовало поскорее расположить к себе. Но на этот раз притворяться влюбленным Ромео было бесполезно, Судя по всему, ей было начхать на мужские знаки внимания. Я даже заподозрил, что она лесба.
— Пустяк, — сказал я. — Небольшой пакетик «снега», попал ко мне чисто случайно. Сам-то я не балуюсь, вот и хочу побыстрее сдать.
— Товар хороший?
— Первый сорт… Если заберете весь, могу сделать скидку…
— Сколько у вас?
— Пятьдесят граммов.
Она задумалась.
— А откуда порошок?
— Скажем — получил в наследство. Не волнуйтесь, не «засвеченный», если вас это тревожит…
— Сколько за него хотите?
— Да я вообще-то в ценах не разбираюсь, вам виднее…
У нее сразу заблестели глаза. Говорил же я вам — жадина… Я готов был побиться об заклад, что она аккуратно вносит деньги на сберегательный счет и потихоньку покупает золотые луидоры, пряча их под матрацем и пересчитывая по вечерам… Я почувствовал к ней отвращение.
— Ну что ж, надо подумать, — сказала она. — Вот что: я заканчиваю в четыре часа. Подождете?
— Конечно!
— Тогда — в четыре, у выхода…
— Идет.
Я вышел и посмотрел на часы: был всего час дня. Я отправился в район Больших Бульваров, отыскал аптеку, купил моток лейкопластыря и небольшой пакет соды. Этого было вполне достаточно.
На одной из темных улочек я высыпал большую часть соды и аккуратно завернул все остальное. Теперь оставалось только дождаться назначенного часа.
Я дошел по ярко освещенным бульварам до самого Сен-Лазара. В сердце у меня тоже горели разноцветные огни. Я думал о том, что порой жизнь все-таки бывает прекрасна. Уже несколько лет подряд во мне вот так чередовались тревога и покой. Стоило моим передрягам немного улечься, как я с новой силой начинал любить весь наш земной шарик… Надежду из человека не вытравишь ничем.
Я выпил несколько рюмок коньяка в привокзальных забегаловках. В них преобладали усталые уличные девки, зашедшие выпить чашку крепкого горячего кофе, прежде чем снова отправиться на тротуар. Увидев, что я без пары, одна из них как бы невзначай подкатила ко мне.
— Скучаем, красавчик?
Она была маленького роста, толстая, с улыбкой в форме апельсиновой дольки. Ее бледная помада напоминала вставленный в рот ядовитый цветок.
— Отвали.
Наверное, у меня сделался тогда мой самый недобрый взгляд; во всяком случае, она сразу же отвязалась и потащила свой пластмассовый стаканчик на другой край стойки.
Три часа прошли довольно быстро. Я вернулся в «Кокос». Лили уже стояла у дверей с сердитой физиономией.
— Наконец-то! Я уж думала, выставили мне фонарь!
— Извините, часы отстают.
Она недоверчиво поглядела на меня:
— Куда нам идти?
— Все равно куда: товар при мне.
— Я живу здесь, рядом; идемте ко мне, так будет спокойнее.
— Ладно…
Жила она на улице Мартир, на втором этаже. Квартирка ее чуть отдавала стилем рококо. В ней стоял волнующий запах старины. Пол был начищен до блеска, повсюду стояли цветочные горшки, на окнах висели занавески с кистями…
— Только не шумите! — взмолилась гардеробщица. — Моя мама спит…
Я помрачнел. Присутствие в квартире постороннего человека никак не входило в мои планы. То, что я собирался делать, вряд ли удалось бы без шума, а зрители мне были ни к чему.
— Садитесь…
Я уселся в кресло, обтянутое цветным сатином; Лили сняла плащ и повесила его в прихожей. Я колебался, спрашивая себя, стоит ли приступать к делу в таких неблагоприятных условиях. Но мысль о том, что придется уходить обратно ни с чем, показалась до того неприятной, что я решил рвануть с места в карьер.
Она как раз вернулась.
— Покажите! — сказала она, властно протягивая руку. Я вытащил свой пакетик с надписью «сода». Она сразу насторожилась.
— Это хитрость, — пояснил я. — Другие продают соду в кокаиновых пакетах, а я — кокаин в содовых. У каждого свои методы…
Она засмеялась. Однако, когда пакетик оказался у нее в руках, она первым делом сунула туда палец и попробовала порошок. По ее недоуменному лицу я понял, что делу конец. И не стал терять времени. В подобных случаях меня всегда выручали решимость и быстрота… Я крепко ударил ее по шее. Рекомендую: самое радикальное средство. Других уязвимых мест можете не искать. Один удар по граммофону — и ваш клиент станет как шелковый.
Она рухнула, издав отчаянный хрип. Видимо, ей-таки недоставало кислорода… Я подхватил ее на лету, усадил в кресло и треснул по затылку — для симметрии. Она потеряла сознание. Связать ее старым испытанным способом — с помощью шнура от занавесок — было проще простого.
Скрутив ее как следует, я подумал о ее мамаше. Ей тоже нужно было завязать бантики, пока она не заверещала на весь квартал.
Я стал искать ее комнату. Она, наверное, услышала шум, потому что спросила:
— Это ты, Лили? У тебя гости?
Это и позволило мне ее засечь. Я открыл дверь и, как заправский ныряльщик, сиганул к старухиной кровати. Она уже начала вопить, но я успокоил ее, врезав кулаком по носу. Из нюхалки тотчас же потекло; на фоне белых простыней эффект получался поразительный. Бедная старуха лежала с грелкой, и от этого мне стало ее жаль.
— Не пугайтесь, мамаша, я ничего против вас не имею… Лежите себе тихо, вот и все!
Я заклеил ей рот пластырем и тоже оплел веревкой.
Теперь территория принадлежала мне, и можно было спокойно заняться Лили.
Я вернулся к ней. Она была по-прежнему без сознания и тихо стонала. Я потащил ее в кухню, собираясь предпринять нечто особенное: я подозревал, что такую бабищу нелегко будет взять на простой испуг.
Кастрюля холодной воды, вылитая на физиономию, быстро вернула ее к действительности.
— Вот что, дорогуша, — начал я, — давай-ка потолкуем. Не надо принимать меня за злого серого волка, Мне просто нужна кое-какая информация. Если скажешь — я не трону ни одного волоса на твоей голове и не возьму у тебя ни гроша. Она молча таращила на меня злющие, налитые кровью глаза.
— Скажи, кто снабжает тебя порошком!
Тут она искренне удивилась. Она ждала чего угодно, только не этого.
— Ну, лапуля, отвечай…
— Хрен тебе! — рассудительно ответила она.
Наверное, она еще не успела как следует всмотреться в мое лицо… Я чуточку улыбнулся — одной из тех улыбок, в которых заключена вся жестокость мира.
— У тебя потешный вид, когда ты злишься.
Я порылся в ящиках комода и нашел то, что всегда можно найти в кухонном ящике: свечу. Я вставил ее в горлышко пустой бутылки и зажег. Баба внимательно наблюдала за мной, пытаясь угадать, какое свинство я задумал. Наверное, она решила, что я стану поджаривать ей ласты… Но идея моя была совсем другой.
Я поставил бутылку-подсвечник на стол, потом подошел к газовой плите и повернул рукоятку. Газ со свистом рванулся из горелки: давление было будь здоров…
— Вот что, — проговорил я. — Ори, не ори — никто тебя не услышит. Я ухожу в соседнюю комнату и жду там пять минут. Это тебе время на размышление. Если заговоришь, я прекращаю представление. Если нет, я уйду, и через четверть часа тут вроде как бы немножко бабахнет. Твои мозги, наверное, найдут на потолке, если, конечно, здесь еще будет потолок…
Я умолк и вышел в соседнюю комнату. Я рассчитывал, что моя дьявольская выдумка и мое спокойствие в конце концов сломают ее нервную систему, и не ошибся, Через две минуты она меня позвала.
Я побежал в кухню. Там уже сильно воняло газом.
— Что, крошка, решила сказать?
— Да, да, хватит!
Я выключил газ.
— Ну-ну, я слушаю.
— Его зовут Пьеро, а еще называют Альпийцем.
— И где его найти?
— Не знаю…
— Ладно, тогда продолжим.
— Клянусь, не знаю! Он обычно заходит по вечерам, часов в десять. Толстый такой мужик, прическа ежиком, ходит в цветных рубашках.
Я внимательно посмотрел на нее. Казалось, она говорила правду.
— Черт побери, но должно же быть какое-то место, где его можно найти!
Она пожала плечами.
— Как-то утром я видела его в одном баре на улице Клуа. Он играл в карты. Но я не знаю, постоянно он туда ходит или нет.
— Ладно, поглядим. Это все, что ты можешь сказать?
— Да, все.
— В таком случае — закрывай пасть!
И я тоже залепил ей рот пластырем: ей было полезно некоторое время помолчать. Я оставил ее в кухне. На мгновение мне подумалось, не открыть ли газ снова, но я воздержался. Зачем устраивать салют ради какой-то паршивой девки? Если я начну с того, что развалю домишко гардеробщицы, то что же будет, когда я доберусь до главарей?
Я посмотрел на висевшие в кухне стенные часы: пять утра. На улице еще не рассвело. Возвращаться в Фонтенбло мне было уже некогда, но идти в отель я тоже не собирался. Я уже выходил на лестничную площадку, когда у меня появилась идея.
— А почему бы и нет? — сказал я себе.
Я решительно закрыл дверь и вернулся на кухню к Лили, Она могла изъясняться только глазами, и они говорили мне что-то очень неласковое.
Я схватил ее в охапку и понес в спальню, Потом разобрал постель, сунул девку под одеяло и улегся рядом, Получилось гораздо уютнее, чем если бы я спал «дома», в Фонтенбло.
Исходившее от нее тепло вскоре начало действовать мне на спинной мозг. Полежав еще немного, я сел и развязал ей ноги.
— Извини, — сказал я, — мне нужно принять снотворное. Я, похоже, не ошибся, когда предположил, что она из другого племени. Делая ей легкую внутреннюю протирку, я догадывался, что для нее это двойное унижение, но от таких мыслей мне становилось лишь смешно…
V
Проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что баба еще дрыхнет, Она крутилась и вертелась до самого рассвета, но к утру усталость и пережитые волнения взяли свое.
Я тихо встал и выскользнул в ванную. Умылся, энергично растерся полотенцем — и стал как новенький… Прежде чем исчезнуть, я заглянул в комнату старухи. Она, в отличие от дочки, не спала… Ее гляделки были широко открыты, и она целилась ими в меня, как из двустволки, — хорошо, что патроны у нее были холостые! Иначе я мигом занял бы горизонтальное положение на добрый кусок вечности.
Я послал ей воздушный поцелуй, чтоб еще сильнее ее раздраконить: авось лопнет от бешенства. За себя я не боялся. Эти дамочки не расскажут о приключении, потому что в полиции могут пристать с неприятными вопросами, а Лили вряд ли хочется посвящать легавых в свои темные делишки.
Погода стояла прекрасная; был полдень, и по столице разливался колокольный звон.
Я купил у газетчика маленький план Парижа и поискал на нем улицу Клуа, куда меня направила торговка кайфом. Улица оказалась на противоположном склоне Монмартра. Я забрал свою машину и резво покатил туда.
Там моему вниманию предлагалось несколько питейных заведений подряд, Я приткнул свой броневик за поворотом, вошел в первую попавшуюся пивнушку и сразу понял, что там обычно собирается шпана. Бармен, казалось, родился с двумя пистолетами у пояса и кинжалом в зубах, За столами, отделанными под мрамор, играли в покер. Когда я вошел, в заведении поднялся шумок, потом наступила гробовая тишина. Моя бородка делала меня похожим на претенциозного интеллигента… Я решил нарушить молчание первым.
— Привет, — сказал я бармену. — Пьеро-Альпийца тут, случайно, нет?
Он покачал головой:
— Не знаю такого.
— Ну, пузатый такой, прическа ежиком, ходит в ярких рубашках…
Он продолжал качать башкой: то ли действительно не знал, то ли не хотел говорить.
Я выцедил стаканчик белого «виши» и двинулся к выходу.
В следующей пивнухе мне понравилось гораздо больше, потому что там он и сидел, этот Пьеро. Чтобы узнать его, не надо было сверяться по портрету: он бросался в глаза, как запущенный конъюнктивит.
Я проглотил еще один стаканчик «виши» и начал ловко пробираться к его столику. Он резался в карты с маленьким бледным дохляком, который или приехал прямо из санатория, или должен был вот-вот туда отправиться.
Я посмотрел на Пьеро. Рожа у него была широченная и довольно добродушная, разве что глаза слегка бегали по сторонам.
Наконец он поднял свое спокойное кабанье рыло и недоверчиво меня оглядел.
— Чем могу служить? — вежливо спросил он.
— Я от Лили из «Кокоса».
Он едва заметно напрягся.
— Не знаю такой.
— Ну что ж, если не знаете, значит вы — не Пьеро-Альпиец: я, наверное, ошибся.
Он положил свои картонки, встал и сказал своему партнеру:
— Одну минутку.
— Дохляк явно не обрадовался моему появлению: ему, видимо, везло, и он боялся, что удача уйдет.
— Что вам, собственно, от меня нужно? — повернулся ко мне Пьеро.
— Меня к вам прислала Лили. У меня важные новости.
— Ну, выкладывайте…
— А вам не кажется, что здесь для этого не слишком подходящее место? Лучше бы нам поговорить тет-а-тет…
Он поколебался, но, видя мою серьезность, продолжал:
— Кто вы такой?
— Приятель Лили. Приятель, но не коллега, если вы об этом спрашиваете.
— Однако я вас, кажется, где-то видел…
— Все может быть. Мир тесен.
— Итак, что там случилось?
— Корабль дал течь… У Лили неприятности, и она попросила меня сказать вам кое-что, о чем вы и сами, наверное, уже догадываетесь…
— Хорошо. Куда пойдем?
Этот вопрос меня обескуражил. Я не знал, куда вести этого бегемота, поскольку не собирался затевать с ним долгие душеспасительные беседы. Для предстоявшего разговора скорее подошла бы не исповедальня, а боксерский ринг.
— У меня машина, — сказал я. — Может, заедем в какой-нибудь спокойный переулок?
Пьеро согласился.
— Буду через пятнадцать минут! — объявил он своему партнеру. «Однако, ты оптимист», — подумал я.
Мы залезли в «рено», и я дал по газам. Мы проехали по крайним бульварам, проскочили под железнодорожным мостом и выбрались на длинную улицу, идущую вдоль насыпи и огражденную с левой стороны забором из шпал.
Место безлюдное, даже какое-то безжизненное… Ни дать ни взять — кадр из трагического фильма.
Я остановился.
Настало время действовать. Однако этот Альпиец не позволит помыкать собой, как старая безропотная кляча. Чтобы его усмирить, нужно оружие, а у меня его нет. Драка в машине ничего не даст и, более того, может дороже обойтись мне самому…
Это толкнуло меня на хитрость. Я решил рискнуть всем сразу, испытав на нем этакое психологическое оружие.
— Вот что, парень: ты не ошибся, когда говорил, что где-то меня видел. Ну-ка, представь меня на минутку без бороды…
Мое «тыканье» его не слишком задело. Он посмотрел на меня с нескрываемым интересом.
— Да вроде как, — пробормотал он, — в газетах про тебя писали…
— Было дело…
Вдруг он подскочил и воскликнул:
— Мать честная! Так ты же…
— Да.
— Капут?
— Он самый…
На его физиономии нарисовалась растерянность.
— Да уж: ты, похоже, один стоишь целой эпидемии холеры. Сколько народу угробил!
Он вдруг будто весь вспотел… Он начал строить мне кривые улыбочки и дергаться на сиденье, как червяк на солнце.
— Так вот, — сказал я. — Я неплохо знаком с Лили. Я знаю, что это ты сгружаешь ей порошок. Дело в том, что мне нужно загнать очень приличную партию «снежка».
Жадность вспыхнула в его глазах, как Большие Бульвары с наступлением вечерних сумерек.
— Серьезно?
— Да. Только что привез из Италии. Раскрутил одного миланца на пятнадцать кило. Смог провезти и спрятать. Только, сам понимаешь, по пять граммов я распихивать не собираюсь. Я знаю, что всем этим заправляет Кармони. К нему-то мне и надо. Только к этому дьяволу просто так не подберешься. Легче попасть на аудиенцию к самому папе, чем к нему…
Я посмотрел на Пьеро.
— Вот ты мне, парень, и поможешь.
Он покачал головой:
— Да чем я тебе помогу? Я всего-навсего простое звено в цепи…
— Не ври.
— Клянусь тебе, Капут, это правда… Ты ведь знаешь: этот тип самому себе не доверяет! Я получаю товар от второго лица, второе — от третьего, и так далее…
— Ладно, тогда начнем по порядку. От кого получаешь ты?
Он внимательно посмотрел на меня.
— Послушай, Капут, я знаю твою репутацию, знаю, что ты в мокрых делах большой талант, поэтому обманывать тебя не собираюсь. И все же мой тебе совет: брось!
— Что?
— Кармони отлично организован. У него есть свои «пропускные пункты». Ладно, допустим, я выложу тебе имя своего поставщика, допустим, он назовет своего, но рано или поздно ты все равно наткнешься на пропускной фильтр: Кармони ведь не пацан… Это было бы слишком просто.
— И все же я попробую подобраться к нему поближе, а тогда уж как-нибудь заменю свои батарейки…
— Да неужели ты надеешься…
Я сделал самое суровое лицо, какое только мог.
— Итак, Пьеро, имя!
Он отвел глаза.
— Не могу я, парень, со мной же моментально что-нибудь случится! У Кармони везде свои люди… Те, кто считает себя умнее его, сразу начинают наступать на арбузные корки…
— Но ты все же скажи, Пьеро.
— Нет. Нет, не могу.
Я схватил его за галстук. Он оказался из красного шелка, весь в пятнах и с нарисованной от руки лошадиной головой. Лошади, казалось, было очень досадно присутствовать при этой сцене.
Я потянул на себя. Пьеро либо уродился трусом, либо отчаянно боялся меня.
— Погоди! — прохрипел он. — Отпусти, это же несправедливо: я с тобой поехал, все тебе объяснил, а ты…
Дальше он продолжать не смог: я так сдавил ему глотку, что воздух перестал входить и выходить… Наконец я разжал руку, и он вдохнул большую порцию кислорода.
— Ты скажешь или нет, жирный кабан?
Он разевал рот, как рыба на берегу.
— Это несправедливо, — повторил он.
— Говори, или зубы проглотишь!
Он молчал. Я ударил его головой в морду. Его толстые губищи потрескались, и на лошадиную голову потекла кровь.
— Ты еще не знаешь, на что я способен!
— Послушай…
— Я и так слушаю… И не надо принимать меня за придурка, не то начнешь собирать в брюхе металлолом!
Вдруг он резко вывернулся и врезал мне коленом в живот. Его рука к этому времени уже открыла дверцу, и через мгновение он уже бежал прочь вдоль насыпи.
Я выругался и, превозмогая боль, бросился за ним.
С виду он казался неповоротливым, но бежал, как страус. Однако я был все же попроворнее и настигал его с каждым прыжком. Он, видимо, прикинул, что до моста добежать уже не успеет и что ему лучше пересечь железную дорогу — там, по другую сторону насыпи, люди… И вот, собрав все силы, он полез на насыпь.
Я прыгнул вперед и успел схватить его за ногу как раз в тот момент, когда он уже увидел противоположную сторону. Он начал бешено лягаться; мне казалось, что я попал на родео и пытаюсь объездить дикого жеребца. Один раз ему удалось вырваться, но я тут же прыгнул на него снова.
В конце концов я успокоил его новым ударом головы. Мои руки будто сами по себе вцепились сзади в его шею. Он опрокинулся на спину, и я узрел его широкую рожу в перевернутом виде. Его противные выпученные глаза стали белыми, потом красными. Он все еще брыкался, но уже не так сильно.
— Некрасиво, Пьеро, убегать от друзей. Я с тобой по-хорошему, а ты, такой здоровила, вдруг удираешь, как девчонка…
Наконец я отпустил его.
— Ну, рожай скорее, я спешу: как зовут твоего поставщика?
Его затрясло в беззвучном утвердительном ответе.
— Я скажу, скажу… — пропыхтел он.
Я посмотрел вдаль и увидел приближающийся товарный поезд.
— Ну, скорей!
— Это Жерар, хозяин бара «Мелодик» на улице Фальгиер…
— Не врешь?
— Клянусь!
— Да чего стоят клятвы таких, как ты?
Поезд подходил все ближе. Я схватил Пьеро за его жесткие волосы и хорошенько тюкнул затылком о блестящий рельс. Он застонал. Я повторил процедуру еще раз — и он отключился.
Я со всех ног сбежал по насыпи к машине. Поезд прошел, не замедляя ход. Значит, машинист ничего не заметил. И значит, моему приятелю Пьеро по кличке Альпиец уже сделало из его цветной рубашки широкое декольте…
— Я решил, что так будет лучше. Он знал, кто я такой, а реклама была мне ни к чему.
VI
Признаться, в тот момент мне захотелось послать все к чертям. Случай с Пьеро вызвал у меня что-то вроде депрессивной реакции. Я словно увидел свой усеянный трупами жизненный путь, и у меня закружилась голова.
Моя жизнь напоминала это железнодорожное полотно, чьи параллельные рельсы, казалось, сходились в неизвестной и кровавой бесконечности. На рельсы моей судьбы должно было лечь еще немало мертвецов. Но трупов я не боялся — ни теперешних, ни будущих. Они казались мне всего лишь беспокойными соседями, товарищами по несчастью…
Я ехал к Монпарнасу. Что мне еще оставалось делать?
Улица Фальгиер имела провинциальный, домашний вид. Я остановил машину за мебельным грузовиком и решительным шагом вошел в «Мелодик». Внутри не было ни букашки. Висевшие над стойкой часы показывали час дня. Я поежился, подумав о том, что еще шестьдесят минут назад мы с Пьеро были не знакомы, а теперь он уже лежит на рельсах, разрезанный пополам. До чего жалкое создание человек!
Хозяин бара закусывал, одиноко сидя за столиком в дальнем углу зала. Это был высокий мужик с темными напомаженными волосами и зигзагообразным шрамом на лице. Он показался мне не слишком симпатичным: он, похоже, считал всех окружающих жадными и похотливыми свиньями.
Он подавил усталый вздох и поднялся из-за стола.
— Что будете?
— Смородиновую настойку.
Он налил и вновь принялся за свою яичницу с ветчиной. На кухне высокая мясистая баба поджаривала лук. Кроме них, в баре никого не было.
Мой план созрел в считанные секунды. Я сидел у самого выхода, частично закрывая собой дверь. Улучив момент, я незаметно вытащил шплинт из дверной ручки, затем расплатился и вышел. Оказавшись снаружи, я снял ручку и вернулся, сделав вид, будто что-то забыл.
— Извините, патрон, от вас можно позвонить?
— По внутригородскому?
— Да.
— Телефон вон там, у туалета.
— Спасибо.
Дверная ручка лежала у меня в кармане. Я покрепче ухватил ее за металлический стержень и, проходя мимо Жерарa, резко и метко врезал ему железякой по затылку. Он завалился вперед, уткнувшись носом в свою яичницу. Я быстро перешел на кухню; толстуха наливала в мойку горячую воду и ничего не услышала. Я снова размахнулся своей кривой металлической дубинкой и стукнул посильнее, так, чтобы она сразу отплыла. По тому, как она упала, я понял, что явно превысил дозу, Она не шевелилась; с затылка и из носа текла кровь. Видимо, ей требовалась операция. После такого удара у нее, пожалуй, могли начаться провалы в памяти…
Я оставил ее на полу. Теперь можно было заняться главным: кухарка, по крайней мере, мне в этом помешать уже не могла.
Я вернулся в зал. Мужик со шрамом уже начинал моргать глазами. Я оттащил его в туалет, усадил на унитаз и привязал к трубе бельевой веревкой, которую нашел в шкафу.
Он потрясенно смотрел на меня, не понимая, почему я свирепствую, как террорист.
— Согласен, я был немного резковат, — сказал я. — Это, наверное, от погоды. Надвигается гроза, а это всегда влияет на мою нервную систему.
Он продолжал молча смотреть на меня все тем же тяжелым горящим взглядом.
— Мне нужны имя и адрес человека, который снабжает тебя наркотиками!
Тут его худая физиономия превратилась в сплошной вопросительный знак. Одна бровь поползла вверх, глаз под ней округлился.
— Ты меня понял?
— Что это за чепуха?
Я вздохнул.
— Слушай, у меня нет времени на болтовню!
— Но…
— Мне указал на тебя Пьеро-Альпиец, так что видишь — нечего меня за нос водить!
Он нахмурился:
— Да что вы несете?
Не знаю, какого черта он влез в эту подпольную торговлю… Одно могу сказать: он был не из слабаков. Он не боялся. Он был в ярости и недоумении, только и всего! Может быть, он завязал после какой-нибудь крепкой передряги и теперь живет, как почти честный горожанин, между своим баром и полицейским управлением?
Я как можно спокойнее произнес:
— Говори, Жерар: мне будет не очень-то приятно порезать на колбасу такого парня, как ты. Не стоит играть в тетю щуку: ты ведь знаешь, что плоть слаба! Если я начну убеждать тебя по-своему, ты все равно не сможешь долго молчать…
Он, видно, тоже это понимал, но не спешил раскалываться сразу: пытался выиграть время…
Я ненадолго оставил его наедине со своими мыслями и порыскал по квартире. За кухней оказалась комната, обставленная как попало и чем попало. Мужика со шрамом, как видно, не мучило стремление жить в роскоши… Я полазил по комнате и неожиданно нашел очень приличный пистолет, завернутый в накрахмаленную рубашку вместе с запасной обоймой. Я в необычайном волнении погладил шершавую рукоятку и взвесил оружие на ладони. Пистолет был шведского производства; спусковой крючок, похоже, не артачился и действовал при малейшем нажатии. С таким агрегатом в руках можно было смело заказывать музыку!
Я сунул пушку за пояс и вернулся к Жерару. Он все так же сидел на унитазе, и вид у него был невеселый. Ему наверняка казалось унизительным, что его прикрепили к отхожему месту… Он явно считал меня не только грубым, но и бестактным.
— Слушай, мне некогда. Так что будь добр развязать язык.
— Черта с два! — ответил он.
— Ладно, это тоже входит в программу. Я вижу, ты парень храбрый… Только этого в жизни мало. Поэтому герои обычно долго не живут.
— Я знаю, — вздохнул он. — И все равно — плевать мне на тебя, кем бы ты ни был!
Тут я решил, что это уж слишком, и дал ему в морду, отчего он ударился кумполом о трубу сливного бачка.
Послышалось такое «бум», словно самолет преодолел звуковой барьер. Взгляд его ненадолго стал блуждающим, затем он глубоко вздохнул, чтобы восстановить равновесие.
— Знаешь, что я тебе скажу, сынок? — пробормотал он. — Во время войны меня дважды арестовывало гестапо. Фрицы обрабатывали меня по полной программе, но я ничего не сказал. И такой сопляк, как ты, не заставит меня сказать то, чего я не хочу говорить.
От него у меня начинался сильный мандраж, и я боялся, что поддамся искушению и застрелю его, так ничего и не узнав.
— Тебе что, жизнь уже надоела? — спросил я.
Он не ответил.
— Ты строишь из себя благородного рыцаря, но это же чистый идиотизм!
Я вытащил пистолет.
— Я считаю до трех, слышишь?
— Ты это видел в кино! — презрительно обронил он.
Тут я уже не выдержал. Меня окутал тот красный туман, о котором я часто упоминал раньше. Я не помню, как стрелял, но когда я вновь обрел спокойствие, в туалете воняло порохом и было плохо видно из-за дыма. Я открыл небольшое окошко, выходящее в коридор; вскоре дым рассеялся, и я увидел Жерара — скорчившегося на своем унитазе и изрешеченного пулями. Вся его рубашка была в крови…
«Успокойся, Капут, — говорил я себе. — Ну, ты же мужчина!» Я так дрожал, что слышал, как стучат мои зубы. Я дрожал от злости. Я злился на себя за то, что не смог с собой совладать, за то, что в минуты гнева теряю весь свой ум, все хладнокровие и превращаюсь в дикого кровожадного зверя.
Я вышел из сортира и подождал, пока это пройдет. Когда прошло, я вынул из пистолета обойму и посмотрел: в ней оставалось всего два патрона из девяти. Щедро же я ему отмерил…
Только бы никто не услышал грохот выстрелов! К счастью, туалет находился в самом дальнем углу здания, а в комнате Жерара работал приемник. Я слышал, как там распинается какой-то американский ансамбль. Это утешало… Я подождал еще, но ничего не происходило. Мне оставалось лишь взять ноги в руки. Я только что собственноручно оборвал нить своего расследования: Нужно было начинать все сначала, но я не находил в себе достаточного мужества. Мне все это уже порядком осточертело; я чувствовал себя вялым и рассеянным, как будто долго просидел в горячей ванне…
Пусть этот папаша Бертран катится ко всем чертям… В конце концов, плевать я хотел на его грызню с Кармони!
Я могу воспользоваться его машиной, чтобы переселиться под другое небо. Деньги у меня пока есть… Почему бы, скажем, не отправиться в Гавр, не спрятать Бертранову тачку и не договориться с каким-нибудь тертым капитаном? Я слыхал, что за пятьсот билетов они, бывало, брали людей без паспорта! Такого капитана, конечно, придется как следует поискать, но я надеялся на свое чутье.
Все, решено: я сматываюсь.
Перед тем как уйти, я решил «взять» кассу Жерара. Ему-то деньги уже не нужны… А я получу хоть какую-то компенсацию за свои старания…
Я подошел к кассе и выдвинул ящик. Но дернул слишком сильно, и он совсем соскочил со своих полозьев… В нем оказался лишь десяток бумажек и мелочь.
Я сунул бумажки в карман, наклонился, чтобы подобрать несколько выпавших из ящика монет, и вдруг увидел в глубине образовавшегося отверстия что-то белое.
Я протянул руку, и она наткнулась на твердый гладкий предмет странной формы. Я не мог определить, что это такое: в столе было темно.
Я потянул к себе; это оказался белый телефон Диска на нем не было. За ним тянулся провод — значит, аппарат был к чему-то подключен.
Во всяком случае, он не имел ничего общего с городской телефонной сетью. Он напоминал скорее телефон внутренней связи.
Видимо, для вызова абонента достаточно было снять трубку.
Я почуял крупное открытие. Мне стало ясно, что Жерар был вовсе не простым трактирщиком! Я не ошибся, когда записал его в боссы. Вспомнить хотя бы то, как он послал меня к черту…
Этот частный телефон
указывал на то, что Жерар был гораздо поважнее простого поставщика наркотиков.
Я довольно долго простоял перед этим телефонным аппаратом. Он буквально гипнотизировал меня. Слишком уж неожиданной и многозначительной была эта находка.
Я смотрел на белый эбонитовый корпус с недоверием и любопытством, не решаясь дотронуться до него во второй раз.
Имел ли он какое-то отношение к организации Кармони? Или был предназначен для другого?
Я сразу забыл о своем намерении тайно покинуть страну на корабле. Меня слишком заинтриговала эта тайна, этот дорогой телефонный аппарат, нелепо запрятанный под кассовым столом.
Тут я увидел за витринным стеклом силуэт мужика в брезентовой рабочей куртке. Он, видимо, привык заходить сюда на чашку кофе после обеда. Я замер. Мужик приложил руку козырьком к стеклу ничего не разглядел и убрался прочь.
Обеденный перерыв закончился; в городе снова закипала жизнь.
И вот, не в силах больше сдерживаться, я цапнул телефонную трубку и поднес ее к уху. В ней раздавался не то свист, не то гудок, напоминавший обычный телефонный сигнал. Он вырывался наружу, как воздух из проколотой шины, и казался мне вечным…
VII
Я уже собрался было положить трубку на место, как в ней послышался щелчок, и в ухо мне выстрелил голос.
— Слушаю! — сказал он.
Голос был мужской, четкий, грубый… Я растерялся, поскольку ответа уже не ждал.
— Ну? — настаивал мой собеседник.
Я решился.
— Это Жерар…
— Ну, в чем дело?
Тут я встал перед главной дилеммой: пускаться в путаные бредни или попытаться вызвать какую-нибудь реакцию?
— Давайте скорей сюда! — крикнул я. — Тут такие дела… — И нажал на рычаг.
Еще не оправившись от легкого шока, вызванного голосом в трубке, я запихнул телефон обратно в нишу. Затем на цыпочках вышел из бара и сел в свой «рено» — наблюдать за окрестностями. После такого сообщения типы на другом конце провода непременно должны были зашевелить задницами: я бросил в их тихое болото приличный булыжник!
Мне оставалось только подождать. Я не сомневался, что эти хмыри приедут, и я, увязавшись за ними, найду оборванную нить…
Я прождал довольно долго… Ничего не происходило. Улица оставалась тихой, и заведением Жерара никто не интересовался. Я, как ни таращился, ничего не замечал. Это казалось мне невероятным.
Прошел час, потом другой — и я почувствовал, что старею прямо за рулем. От долгого смотрения в Одну точку щипало глаза.
Но я все не оставлял надежды и старался размышлять над этим любительским спектаклем. Зачем здесь нужен этот потайной телефон? Установка частной телефонной линии — дело очень хлопотное, и если Жерар все же обзавелся таким аппаратом, это говорило о многом…
Я уже начал было злиться, когда до меня наконец дошло. Телефон, спрятанный под прилавком, являлся частью внутренней сети. Это была «кабинетная» линия, проведенная без помощи городской АТС. Она могла соединять только два аппарата, расположенные недалеко друг от друга, например, в одном и том же доме.
Тогда я начал разглядывать здание, в котором находился бар. Только теперь мне стало ясно, что дом построили недавно. Начиная со второго этажа, он блистал богатством: в избытке наблюдались тесаный камень и огромные окна с яркими калифорнийскими шторами.
Я уже почти не сомневался, что собеседник Жерара живет именно здесь. Он, вероятно, пошел узнать, в чем дело, обнаружил трупы и мигом затаился у себя… Да, пожалуй, так оно все и было, думал я.
Мне нетерпелось разобраться во всем самому. Я, не теряя времени, вылез из тачки и вошел в бар с черного хода, то есть через кухню.
Все было тихо. Баба, которую я огрел по затылку, уже не дышала. Я подошел ближе: ее еще раз ударили по чайнику чем-то тяжелым. Тот, кто это сделал, видимо, не желал, чтобы ее вернули к жизни: мало ли что она тогда расскажет…
Тут у меня возникла новая мысль; я побежал в главный зал и заглянул за кассовый ящик. Телефона там уже не было. Может быть, его убрали, чтобы легавые не проследили, куда ведет провод. Но ведь сам провод должен был остаться на месте… Я принялся шарить под стойкой и нашел его: он уходил в подвал.
Медлить было нельзя. С минуты на минуту здесь могли появиться жандармы, вызванные самими жуликами или кем-нибудь еще… Я понимал, что поступаю чертовски неосторожно… Я никогда еще не оставался так долго на месте своего преступления, за исключением, пожалуй, случая в квартире старой проститутки… Я порылся в выдвижном ящике, где, помнится, видел два больших ключа, выудил их и взял еще карманный фонарик.
Я прямо дрожал от нетерпения.
Дверь в подвал я нашел во дворике, возле кухни. Я сбежал по длинной лестнице, немного подумал и сразу нашел подвальное помещение, «сообщавшееся» с прилавком. Один из ключей прекрасно подходил к замку. Я открыл — и оказался в черной, как моя душа, комнате с запахами винища и плесени.
Я ощупал стену на той высоте, где обычно бывают выключатели, и действительно нашел один, но, как его ни мучил, светлее не стало. Наверное, перегорела лампочка.
Тогда я включил карманный фонарь, и его жалкий лучик открыл моему взгляду ряд бочонков с одной стороны и гору бутылок с другой.
Мне нужно было во что бы то ни стало найти этот проклятый телефонный провод и выяснить, куда он ведет. Я чувствовал, что дело назревает нешуточное: мужик, который мне ответил, вряд ли зарабатывал на жизнь продажей жареных каштанов…
Наконец я нашел то, что искал, а именно: сероватый провод, петлявший в толстом слое селитры, которым были покрыты камни подвала. Провод тянулся вдоль верхнего края стены, поворачивал под прямым углом, проходил по сводчатому потолку и исчезал в противоположной стене, то есть в соседнем подвале.
Я вышел и попытался открыть вторую деревянную дверь, но на этот раз между ее замком и моими ключами произошло явное взаимное непонимание; пришлось выбить дверь плечом.
Здесь, под землей, я чувствовал себя сравнительно безопасно. Единственными, кто мог свалиться мне на голову, были жильцы дома, а на них я плевал…
Во втором подвале оказались уголь и ящики. Я быстро отыскал продолжение провода. В одном месте провод прекращал бежать вдоль потолка и уходил в него. Значит, я не ошибся, предположив, что потайная линия не выходит за пределы дома…
Тогда я вернулся в коридор, на то место, где провод появлялся, и сосчитал шаги до того места, где он исчезал. Шагов получилось шестнадцать. Я надеялся, что, повторив этот маневр на тротуаре, получу представление о том, где находится комната, с которой Жерар переговаривался из зала. Мне казалось, что комната эта должна быть на первом этаже: те, кто устанавливал этот телефон, вряд ли стали бы вести провод через чужие квартиры.
Согласитесь — я становился чемпионом дедукции и уже мог заткнуть за пояс кое-каких детективов! Я уже умел вести расследование, оставалось только получить права на его вождение…
Я вернулся во второй подвал и заглянул в дыру, в которой исчезал провод, надеясь хоть как-то ознакомиться с верхним помещением. Но дыра была слишком узкой. Я спрыгнул с ящика, служившего мне козлами, и вышел в коридор.
Через две минуты я уже взобрался наверх по лестнице и запер дверь. Теперь уж точно пора было сматываться: я и так слишком долго здесь проторчал, у стен есть не только уши, но и глаза…
Внезапно я остановился — резко, как лошадь, не желающая брать барьер.
Одна из моих туфель была испачкана кровью.
Это никуда не годилось. Не разгуливать же по городу в такой галоше… Я пошел на кухню за тряпкой. Вокруг кухарки крови не было. Я спустился в сортир. Мертвый Жерар по-прежнему сидел на унитазной крышке. Вся его грудь была в крови, но ни одна капля не упала на плиточный пол…
Я озадаченно остановился. Что это могло означать? Где я испачкался?
Меня постепенно охватил монументальный страх. Я в ужасе смотрел на свою ласту. Откуда взялась кровь?!
Я решил выяснить и это.
Я вытер туфли о кухонные занавески и опять помелся вниз по подвальной лестнице.
Задержавшись здесь еще на полчасика, я получал прекрасную возможность снова попасть на страницы газет. Я уже видел себя с поднятыми руками под прицелом полицейских пушек…
Но я должен был узнать. Узнать любой ценой. Я не мог повсюду таскать с собой эту загадку.
Я быстро прошелся фонариком по первому подвалу: ничего подозрительного. Затем нырнул во второй — и у меня вырвалось ругательство. В углу виднелась небольшая лужица крови; она натекла из-под нагромождения пустых ящиков. Кровь была уже не первой свежести. Я быстро разбросал ящики; под ними оказался слегка задубевший труп.
Я осмотрел покойника при свете карманного фонаря, и страх мой удвоился. Это был не кто иной, как Бертран!
VIII
После подобной находки я почти удивился, почему в подвале не звучат трагические органные аккорды. Это был серьезный удар под ложечку, и я деже пошатывался, когда выбирался по лестнице на свежий воздух.
Труп папаши Бертрана, ожидавший меня под кучей ящиков — это было в высшей степени мрачно и вместе с тем довольно комично. Третьего дня старикан направил меня на опасный путь, где только что сам нашел свою смерть. Прощайте, мои миллиончики! Я убил нескольких человек, залез по уши в дерьмо — и все совершенно напрасно. Я не получу за свои старания ни гроша…
Усаживаясь в свой драндулет, я грустно размышлял об этом и о многом другом.
Бесспорным было одно: что касается Кармони, я на верном пути. Я подбирался к нему все ближе. И со старым Бертраном у него, похоже, были поистине чудовищные раздоры. Я появился на сцене как раз вовремя…
Я повернул на улицу Вожирар, а на улице Камброн не выдержал и остановился перед пивной, чтобы врезать спиртного: в нем нуждался весь мой организм.
Итак, я остался без работы. Моя квалификация наемного убийцы пока что никому не требовалась. Я оказался автоматически уволенным по причине смерти моего работодателя. Очень мило, правда?
Хорошо, что хоть без денег я не остался. У меня имелись в наличии две пачки солидных купюр и машина. Я знавал гораздо худшие времена…
После четвертой рюмки коньяка у меня начало гудеть в башке. Пора было остановиться: ко мне подкрадывалось опьянение, а пьяный мужик мало на что годен.
Однако по тому решению, которое я в конце концов принял, можно было заключить, что мне уже действительно «море по колено».
Я дождался темноты, переходя из одной киношки в другую. А когда на Париж опустилась ночь, вернулся на улицу Фальгиер.
У заведения Жерара царила суматоха. Легаши вовсю пожинали плоды моего труда; газетчики тоже не отставали и полыхали вспышками, как в день 14 Июля, — аж больно было глазам. Нет, заходить сейчас в дом было явно не лучшей затеей. Стоило какому-нибудь проныре меня окликнуть — и для меня началось бы хождение по мукам. При таком скоплении сыщиков и журналистов меня сразу бы узнали… Я поспешил свернуть в ближайший переулок. Когда дуют такие ветры, лучше не показывать носа. Вернуться в дом с потайным телефоном — ей-Богу, такое могло прийти только в пьяную голову. Даже если бы в нем жил сам Кармони, этого делать было нельзя.
На этот раз я проехал улицу Вожирар до конца и свернул направо, к мосту Отей. Там начиналась Западная автострада. На своей кастрюльке я за четыре часа доберусь до Гавра. Там без труда продам машину — на такой неказистый «рено» всегда находится покупатель — и сразу же суну большую часть своих денег капитану какого-нибудь сухогруза, чтоб забрал меня с собой. По возможности — в Штаты. Но можно даже и в Африку… Главное — на несколько лет покинуть Европу…
Я объехал площадь Рон-Пуэн де ля Рен и пересек Сену. Потом проехал по туннелю, выходившему на автостраду, и началось длинное, гладкое одностороннее шоссе, уходящее в лес. Его освещали мощные фонари.
Я начал насвистывать. В это вечернее время ехать было одно удовольствие. Движение было слабым, особенно в моем направлении… Порой меня обгоняла какая-нибудь последняя модель, пролетавшая мимо, как ракета. Я спокойно провожал ее глазами: во-первых, потому что не мог тягаться с ними на своей кофемолке, а во-вторых, потому что, в общем-то, никуда не торопился.
Но внезапно моей безмятежности настал конец. Мне начал доставлять неудобство свет чужих фар, отражавшийся в зеркале заднего вида. Судя по расстоянию между фарами, машина была приличных размеров… Меня удивляло, что она не спешит обгонять. Я не понимал, почему такая сильная тачка упорно ползет за мной со скоростью улитки… Может быть, с ней что-то случилось?
Для проверки я прижал педальку, и мой «рено» ошарашенно разогнался до восьмидесяти. Задняя машина сразу же прибавила ходу. Ошибки быть не могло: за мной увязались.
От страха я так стиснул руль, что побелели пальцы. Это был страх не перед самой опасностью, а перед моим бессилием. Судите сами: я был один среди ночи на широком шоссе и располагал лишь этой маленькой ползучей машинкой…
Зато с головой у меня было все в порядке. Хорошо, что соображалка всегда шла у меня впереди остального…
Судя по всему, за мной ехали не полицейские. Они сцапали бы меня сразу, вместо того чтобы пасти на протяжении многих километров. При необходимости они даже открыли бы огонь, не размениваясь на традиционные вступления.
— Тогда кто?
Я с удивлением констатировал, что произнес эту фразу вслух.
— Тогда кто?
Ответил я себе почти мгновенно:
те, другие!
Да, те, другие, из дома Жерара. Те, к кому шла потайная телефонная линия. Те, кто добил раненую кухарку. Те, кто укокошил Бертрана. Эти ребята, похоже, были большими затейниками, но отнюдь не шутниками. Ну и дурак же я: столько проторчал в погребе, дважды возвращался к дому… Ведь на такой маленькой улочке очень просто намозолить кому-то глаза…
Но вскоре весь мой страх разом пропал.
Я не собирался попадать в руки к этим жлобам. Они зададут мне пару нескромных вопросов и отправят отдыхать прежде, чем я успею сказать «уф»! Нет уж, спасибо, как-нибудь обойдусь!
Я достиг поворота на Дре. За этим перекрестком шоссе было не освещено. У меня появился маленький шанс на успех.
Увидев впереди небольшую возвышенность, я дал полный газ и въехал на нее, опережая своих преследователей метров на сто. Перевалив через холм, я резко затормозил, выключил фары и прыгнул в кювет.
Они появились в следующую секунду, и двойная полоска их фар прошила темноту. Завизжали тормоза, и прямо за моим «рено» остановилась здоровенная американская колымага. Мгновение стояла тишина. Затем осторожно открылась дверца, и между машиной и кюветом возник силуэт человека в мягкой шляпе и светлом плаще. Человек был высокий и крепкий. Со своего места я мог застрелить его с закрытыми глазами, и вместо кофе с бутербродом он получил бы к завтраку надгробный венок. Но я не сделал этого из-за других пассажиров, которые сразу бы меня засекли и взяли в оборот по своему усмотрению.
Лучше было подождать.
Человек, пригнувшись, начал подходить к «рено». Он думал, что я все еще сижу в машине, и прятался от возможных пуль за правым крылом своего самосвала.
Наконец он осмелел, выпрямился, и вскоре уже стоял в полуметре от меня, повернувшись ко мне спиной, Рукоятка пистолета давно нагрелась у меня в руке, спусковой крючок щекотал палец; я прямо дрожал над этим куском стали, до того мне хотелось выстрелить…
Меня удержал лишь новый прилив благоразумия, или, скорее, острое сознание грозящей опасности.
Я продолжал ждать, затаив дыхание. Он резко распахнул дверцу «рено». Потом выругался и позвал:
— Эй, Алексис!
У паровоза открылась вторая дверца, но персонаж, который оттуда вылез, был мне пока не виден.
— Чего? — спросил он.
— Его тут нету!
Второй тоже выругался.
— Неужели ушел?
— Ага… Быстро же он, скотина, смылся!
— Слышь, надо искать.
— Надо…
— Он где-то недалеко. Вдоль дороги железный забор, через него хрен перелезешь…
— Может, он в канаве засел?
Мои пальцы сдавили рукоятку пистолета. Если они слишком резко направят на меня фонарь — я уже не смогу прицелиться…
В этот момент на возвышенность въехала новая машина, будто целиком состоявшая из фар, и осветила обоих субчиков с ног до головы. Они словно оказались в витрине универмага или превратились в Луарские башни (летний вариант).
Я успел неплохо разглядеть и здоровилу в светлом плаще, и его дружка — поменьше ростом, круглолицего, с узкими глазами. Китаец, что ли… Больше в их машине никого не было; это ободряло.
Расфанфаренная машина проехала мимо. Нужно было действовать, пока они еще не привыкли к темноте.
Я прицелился в «китайца», потому что он стоял дальше и мог после первого же выстрела спрятаться за свой рыдван. У уголовников это вроде рефлекса — даже если рядом хлопнет проколотая шина.
Я затаил дыхание и нажал курок. Результат не заставил себя ждать, Получилось, как в ярмарочном тире, когда на стенде опрокидывается маленький фанерный клоун. Моя жертва упала как подкошенная. Это произошло так стремительно, что я поначалу решил, что промахнулся и что мужик притворяется. Однако по тому, как «китаец» корчился на земле, становилось ясно, что свое он получил.
Я прицелился во второго. Но он явно не страдал болями в суставах: пока я наводил на него пушку, он успел выхватить свою.
Я понял, что надо поторапливаться, и выстрелил ему в клешню. Он завопил, и его пистолет упал на асфальт. Тогда я прицелился в грудь, но оказалось, что я забыл сосчитать патроны, и мой инструмент издал лишь нелепый щелчок.
Я прыгнул вперед и боднул его головой в живот. Он охнул и растянулся на придорожной траве.
Тогда я подскочил ко второму уроду, который только что отдал кому следует свою жалкую душонку, и оттащил его в канаву. Не хватало, чтобы кто-нибудь случайно увидел в свете своих фар такую картинку! К счастью, на этом участке противоположные полосы движения разделял небольшой лесистый пригорок, и мне достаточно было поглядывать только в одну сторону.
Свалив китаезу в кювет, я включил габаритные огни своего «рено». До рассвета никто ничего не заподозрит. Подумают, что машина просто сломалась… Затем я забрал пистолет здоровилы. Оставалось самое трудное… Я схватил здоровилу под мышки и втащил его на переднее сиденье их машины.
Я уселся за руль, и мне сразу стало спокойнее. На каждое нажатие педали машина мгновенно отвечала мощным рывком.
И вот я продолжил свой путь на борту этой внушительной америкашки, и у моих ног этаким экзотическим ковриком лежал детина в светлом плаще.
Я не знал, для чего дарю ему эту отсрочку. По всем канонам, лучше было вогнать ему пулю в башку и оставить рядом с напарником.
Зачем я его пощадил? Ведь не по доброте же душевной!..
Дорога под колесами сделалась как будто мягче. Я жал на всю катушку, изредка поглядывая на своего очаровательного попутчика…
IX
Подъезжая к Оржевалю, я почувствовал некоторую растерянность. Нужно было что-то решать, причем немедля. Бежать мне уже не хотелось. Стычка, в которой я так легко победил, вернула меня в атмосферу старых добрых разборок между жуликами…
Почти незаметно для самого себя я развернулся и помчал по противоположной полосе обратно, к Парижу. Достигнув Версальской развилки, я заехал на мост и сразу после него повернул направо. Дорога, на которой я очутился, проходила через какую-то захудалую деревеньку и шла дальше по полю, обнесенному высокой и толстой металлической сеткой. Между этой сеткой и шоссе, пролегала лесополоса. Для разговора с моим плащеносцем место было самое подходящее.
Я остановился под деревьями… Дорога была усыпана сырыми желтыми листьями, в нос бил сильный, здоровый запах чернозема.
Я потряс детину за плечи.
— Эй, лежебока! Вставай, не придуривайся!
Он не отвечал… Это меня разозлило: я понимал, что удар головой в живот не может надолго отправить человека в нокаут…
Я включил свет и все понял. Пуля, которую я всадил ему в руку, чтобы выбить пистолет, разорвала запястье, и он истек кровью. Крови хватило на всю машину. Настоящее стихийное бедствие! Мужик был настолько мертв, насколько это можно себе представить. Белый, как умывальник… Оставалось только выкинуть его из машины, больше ничего.
Так я и сделал. Ох, и удивятся завтра мужички, которые привезут сюда из Парижа дамочек, чтобы вправить им на осенней листве!..
Вместе с покойником я выбросил и коврик, на котором он лежал. К счастью, кровь не успела просочиться сквозь него, так что мне удалось придать машине почти опрятный вид.
Теперь мне следовало обыскать своего попутчика и прежде всего забрать техпаспорт. К счастью, за рулем сидел тогда именно он. Я нашел при нем и бумаги на машину, и его собственные документы. Детину звали Антонен Феру, он увидел свет в Монтелимаре… Теперь он его уже больше нигде не увидит. При нем оказалось всего десять тысяч, но и их приятно было принять — в качестве платы за путешествие на тот свет… И я без колебаний присвоил эти карманные денежки.
Вернувшись в машину, я из любопытства открыл техпаспорт. Он был выписан на имя Паоло Кармониччи… От этого у меня по спине побежала мерзкая дрожь. Для близких друзей «Кармониччи» означало «Кармони». Теперь я знал настоящее имя этого подонка.
Адрес, указанный в техпаспорте, гласил: Рю де Милан, 114. Но вот настоящий он или нет?
Я с великим трудом развернулся — колеса увязали в глинистой земле — и медленно поехал в Париж.
Рю де Милан я нашел сразу, не прилагая почти никаких усилий: просто следуя по улицам с односторонним движением. Я остановился напротив номера 114… Там какой-то тип выгуливал своего боксера. Молодец, мужик: не ложился спать, пока его псина не обнюхает все заборы…
Увидев машину, он поспешил навстречу, и я понял, что она ему хорошо знакома.
Это был мужик средних лет в навинченном на макушку берете, похожий на консьержа.
Он изумленно посмотрел, как я выхожу из машины; затем машинально наклонился, вперед, чтобы проверить ее номер.
Я не оставил ему времени на теряния в догадках.
— Эй, скажите-ка, папаша, вы ведь работаете у Кармониччи, верно?
Он моргнул.
— А что?
— Так да или нет?
— Я его консьерж…
Он указал рукой на дом номер 114, и только теперь я заметил, что это частный особняк. Король белого кайфа устроился очень неплохо… Еще немного — и снял бы для личного пользования Лувр…
— Он у себя? Меня прислали Алексис и Феру. С ними случилась неприятность…
Это сработало.
— Сейчас спрошу. С кем имею честь?
— Мое имя ему ни о чем не скажет… Просто сообщите, что я от его бойскаутов… И добавьте, что я пригнал их машину… И еще: дело очень срочное, и он наверняка пожалеет, что не взял к себе консьержем олимпийского чемпиона в беге на двести метров с барьерами!
Немного ошарашенный, дядечка потащил своего боксера в дом. Он жил, так сказать, в левой части крыльца — в небольшой каморке, устроенной под лестницей.
Там, видимо, был телефон, потому что отсутствовал он не больше трех минут. Я в это время переминался с ноги на ногу на ступеньках, пытаясь что-нибудь разглядеть в ближайшее окно. Но ничего не разглядел: окно было высоким, а шторы тщательно задернули.
— Заходите! — крикнул мне дядечка из своей будки.
Я начал подниматься по крыльцу. Передо мной словно по волшебству открылась тяжелая дверь с железными решетками, впуская меня в логово зверя. Смешная штука жизнь… Я совершенно не ожидал, что смогу добраться до места за двадцать четыре часа, И теперь оказался в положении коммивояжера, который обходит клиентов с пустым чемоданом!
Тип, который стоял за дверью, мог бы насмерть перепугать стаю голодных волков. Он был массивным, тяжелым, с ужасным шрамом посередине лица. Его рожа напоминала тыкву, которую начали было резать пополам, а потом передумали.
Он молча смотрел на меня. Он привык выполнять четкие инструкции, и мой приход его не слишком обрадовал… Этот парнишка, похоже, специализировался на роли сторожевого пса. Его призванием было спать у двери хозяина и лаять при малейшем шорохе…
Мы с ним не сказали друг другу ни слова. Он установил на место металлическую штангу, запиравшую дверь, и повел меня в дом. Меня со всех сторон окружала безумная роскошь, и все же я испытывал неприятное чувство, будто нахожусь в тюрьме. Наверное, виной тому были эта дверь с железными запорами и громила со шрамом, которого с радостью взяли бы на роль Франкенштейна.
Мы зашагали по огромному холлу, покрытому дорогими коврами. На стенах, задрапированных толстым пурпурным бархатом, висели картины старых мастеров. В конце холла виднелась мраморная лестница, поднимавшаяся на верхние этажи, которые представлялись еще более роскошными.
Наверное, неплохо было работать на такого набитого деньгами патрона…
Дремавший на банкетке у лестницы парень при нашем приближении встал и загородил мне дорогу. Затем невероятно быстрым движением опустил руку в мой карман и вынул отягощавший его пистолет.
— Разреши, приятель… — пробормотал он в качестве извинения.
Возражать не стоило, иначе началась бы открытая война. А перед войной всегда необходимо проводить приготовления — об этом вы прочтете в любом учебнике!
Я позволил ему переложить оружие из моего кармана в свой.
— Все? — спросил я, силясь сохранять спокойствие.
— Пока — да…
Он подавил зевок и вернулся на свое место. В углу рта у него торчал старый вонючий окурок; поднимаясь по лестнице вслед за меченым громилой, я заметил, как «таможенник» зажигает его снова. Видно, экономный был малый.
Наверху оказался потрясающий коридор — весь мягкий, с позолоченной лепкой на дверях. На стене висела картина Утрильо. Пока мой провожатый стучал в дверь, я присмотрелся: картина была не репродукцией, а подлинником. Этот Кармони жил, как настоящий король!
В каком-то смысле это успокаивало. С человеком, который покупает хорошие картины, всегда можно договориться. Исключений не бывает!
— Да? — ответил из-за двери чей-то голос.
Дверь открылась — и я очутился во дворце из «Тысячи и одной ночи». Эта комната была совершенно непохожа на те, которые мне до сих пор доводилось видеть в кино. Вместо обоев на стенах был китайский шелк. На полу лежала медвежья шкура. А мебель-то, мебель… Наверное, самые дотошные антиквары Парижа и окрестностей чуть на части не разорвались, пока ее искали! «Людовик Пятнадцатый» без малейшего изъяна, с подписями, клеймом и всеми прочими делами!
Посреди всего этого стоял Кармони. На нем были пижамные штаны из белого шелка и халат из синего сатина с белыми манжетами… На фоне этой белизны его оливковая кожа выделялась, как вдовец на свадьбе. Волосы его были напомажены целым ведром бриолина.
Это был мужик среднего, даже небольшого роста. Остроносый, с поразительно спокойными глазами и безгубым ртом. Но больше всего меня удивили его руки — маленькие, как у ребенка.
Он степенно посмотрел на меня.
— Вы хотели меня видеть? — спросил он наконец.
— Да…
— Кажется, вы приехали на моей машине?
— Она стоит под окнами.
— И приехали от имени Алексиса и Феру?
— Совершенно верно.
— Кто вы такой?
— Их знакомый…
— Они никогда мне о вас не говорили.
— Ну и что из того, — возразил я, чувствуя, что начинаю выглядеть форменным лопухом.
— Как, вы сказали, вас зовут?
Внешне он чем-то напоминал лису, но опять же какую-то слишком спокойную.
— Я еще не называл вам своего имени.
— Но, полагаю, вы все же намерены это сделать?
— А я вот полагал, что вам не понадобится меня об этом просить…
— Почему?
— Я подумал, что такой энергичный человек, как вы, наверняка читает газеты…
— Я читаю в них только биржевые сводки.
— Жаль…
Я посмотрел ему прямо в глаза. Я понимал, что ввязался в глупую, бессмысленную и опасную игру. Ничто не заставляло меня лезть в это осиное гнездо, но я все же полез. В жизни каждого человека есть моменты, когда он испытывает непреодолимую потребность рискнуть всем, что имеет. Именно такой момент наступил сейчас для меня.
— Мое настоящее имя вам вряд ли знакомо… Достаточно будет сказать, что в газетах меня называют Капутом.
Он не моргнул глазом. Зато сопровождавший меня амбал заметно заволновался, и его шрам сильно побелел.
— Как вы сказали? — переспросил Кармони.
Я ждал от него хоть какой-нибудь реакции, но он упорно строил из себя невинного младенца.
— Моя физиономия была на первой странице всех газет — даже тех, которые специализируются на биржевых сводках!
— Возможно… Но я не интересуюсь происшествиями. Он повернулся к Меченому.
— А тебе это имя знакомо?
Тот, похоже, не был виртуозом словесности.
— А то! — воскликнул он.
Мой пошатнувшийся авторитет малость выпрямился.
— И кто же он?
— Резкий парень. Кучу народа убил. Полиция ищет, аж разрывается…
— Вот как? Интересные у нас, оказывается, знакомые, — проворчал Кармони, наморщив нос.
Я шагнул к нему, сжав кулаки. Еще немного, и я заставил бы его сменить пижаму…
— Надо же, какой воинственный, — невозмутимо пробормотал он. Он, похоже, любил красиво говорить и в свободное время слюнявил двадцатитомный толковый словарь.
— Я пришел сюда не для того, чтобы надо мной насмехались!
— А я, в свою очередь, никогда не даю приюта тем, кого преследует полиция!
— Да ну?
— Да!
— Вы совершаете ошибку, говоря со мной в таком тоне…
— Если кто-то из нас и совершает ошибку, то только не я.
— Послушайте, Кармони, я пришел с вами поговорить.
— Вы полагаете, мы сможем сообщить друг другу что-то важное?
— Вот именно — важное.
— Тогда говорите скорее, уже поздно.
— Время у меня есть.
— А у меня нет! Начало было никудышнее.
— Хорошо. Сначала позвольте вернуть вам техпаспорт на машину…
Я достал серую картонную книжечку и бросил ее на мраморный стол.
— А заодно и водительское удостоверение этого молодчаги Антонена Феру… У меня был и его револьвер, но его забрали у входа… Кроме того, я конфисковал у него деньги в сумме десяти тысяч франков, которые оставил себе в качестве оплаты труда. Я не привык убивать людей просто так: я ведь не садист какой-нибудь!
На этот раз я с удовлетворением отметил, что Кармони изменился в лице. Он взял из лакированной шкатулки сигарету и прикурил от зажигалки из чистого золота. Одна эта зажигалка стоила столько же, сколько хорошая машина! Она поблескивала от собственного огонька; Кармони управлялся с ней легко и небрежно.
— Они мертвы? — спросил он, выпуская сладострастное облако дыма.
— Как копченые селедки! Их теперешнее географическое положение будет указано в завтрашних газетах.
Он прищурил глаза.
— Это вы их?
— Позвольте: в пределах необходимой обороны! Терпеть не могу, когда мне устраивают автогонки, а потом приходят навестить с девятимиллиметровой пушкой в руке!
Действительно, все было сделано по справедливости. Я оказался сильнее его подручных, и ему нечего было возразить.
Однако ему по-прежнему не давала покоя — и никому бы на его месте не дала! — цель моего прихода. Пока что этот визит говорил лишь о том, что я не из робкого десятка.
— Итак, что вы хотите мне сказать? — вздохнул он.
Я покосился на стул десятка.
— Позвольте, я присяду?
X
Он позволил — коротким кивком головы.
Я впервые имел дело с королем мафии… Честно говоря, я представлял его себе совсем другим. Этот мужик, чье происхождение выдавали только Медная кожа и жгучий взгляд, напоминал купающегося в деньгах испанского гранда.
Он облагородил свои манеры, смягчил свои движения, отточил свою речь… Он олицетворял собой новое поколение преступников: поколение великосветских бандитов. Он наверняка не пропускал ни одного балета Роланда Пети и имел собственный столик в самых элитарных ресторанах.
— Слушаю вас.
— Вы не могли бы отослать своего Кинг-Конга? — сказал я, ткнув большим пальцем в сторону Меченого, который жадно смотрел на меня.
Упомянутый издал короткое мычание, которое следовало понимать как протест.
— Он вас смущает? — спросил Кармони.
— Слегка… Я не люблю вести важные беседы в атмосфере зоопарка.
Кармони улыбнулся.
— Выйди, — сказал он.
Но произнес он это с явной неохотой: несмотря на внешнее спокойствие, он был, по-моему, трусоват. Видимо, он влез на трон благодаря своей голове, а не своим малюсеньким кулачкам…
Телохранитель угрюмо вышел, но ушел, похоже, недалеко, потому что за дверью шум его шагов сразу затих.
— Ну, теперь лучше? Вы уже освободились от своих комплексов?
— Теперь замечательно!
Я секунду помедлил, прежде чем начать. Но в нынешнем положении мне уже некуда было двигаться, кроме как вперед. И с таким малым, как мой собеседник, лучше было играть в открытую.
— Еще раз прошу прощения за свой поздний визит, но есть разговоры, которые не терпят отлагательства… Итак, перед вами опасный преступник — судя по газетным статьям. Правда, у меня действительно есть предосудительная склонность демонстрировать людям, что смерть — это сущий пустяк… Но не в этом дело. Я сумел уйти от полиции и вел довольно спокойную жизнь, но тут в нее вошел с черного хода один человек. Этот человек сказал, что узнал меня, и предложил мне двадцать пять миллионов и фальшивые документы за вашу смерть…
Кармони мгновенно отбросил свой пресыщенный вид и живо заинтересовался моим рассказом. Он начал слушать так жадно, что мне хотелось кормить его словами из маленькой пипетки, чтобы как следует помурыжить…
— Этот ваш доброжелатель назвался Бертраном…
Говоря это, я следил за выражением его лица, но он и бровью не повел.
— Не знаю такого, — произнес он в ответ на мой вопросительный взгляд.
Тут я, признаться, немного скис. Но решил не сдаваться:
— Вот как? А между тем этот тип умер вашими стараниями; сегодня днем он уже лежал в некоем подвале на улице Фальгиер, который вам, полагаю, небезызвестен!
Он нахмурился.
— Вы понимаете, о чем я говорю? Тогда буду продолжать, а обсудим потом!
Он кивнул.
— В отличие от вас, я прекрасно представлял себе, с кем буду иметь дело. Я знал, что вы король наркобизнеса и что у вас отличная охрана… Предприятие казалось мне безумным, и однако я все же рискнул, ибо это был тот случай, когда приходится выбирать из двух зол меньшее. Первым делом мне, разумеется, следовало узнать ваш адрес. Для этого я избрал единственный Путь, способный к вам привести: наркотики… Я встряхнул кое-кого из ваших толкачей и добрался до Жерара с улицы Фальгиер… Там заварилась каша, и я уж было подумал, что нить оборвалась. Однако эта оборванная нить очень скоро нашлась — в виде телефонного провода. Я обнаружил внутреннюю телефонную линию. Провод уходил в подвал. Я спустился и нашел там труп старика, который поручил мне убить вас… Поскольку мой заказчик отдал богу душу, я остался ни с чем. Против вас я ничего не имел, поэтому решил уехать, не выполнив задания, и ночью отправился в Гавр… Но на шоссе ко мне прицепились ваши чучела, и я уложил их обоих: в этих играх мне, как правило, везет… Обыскав Феру, я нашел техпаспорт с вашим адресом — и вот я здесь.
Я обессиленно замолчал, мечтая о стаканчике чего-нибудь освежающего. У меня до того пересохло во рту, что вместо плевка получилось бы, наверное, облако пыли…
Кармони пригладил ладонью волосы и погасил роскошный окурок в массивной хрустальной пепельнице.
— Зачем вы приехали?
— Потому что сижу на голых камнях, а такой человек, как вы, всегда найдет работу для такого, как я!
— Вы так считаете?
— Судите сами: ваши вояки на поверку оказались наивными мальчонками. Я управился с ними так быстро, что они и пальцем шевельнуть не успели. А ведь они нападали первыми…
Я улыбнулся.
— …И потом, разве это не забавно: согласившись убить вас за вознаграждение, я затем становлюсь под ваши знамена по причине смерти человека, который хотел вас погубить…
— Кстати, давайте поговорим о нем подробнее, — сказал Кармони. — Как он выглядел?
Я посмотрел на него.
— Неужели вы станете утверждать, что не знали его?
— Я его не знал!
— Старый, седой, с седыми усами, лицо грустное, нос в форме банана… Не припоминаете?
— Нет…
Если он врал, то очень искусно: на его лице было написано искреннее удивление. Он хмурился, как человек, который отчаянно роется в памяти, пытаясь вспомнить ускользающий образ…
— Бертран! — повторил я. — У него, кажется, был свой отдел на бирже…
Но он по-прежнему не мог понять, о ком идет речь.
— Значит, говорите, его труп находится на улице Фальгиер?
— Да… Второй подвал слева…
Он нажал на кнопку. Висевшая на стене картина художника-примитивиста отъехала в сторону, открывая нишу с белым телефонным аппаратом. У этого итальяшки определенно было нездоровое влечение к секретным средствам связи, этакая тайная телефонная страсть…
Он набрал номер… Со своего места я услышал длинные гудки. Наконец чей-то голос проворчал:
— Алло?
— Бунк?
— Да…
— Зайди ко мне.
Он, видимо, привык, чтобы ему повиновались, поскольку повесил трубку, не сказав больше ни слова. Затем задвинул аппарат обратно в нишу и нажатием кнопки вернул на место картину.
После этого он открыл буфет, достал бутылку виски и поставил передо мной:
— Угощайтесь.
Сам он подцепил бутылку фруктового сока и начал задумчиво цедить его прямо из горлышка.
— Послушайте, Кармони…
Он поднял одну бровь.
— Мне хотелось бы, чтобы вы ответили мне откровенностью на откровенность…
Однако по его гримасе я сразу догадался, что это не его метод.
— Насколько я понимаю, — настаивал я, — кто-то из ваших дружков решил вас напарить?
Он пожал плечами.
— Почему?
— Потому что на улице Фальгиер сидит один из ваших заместителей, разве не так?
— Ну и что?
— Выходит, это он убил Бертрана, но вам об этом не сказал. Значит, у него были на то свои причины…
Кармони поставил пустую бутылку из-под фруктового сока обратно в буфет. Я опорожнил свой стакан С виски… Льда оказалось маловато, но при моей жажде капризничать было неуместно.
— А значит, Бертран питал к вам смертельную ненависть заочно — через посредство вашего человека… Сдается мне, что вас пытались надуть.
Я замолчал. Кармони сделался весь серый. В венах у него бурлил гнев, и смотреть на него в эту минуту было не слишком приятно. Когда он злился, на палубе их корабля, похоже, поднималась боевая тревога!
— Вы так и не ответили на мое заявление о принятии на работу…
Это разрядило обстановку. Он внимательно посмотрел на меня. Наверное, осмотр дал скорее положительные результаты, потому что он как будто немного расслабился.
— Каковы ваши запросы?
— Они будут отвечать вашим предложениям… вашим возможным предложениям. Честно говоря, я хотел бы слегка перевести дух и перестать подпрыгивать всякий раз, когда увижу рядом чей-нибудь силуэт… У меня сложилось впечатление, что для легавых вы — запретный плод. Я хочу немного отдохнуть в вашей тени, понимаете? А если мне заодно еще и удастся заработать денег — это вообще превзойдет все мои ожидания. Я понимаю, что напакостил вашей конторе, но уверен, что вы — человек, способный простить благонамеренному парню подобные вольности. К тому же эти неудобства частично компенсируются тем открытием, на которое я вас только что навел!
Он стал расхаживать взад-вперед по своим медвежьим шкурам. Его халат распахнулся и приоткрыл волосатую грудь.
— Интересно было бы узнать, где ваши ребята за мной увязались?
Он пожал плечами.
— Вот что: сейчас сюда придет один человек. У меня с ним будет серьезный разговор. Вы должны вмешаться в нужный момент…
— О'кей.
— Это он живет на улице Фальгиер. Он заметил вашу машину и предупредил нас о том, что происходило у Жерара. Я отправил за вами двух своих людей, приказав им привезти вас сюда. Я хотел вас допросить…
— Но я, как видите, приехал сам…
— После того, как убили их… Один из них был мне дорог.
— Я буду вам еще лучшим помощником.
— Посмотрим… Вы действительно хотите поступить ко мне на работу?
— Конечно! Ведь в отдел социального страхования меня, похоже, уже не возьмут…
В этот момент сбоку отодвинулась небольшая занавеска под тигровую шкуру, и в комнату вошло прелестное создание в ночной рубашке из почти прозрачного нейлона. На вид ей не было и двадцати, и она напоминала Марину Влади… Она была красивой, здоровой, с длинными светлыми волосами — в общем, страшно аппетитной… Ее большие светлые глаза смотрели чисто и простодушно… Когда она двигалась, ни о чем другом уже не думалось — хотелось только смотреть на нее, и все. Она бросила на меня быстрый взгляд.
— Поль, ну в чем дело?
Лицо босса смягчилось.
— Оставь нас, крыска моя…
— Это надолго?
— Да, Иди ложись.
— Но я не могу заснуть!
— Ну так почитай…
Она снова — с некоторым любопытством — посмотрела на меня своими туманными светло-голубыми глазами. Она будто вышла из мечты. Я видел уже немало смертельных красоток, но еще ни одна не производила на меня такого ощущения свежести и чистоты… Эта девушка была живым воплощением молодости. Да, этот нарколог, похоже, не скучал!
Она исчезла там, откуда появилась, и я жадно проводил глазами умопомрачительные линии ее бедер.
— Поздравляю, — не сдержавшись, шепнул я Кармони. Мужчинам всегда льстят подобные замечания…
Он слегка порозовел. Может, он был с приветом? Не зря ведь у него такие маленькие руки…
Когда я наливал себе новую порцию виски, раздалось негромкое жужжание, и лампа на ночном столике зажглась два-три раза сама по себе.
— Вот и он, — сказал Кармони. — Допивайте и идите в соседнюю комнату… Когда будет нужно, я вас позову. Я подчинился — тем более охотно, что упомянутая соседняя комната служила пристанищем той маленькой богине!
Кармони подвел меня к занавеске:
— Сказка, мсье немного побудет с тобой.
Она полулежала на низкой кровати с розовым покрывалом, отбросив волосы назад. Глаза ее были влажными, как у лани.
— Садитесь, — приказала она мне, указывая на кресло.
Я тихо прошелестел «спасибо» и сел, не сводя с нее глаз. Она листала толстый журнал мод с глянцевыми страницами. Перевернув еще одну, она уронила журнал на коврик у кровати.
— Как вас зовут? — спросила она.
— Капут…
— Как того бандита, о котором столько писали в газетах?
Значит, она лучше следила за новостями, чем ее мужик. Впрочем, ничего удивительного: что ей было еще делать, если не красить ногти и не читать газетки?
— Да, точно так же, как его… Более того: если бы не эта моя борода, мы с ним были бы похожи, как близнецы…
Она рассмеялась:
— Так это вы и есть?
— Угадали!
Она находила это лишь забавным и не испытывала ни малейшего страха. Она была рада, что отгадала ответ. Видимо, вся жизнь казалась этой девчонке сплошной игрой, иногда веселой, иногда монотонной…
— А вас действительно зовут Сказкой?
— Как же! Такие имена бывают только в календарях! Это Поль меня так окрестил.
— У него хороший вкус, это имя вам очень к лицу.
Наступило молчание… Я услышал, как в комнате Кармони открылась дверь, и машинально прислушался. То, что происходило за тигровой занавеской, могло сыграть решающую роль в моем ближайшем будущем.
Откровенно говоря, я был почти доволен ходом событий. Я в очередной раз отхватил приличный кусок от пирога удачи. Ко мне вновь возвращалось былое везение. Впрочем, оно далеко и не уходило…
Сказка сообразила, что я решил подслушать беседу.
— Послушайте, мсье Капут, вы, похоже, очень любознательный молодой человек?
— Это не любопытство, — шепотом ответил я. — Это профессиональная добросовестность. Мне дали роль, и я ожидаю реплики, после которой должен выйти на сцену!
Она улыбнулась.
— А без этой бороды вы, наверное, красивый!
Ну вот, она уже начинала меня клеить… Ничего себе, скорость… Где только ее этому учили? Уж явно не на курсах для домохозяек! Я с удовольствием бы продемонстрировал ей фокус с плавающей рукой, но уж больно неподходящее было время… Да и персона тоже. Если я начну закидывать крючки девчонке самого Кармони, то моя карьера у короля наркотиков не продлится и дня!
В соседней комнате уже базарили вовсю.
— Я смотрю, машина здесь, — говорил незнакомый голос. — Нашли его?
— Конечно! — ответил Кармони.
Тот, другой, спросил тихим голоском, в котором звучало что-то вроде беспокойства:
— Кокнули?
— Да…
— Тем лучше!
Тому типу, видно, сильно полегчало.
— Поделом ему. Это ж надо — замочил Жерара как ни в чем не бывало, скотина!
Тогда Кармони проговорил своим спокойным голосом:
— Прежде чем сдохнуть, он все выложил… Сказал, что собирался убить меня за двадцать пять миллионов, которые ему обещал некий Бертран…
— Что за хреновина? Вы его знаете, этого Бертрана?
— Нет, а ты?
— Впервые о нем слышу!
— Странно…
— Почему, патрон?
— Потому что парень утверждал, что труп этого самого Бертрана лежит у тебя в погребе…
Тот тип с трудом сглотнул слюну.
— Это еще что за сказки? Эх, патрон, зря вы приказали его хлопнуть! Пусть бы попробовал повторить все это при мне!
Кармони крикнул:
— Капут!
И я вошел. Действительно — для этого наступил самый подходящий момент.
Посреди комнаты сидел невысокий лысый толстяк в сером полосатом костюме. У него на коленях лежала широкополая фетровая шляпа.
Он посмотрел на меня; мое лицо ни о чем ему не напоминало.
— Это кто? — спросил он.
— Капут. Слыхал о таком?
— Еще бы…
Незнакомец неловко протянул мне пухлую потную руку, но я не стал пожимать ее, и он глупо застыл с поднятой рукой, как дрессированная собачка.
— Убери свою клешню, приятель, — проворчал я. — И становись перед микрофоном; по-моему, это твой последний шанс отличиться.
Он позеленел.
— Что? Но… Но позвольте…
— Замолчи, Бунк!
Кармони зажег одну из своих диковинных сигарет, вонявших розами.
— Капут — это и есть тот, кто сидел за рулем «рено». Это он убил Жерара и нашел труп так называемого Бертрана!
— Послушайте, тут какое-то недоразумение! Зачем было устраивать весь этот спектакль?
Я двинулся вперед. Меня одолевала страшная злость. Этот тип был мне противен. Я вообще терпеть не могу маленьких и толстых, а этот казался еще и насквозь фальшивым…
— Раз уж ты, свинина, обо мне слыхал, то должен знать, что в мокрых делах я немного разбираюсь. Ты не мог не знать, что у тебя в подвале труп… Он, наверное, и до сих пор там лежит; не станешь же ты таскать его с места на место, когда в квартале море полицейских!
— Да клянусь вам…
— Не надо клясться, это для тебя плохая примета…
Он начал увиливать:
— Может, труп в подвале и есть, но я о нем абсолютно ничего не знаю… Я никогда не слыхал об этом самом Бертране, и вообще…
Я повернулся к итальянцу.
— Скажите, Кармони, не найдется ли в вашем домишке какого-нибудь спокойного уголка, где легко будет смывать с пола кровь?
Вместо ответа Кармони нажал на кнопку звонка, и Меченый мгновенно открыл дверь.
— Пошли в подвал, — постановил итальянец.
Бунк начал раскисать.
— Патрон! — заскулил он. — Я не понимаю, за что мне все это! Этот человек только что убил ваших людей и затащил нас всех в дерьмо, а вы почему-то верите ему, а не мне!
Между нами говоря, я этому толстяку немного сочувствовал. Действительно, тут было на что обижаться…
— Пошли, пошли, — поторопил Кармони, ничуть не поколебавшись.
И мы стали спускаться по лестнице следом за телохранителем. Бунк шел впереди меня на подгибающихся ногах, продолжая что-то жалобно ворчать. Кармони топал сзади, то и дело щелкая ради забавы своей золотой зажигалкой.
В холле парень, который отобрал у меня пистолет, поднялся с места — точь-в-точь как часовой, вытягивающийся при появлении генерала.
Меченый открыл небольшую дверь в углу холла, включил свет, и мы двинулись вниз по деревянной лестнице, покрытой плетеной дорожкой.
Толстяк уже ничего не говорил — только пыхтел, как тюлень.
Наконец мы прибыли в шикарный, выложенный плиткой подвал. Охранник со шрамом открыл следующую дверь, и мы оказались в прачечной. Здесь стояли здоровенная стиральная машина, сушка и гладильный стол. У этого Кармони были, похоже, крайне буржуазные привычки…
Переход в это помещение, служившее для строго определенных целей, несколько уменьшил напряжение, Мы стояли друг напротив друга, опустив руки, и обменивались нерешительными взглядами.
— Это вам подойдет? — спросил меня итальянец.
— Вполне.
Своим вопросом он, в сущности, предоставлял мне полную свободу действий… И я начал действовать.
Для начала я снял пиджак и тщательно закатал рукава рубашки. Бунк в панике косился на мои бицепсы и бормотал:
— Но патрон! Патрон! Неужели вы позволите ему меня бить?.. Это же…
— Так, — перебил я его, — начнем по порядку. Значит, говоришь, о Бертране ты никогда не слышал?
— Конечно, не слышал и…
Не успел он договорить, как я отмерил ему первоклассную плюху. Бунк растянулся на черно-белой плитке, его шляпа откатилась в дальний угол комнаты. Телохранитель прокомментировал мой удар одобрительным мычанием. Он общался с окружающими посредством одних междометий, но тем не менее выражал свои мысли довольно неплохо. Это, кстати, могло бы послужить неплохим уроком тем, кто сочиняет диалоги для фильмов…
Бунк поднялся на ноги, бешено вращая глазами. Из его разбитой губы текла тонкая красная струйка. Он вытер ее рукавом и вдруг быстро сунул руку в карман. Наверное, еще плохо соображал, кто перед ним стоит…
Прежде чем он успел выставить напоказ свою артиллерию, я угостил его двумя резкими ударами в подбородок — справа и слева. Он снова расстелился на полу; его пушка лязгнула о плитку. Я подобрал ее и протянул Меченому.
— Держи: подаришь своему приятелю из холла, раз он их коллекционирует.
Кармони едва заметно улыбнулся. Я подошел к Бунку, схватил его за шиворот и одним рывком поставил на ноги. Он уже не пытался сопротивляться. Он уже хотел со мной дружить…
— В последний раз спрашиваю: ты знал Бертрана?
— Нет!
Конечно, так он ни за что бы не признался… Его язык мог развязаться только на краю могилы.
— Ладно, мой милый…
Я посмотрел на Кармони.
— У вас бритвы не найдется?
При слове «бритва» толстяк задрожал и снова принялся умолять босса о пощаде, но итальяшка будто оглох. Он, похоже, наслаждался происходящим. Я все больше подозревал, что подавить в себе некоторые инстинкты ему так и не удалось.
Он сделал знак своему громиле, и тот вышел.
— Что вы собираетесь со мной делать? — спросил Бунк.
Он был жалок, но я не испытывал к нему сострадания. От подобных слизняков меня просто тошнит.
— Мне всегда хотелось разрезать какую-нибудь свинью на мелкие кусочки… Наверное, у меня синдром мясника…
Кармони только посмеивался. Его безмолвие служило. мне чем-то вроде поощрения. Своим молчанием он давал мне зеленый свет. Его глаза горели бешенством; он ненавидел Бунка и, может быть, втайне даже надеялся, что я замучу его до смерти.
Меченый вернулся и принес красивую немецкую бритву с перламутровой рукояткой и узорами на лезвии.
Я повертел ее в руке; лезвие ярко блеснуло в свете молочно-белого стеклянного шара, освещавшего прачечную.
Бунк съежился, насколько это позволял его бухгалтерский животик. Он бормотал: «Не надо! Не надо!» — и неотрывно смотрел на эту стальную полоску, притягивающую к себе весь свет помещения.
— Учти, сейчас самое время обо всем рассказать, — предупредил я. — Для меня это уже дело принципа. Один из нас врет. И поскольку это не я, мне нужно, чтобы ты сделал небольшое публичное признание!
— Нет! Нет! — проблеял этот урод.
Я с удовольствием объяснил бы, что со мной тогда произошло, но сделать это, честно говоря, нелегко. Меня будто заколдовало это осунувшееся от страха лицо. Его дурнота притягивала меня. Во мне пробудилось что-то вроде аппетита. Мне будто хотелось полакомиться его гнусной рожей с безумными желтоватыми глазами и бледными губами, упиться его дрожью…
Я положил свободную руку ему на голову. Я не нажимал, но у него все равно подкосились ноги. Тогда я быстрым движением выбросил бритву вперед. Я ничего не почувствовал. Он, впрочем, тоже! Бритва, казалось, была только что от точильщика. Что-то упало на пол. Я посмотрел: это было его ухо. Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь видеть ухо отдельно от головы, но могу вас заверить, что вид у него не слишком веселый.
Струя крови хлынула по щеке Бунка и залила его крахмальную манишку. Он с ужасом поднес руку к голове.
Я шутки ради поднял ухо с пола, зажав его большим и указательном пальцами:
— Смотри, малыш, как ты легко рассыпаешься… Когда я с тобой закончу, ты будешь похож на картину Пикассо!
Кармони бросил сигарету на пол и раздавил ее своим кожаным шлепанцем.
— Пожалуй, это ухо ему уже не надерешь, — заметил он, сдерживая равнодушный зевок.
Этот неожиданно зазвучавший голос и решил все дело.
Подождите… — выдавил из себя Бунк, — я все расскажу!
XI
Он сломался. Но меня вообще удивляло, что он продержался так долго. Надо было видеть этого паршивого вахлака! Тряпка, кусок дерьма, несчастная полудохлая тварь!.. Из его зияющей раны продолжала ручьем литься кровь.
— Да, я знал Бертрана…
На этом этапе развития действия, как говорят театральные критики, Кармони взял инициативу в свои руки. Он неожиданно толкнул Бунка плечом, тот повалился на пол; при этом на белые пижамные брюки Кармони упала большая капля крови. Итальянец отошел к умывальнику и смыл кровь, прежде чем продолжать дискуссию. Когда он вновь приблизился к нам, его глаза были широко открыты, и взгляд как бы делился надвое; в нем сквозили и любопытство, и ненависть.
— Кем был Бертран?
Бунк всхлипнул.
— Клянусь вам, патрон, клянусь…
— Хватит клясться, рожай!
— Бертран вел мои дела…
— Ах вот как?
— Да… Когда-то он работал на бирже, но потом ушел на покой. В последнее время он жил довольно бедно; у него остался только большой дом в Фонтенбло… Чтобы зарабатывать на жизнь, ему приходилось заниматься бухгалтерией…
Мне начинало открываться истинное лицо Бертрана. Старичок подживал на руинах своего былого величия и довольно тяжело переносил свою бедность…
Бунк продолжал:
— Однажды он позвонил мне и сказал, что можно провернуть потрясающую биржевую операцию. Речь шла о нефтяной компании «Барконз». Достаточно было купить акций на сто тридцать миллионов… Бертран был уверен, что за неделю эти акции здорово подскочат, он располагал сведениями из первых рук… Только ста тридцати миллионов у него как раз и не было.
— И акции купил ты?
— Да, патрон!
— На мои деньги?
Бунк застонал: Кармони приправил последний вопрос пинком в ребра. Толстяк опустился — и это не каламбур — на низшую ступеньку общественной лестницы. Распростертый на полу, брызжущий кровью, он был похож на издыхающее от боли и страха животное. С его лба стекал зеленоватый пот. Этот пот блестел на ресницах, но Бунк даже не пытался моргать глазами, чтобы его стряхнуть.
— Послушайте, патрон… Это заняло всего несколько дней… Я снял сто тридцать миллионов с недельного баланса и дал их старику… Он провернул свою операцию… Все прошло хорошо… Думаю, он наварил не меньше двухсот миллионов! Только мне этот подлец вернул все те же сто тридцать: сказал, что заболел и не успел вложить деньги. Сначала я поверил, но потом навел справки и узнал, что акции он все же покупал.
Кармони, будучи опытным финансистом, ненадолго замечтался — представлял себе эту сказочную операцию. Мечты на время ослабили его ярость.
Наконец он снова наклонился к своему развенчанному помощнику.
— Я нисколько не удивлен, что тебя обули, как последнего дурня! Да если б ты рассказал об этом мне, я бы сам договорился с этим Бертраном, и уж меня бы он не надрючил, чтоб я подох!
В азарте расследования Кармони начал забывать о своей изысканной речи. Его губы кривились в хищном оскале.
— Мсье хотел все заграбастать сам, — подгавкнул я.
Кармони слегка кивнул.
— Ладно. Дальше!
— Я узнал об этом только вчера. Ну и, конечно, помчался в Фонтенбло. Хотел его задушить, но он клялся всеми святыми, что говорит правду… Тогда я его немножко побил — тоже безрезультатно. Обыскал дом, ничего не нашел… Времени было мало, и я увез старика с собой, чтобы обработать как полагается…
— И?
От коротких резких вопросов Кармони невозможно было уклониться.
— В подвале дело обернулось плохо… Я сделал неосторожное движение…
— Выходит, после него остались неизвестно где двести миллионов?
— Совершенно верно… Надо найти их, патрон… Ведь, по существу, они ваши…
— Ну, спасибо!
Бунк понял, что перегнул палку; подвели запоздалая угодливость и трусость, Он прислонился к стене и замолчал. Он внезапно показался мне страшно усталым. Если долго трясти труса, то наступает минута, когда он смиряется со своей судьбой и становится почти храбрым…
Именно эту минуту я и избрал, чтобы нарисоваться вновь, По части коварства я мог утереть нос кому угодно…
— Это что же получается, Бунк? Ты не просто воспользовался деньгами своего шефа, ты к тому же сделал это от его имени…
Если бы он мог умертвить меня взглядом, то сделал бы это не колеблясь. У него уже затеплилась было надежда, но это мое замечание стало для него равносильно нескольким выстрелам в грудь из револьвера.
Кармони прищурился: это еще не приходило ему в голову.
— Бертран нанял меня для убийства Кармони, — пояснил я Бунку. — А значит, думал, что имеет дело именно с ним… Вывод напрашивается сам собой: ты позволил бессовестно надуть себя под именем Кармони!
Бунк уже не пытался отрицать. Кармони сделал сдержанный знак телохранителю, и меченый робот опять куда-то исчез.
— Ты уверен, что эти двести миллионов не у тебя?
Бунк стал сама искренность; было ясно, что на этот раз он не врет.
— Конечно, патрон! Конечно!
Продолжение нетрудно было угадать. Продолжение — а заодно и начало. Если Бунк решился на подобный фокус, то, скорее всего, намеревался навострить лыжи, получив свою долю. Наверное, мечтал об аккуратненьком домике с зелеными ставенками в тихом лесном уголке, где можно будет отдохнуть от грязных дел… Кармони улыбнулся.
— Видишь ли, Бунк, — проговорил он, — так уж устроена жизнь: одним суждено руководить, другим — подчиняться…
— Да, да… — прохныкал поганец.
— Напрасно ты решил поиграть в босса, дружок. Простой шестерке, да еще в твоем возрасте, это не дано.
— Да, да…
— Все, что из тебя еще может получиться — это приличный покойник…
Бунк едва не лишился чувств. Он, конечно, ожидал подобного вывода, но все же зашатался, услышав этот приговор, потому что это был именно приговор.
В этот момент вернулся Меченый… Он держал в руке шпагу. У меня перехватило дыхание. На кой черт ему понадобилась эта железяка?
Но очень скоро я понял. Кармони взял шпагу за рукоять и крепко сжал ее своими мальчишескими ручонками.
У него, похоже, был комплекс мушкетера. Малый воображал себя д'Артаньяном, не иначе!
Меченый из любопытства подошел поближе. Ему не хотелось пропустить такое интересное зрелище. В прачечной назревало представление времен старого доброго театра-гиньоля — с кровопусканием после каждой реплики и прочими удовольствиями…
Кармони направил шпагу в живот Бунка. Бунк испустил вопль и ухватился за лезвие; итальянец ударил его ногой по руке, пальцы разжались, и неумолимое острие шпаги снова нацелилось толстяку в пузо. Тот опять сцапал лезвие, но уже не пытался его отвести просто силился удержать на месте.
— Послушайте, патрон, я сделаю все, что вы захотите… Я больше не буду… Я найду деньги старика и…
Кармони надавил на эфес, и клинок разом вошел во внутренности Бунка. Его ладонь разделила тонкая красная полоска… Эта рука, которая цеплялась за торчащее из брюха лезвие, выглядела очень диковинно и очень страшно. Я даже скорчил гримасу…
Кармони радовался, как ребенок. Для этого садиста настал долгожданный авторский вечер… Он готов был бросить вызов самому Карлу Пятому, если бы тот вдруг воскрес…
Бунк слабым голосом пробормотал:
— Не надо, патрон, не надо…
Кармони выпустил шпагу; она торчала в животе толстяка строго вертикально. Итальянец слегка стукнул по рукояти; лезвие закачалось, исторгнув у мученика дикий крик.
— Ты больше ничего не хочешь нам рассказать? — спросил Кармони.
Бунк был уже не в состоянии отвечать. Он пребывал в весьма меланхоличном настроении…
Итальянец вытащил шпагу. Лезвие было покрыто липкой коричневатой жидкостью и сильно воняло.
Кармони поморщился.
— Да он внутри весь гнилой! — проворчал он, приставляя острее шпаги к горлу Бунка. — Пусть это послужит тебе уроком…
И он коротким резким толчком избавил толстяка от страданий. Залитое кровью тело несколько раз дернулось и затихло.
— А без отходной молитвы ты уж как-нибудь обойдешься, — добавил я.
Доблестный рыцарь Кармони отдал шпагу своему верному оруженосцу; тот вытер ее тряпкой и вложил в ножны.
Итальяшка вышел, не сказав телохранителю ни слова, но тот прекрасно знал, что ему положено навести в комнате порядок. Я все больше подозревал, что подобные забавы здесь устраивали и раньше.
Я прошел следом за Кармони в его спальню. Девчонка под названием Сказка по-прежнему валялась на кровати. Ее формы просвечивались сквозь дымчатую ткань рубашки, и после подвальной церемонии это действовало на меня как лекарство. Я то и дело косился на нее. Кармони это заметил, но нисколько не рассердился. Напротив, мой жадный взгляд его, кажется, даже возбуждал. Теперь, зная, что он садист, я не удивился бы, если бы он оказался еще и вуайером. Может, ему приятно было бы посмотреть, как я запрыгну на его нимфу? Может, ему хотелось поиграть в дружеские домашние подглядки?
Я сделал над собой усилие и прекратил осмотр экспонатов. Такой сеанс мне вовсе не улыбался. Для меня постельные игры — это как проявление фотопленки: ими лучше заниматься в темноте и без зрителей.
— Итак? — спросил я, глядя боссу прямо в глаза.
Он даже заморгал — до того пристально я на него уставился.
— Действительно, вы оказались правы…
Он пододвинул мне свою шкатулку с сигаретами, и я выудил оттуда роскошную пыхтелку с золотым ободком, чтобы его не обидеть. Правда, я тут же об этом пожалел. Вкус у нее был ужасный: создавалось впечатление, что куришь букет цветов.
— Насколько я понимаю, определенного места жительства у вас нет?
— Нет. Если не считать тюрьмы Санте…
— Я распоряжусь, чтобы вам дали здесь комнату…
— Спасибо. Следует ли мне понимать, что вы одобрили мою кандидатуру?
— Не делайте слишком поспешных выводов.
— Но могу ли я, по крайней мере, на это надеяться?
Этот словесный поединок смешил меня. Мне казалось, что мы оба просто ломаем комедию.
— Надейтесь, человек только надеждой и живет!
Тут он уже съезжал на дешевую болтовню: наверное, сказалась усталость.
Идите спать, — добавил он. — Поговорим завтра.
XII
В мою комнату меня отвел не Меченый, а другой тип, которого я еще не видел и который напоминал собой траурное уведомление. Худой, темнолицый, он был одет во все белое, как официант из бистро. Кармони предупредил его по телефону, и он ждал меня в коридоре, у выхода из комнаты с декорациями к «Тысяче и одной ночи».
Он без единого слова привел меня в самое дальнее крыло дома, открыл дверь и посторонился. Я недоверчиво заглянул за порог, но сразу понял, что напрасно строю из себя индейца-сиу на тропе войны. Комната была, конечно, не такой роскошной, как у шефа, но имела более чем достаточные удобства. Отличная кровать, впечатляющая мебель, мягкие ковры, отдельная ванная…
Я закрыл дверь и задвинул засов. Жизнь становилась более-менее съедобной. Я устроил себе скоростное раздевание… Постель показалась мне мягкой, как девичьи щечки… Я с блаженным вздохом распластался на ней. Так было уже намного лучше!
* * *
Когда я открыл свои форточки, стоявшие на комоде мраморные часы показывали девять. Я подскочил к окну и отдернул шторы, но тут же скис: окно выходило в вентиляционную трубу. Для утренней гимнастики моя спальня была не лучшим местом…
Я принял хороший душ, побрился электробритвой, которую нашел на полочке над умывальником, и после всех этих процедур почувствовал себя молодцом. Я оделся. Мне здорово хотелось есть…
Я открыл дверь. В коридоре было пусто. Я начал двигаться в направлении лестницы, и когда уже почти добрался до площадки, откуда-то появился вчерашний темнолицый. Он сменил свой белый костюм на полосатый жилет и теперь был вылитый лакей из комедийного спектакля. Правда, рекомендательные письма ему, похоже, карманы не оттягивали: такого слугу нанимали явно не по объявлению.
— Мсье ждет вас у себя в кабинете! — объявил он. — Будьте любезны следовать за мной…
У него был ярко выраженный иностранный акцент: греческий или что-то в этом роде.
Я вошел в кабинет, и у меня закружилась голова. Комната занимала почти весь первый этаж. Она была огромна и в роскоши не уступала спальне. Кармони сидел в сером твидовом костюме за столом, спроектированным чуть ли не самим Ле Корбюзье, и писал. Мелким, убористым почерком он заполнял страницу какого-то гроссбуха.
При моем появлении он поднял голову.
— О, салют! Хорошо спали?
— Еще бы! В первый раз за несколько месяцев храпел без всякой опаски…
— Правда?
— Да. Может быть, зря?
— А вы как думаете? — ответил он вопросом на вопрос.
— Я думаю, что не зря. Я вам доверяю, вот и все.
Он казался в превосходном расположении духа.
— Я вот все размышляю о вашем случае… Даже попросил принести газеты, в которых о вас писали.
Он кивнул на стопку макулатуры, лежавшую на краю стола.
— Так вы, оказывается, страшный человек?
Я невольно проникся к нему уважением. Сила этого деятеля состояла в его методичности. Он ничего не оставлял на волю случая. К девяти часам утра он уже успел подробно ознакомиться с моей историей… Он не захотел говорить со мной накануне вечером, потому что еще плохо меня знал…
По его лицу я догадался, что он тоже питает ко мне определенное уважение, хотя несколько иного рода.
— Я убежден, что вы могли бы вершить великие дела, если бы не были столь импульсивны и направляли свою… смелость на действительно стоящие вещи.
— Ну так преподайте мне пару уроков!
— Садитесь.
Я уселся в глубокое кресло.
— Послушайте, Капут, я согласен вас испытать, но предупреждаю: я возьму вас на работу только в том случае, если вам удастся отличиться.
— Понятно.
— Я хочу, чтобы вы разыскали двести миллионов Бертрана. Мои люди уже обыскали всю квартиру Бунка, нанесли визит его любовнице…
— Представляю себе этот визит!
— …но все напрасно, — продолжал он, возвысив голос, чтобы заставить меня замолчать. — Из чего я заключил, что Бунк говорил правду: он действительно не смог прибрать эти деньги к рукам, Бертран спрятал их как следует…
— Само собой…
— Найдите их — и вы получите десять процентов от суммы. По-моему, справедливо?
Я прищурил глаза.
— Послушайте, Кармони, когда я говорил, что хочу работать с вами, то имел в виду вовсе не должность мойщика посуды. Мне рисовалось нечто более существенное!
— Что-нибудь вроде союза?
— Вот именно!
Он сжал свой смешной крохотный кулачок и стукнул им по столу.
— Вы, наверное, плохо понимаете, с кем имеете дело. Это все равно, как если бы мальчик из хора решил заключить союз с директором оперы!
Я покраснел; я не люблю оскорблений. Если он принимал меня за шестерку, нашим отношениям не суждено было долго продлиться.
— Вы в розыске, — напомнил он. — С минуты на минуту вас могут загрести легавые, и тогда вам уже не отвертеться от секатора!
— Ну и что?
— А вот я — человек неприкасаемый. Понимаете?
— Понимаю.
— Я приставлю к вам двух своих людей. Они будут присматривать за вами, но в то же время и защищать от полицейских. Пока вы с ними — вам ничто не угрожает.
— Пикантная ситуация…
— Если вы найдете деньги, то, возможно, скроетесь от них, — ведь вы достаточно хитры…
— Спасибо…
— Но от Кармони вам не уйти. Тем более что у меня будет тайный и бесценный союзник в лице полиции… Я вас не запугиваю; я говорю все это только для того, чтобы между нами не возникло недоразумений, не так ли?
Я задумался. Отказываться было нельзя. Во-первых, потому что это означало пулю в затылок (или шпагу в брюхо), а во-вторых — потому что его предложение было действительно справедливым.
— Согласен!
— Хорошо. Труп Бертрана по-прежнему лежит в подвале. Легавые рыщут повсюду и наверняка его найдут, так что вам не мешало бы съездить в Фонтенбло раньше, чем это произойдет.
— Понял…
— В квартиру на улице Фальгиер я поселил нового жильца. Он наблюдает за ходом расследования. Как только труп Бертрана обнаружат, он предупредит меня, а я — вас.
— Ясно.
— Кажется, мы обо всем договорились?
— Да. Только у меня еще один вопрос…
Он поморщился: это ему явно не понравилось.
— Зачем, — спросил я, — вы снаряжаете меня на поиски миллионов, если предполагаете, что они спрятаны в доме Бертрана в Фонтенбло?
Кармони скривил губы в свойственной ему загадочной улыбочке.
— Потому что Бунк там уже искал. В таких делах он был не промах… Раз он вернулся ни с чем, значит, деньги спрятаны очень хорошо. Вот я и посылаю туда человека, который стоит больше, чем Бунк.
— Вы полагаете, что я лучше его?
— Судя по газетам — да.
Я встал.
— Что ж, давайте попробуем. Постойте, но что если денег там не окажется?
— Значит, они в другом месте: ваша задача от этого не меняется. Найдите их!
— Прекрасно. Кофе выпить позволите?
— Конечно. Только долго не рассиживайтесь.
Он снял телефонную трубку.
— Пришлите ко мне Стива и Джо.
Через минуту в кабинет вошли двое: крепыш с фигурой Берта Ланкастера и долговязый хлыщ, вызывавший мгновенную антипатию.
Кармони двумя-тремя штрихами обрисовал ситуацию:
— Это Стив и Джо. Знакомьтесь, ребята: это Капут. Поезжайте с ним и делайте все, что он скажет. Но не отпускайте от себя ни на шаг!
Он протянул мне руку.
— Извините, Капут… Новые знакомые — это как старый кухонный комбайн: с ним приходится быть очень осторожным…
Ему, похоже, безумно нравился собственный юмор.
XIII
Наверное, Кармони вербовал своих солдат в школе для глухонемых: эти двое тоже, оказались не из говорливых.
Мы разместились в почти новом «ситроене». Пилотировал долговязый Джо; я сидел рядом с ним, а Стив развалился сзади, как стельная корова на соломе.
До леса Фонтенбло мы доехали молча. Мне, кстати, тоже не хотелось трепаться. Я размышлял над последними событиями и находил, что все складывается неплохо. По редкому стечению обстоятельств я уже успел сделаться подручным всемогущего мафиози… Несмотря на свою маску честного бизнесмена, Кармони не боялся ни Бога, ни дьявола. Вот взял и принял меня на работу, невзирая на погром, который я учинил в его рядах… И вообще — в этом властном итальянце была какая-то приятная обстоятельность. Он говорил коротко и четко, а это сразу вызывает доверие к человеку, с которым пускаешься в сомнительные предприятия…
Мы выехали из леса, и я указал на аллею, ведущую к хоромам покойного Бертрана. Джо безукоризненно свернул туда. Машину он, надо сказать, водил с виртуозным мастерством.
— Останови! — сказал я, как только дом показался на глаза. Я не хотел оставлять тачку у ворот, чтобы не возбуждать любопытства соседей. Мы вышли — все так же молча.
— Отмычка у вас есть? — спросил я.
Стив похлопал себя по карману пальто; там что-то звякнуло. Я имел дело с людьми предусмотрительными. Они никогда не выходили под дождь без зонтика…
Мы легко открыли гараж, прошагали по заросшему сорняками саду. Мои спутники не спускали с меня глаз; я подозревал, что Кармони выбирал для меня не кого попало. Оба двигались, держа руку в кармане, будто готовились угрохать меня при первом резком движении. Это выглядело довольно забавно и вместе с тем изрядно действовало на нервы.
Входная дверь была не заперта и болталась от сквозняка. Бунк смотался поспешно, не потрудившись закрыть за собой. Ворота, кстати, тоже оказались открытыми. А мы-то колдовали над дверью гаража, как Шерлоки Холмсы…
Войдя, я увидел, что Бунк перевернул все вверх дном. Дверцы шкафов были распахнуты настежь, выдвижные ящики валялись на полу, картины сняты с крючков, паркет местами разобран… Бунк оказался своего рода аккуратистом. Кармони не зря считал его хитрым лисом… Если уж он ничего не нашел — я вряд ли мог добиться большего успеха.
— Ничего работенка, а? — повернулся я к своим спутникам.
Стив хмуро пожал плечами, Джо покусал верхнюю губу.
— Ладно, попробуем поразмыслить…
Я сел в кресло и забросил ноги на подлокотники. Меня одолевало сознание собственной беспомощности. Здесь было столько возможных тайников… Не говоря уже о просторном парке, где хитрый старичок мог попросту закопать деньги! Двести миллионов… Тут было о чем задуматься.
Во-первых: где гарантия, что Бертран схоронил свое богатство именно здесь? Это еще следовало доказать. Может быть, эта старая биржевая крыса сняла в каком-нибудь банке сейф под вымышленной фамилией?
Я глубоко задумался. Нет, это вряд ли. Старик давно окопался в своем домище… Дом, как видно, был ему страшно дорог. Возможно, он даже затеял свою пресловутую операцию только для того, чтобы его сохранить… Тертые старикашки вроде него любят держать деньги рядом, под рукой… В то же время их нужно было хорошенько спрятать, потому что Бертран боялся визита Кармони: ведь Бунк наплел ему, что действует от имени итальянца… Бертран так опасался этого визита, что поручил мне убить Кармони… И еще: если бы деньги лежали в банке, то есть были недоступны для постороннего, Бертран, скорее всего, признался бы в этом Бунку, поскольку тот, похоже, расспрашивал старика особым, очень «настойчивым» образом.
Но главное (смейтесь, смейтесь!) — я слышал запах денег. Все мои чувства говорили мне, что они где-то здесь.
В тюрьме я перечитал почти всего Эдгара По, и его, в общем-то, простецкий рассказ о похищенном письме открыл мне одну великую истину: тайник — это прежде всего хитрость. А по части хитрости папаша Бертран мог переплюнуть кого угодно…
— Ну что? — проворчал Джо. — Яйца будем варить или ноги парить?
Я поднял голову; он пристально смотрел на меня своими маленькими красноватыми глазками.
— Заткни свою крысиную пасть, — очень серьезно ответил я, — и жди моих указаний, понял?
— Что?
Я явно уязвил его самолюбие.
— Не заставляй меня повторять, это меня утомляет. Слыхал, что сказал Кармони? Вы в моем распоряжении — ты и твой деревянный приятель!
Стив сделал шаг вперед. Ему, видно, тоже не понравилась моя оценка.
— Ты что это, урод, — спросил он, — нарываешься?
Я устремил на него взгляд цвета Монблана.
— Остынь, а то сейчас зубы выплюнешь, ясно?
Он сделался бледным, но огрызаться перестал.
Эта несостоявшаяся стычка словно отрезвила меня, Я почувствовал, что кровь в моих жилах побежала спокойнее, и сердце забилось в нормальном ритме.
— Ладно, ребята, пошли со мной, и перестаньте принимать меня за лопуха: мне и не таких приходилось дрессировать… Вбейте себе хорошенько в головы, что меня не пугают ни ваши киношные рожи, ни ваша комнатная артиллерия. Ну, вперед…
И я без промедления направился в ту маленькую комнату, где жил старик.
Я решил подойти к вопросу с психологической точки зрения. Остальные восемнадцать комнат для него уже не существовали. Понимаете? Он забаррикадировался в этой. Спальня, она же гостиная, плюс кухня: ему хватало тридцати квадратных метров. Значит, психологически он не мог заныкать свои сокровища в другом месте — или я совсем не разбираюсь в людях!..
Я осмотрел комнату, стоя на пороге. Она напоминала старую английскую таверну: закопченный потолок, неописуемо грязный стол, на котором осталась куча грязной посуды. В потухшем камине лежало огромное обугленное полено…
— Вот что, парни: деньги находятся в этой комнате, — сказал я своим дуболомам.
До сих пор они хмурились, но слово «деньги» произвело на них поистине магическое действие. Они вздрогнули, и глаза их жадно заблестели.
— Откуда ты знаешь? — спросил Джо.
— У меня, представь себе, есть кое-что под кепкой…
Я ответил рассеянно, поскольку уже углубился в географию этой комнаты. Итак: железная кровать, комод, из которого Бунк вытащил все ящики… Стол… Старое «вольтеровское» кресло… Два стула… Голый ночной столик…
Да, я, пожалуй, погорячился, утверждая, что в этой комнате-берлоге спрятано такое сказочное богатство… Двести миллионов, пусть даже крупными купюрами, не так-то просто скрыть от посторонних глаз…
Для начала я последовал примеру человека с улицы Фальгиер и еще раз все перерыл. Я отвинтил медные шары на спинках кровати, простучал комод, проверяя, нет ли в нем двойных стен… Матрац яростно распороли до нас, но я на всякий случай прощупал и его. Шиш! Абсолютный ноль! Пустыня Гоби!
Оба сторожевых пса наблюдали за мной молча, с напряженными и чуть насмешливыми мордами.
— Ну что, рыболов, не клюет? — спросил Джо.
Я повернулся к нему:
— Сходи в гараж за молотком.
— Но…
— Ты что, боишься выходить на улицу без нянечки?
Он посмотрел на своего приятеля. Крепыш Стив двинул бровями, что должно быть, означало: «можешь оставить его на мое попечение; если что, я с ним разберусь».
Джо нехотя удалился…
— Помоги-ка мне вытащить отсюда всю эту чертову мебель! — приказал я Стиву. — Для второго отделения программы нужен простор.
— Акробатический номер готовишь, что ли?
— Вот именно!
Он послушно начал мне помогать. Мы с ним перетащили весь хлам в соседнюю комнату, и когда вернулись в каморку старика, у нее был почти угрожающий вид… В ней пахло тайной. Это, кстати, не такой уж неприятный запах… Мне он, во всяком случае, нравится.
Джо вернулся с небольшим молотком. Я взял его и принялся медленно, методично простукивать стены. Правда, я не слишком надеялся на успех: если бы Бертран замуровал денежки в стену, на ней остались бы следы свежей штукатурки…
Удары звучали везде одинаково. Тайника не было. Старик, наверное, продумал свой план уже давно…
— Ну что, выровнял? — усмехнулся Стив.
Я не удостоил его ответом…
Покончив со стенами, я перешел к камину, но и это ничего не дало. Камин оказался правильный, честный — как, впрочем, и пол, и потолок…
— Ну что, умник, пролетел?
Джо был прав: я пролетел — и весьма серьезно.
«Я должен найти, — сказал я себе. — Иначе быть не может… Раз я чую кость, значит, она зарыта совсем близко…»
Наверное, я договорил это уже вслух, потому что мои церберы начали посмеиваться. По мере того как моя неудача становилась очевидной, они делались все разговорчивее.
Я подошел к крепышу Стиву — именно потому, что он был покрепче, — и дал ему кулаком под дых. Он запыхтел, как кузнечные меха, но несмотря на всю их ярость, они с дружком остались стоять неподвижно. Их, конечно, так и тянуло помять мне портрет, но они получили четкие инструкции, а Кармони, похоже, не баловал тех, кто позволял себе всякие там личные инициативы!
Я в страшном разочаровании вышел из комнаты. Я не знал, что делать дальше, и был полностью обескуражен. Не разбирать же дом на кирпичи ни за грош!
На кухне я узрел бутылку рома и как следует глотнул из нее — в целях борьбы с депрессией. Если я так и не смогу откопать проклятые миллионы, Кармони непременно сочтет меня сопляком, и мой авторитет упадет, как камень в колодец.
Но помимо этой позорной перспективы меня мучила черная злость. Мне невыносимо было сознавать, что где — то в уголке этого дома спокойно лежат двести миллионов, и мы уже в который раз проходим мимо них!..
— Может, заглянешь в подвал? — серьезно предложил Джо и добавил, показывая тем самым, что итальянец сказал им про Бертрана: — Старикашки любят копать в подвалах ямы…
Идея была, в общем-то, стоящей. Мы спустились вниз…
Подвальных помещений было четыре. В первом, судя по скоплению пустых бочонков, когда-то хранилось вино; второе предназначалось для угля, третье служило кладовой, а четвертое — мастерской: там были верстак, кузнечная печь и целая куча инструментов для обработки дерева и металла.
Не знаю, почему, но я особенно внимательно осмотрел этот погреб-мастерскую. Наверное, она меня каким-то образом вдохновляла.
Эта мастерская открывала мне новую сторону личности старика. Я представлял себе, как он корпит в этой норе над изготовлением какой-нибудь мудреной штуковины… Это наводило меня на новые догадки, понимаете? Если мы имели дело с домашним мастером, тайник мог оказаться особого рода.
Я подошел к кузнечной печи. В ней лежали куски каких-то непонятных глиняных трубок.
— Интересуешься литьем? — спросил Стив.
— Да. А когда заинтересуюсь разведением поросят, обещаю в первую очередь заняться тобой!
Я медленно помешивал пепел в кузне… Судя по всему, здесь недавно работали. Пепел еще сохранял свою форму… Время, как пишут инвалиды пера, еще не наложило на все это своего отпечатка… Вдруг я наклонился, заметив нечто вроде твердой желтой капли. Я поскреб ее ногтем и безошибочно определил, что это золото.
Это существенно меняло аспект проблемы. Старый Бертран, не будь дураком, превратил билеты Французского банка в надежное чистое золото… А потом это золото переплавил. Он придал ему какой-нибудь безобидный вид, он…
Сообразив, что я нашел ключ к загадке, мои олухи перестали зубоскалить. Теперь они смотрели на меня, как смотрят в цирке на акробата… Такая публика меня не вполне устраивала, но я все же хотел исполнить свой номер успешно.
Сомнений быть не могло: глиняные трубки послужили Бертрану формами для переплавки золотых слитков.
Преследуемый по пятам своими ангелами-хранителями, я вернулся в комнату, где жил старик.
После того, как золото приняло новую форму, Бертран мог его покрасить. Но в комнате не осталось ни одного металлического предмета…
Что-то беспокойно ворочалось в глубине моего подсознания. Совсем недавно я чему-то здесь удивился, но чему — вспомнить не мог. Что же это было, черт возьми?! Так, попробуем-ка вспомнить: меня слегка смутила какая-то мелочь…
И вот, посмотрев на могучие плечи Стива, я вспомнил. Ну конечно же: КРОВАТЬ! Когда мы выносили из комнаты мебель, я снял спинки кровати… И они показались мне невероятно тяжелыми. Медь не может столько весить, даже если трубки цельные…
Я заколебался. Это открытие позволяло мне спокойно присвоить богатство старика. Оба охранника подтвердят, что я ничего не нашел, а через день-другой я вернусь сюда за своей золотой кроватью! Это было страшно заманчиво.
Но колебался я недолго. Если без конца менять линию поведения, долго не протянешь…
— Ребята, идемте-ка со мной…
Мы вошли в комнату, где стояла кровать, и я попробовал соскрести покрывавшую ее краску… Да, она была, действительно, из золота. Из настоящего «голда», рыжего, как савойский мед… С каким наслаждением старик, наверное, на ней спал!
Я повернулся к тем двоим.
— Кроватка-то, парни, золотая!
Они не поверили своим ушам.
— Золотая?! — вскричали они отличным дуэтом.
— Посмотрите сами…
Они
наклонились, посмотрели, потрогали…
— Ни… себе!
— Ладно, надо погрузить ее на машину.
Но легко сказать!.. Старик не стал нарезать на перекладинах резьбу: не хотел терять ни крупинки металла. Все было спаяно.
— Черта с два мы запихнем ее в «ситроен», — вздохнул Джо. — Надо заказывать грузовик.
— Ага, может, еще товарный поезд? — Я повернулся к Стиву. — Сходи в подвал за ножовкой!
— И то верно… — пробормотал Джо.
Он восхищенно смотрел на меня, поглаживая кровать, как женскую ножку. Странно было сознавать, что эта неказистая с виду железяка заключает в себе такое громадное богатство… Железяка, кстати, была действительно неказистая; теперь, когда мы сосредоточили внимание на ней, нам стало хорошо заметно все ее несовершенство. Прутья и перекладины ее спинок изобиловали выпуклостями, которые старый скряга так и не решился спилить. Да, работа была не слишком тонкая.
Стив принес две ножовки. Я взял одну из них и начал распиливать кровать пополам. Джо пришел мне на помощь и начал фехтовать со второй спинкой.
Мы пыхтели не меньше двух часов. Глаза заливал пот, пол в комнате постепенно покрывался золотой пылью, мы складывали отпиленные куски кровати в угол… Наконец вся она оказалась разрезанной на части.
Каждый из нас ухватил по доброй охапке золота и оттащил к машине. Но одного «рейса» было мало; пришлось возвращаться.
Джо закрыл багажник, и мы снова поплелись в берлогу покойного кузнеца Бертрана.
Поверьте: у тех, кто, подобно мне, привык жить за чертой закона, есть некое шестое чувство. Оно предупреждает об опасности лучше, чем красная сигнальная лампа…
Это началось сразу, как только я переступил порог комнаты. Оказавшись в четырех стенах, я понял, что сейчас что-то будет, — и тут же случайно перехватил взгляд, которым обменялись Стив и Джо. Их глаза блестели этаким особым блеском, который, кстати сказать, был мне хорошо знаком.
И я вмиг обо всем догадался. Дурак я был, что поверил в Деда Мороза, ох и дурак! В самом деле, где это видано, чтобы такой исполин, как Кармони, заключил союз с беглым уголовником вроде меня, Капута?
Видать, гордыня совсем застила мне глаза, раз я начал всерьез лелеять подобную идиотскую надежду… На кой хрен итальянцу сдался такой гнилой тип, как я? Во всей истории он усматривал лишь одну выгоду: я мог найти ему эти деньги. И он приставил ко мне своих лесорубов, приказав им истребить меня передвыездом из хижины дяди Бертрана!
Точно, точно!.. Теперь мне все было ясно, я не нуждался в пояснительных рисунках… Бывают, знаете ли, такие внезапные озарения!
Напуганный неотвратимостью расправы, я во весь голос заорал:
— А ну, руки из карманов, заразы!
Они вздрогнули. И вытащили руки из карманов, только в этих руках были пистолеты. И притом пистолеты высшего класса, а не какие-нибудь аркебузы с фитилем…
Они выпалили одновременно, словно репетировали этот номер уже целый месяц.
Не будь все мои чувства разбужены по тревоге, я набрал бы полное брюхо свинца. Но я среагировал на секунду раньше, чем они выстрелили, и успел прыгнуть вперед… Их пули, выпущенные по диагонали, оторвали два лоскута от моего пиджака.
Пока меня несло на них, мои кулаки метнулись вперед и, как по волшебству, врезались в их подбородки. Джо опрокинулся на спину; Стив лишь закряхтел и снова поднял пушку, но я отчаянно пнул его по руке, и пистолет отлетел в сторону.
Мы сцепились, обхватили друг друга поперек туловища и покатились по полу, задыхаясь и хрипя. Этот здоровый кабан причинял мне изрядные страдания… Его стальные лапы сжимали мне глотку, и я потихоньку уезжал в страну розовых облаков…
Вскоре я увидел ослепительный красный свет и из меня вышли последние силы. Я стал весь мягкий, будто невесомый, и чувствовал лишь жгучую боль в горле да стук крови в висках…
Это было начало конца. Через пару минут я должен был получить право на свой прямоугольный кусок газона…
Словно сквозь туман, я различил простуженное дребезжание звонка и почувствовал, что пальцы Стива немного разжались. Звонок зазвучал снова, и на этот раз я услышал его отчетливо. Одновременно со звонком чей-то голос кричал.
— Мсье Бертран! Мсье Бертран!
Эти два ублюдка не привыкли принимать решения самостоятельно. Они нерешительно посмотрели на меня.
— Кто-то пришел, — пробормотал Джо.
В этот момент все мы услышали тот же самый мужской голос:
— Открывайте, полиция!
Тогда, оставив обоих ошарашенных громил в комнате, я пошел открывать…
За дверью стоял невысокий человек в очках.
— Комиссар Вердье, — сказал он. — Я хотел бы поговорить с мсье Бертраном…
— Извините, по какому поводу?
Он казался душевным мужиком. Только каким-то недоделанным: будто его родители решили, что он не выживет, и сразу после рождения сунули в банку с формалином, а он все-таки вырос…
— Мы нашли машину мсье Бертрана на Западной автостраде, а рядом с ней — убитого мужчину. Я хотел бы задать несколько вопросов владельцу машины.
Я решился на чертовски рискованный шаг:
— Мсье Бертран — это я.
Но я тут же понял, что сморозил одну из тех глупостей, которые сразу ставят на всем крест.
— Позвольте, — сказал недоделанный, — я прекрасно знаю мсье Бертрана, поскольку работаю здесь, в Фонтенбло.
Эх, проклятье…
— Я его сын.
Но это вовсе не исправило положение.
— У мсье Бертрана нет детей… Прошу показать документы.
— Но…
— Покажите документы!
Я сделал вид, что роюсь во внутреннем кармане, но вместо того, чтобы достать бумажник, показал комиссару прием «китайский башмак». Мой сорок второй девочковый попал ему в чувствительное место, и он завопил, схватившись за брюхо. Тогда я отвесил ему молниеносный хук в челюсть. Он рухнул. Я сразу же кинулся к шишке, которая вырисовывалась на левой стороне его пиджака. Там действительно оказался его пистолет: бравый честный «7,65». Я большим пальцем снял его с предохранителя и выстрелил комиссару прямо в морду. Потом мгновенно направил оружие на двух своих горилл.
Бах! Бах!
Эти две пули шли от всего сердца… Та, что досталась Стиву, угодила в середину лба, и лоб буквально треснул.
Джо получил свою в грудь, что вызвало у него приступ злого кашля. На его губах зацвела розоватая пена.
Я подошел ближе… Он смотрел, как загипнотизированный.
— Капут… — заикнулся он. — Не
… Я…
— Учись выражать свои мысли, урод!
Еще одна пуля в грудь — и для него наступил вечный покой. Он упал прямо, как дерево после решающего удара топором.
Я сунул в карман пистолет комиссара, потом пушку Стива, лежавшую на полу… Затем занялся погрузкой фальшивого железа. Золотая кровать была немыслимо тяжелой. Кажется, я оставил ее немалую часть в комнате — но плевать! Мне не хотелось больше возвращаться в дом.
Когда я укладывал в машину последние куски, раздался выстрел. Пуля разбила правую половинку лобового стекла, едва не задев мне щеку.
Я бросился на землю. На ступеньках крыльца стоял мерзавец Джо. Живучий был, гад… Я поспешил бесплатно отправить ему еще один шарик — и тот опять попал по назначению… Его руки ухватились за колонну, и я увидел, как под этим упрямцем расплывается здоровенная лужа крови… Да, Кармони знал, кому меня доверяет…
Я прыгнул за руль и рванул машину с места.
XIV
До Парижа — за сорок минут! Водилы, с которыми я разьехался по дороге, до сих пор, наверное, не пришли в себя.
На пригородных булыжных мостовых куски кровати ударялись друг о друга, и этот звук казался мне самым прекрасным из всех. Что ни говорите, звон золота — это лучшая камерная музыка в мире! Ее можно слушать бесконечно…
Нажимая на педальки, я со злостью думал об этом подонке Кармони. Надо же, чуть не вогнал меня в гроб благодаря своим изысканным манерам! Решил взять меня на честность, представил все в виде джентльменского договора… Ну ладно, когда-нибудь я с ним за это поквитаюсь…
Однако сейчас мне нельзя было терять время на вендетту. Мне требовалось поскорее найти какого-нибудь сговорчивого скупщика. Я не питал на этот счет никаких иллюзий и понимал, что сделка получится грязноватая… Я немного сожалел, что старику пришла в голову эта необычная идея. Если бы он хранил деньги, все было бы проще… Однако, с другой стороны, деньги Бунк непременно бы нашел.
Но даже если предположить, что я потеряю на продаже половину суммы, у меня должно было остаться добрых сто миллионов. С ними будущее меня не страшило. Конец обедам в «Харчевне трех пескарей»! Меня снова ожидал комфорт.
На въезде в город я остановился на красный свет. Ожидая, пока загорится зеленый, я напевал веселый мотивчик — и вдруг почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я повернул голову вправо. За рулем белой «симки-спорт» сидела девка Сказка — в черном костюме, по которому струились ее русалочьи волосы. Она мило улыбалась мне… Ее лазурно-голубые глаза были наполнены ласковым соучастием…
Теперь я вспомнил, что видел эту белую тачку по дороге в Фонтенбло. Выходит, сверхпредусмотрительный Кармони поручил девчонке издали наблюдать за ходом боевых действий…
Мне оставалось только одно: оторваться от нее. Однако это, судя по всему, было не так-то просто. То, что она не отстала от меня на такой скорости, красноречиво свидетельствовало о ее водительских талантах.
К тому же теперь, когда она знала, что я передвигаюсь на их «ситроене», Кармони не составило бы никакого труда меня разыскать — тем более что я еще не решил, где разгружаться.
Все это очень быстро пронеслось у меня в голове… Потом на светофоре загорелся зеленый. Сказка сделала мне знак, остановиться. Что ж, почему бы и нет… Я затормозил у края тротуара, и она остановилась как раз передо мной. Я не двигался с места и ждал, пока она подойдет сама. Она так и сделала. Замечая ее, все мужики застывали на месте, словно это была не девчонка, а целый военный парад.
Она открыла дверцу моей машины.
— Ну, вы даете! — воскликнула она. — До чего ж вы меня напугали!
Она села рядом со мной.
— Я просто чудом от вас не отстала. Сотню раз мне казалось, что я вас потеряла…
— Значит, вы за мной следили?
— По распоряжению Кармони…
Она открыла свою сумочку, которую все же взяла с собой; я порылся в карманах и щелкнул зажигалкой.
Она выдохнула несколько облачков дыма, которые вяло покружились перед стеклом и выплыли через мое окно.
— А тех двоих вы что, убили?
— Вроде как…
— Туда им и дорога.
Я уставился на нее, пытаясь угадать, покупает она меня или нет. Но нет: она еще сильнее, чем вчера, напоминала маленькую, нежную и наивную девочку.
— Вы находите?
— Да… У Кармони целая коллекция таких же гнусных типов, как он сам…
Что все это значило?
Ее большие чистые глаза наполнились мрачной суровостью. Я начал подозревать, что она и вправду ненавидит своего итальяшку.
— Вы, я вижу, к нему любовью не пылаете…
— Да я видеть его не могу!
— Однако живете в его кровати…
— Да, живу — как домашнее животное… Я вхожу в число его медвежьих шкур… Этот человек взял меня к себе, когда мне не было еще и четырнадцати лет…
Она выплюнула на ладонь табачные крошки.
— Он ненормальный, извращенец… Трудно представить, что мне пришлось перенести…
— Зачем вы мне это говорите?
— Потому что я должна вам это сказать. Понимаете, в самые худшие минуты нашей совместной жизни я мечтала о том, что придет человек, который поставит все на свои места!
— Что значит — «поставит на места»?
— Не догадываетесь?
— Может быть, и догадываюсь…
Она посмотрела на меня.
— Я больше не могу жить среди этих подонков, среди этих убийц и садистов…
— Знаете, крошка, я ведь тоже не святой Петр!
— Нет, но вы человек сильный и мужественный, и… Если хотите…
— Что?
— Если вы не лишены честолюбия, мы могли бы договориться и провернуть потрясающее дело… Такой возможности не представится больше никогда…
— Ну-ну?
Она опустила свое стекло и выбросила окурок. Я наблюдал за ее движениями: Создатель явно не пожалел на нее труда…
— Когда на войне убивают майора, — пробормотала она, — его место занимает капитан, верно?
— Да вроде так.
— А если гибнет капитан, командование берет на себя лейтенант… Но в некоторых случаях все обстоит иначе. С исчезновением главного разваливается все дело. Если… Если только не отыщется человек, который знает подоплеку.
Я не мог отвести от нее глаз.
— И что же?
— Кармони никому не доверяет. Он боится даже собственной тени! Все, что он делает, окружено строжайшей тайной.
— Ну и что?
— Но я-то валяюсь на его коврах уже не первый год… Кому придет в голову остерегаться куклы или сиамской кошки, верно?
— Действительно.
— А ведь у сиамской кошки есть уши, у куклы есть глаза… Если он умрет, я смогу сохранить его организацию.
— Серьезно?
— Если нет, чему тогда послужит это мое многолетнее рабство?
— Вывод?
— Мне нужен мужчина, настоящий, который помог бы мне взять организацию в свои руки. Я женщина. Я могу быть мозгом, но не карающей десницей…
Она посмотрела мне прямо в глаза.
— Ну как, интересное предложение?
— Конечно. Но откуда мне знать, что вы не водите меня за нос? Где доказательства, что не пытаетесь заманить в ловушку? Я уже дважды вытаскивал каштаны из огня ради женщин, и оба раза они меня прокатили. Правда, им это тоже на пользу не пошло…
— Я сказала вам все как есть, — проговорила Сказка. — Поступайте, как знаете… Если сомневаетесь во мне, уезжайте.
— А вы будете за мной аккуратненько следить?
— Можете забрать ключи от моей машины…
Азарт — это, наверное, неизлечимо…
— Хорошо: я согласен.
— Тогда поехали!
— Одну минутку: я должен куда-то пристроить свою машину.
Рядом был подземный гараж; я оставил там «ситроен» и его драгоценный груз. Разобранная кровать на заднем сиденье не вызывала особого интереса; насчет своей добычи я мог не переживать.
Я вернулся и сел в ее белую «симку».
— С чего начнем? — спросил я.
— С конца, — серьезно ответила она. — Я имею в виду Кармони…
XV
Сказка хотя и выглядела простодушной, но мыслила довольно последовательно. В ее прелестной головке все уже давно созрело.
— Вот что, Капут: вы ляжете на заднее сиденье. Я въеду в ворота, поставлю машину в гараж и попрошу кого-нибудь позвать Кармони.
— А если его нет?
— Я знаю его распорядок: он есть! Поскольку я, как — никак, возвращаюсь с «задания», он придет — чтобы узнать результат. Тогда наступит ваша очередь действовать…
— О'кей.
— Когда он будет мертв, я соберу его банду, и вы обратитесь к ним с соответствующей речью, идет?
— Идет.
Я наклонился к ней; ее ненакрашенные губы были свежими, как родниковая вода. Мы обменялись одним их тех поцелуев, от которых у мужчин меняются мысли. После этого я был готов практически на все.
* * *
Подъехав к особняку на Рю де Милан, Сказка робко посигналила, чтобы привлечь внимание швейцара. Тот поднял металлическую штору гаража, и Сказка втиснула тачку между двумя другими, которые там уже стояли.
— Подите скажите шефу, чтобы пришел сюда! — крикнула она открывалищику ворот.
— Сюда, мадемуазель? — удивился он.
— Да. И поскорее!
Мужик ушел.
— Вы готовы? — прошептала она.
— Да…
— Когда он появится, я открою багажник и наклонюсь над ним. Он подойдет ко мне. Я заговорю с ним, а вы тем временем выходите из машины. Дверцу откройте сразу, чтобы не наделать шума…
Не успела она вылезти из «симки», как в проеме дальней двери возник маленький силуэт итальянца.
— Зачем звала? Что-нибудь не так? — спросил он.
— Иди-ка посмотри…
— Ну, как все прошло?
— Плохо.
— То есть?
Голос Кармони напоминал костер из виноградных лоз: он буквально трещал.
— Он убил Джо и Стива, и я его упустила!
— Идиотка…
Я услышал звук пощечины и выскользнул из машины с пистолетом Стива в руке.
Кармони и Сказка стояли у багажника: он — спиной ко мне, она — лицом.
Я приставил ствол пистолета к его спине.
— Здравствуйте, — вполголоса сказал я.
Он обернулся; от страха его рожа стала просто отвратительной. Под глазами обозначились темные круги, уголки рта опали.
Когда он узнал меня, то понял, что сейчас подохнет, и я будто увидел, как внутри у него все оборвалось.
— Что, Кармони, решил подставить компаньона?
Он не ответил и повернулся к Сказке.
— Сука, — проскрипел он.
Я нажал на спусковой крючок. Штуковина была автоматическая, переключатель стоял в положении «стрельба очередями», и вся обойма, патрон за патроном, выплеснулась итальянцу в спину, как вода из опрокинутой банки.
Кармони закашлялся и упал головой в багажник машины… Я приподнял его за локоть, чтобы увидеть лицо. Оно было зеленоватым, глаза начали стекленеть, из раздутых ноздрей вырывалось слабое прерывистое дыхание.
Я посмотрел на Сказку.
— Ну как, девочка, годится?
На ее ресницах блестели слезы.
— Вполне, — прошептала она.
— Вы плачете?
— Смотреть, как умирает твое прошлое, всегда тяжело, даже если оно было таким отвратительным…
— Ну-ну, встряхнитесь!
— Все, уже прошло.
Все, действительно, уже прошло. Она расправила плечи и посмотрела на перегнувшийся через край багажника труп.
Первым в гараж заявился швейцар. Увидев, в чем дело, он кинулся прочь, вопя во всю глотку.
Через минуту должны были сбежаться остальные; действовать следовало как можно аккуратнее.
Я бросил пистолет Стива и достал второй, В нем осталось всего два патрона, но два разумно использованных патрона тоже производят свой эффект…
Я уселся на капот машины и закурил сигарету.
Вскоре показался швейцар, за которым бежали Меченый и еще шестеро молодцов. Они посмотрели на труп Кармони, потом повернулись к Сказке.
— Что здесь произошло, мадемуазель? — спросил швейцар.
— Ничего особенного, — ответил я. — Меня зовут Капут! А эта скотина решила меня обмануть… Вот и все: выводы делайте сами.
Реакция была самой разной. Обезьяна со шрамом, например, бросилась на меня, но я остановил ее пулей между глаз.
— Слушайте, вы! — бросил я ошарашенным шестеркам. — Если хотите пострелять, скажите, я пойду вам навстречу! Если нет, давайте прекратим дурить и начнем работать. Благодаря этой девушке, я могу продолжить бизнес. Или вы предпочитаете стать в очередь за пособием по безработице?
Все шестеро переглянулись. Потом, посматривая на трупы, медленно закивали головами.
Я неожиданно стал новым человеком. В моей проклятой «карьере» наметился решительный поворот.
Старого главаря свергает новый… Таков основной закон преступного мира!
Часть четвертая
КАЗНЬ
I
Тридцатисантиметровая сигара в клюве, ноги на крышке письменного стола… Я старательно изображал из себя главаря мафии — такого, каких с детства видел в своем районном кинотеатре.
У меня наконец-то сложилось впечатление, что я научился направлять бинокль в нужную сторону и смотреть на жизнь в нужный окуляр, то есть в тот, что увеличивает…
С тех пор, как я угрохал Кармони, прошло уже три месяца. Все это время я на правах победителя обувал его тапочки, опрокидывал его жену и распоряжался его деньгами.
Поначалу в бизнесе возникли перебои: поставщики и покупатели вели себя со мной крайне осторожно. Моя биография казалась им чересчур насыщенной для этой профессии, требующей максимальной скрытности и осторожности. Вот уж когда я понял, до какой степени человек может быть пленником собственной репутации…
Я решил вышибить клин клином, то есть принялся устанавливать свои порядки с помощью пистолета. И когда крикуны были успокоены, скептики убеждены, а боязливые поставлены перед лицом суровой действительности, все трудности сгладились, как площадка, отведенная американцами под военно-воздушную базу.
Я ожидал, что мой маленький государственный переворот повлечет за собой немедленную реакцию властей. Но шишки из комиссариата давно привыкли получать в конце месяца пухленький конвертик. Через посредство Сказки, которая, кстати, оказалась первоклассной компаньонкой, — я тактично дал им понять, что намерен увеличить порции, и они сразу же прониклись ко мне безграничным доверием. Теперь я мог спокойно подобрать скипетр, который итальяшка, умирая, уронил в пыль.
Да, здорово было чувствовать себя важной персоной… Я начал одеваться, как кинозвезда, и мой портной сам приезжал ко мне для примерок. Сказка преподавала мне хорошие манеры; в ответ я учил ее, как вести себя в постели. Мы оба оказались неплохими учителями и прилежными учениками, и наши успехи были налицо.
Я не смог бы толком объяснить, почему эта девушка так воспламеняла мне кровь. Конечно, она была красива, но я встречал уже немало кандидаток на титул «Мисс то да се», чей вид и даже ласки вовсе не заставляли меня лезть на потолок. Наверное, сильнее всего меня в ней возбуждало ее совершенно невинное лицо. Ее можно было записывать в святые, не спрашивая свидетельства о рождении. У нее был необычайно целомудренный, почти ангельский вид, и от этого наши игры в папу и маму приобретали особое очарование. Собственно, главное удовольствие заключалось именно в несоответствии между тем, что она делала, и ее кажущейся неспособностью на такие дела. Иногда, во время беседы с покупателем или во время телефонного разговора, я случайно смотрел на нее, и меня охватывало такое желание, что трудно становилось дышать.
Тогда я устремлял на нее настойчивый взгляд, который она мгновенно понимала. А может, она даже подстерегала его? Она на цыпочках уходила к себе и делала из спальни один короткий, повелительный телефонный звонок. Я бросал все дела и прибегал к ней, дрожа, как возбужденное животное.
Наши объятия словно хранили привкус крови. Я не мог ею насытиться. Впрочем, я этого и не хотел. От своего желания я испытывал не меньшее удовольствие, чем от самих объятий, потому что здесь мое воображение было гораздо смелее меня…
В то утро, забросив, по своему обыкновению, ноги на стол, я совершал обратное путешествие по своей жизни и с таким удовлетворением признавал свою победу, что даже рассмеялся неожиданно для самого себя… В этот момент в дверь постучали, и я быстро принял более достойную позу, не желая производить на подчиненных впечатление самодовольного болвана.
Это был Пауло, бледный и хмурый верзила, которого я назначил своим телохранителем, хотя в случае заварухи прежде всего рассчитывал бы не на его реакцию, а на свою.
Он казался взбудораженным, что было на него совершенно не похоже.
Я холодно посмотрел на него.
— Пожар, что ли?
Он проглотил слюну.
— К тебе приехал Каломар… — выдавил он и застыл с открытым ртом, опустив руки, словно объявил о том, что в моей приемной топчется сам президент.
Я наморщил лоб.
— Погоди-ка… Каломар? Где-то я о нем уже слыхал…
Эта фраза повергла Пауло в полное изумление.
— Еще бы тебе о нем не слыхать! — просипел он. — Каломар — это же сам верховный владыка!
— Владыка чего?
— Ты что, смеёшься? Наркоты, чего ж еще?
Тут он встретился со мной глазами и сразу остыл, сообразив, что мне не нравится его слишком свободная манера говорить. Однако его новость заставила меня задуматься.
— Подожди. Закрой-ка на минутку дверь, а заодно и пасть, чтоб не было сквозняков…
Дверь он закрыл, но спрятать два ряда сверкающих зубов так и не смог.
— Но мне казалось, — сказал я, — что теперь верховный владыка — это я?
— Во Франции — да, — признал Пауло.
— Значит, Каломар…
Я умолк, потому что наконец-то вспомнил. Конечно же, это имя я знал хорошо и давно. Как же я мог забыть: в тюряге мне им все уши прожужжали!
Каломар работал со всем миром. Для него не существовало ни границ, ни океанов… Он получал товар из первых рук. По-моему, он занимался еще и камешками и частично заправлял делами Алмазной биржи…
— Он здесь? — спросил я.
Пауло слабо кивнул. Он был весь серый: приезд Каломара произвел на него несомненный эффект.
— Пригласи, — сказал я.
Он вышел, и я машинально поправил узел своего галстука, купленного за десять тысяч франков. Потом краем глаза проверил, в порядке ли моя коллекция виски; она была в порядке. Появление этого международного магната под моей крышей погружало меня в состояние сладкой эйфории: оно безошибочно доказывало, что в преступном мире я стал по-настоящему крупной величиной.
Когда дверь наконец открылась, мое сердце билось довольно беспорядочно. Я жадно посмотрел в дверной проем и увидел седого-седого старца, опирающегося на трость.
Он был невероятно морщинистый; его кожа имела ярко выраженный сероватый оттенок. На нем были голубой костюм и демисезонное пальто из верблюжьей шерсти.
От этого персонажа веяло чем-то благородным и одновременно вульгарным. Он остановился на пороге, обвел комнату оценивающим взглядом и двинулся вперед.
Я вскочил со своего кресла и пошел ему навстречу, протягивая руку. Старик без особой радости посмотрел на мою пятерню, помедлил и вяло пожал ее.
— Садитесь, мсье Каломар, — с трудом выговорил я, взволнованный появлением этого незаурядного человека.
Он опустился в кресло, расстегнул пальто и поставил трость между ног. Затем поднял на меня недоверчивый и слегка осуждающий взгляд.
— Значит, вы и есть Капут? — спросил он.
У него был певучий голос и ужасный восточный акцент. Когда он говорил, его вульгарные черты выплывали на поверхность сильнее, нежели благородные; но постепенно я начал замечать в нем и третью, наиболее тревожную особенность. Этот человек был таким же бесчувственным, как лежащее на моем столе бронзовое пресс-папье.
— Да, это я, — сказал я, слегка раздраженный его пренебрежительным тоном. — Чем могу быть полезен?
Вместо ответа он задал мне новый вопрос.
— Это вы убили Кармони, не так ли?
Слово «убили» покоробило меня. Неприятное чувство, вызванное обликом старика, начало сменяться глухим озлоблением. Я злился на него за то, что он взволновал меня, а еще больше — за то, что говорил со мной таким желчным тоном… Чтобы он не принимал меня за слизняка, я решил слегка поставить его на место.
— Мне кажется, вы недостаточно хорошо знакомы с французским языком, мсье Каломар. Даже самый вшивый репортер не стал бы называть это обычное сведение счетов таким громким словом.
В его глазах вспыхнуло пламя.
— Я пришел сюда не за уроком французского, — сказал он.
— Очень хорошо: мне тоже не хотелось бы тратить время на уроки.
Он сложил руки на набалдашнике трости, который показался мне сделанным из чистого золота.
— Итак, — продолжал он, распрямляясь, — вы свели счеты… Правильно я говорю?
— Правильно.
— …Свели счеты с Кармони и заняли его место. Верно?
— Верно.
— Позвольте узнать, почему?
— Скажем — мне нужна была квартира. И давайте поговорим о чем-нибудь другом.
— Мне не нравится ваша манера принимать гостей, Капут!
Его глаза стали похожи на два сгустка крови. Они порядком напугали меня. Но я решил, что не позволю ему укротить себя простым взглядом.
— А мне не нравится ваша манера гостить! — храбро отпарировал я.
Он задумчиво постучал свой тростью по полу. А затем сделал то, чего я меньше всего ожидал от него в такой напряженный момент: он улыбнулся мне.
— Мне кажется, мы избрали не слишком удачное начало, — заметил он. — Это может пагубно отразиться на наших дальнейших взаимоотношениях.
— Я не думаю, что таковые будут иметь место, мсье Каломар.
— А я убежден в обратном.
— Неужели?
— Да…
Он откинулся на спинку кресла и показался мне еще более старым, чем в первую минуту.
— Вы уже слыхали обо мне, Капут?
— Немного. Вы, насколько я понимаю, козырный туз. Вообще-то ваш визит для меня большая честь, однако ваше поведение меня разочаровывает. Должен вас предупредить: я совершенно невосприимчив к угрозам.
Старик наклонился вперед. Его морщины были такими частыми и такими глубокими, что щеки напоминали гриб, на который смотришь снизу. На левой скуле у него было розоватое пятно — скорее всего, шрам.
Он повертел трость в руках, и набалдашник засверкал под солнечными лучами, бьющими в открытое окно.
— Я сомневаюсь, что вы надолго задержитесь в этой среде, — сказал он.
— Это ваше личное мнение?
— Нет, это мое глубокое убеждение. Вы — всего-навсего лесоруб, тогда как в бизнесе — особенно в некоторых его видах — главное не руки, а голова.
— Однако, мсье Каломар, бывают случаи, когда руки тоже нужны.
— Например?
— Например, для того, чтобы выбрасывать из кабинета старых сварливых сморчков! — Я ударил кулаком по столу. — Если вы хотите сказать что-то конкретное — говорите и убирайтесь! Я хозяин в этом доме!
— Нет, — мягко сказал он. — В этом доме хозяин я!
II
Даже если бы мне на голову высыпали самосвал кирпичей, я и то не был бы так ошарашен. Мгновение я стоял неподвижно, разинув рот и широко раскрыв глаза. Потом начал понимать. И от того, что я понимал, вставали дыбом все космы у меня на куполе.
Знаменитый, всесильный Кармони на самом деле был лишь одной из пешек в руках великого босса — то есть Каломара. Спихнув Кармони с трона таким скоростным методом, я спутал все карты. Каломар приехал призвать меня к благоразумию. А я-то уже возомнил себя полновластным хозяином всей национальной мафии! Нет, ей-Богу, тут было отчего всадить себе пулю в задницу!
— Я вижу, вы начинаете понимать, — проговорил старик.
Я взял бутылку виски и поставил на стол два стакана, желая получить время на размышление.
— Мне не нужно, — сказал продавец кайфа с коротким жеманным жестом.
Я убрал второй стакан, нацедил себе слоновью дозу виски и выпил ее по-американски — одним большим глотком. Однако Каломару, видимо, уже приходилось присутствовать при подобных подвигах, потому что он и глазом не моргнул.
— Итак, — сказал я, — не перескажете ли вы мне краткое содержание предыдущих серий?
— Запросто. Оно умещается в одной строчке: это дело принадлежит мне.
— Доказательства?
— Мое слово.
Я заставил себя хмыкнуть, хотя хмыкать мне вовсе не хотелось. По правде сказать, этот диковинный персонаж внушал мне нешуточный страх.
— Этого маловато, — возразил я, — В тюрьме я прочел на розовых страницах словаря латинское изречение: «верба волант», что означает…
Тут он поднял свою трость с золотым набалдашником и грохнул ею по столу.
— Плевать мне на ваши латинские изречения, Капут! Вы, кажется, до сих пор не поняли, кто я такой, и мне придется призвать вас к порядку. Вы напрасно судите о других людях по себе: убийцы видят все в искаженном свете!
Я почувствовал, что бледнею.
— Что?!
Я инстинктивно поднес руку к карману, но он пожал плечами и большим пальцем отбросил вниз набалдашник трости. Я увидел, что трость на самом деле представляет собой нечто среднее между длинноствольным пистолетом и карабином.
— Девять миллиметров, — объявил Каломар. — Одно движение — и вы мертвец, понятно?
Он внезапно переродился. Передо мной был уже не тот старый пердун, а настоящий главарь, трезвый, беспощадный… Я посмотрел на черное отверстие в трости. Фокус был несколько старомодный, но будучи показан в нужный момент разговора, производил хороший эффект.
— А теперь, Капут, положите свои поганые красные руки на стол и слушайте меня внимательно. Я контролирую торговлю наркотиками во всех пяти частях света. Я получаю свою долю с продажи каждого грамма порошка. До вас уже многие пытались получить полную самостоятельность. Поверьте, это не принесло им удачи. Вы, вероятно, считаете себя очень сильным, потому что смогли ускользнуть от полиции и убить такого человека, как Кармони; знайте же, что вы — пустое место по сравнению с той силой, которую я представляю! А теперь перейдем к более серьезным вещам: к подсчетам.
Он достал из кармана блокнот — дрянной черный блокнот за три франка пятьдесят сантимов:
— С того момента, как вы возглавили здешнюю торговлю, ваша прибыль, по моим подсчетам, составила сто шестьдесят пять миллионов. Две трети этой суммы принадлежат мне, остальное — вам и вашим людям.
Я знал, что старик прав. Он был здесь главным и приехал вытряхнуть свою долю. Я сразу погрустнел, потому что, наученный горьким опытом, запрятал почти все эти деньги в надежное место.
— Почему вы выжидали целых три месяца, прежде чем показать нос, Каломар?
Он улыбнулся.
— Чтобы посмотреть, на что вы годитесь… После смерти Кармони мне все равно пришлось бы искать ему достойную замену, а такие люди на дороге, увы, не валяются. И я сказал себе: а почему бы и не он? Раз ему удалось свергнуть Кармони, то, может быть, удастся и занять его место… Вы доказали, что так оно и есть, поскольку нынешние доходы организации практически равны прежним.
Браво! Старикашка умел играть…
— И что же?
— Я согласен оставить ваше место за вами, если будете работать по справедливости, вот и все. Для начала выплатите мне сто пятнадцать миллионов, а затем можно будет и заглянуть за горизонт…
Я был приперт к стенке и чуть не плакал. В самом деле, кому приятно узнать, что работал на кого-то другого? Вы думаете, что строите домишко для себя, а когда приходит время вселяться, приезжает какой-нибудь негодяй с ордером в кармане… Впору с горя сожрать свою шляпу!
— Я должен подумать!
Его лоб сморщился, как гармошка. Дело явно принимало скверный оборот.
— Все уже обдумано, Капут. Платите сто пятнадцать миллионов.
По его взгляду я понял: если я сейчас же не подчинюсь, что-то не замедлит произойти. Только я не представлял себе, что именно, и мне не терпелось это узнать.
— Предположим, что я позову своих ребят и прикажу им вышвырнуть вас отсюда???
— Если вы это сделаете, то не проживете на Свободе и десяти минут. Неужели вы думаете, что власти по своей доброй воле согласились оставить в покое убийцу-рецидивиста? Ничего подобного, мой мальчик: это я сделал все необходимое.
Я понял, почему мои трудности улеглись с такой легкостью.
Я попал в мышеловку. Выбор у меня оставался небольшой: подчиниться всем требованиям старика — или сунуть голову в узкое окно гильотины. Но что-то внутри меня булькало и кипело. Мой разум был готов подчиниться — ведь, собственно, даже с оставшейся частью прибыли можно было жить припеваючи, — однако мой инстинкт вставал на дыбы. Я решительно не желал выплачивать эти припрятанные миллионы.
В голове у меня мелькнуло, что вместе с прибылью от дела Бертрана мое состояние превышает триста миллионов. С ними я мог бы улизнуть, приклеить себе новое имя и осуществить свою давнюю заветную мечту, уехав в Южную Америку. Если же я решу продолжать бизнес под крылом Каломара, то рано или поздно окажусь на камнях. Старик был стар, а значит, более смертен, чем другие. После него организацию возглавят другие кардиналы, которые выставят меня за дверь. А в такой профессии за дверь выставляют всегда одинаково…
Он не сводил с меня своих маленьких проницательных глаз.
— Хорошо, Каломар, если так, я согласен.
— Тогда выкладывайте деньги.
— Минутку: они у меня не здесь.
— А где?
— В надежном месте!
— Едемте за ними.
Он встал, движимый яростной решимостью.
Мне оставалось только подчиниться. Я поднялся из-за стола и налил себе новый стакан виски. Он все пристальнее смотрел на меня своими мерзкими, налитыми кровью глазками.
И тут началось то, что я обычно называл «красным туманом». Все окружавшие меня предметы вдруг заплясали и сделались багровыми. Я выплеснул свой стакан в рожу старику. Алкоголь обжег ему глаза, и он испустил крик. Я выхватил у него из рук его дутую трость и цапнул его за галстук. Каломар вытянул руки вперед, но, ослепленный, не мог сопротивляться. Я затягивал, выкручивал его галстук своим мощным кулаком, полоска ткани резала мне пальцы, Каломар задыхался и словно тяжелел. Из его впалой груди доносился странный храп…
— Ну что, король? — проскрипел я. — Все так же уверен в себе? Что ж ты, несчастный, вздумал заявиться ко мне собственной персоной?! С убийцей нужно быть осторожным всегда. Всегда, понял?
Когда я его отпустил, он был уже совсем тяжелым и безмолвным. Я разжал руку, и он упал на ковер мертвее мертвого…
Я, отдуваясь, опустился в кресло. С момента моего восхождения на трон Кармони я уже успел немного заржаветь…
Я хлебнул виски прямо из бутылки. Горе мне, дураку! Что теперь начнется?!
Теперь вытянуть лапы из болота — это было что — то из области фантастики. Для меня все было кончено. Против очевидного факта не попрешь…
Я вызвал Пауло. Верзила вошел в комнату со слащавой миной, но его улыбка быстро исчезла. Он поискал взглядом Каломара, не нашел его, потому что труп лежал за моим широким столом, и вопросительно посмотрел на меня.
— Подойди ближе, да смотри не вступи! — сказал я как можно небрежнее.
Тут Пауло наконец заметил покойника — и начал разлагаться быстрее, чем Каломар. Его лицо сделалось биллиардно-зеленым; он стал похож на гигантский ядовитый гриб.
— Не падай в обморок, парень. Ты что, впервые видишь жмурика?
Хотя такого знаменитого он видел, пожалуй, действительно впервые. И это зрелище волновало его сильнее, чем похотливое подмигивание кассирши из соседнего кафе.
— Ты его завалил?!
— Если только он не загнулся от чахотки. Ладно, вскрытие покажет.
Пауло пришлось сесть.
— О, проклятье, — пробормотал он. — Какого ж ты хрена это сделал? Теперь нам всем морды поотрывают, это я тебе обещаю! Ты же знал, кто это такой… Лучше б ты угрохал президента — нам и то легче было бы выпутываться…
Он начинал меня раздражать. Чужая паника всегда действует мне на нервы.
— Спокойно, малыш… Не то проглотишь успокоительное моего собственного изготовления. Я не люблю истеричек.
Он постарался взять себя в руки.
— Зачем ты его замочил?
— Он свистел, что вся эта лавочка принадлежит ему, и предлагал мне должность управляющего. Ты можешь вообразить меня в берете и сером халате?
Это погрузило его в тягостные раздумья.
— Значит, Кармони был его подпоркой? — спросил он наконец.
— Совершенно верно. Быстро соображаешь: небось, смазал сегодня свои шестеренки?
— Странно… — вздохнул он. — Кто бы мог подумать?.. Он корчил из себя самого-самого…
— Он просто был хорошим актером, но всегда оставался пешкой. Зато вот у меня другие планы…
Тут я сказал себе, что вся эта трепотня ни к чему не ведет. Я только что создал ситуацию, которую следовало срочно уладить.
— На чем он приехал?
— На машине. У ворот стоит «роллс», здоровенный, как авианосец.
— Он был один?
— Нет: его ждет водитель, и не простой, а в адмиральской фуражке!
Фуражка, похоже, произвела на Пауло более сильное впечатление, чем сама машина.
— Ладно. Бери с собой Анджело, и пригласите водителя в дом. Только без шума, ясно?
— Ага… — неуверенно сказал Пауло.
— Я уже все продумал… Когда он зайдет, поставьте «роллс» в гараж.
— Попробуем…
Я задумчиво посмотрел ему вслед. Я понимал, что бросился вниз головой в самую паршивую историю во всей своей паршивой жизни. Я приблизился к окну и, не отдергивая штор, посмотрел, как мои парни подходят к «роллсу».
Все прошло хорошо. Анджело как нельзя лучше годился для таких поручений. Один глаз у него был голубой, а второй — карий; это само по себе уже придавало ему угрожающий вид. Когда он о чем-то просил, люди обычно спешили выполнить его просьбу.
Шофер, высокий худой субъект, вышел из машины; Пауло и Анджело встали по бокам, и все трое исчезли в доме.
Затем Пауло вернулся за машиной, а Анджело тем временем привел водителя ко мне.
Тот был молод и довольно хорошо сложен, несмотря на свой худосочный вид. Увидев своего шефа лежащим на полу, он подскочил и изумленно посмотрел на меня.
— Ему плохо? — спросил он.
— Вроде того… Ты давно у него работаешь?
— Со вчерашнего дня.
— А?!
Сначала я решил, что он заливает. Но нет, он говорил правду. На его раздосадованной физиономии была написана великая искренность.
— Я работаю водителем в опере. Машина моя собственная. Вчера он нанял меня на неделю. Кто мне теперь заплатит?
В этот момент вошла Сказка — такая красивая, что от неё перехватило бы дыхание у своры гончих псов. На ней была ночная рубашка из голубого шелка, и под рубашкой просвечивало то, что порядочная женщина показывает только своему любовнику.
Она посмотрела на труп, затем на водителя и наконец перевела свой вопросительный взгляд на меня.
— Что происходит, дорогой?
— Ничего страшного… Этот пожилой господин достойно встретил в моем кабинете свою смерть.
Водитель начал понимать, что попал в весьма необычный дом… Для такой ситуации я, наверное, казался ему чересчур спокойным.
— Надо бы сообщить в полицию, — пробормотал он.
Его взгляд блуждал по сторонам. Я цапнул его за пуговицу кителя и резко дернул на себя; пуговица осталась у меня в руке.
— Да что это вы?!
— Заткнись!
Он отшатнулся. Я позвал:
— Анджело!
Анджело вошел и по моему легкому кивку достал револьвер.
— Что все это значит? — не унимался сдатчик королевской колымаги.
— Помолчи!
— Ну, знаете! Да я сейчас…
Анджело дал ему правой в челюсть. Водила пошатнулся и ухватился за край стола. Сказка смотрела во все глаза… Я присел около трупа, разжал его старческую морщинистую руку, вложил в нее оторванную пуговицу и закрыл его пальцы, как крышку коробки.
Видимо, парень в кителе сообразил, что к чему, поскольку начал возмущаться еще громче. Тогда я дал ему ногой под дых, а Анджело добавил рукояткой
пистолета по затылку.
Шофер растянулся на персидском ковре. Такие сувениры от Анджело наводили на размышления, и ему предстояло размышлять еще довольно долго…
Посреди всего этого появился Пауло. Он выглядел уже почти спокойным.
— Тачка зарегистрирована в Париже, — объявил он. — В бардачке лежала вот эта карточка.
Он протянул мне картонный прямоугольник, красная надпись на котором гласила, что машину и водителя можно нанять с почасовой оплатой.
Я удовлетворенно кивнул. В сущности, все складывалось не так уж и плохо. У меня уже созрел план, который казался мне вполне подходящим. Я живо вытащил у Каломара бумажник. Там было десять тысяч долларов, четыреста двадцать тысяч французских франков и десять тысяч швейцарских… Еще я снял с него золотые часы с браслетом, булавку для галстука и перстень с крупным бриллиантом.
Я положил все это в выдвижной ящик своего стола и сказал двум своим молодцам:
— А теперь — за работу. Отвезете труп подальше в лес; потом оставите машину у Лионского вокзала, понятно?
— Ладно…
— Анджело, спусти этого дурня в подвал. — Я слегка толкнул ногой руку лежавшего шофера. — Я видел там старую цинковую ванну. Брось его туда и пристрели. По дороге с вокзала купите несколько мешков цемента. Зальете труп в ванне цементом, к завтрашнему дню он застынет. Погрузите ванну в фургон и бросите в Сену или в Марну, мне все равно, лишь бы поглубже…
— Хорошо, патрон!
Мне было приятно услышать от них «патрон» в такую минуту… Это доказывало, что я выглядел в их глазах победителем… Все козыри были у меня на руках, и я разыгрывал их наилучшим образом.
— Но главное — помалкивайте, ясно? Иначе такое начнется…
Впрочем, предостережение было излишним. По их рожам было сразу видно, что они не собираются публиковать свои мемуары в «Пари-Матч»…
III
Два дня было тихо. Но на третий день какой-то сборщик улиток нашел труп Каломара в лесу около Сен-Ном-ла-Бретеш, и в прессе поднялся страшный кипеж.
Газеты без конца талдычили о том, что старикашка был одним из главарей международной мафии, заправлял всем производством китайского и турецкого опиума, в общем — сидел крепко.
Все терялись в догадках… Накануне на бульваре Дидро обнаружили прокатный «роллс», и начала просматриваться связь между убийством Каломара и исчезновением водителя…
На следующий день портрет шофера появился на первой странице газет, и полиция просила отозваться тех, кто видел его в эти последние три дня.
Тогда я сказал себе, что все делается к лучшему, и начал все чаще забывать свой страх в гардеробе. Благодаря своему самообладанию и своей инициативе я надеялся выйти из этой истории чистым, а больше мне ничего и не требовалось…
Однако в конце недели коленки у меня все же подогнулись.
Произошло это очень странным образом. Честно говоря, такого я вовсе не ожидал. Я сидел в ванне и тер себе спину мочалкой из конского волоса, когда в соседней комнате зазвонил телефон. Зазвонил в первый раз: по этой частной линии со мной еще никто никогда не связывался.
Сказка вошла в ванную, неся в руке аппарат и волоча за собой гирлянду провода.
— Тебя спрашивают.
— Кто?
— Какой-то тип. Он не представился.
Я вытер руку о толстое, как ковер, полотенце и взял трубку. На другом конце провода была тишина — такая глубокая, что мне показалось, будто связь уже оборвалась.
На всякий случай я пробормотал «алло!» Тогда из пустоты донесся странный голос: холодный, пустой мужской голос, казавшийся не живым, а искусственным…
— Капут?
— Ну?
— С вами хотят побеседовать.
— Неужели?
— Причем срочно.
— Кто это говорит?
— Мое имя вас вряд ли успокоит.
— Пардон, — сказал я, стараясь звучать уверенно, — но я не привык разговаривать с анонимными абонентами.
— Скажем, я компаньон недавно скончавшегося мсье Каломара.
Удар был меткий. Он пришелся мне прямо под ложечку, и у меня на несколько секунд перехватило дыхание.
— Каломар, Каломар… — пробормотал я. — Это, кажется, тот мафиози, которого угрохал водитель такси?
Реакция была, конечно, прямо противоположна той, на которую я надеялся. «Он» расхохотался. И от его смеха у меня заболело в ухе, словно рядом бабахнули из револьвера.
— А вы, я вижу, шутник, — заключил голос. — Так давайте посмеемся вместе. Вам придется в точности выполнить все, что я скажу.
Такие номера со мной не проходят.
— Как вы сказали?
— Я сказал, что вы будете выполнять мои указания!
— Вы, наверное, принимаете меня за служащего?
— Но ведь в каком-то смысле так оно и есть…
Я швырнул трубку на рычаг. Сказка с беспокойством смотрела на меня.
— Дело усложняется? — спросила она.
— Похоже. Если этот поганец позвонит снова, скажи, чтоб катился ко всем чертям.
Неизвестный действительно перезвонил, но ответил ему я сам, движимый какой-то тайной силой.
— Капут, — сказал голос, — мне не нравится такое обхождение. Я вижу, вам все нужно растолковывать. Ну что ж, мы растолкуем!
И на этот раз трубку швырнул уже он.
Я в бешенстве вылез из ванны.
— Знаешь, милый, — вздохнула Сказка, — по-моему, начинаются серьезные неприятности.
У меня тоже было такое впечатление. И еще у меня начинало появляться мучительное чувство собственной уязвимости. Вокруг меня собирались невидимые злые силы, следившие за мной из темноты. Я ничего не мог им противопоставить. Я дерзко и безрассудно полез в механизм огромной машины, и теперь этот механизм начинал медленно и безжалостно сплющивать меня.
— Знаешь, что я думаю? — прошептала Сказка.
— Ну, говори, мне интересно…
— Нам пора уезжать.
Я посмотрел на нее. Она высказала вслух мои самые тайные желания…
— У тебя ведь пока еще довольно много денег, верно?
— Да, достаточно…
— Будем вести себя как ни в чем не бывало, а в один прекрасный день возьмем да и снимемся с якоря… Уедем далеко-далеко, за границу…
Я подумал: а найдется ли в мире достаточно далекий уголок, чтобы спрятаться от мафии и от всех остальных?
Я обнял Сказку за талию и почувствовал сквозь ткань ее теплое гибкое тело. На меня накатила волна счастья: эта женщина гарантировала мне неисчерпаемый запас блаженства.
— Что ты на это скажешь, любимый?
Я уже собирался было согласиться, но злость оказалась сильнее. Поступив так, я стал бы в ее глазах тряпкой. Она любила меня за мою смелость и решимость; превратившись в беглеца, я неминуемо заслужил бы ее презрение.
— Послушай, Сказочка, я не какой-нибудь дрейфус, и эти макаки меня не пугают. Я разобрался с Кармони, я разобрался с Каломаром… Кто сказал, что мне не по зубам вся остальная компания? Главное — играть осторожно. И в конце концов я стану сверхвеликим сеньором и буду заказывать погоду по своему усмотрению… — Я фыркнул. — Нет, ты слыхала этого козла? Выполнять его распоряжения! Да лучше уж сдохнуть…
И по ее глазам я понял: я сказал именно то, что нужно.
Я поцеловал ее в свежие губки:
— Предоставь все мне и садись в первых рядах. В моем театре каждый день премьера…
Я потянул ее к кровати. Это сооружение было широким, как городская площадь, мягким и одновременно упругим. На нем удавались самые рискованные амурные номера…
Она сбросила свое тонкое одеяние, вынырнув из голубой ткани, как русалка из морской пены. И я как безумный стиснул ее в объятиях, пытаясь отмахнуться от подступающих бед.
Но впервые за нашу с ней совместную жизнь мне не удалось полностью забыться. Я оставался трезвым, обеспокоенным. Мне все время казалось, что голову вот-вот просверлит телефонный звонок.
Но в этот день телефон больше не звонил.
IV
На следующий день, в самый разгар моего разговора с самым крупным парижским продавцом, в кабинет проскользнул Анджело. Он смотрел смущенно и как-то загадочно.
С самого порога он знаком сообщил, что должен мне что-то сказать, но не хочет этого делать при постороннем. Предчувствуя неприятности, я встал, извинился перед своим «представителем»… Анджело переминался в коридоре с ноги на ногу, уставив на меня свой разноцветный взгляд.
— К тебе заявился какой-то легавый…
— Чего?!
— Он спрашивает мсье Виктора Бувье. Ведь ты под этим именем продолжил дело Кармони?
— Да…
— Тогда тебе не мешало бы с ним поговорить. По-моему, ничего серьезного, тем более что он пришел один.
— Иду.
В холле расхаживал взад-вперед маленький полицейский с робкой физиономией.
— Вы хотели со мной поговорить?
— Вы — мсье Виктор Бувье?
— Вроде бы я…
Он вежливо улыбнулся и вытащил из кармана лист голубой бумаги.
— Вам повестка. Сегодня в пятнадцать часов вам предлагается явиться в полицейский комиссариат для дачи свидетельских показаний.
От этой традиционной формулировки у меня похолодела спина.
Какие свидетельские показания мог дать уголовник вроде меня, чей послужной список был загружен, как двадцатитонный грузовик?!
Я сразу понял, что эта безобидная повестка была мне предупреждением.
— Хорошо, господин полицейский, приду…
Он щеголевато отдал мне честь. Я смутился: впервые в жизни меня приветствовал легавый.
Анджело ждал на лестничной площадке. Он все слышал и казался встревоженным.
— Дела, похоже, портятся, а?
— Не волнуйся…
Я нехотя вернулся к своему продавцу, который в ожидании курил мою сигару. Он снова принялся объяснять мне, что, делая клиентам мелкооптовую скидку, можно увеличить оборот. Он говорил, что наркоманы, как правило, подстраивают свой порок под свой бюджет. Если мы будем снижать цену товара в зависимости от приобретаемого количества, они предпочтут покупать более крупные партии, а имея дома приличный запас зелья, начнут ширяться чаще обычного, что увеличит их «пропускную способность».
Этот нехитрый прием сулил неплохие результаты. Однако обсуждать его мне сейчас хотелось не больше, чем Версальский договор. Я сказал партнеру, что подумаю, быстренько выпроводил его и поспешил в нашу бархатную спальню, где Сказка красила себе ногти кисточкой, сделанной, как мне казалось, из бабочкиных ресниц.
— Ты чем-то огорчен?
— Еще бы… Меня вызывают в полицию.
— Что бы это значило?
— Сам не знаю.
Я плюхнулся в огромное кресло, мягкое, как кисель.
— Слушай, как зовут того адвоката, который вел дела Кармони?
— Баржюс.
— Свяжи-ка меня с ним!
Она достала из ниши телефон и набрала номер, который помнила наизусть. Когда в трубке послышались гудки, она протянула ее мне и взяла наушник.
Мужской голос буркнул: «алло!».
— Говорит Капут, — сказал я. — Я хотел бы поговорить с мэтром Баржюсом…
После короткой паузы мужчина холодно ответил, что мэтр Баржюс находится в отъезде.
Тут Сказка отрицательно замахала рукой и мимикой дала мне понять, что со мной говорит сам Баржюс.
— Перестаньте мудить, Баржюс, а то пожалеете…
— Что?
— Я знаю, что это вы, так что хватит притворяться!
— Но…
— Никаких «но»! По вашему поведению я вижу, что в «высших кругах» вам приказали посылать меня к черту, угадал? Так вот, скажите своим «высшим кругам», что мне на них наплевать, понятно? А если будете строить из себя стойкого оловянного солдатика, то однажды утром проснетесь мертвым! Сдается мне, что вам не мешало бы проветрить мозги!
Меня несло, и я уже не мог остановиться… Моя злость выплескивалась наружу короткими хлесткими фразами. Мне осточертели все эти скоты, строившие мне козни из-за моей излишней самостоятельности.
Я крикнул в трубку, что Организация — с большой буквы «О» — меня не пугает, что я, Капут, еще найду в себе силы ее развинтить… Наконец, когда я немного успокоился, Баржюс, заикаясь, ответил, что, несмотря на мои угрозы, ничем не может мне помочь, что является простым звеном в общей цепи и что если меня решили укатать, то ничего уже не поделаешь.
Я понял, что он не лжет. Конечно, он меня боялся, но не перешел бы на мою сторону, даже если бы я приставил к его шее бритву и совал в нос чихательный порошок.
— Ладно, тогда скажите хотя бы, что означает эта повестка.
— Я не знаю…
— А что это, по-вашему, может быть?
— Даже не представляю.
— Арест?
— Вряд ли: иначе вас арестовали бы сразу.
— Так что же?
— Вам хотят сделать предупреждение. Думаю, если вы подчинитесь, этим все и ограничится…
— А если я не явлюсь по этой поганой повестке?
— Тогда готовьтесь к худшему…
— А вам легко представить, чтобы такой человек, как я, сам пошел к легавым — мол, нате, вяжите меня! Это же чистое безумие!
Он забормотал какую-то ерунду. Мне все это надоело, и я повесил трубку, не найдя более подходящей формулы вежливости. Сказка по-прежнему теребила в руках свой подслушник. В ее изящных руках он тоже принимал гармоничные пропорции… У нее был дар украшать все, что находилось с ней рядом.
— Ну, как тебе все это нравится, Сказка?
— Мне страшно, — призналась она. — Чувствуется, что все они ополчились против тебя. Они наверняка знали, что Каломар поехал сюда, и догадываются, что это ты его убил.
— Да, пожалуй…
— Говорю тебе, любимый: надо уезжать.
— Еще не время. Им невыгодно уничтожать меня, не получив моих денег, понимаешь, милая? А эти деньги запрятаны очень неплохо. Они не станут меня убивать, пока их не найдут. А раз я буду жив, то попытаюсь их обставить. Мне только нужно, чтобы они обнаружили себя.
— Это опасно!
— Если бы я не любил опасность, то пошел бы в кружевницы…
Она засмеялась.
— Ты мне нравишься, Капут… Ты самый отчаянный человек, которого я знала!
Мы поцеловались, и все закончилось бы, как обычно, в горизонтальном положении, если бы нашу идиллию не нарушил телефон. Я сразу понял, что это опять взялся за свое тот вчерашний тип. Он, подобно тореадору, уже всадил мне в бок одну бандерилью и теперь снова размахивал мулетой. Да, я участвовал в корриде в качестве быка… На моей стороне были только моя сила и звериный инстинкт. Тех, других, было много. У них было оружие и техника. Но я сомневался, что мое умерщвление произойдет по всем правилам арены. Ведь на корриде случается и так, что бык утаптывает тореро…
— Алло?
— Капут?
— Да.
— Салют! Ну, как вы находите ситуацию?
Я подмигнул Сказке, и она мигом схватилась за наушник.
— А как я, по-вашему, должен ее находить?
— Вы уже настроены на серьезный разговор? Если да, то нам, может быть, удастся все уладить…
— Хорошо, я вас слушаю.
— У вас остались наши сто пятнадцать миллионов.
— Чьи это — «ваши»?
— Просто — наши. Этого вам должно быть достаточно.
— Допустим.
У меня едва не шел дым из ноздрей. Слышать подобные речи от какого-то паразита, который боится даже назвать себя!
— Вы должны приготовить эти сто пятнадцать миллионов и сложить их в чемодан.
— А потом?
— А потом отнести этот чемодан на вокзал Сен-Лазар, в зал ожидания для пассажиров второго класса, в два часа. Вы сядете на скамейку и поставите чемодан рядом с собой.
— Дальше?
— Подождете минут пять.
— И?
— Встанете, будто идете за газетами, и уйдете из зала ожидания.
— Куда?
— Куда хотите. О чемодане мы позаботимся сами.
— Замечательно.
— Это — не все. При этом вы должны выполнить еще несколько обязательных условий.
— Вот как?
— Да. Во-первых, не забудьте положить в чемодан деньги.
— Что еще?
— Приходите один и не пытайтесь выследить человека, который придет за чемоданом… Учтите, его заберут только после того, как вы выйдете из здания вокзала. Еще знайте, все ваши помощники нам знакомы, поэтому брать их с собой не надо. Если вы не выполните эти указания, то с завтрашнего утра охота на вас возобновится. Если же сделаете все, как я сказал, то в полицию по своей повестке можете не являться. И он положил трубку, не дожидаясь ответа.
— Что собираешься делать? — спросила Сказка.
— Подумать.
Я посмотрел на часы: десять утра. С решением нужно было поторапливаться.
Я повалился в одежде на кровать, заложил руки за голову и в свою очередь спросил себя, что я собираюсь делать.
V
Некоторое время Сказка молчала, чтобы не мешать моей медитации. Однако я чувствовал, что она напряжена, и это не давало мне спокойно подумать. Я не мог упорядочить свои мысли, в голове все путалось… Я думал о деньгах, о тех безымянных людях, что меня подстерегали, и отчаянно искал надежный способ утаить первые от вторых.
В конце концов, видя, что я ворочаюсь на кровати, Сказка села рядом. Ее лоб прорезала озабоченная складка.
— Ты не находишь странным, что «эти люди» сразу же узнали правду о том, кто убил Каломара?
Я посмотрел на нее. Она только что ткнула меня в больное место. Да, я находил это странным, но все не решался задуматься над этим всерьез.
— Сам посуди, — продолжала она. — Если Каломар нанял машину, значит, в Париж он приехал один…
Я подскочил.
— Точное попадание! Ну-ка, продолжай!
— Если бы «эти люди» тоже находились в Париже, то обязательно предоставили бы своему верховному владыке машину. Так что они не из Парижа. Они, видимо, живут в США или в Лондоне, или в Риме… Они приехали только после того, как им сообщили о смерти босса, и мне кажется, что одновременно с этой вестью они узнали и имя его убийцы…
— От кого?
— От кого-то из наших, разумеется!
Она проговорила это своим обычным чистым, невинным голосом, и я с нежностью посмотрел на нее. Меня уже несколько раз обманывали бабы, но теперь я знал: я наконец нашел ту, что предана мне душой и телом. Видя ее все время рядом, я понимал, что такое влюбленная женщина. Эта не могла подложить мне свинью. Она вела себя со мной более чем открыто, и я мог ей полностью доверять.
— Из наших? — повторил я.
— Другого объяснения я не вижу. В этом доме есть человек, который следит за каждым твоим жестом и добросовестно отчитывается перед другими.
Ох и кретин же я был, что не догадался об этом раньше… Теперь мне бросалась в глаза сразу целая куча фактов. И самым характерным из них была отсрочка, которую мне дал Каломар, прежде чем заявиться ко мне собственной персоной. Ладно, положим, он предоставил мне на три месяца полную свободу действий, но этот эксперимент был бы слишком рискованным, не имей он возможности осуществлять за мной постоянный контроль. К тому же он точно знал, какую цифру составлял доход от проводимых мной операций!
Я поднялся с кровати. На шее у меня пульсировала толстая вена. Я Встал перед венецианским зеркалом. Из ажурной рамки, будто задуманной мастером во сне, на меня смотрело жесткое лицо с резкими чертами, горящим взглядом и ртом, заключенным в скобки двух глубоких складок.
Я обернулся.
— Кто? — спросил я у Сказки.
Она не торопилась с ответом. Ее глаза затуманились; она перебирала в памяти людей, составлявших нашу команду, и не спеша прощупывала каждого своим женским чутьем.
— Пауло или Анджело, — сказала она наконец. — Они стоят к тебе ближе остальных.
Я мысленно повторил эти имена. Они действительно наводили на размышления.
— Да, Сказка, Пауло или Анджело. Который же из них?
Она подумала еще.
— Не знаю, — чистосердечно призналась она. — Анджело умнее, но Пауло более хитер… Нужно проверить…
— Причем прямо сейчас!
— Не спеши…
— Но время не терпит!
— Милый, дело не во времени, а в методе… Если ты начнешь «пользовать» их обоих, они начнут все отрицать, и ты не добьешься признания, потому что не знаешь, кто именно должен признаться в измене.
— Ну, а как же тогда?
— Позови их сюда. Скажи, что вы с ними срочно уезжаете и забираете с собой все деньги. Тот, кто лопает из кормушки «тех людей», обязательно попытается их предупредить. Мы будем наблюдать за обоими.
Я щелкнул пальцами.
— Сказка, ты просто сказка!
Она скромно усмехнулась и нажала кнопку звонка.
— Только старайся вести себя естественно, а то у тебя глаза мечут молнии…
Чтобы успокоиться, я поцеловал ее, и это меня действительно утихомирило.
Двое явились.
Анджело или Пауло? Этот вопрос буквально прогрызал мне мозг, но я старался не смотреть на них слишком уж пристально, чтоб не вызывать подозрений у возможного Иуды.
— Вот что, ребятки, — объявил я. — Мне надо сказать вам пару слов. Люди Каломара начинают звереть, и нам пора пошевелиться. Только шевелить, похоже, надо уже не мозгами, а копытами. Тягаться с такой организацией бесполезно: результат известен заранее. Я наскреб уже довольно приличный мешок деньжат. Если хотите, давайте смотаемся вчетвером — вы двое, мадам и я — в какой — нибудь более гостеприимный край и сменим там свои шкуры. У меня есть на что обеспечить вам завидное положение в других местах. Если вы откажетесь, то можете остаться не у дел, потому что мои преемники вряд ли будут вам доверять. Новое руководство, как правило, обновляет кадры. Ну что, согласны?
Оба выслушали меня, не моргнув глазом, и мне ничего не удалось прочесть на их бандитских рожах.
— Что ты называешь «гостеприимным краем»? — спросил Анджело.
— Аргентину или Бразилию — все равно, лишь бы там самбу танцевали.
— Что ж, почему бы и нет?
Пауло спросил:
— А что ты называешь «мешком деньжат»?
— Пятьдесят миллионов каждому из вас. По-моему, терпимо, а?
Сказка расчесывала свои золотые волосы, сидя за туалетным столиком, но внимательно наблюдала за происходящим в зеркало.
— Решайте скорей! — рявкнул я. — Мы не будем устраивать здесь заседание парламента и подсчитывать все «за» и «против»! В жизни надо уметь выбирать.
— Я за, — пробормотал Пауло.
— Согласен, — сказал Анджело. Вид у них был не слишком радостный, но все же они становились под мои знамена — а это главное!
— Тогда идите собирать чемоданы, старт через десять минут. И ни слова остальным! Для них мы поехали проверять толкачей, понятно?
— Понятно…
— Поторапливайтесь. Я тоже буду собираться. В три часа мы должны быть уже в Гавре… Я свяжусь с капитаном посудины, на которой нам подвозят снежок, и он сочтет за честь устроить нам шикарную морскую прогулку…
— Хорошо, патрон.
Я проводил их обеспокоенным взглядом.
Пауло или Анджело? Анджело или Пауло?
Через приоткрытую дверь я увидел, как они дошли до конца коридора и там разошлись, поскольку их комнаты располагались одна напротив другой. Я стал ждать. Пока они оставались каждый у себя, опасаться было нечего. Наконец одна из дверей открылась, и Пауло быстро оглядел коридор. Я едва успел отпрянуть от двери и услышал на лестнице его осторожные шаги.
Сказка стояла позади меня.
— Пауло вышел, — сказал я. — Присматривай за Анджело…
Я снял туфли и кинулся вдогонку за своим долговязым помощничком. Когда я добрался до лестницы, он был уже на первом этаже. Там он прислушался и, ничего не услышав, направился к моему кабинету. Чтобы не скрипеть ступеньками, я сел верхом на перила и, как пацан, съехал вниз.
Я мигом подскочил к двери кабинета и услышал за ней характерное пощелкивание телефонного диска. Пауло спешил сообщить своим хозяевам о моем новом решении.
Для верности я подождал еще немного. За дверью, в напряженной тишине, звучали еле слышные телефонные гудки. Наконец Пауло вполголоса проговорил:
— Отель «Карлтон»? Соедините меня с господином Мейерфельдом, пожалуйста…
Я резко распахнул дверь, и Пауло дико подскочил, выронив трубку из рук. Я поспешил положить ее на рычаг и схватил Пауло за грудки.
Мой телохранитель был не в лучшем виде: весь серый, с огромными кругами под глазами, он еле стоял на ногах.
— Но я… — начал он.
Я посмотрел ему прямо в глаза, и он отвернулся.
— Ты принимаешь меня за болвана, Пауло? Это ты зря…
— Подожди, я объясню…
— Слушаю тебя, — И я отпустил его, стараясь сохранять полное хладнокровие. Это сбило Пауло с толку, и он долго делал вид, что поправляет воротник пиджака и галстук.
— Я просто хотел попрощаться со своей девчонкой…
— О, у тебя, я вижу, своеобразные вкусы, раз твою девчонку зовут господин Мейерфельд…
Он побледнел еще сильнее.
— Значит, подъедал у них, верный мой товарищ? Ай-ай-ай… Нехорошо.
— Послушай, Капут…
— Да я слушаю, слушаю… Но ты только обещаешь, а сам ничего не говоришь.
— Меня заставляли… Ассоциация возложила на меня эти обязанности еще при Кармони. Пойми…
— Я понимаю.
— На их месте ты бы тоже направил сюда своего человека…
— Разумеется.
— Вот видишь! — обрадовался он.
— Пауло, я вижу только то, что я не на их месте, а на своем. И с моей точки зрения ты просто скотина и вонючий стукач.
— Зачем ты так, Капут!
Я протянул ему телефонную трубку.
— Ну-ка, позвони еще раз в «Карлтон». Скажи своему Мейерфельду, что я веду себя как-то странно и что тебе нужно срочно с ним увидеться. Где вы обычно встречаетесь?
— Когда как…
— Что это за тип?
— Партнер Каломара… Он представляет интересы крупных американских промышленников, которые участвуют в торговле порошком. Он что-то вроде связного Организации.
— Ладно. Звони.
Его указательный палец дрожал, вращая диск, и в первый раз он даже ошибся. Какой-то записанный на магнитофон мужик начал бубнить, что по данному номеру абоненты не проживают; для огромного отеля это было бы, мягко говоря, удивительно!
— Успокойся, Пауло, — посоветовал я. — С перепугу ничего толкового не сделаешь…
Он постарался взять себя в руки.
— И говори естественно, ладно, дружище?
— Да, да, хорошо!
Он снова попросил телефонистку соединить его с Мейерфельдом. Я взял наушник и сразу же узнал ледяной голос моего таинственного собеседника.
— Это Пауло, — произнес мой «помощник».
— Что у тебя?
— Он выглядит встревоженным… Он готовит деньги, но я не знаю, для вас или для того, чтобы смыться… Я не могу долго говорить: он близко…
Я был доволен. Пауло говорил как раз то, что нужно. Башка у него все-таки работала что надо.
— Нельзя ли нам встретиться?
— Можно, — сказал Мейерфельд.
— Где?
— Приезжай сюда!
Я скорчил гримасу, но давать Пауло новые указания было же поздно.
— Хорошо, — пробормотал он и повесил трубку.
Мы постояли друг напротив друга. Он понимал, что в его жизни наступает опасный поворот.
— Ты знаешь, что тебя ждет, парень?
Его глаза наполнились слезами. Бедолага плакал по самому себе… Ну и дурак! Если уж ввязался в такую тонкую игру — умей проигрывать. Конечно, в игре всегда надеешься на выигрыш, но любая партия становится возможной только тогда, когда есть чем расплачиваться за неудачу.
Я позвонил по внутреннему телефону в спальню. Сказка отозвалась почти мгновенно.
— Бери Анджело и идите сюда. Пауло действительно хлебал из двух мисок сразу.
Я стал ждать. Пауло не дергался, Я думал, он закатит истерику и попробует взять меня жалостью, но нет… Он со смущенным и несчастным лицом смотрел прямо перед собой.
Увидев нас стоящими лицом к лицу, Анджело явно удивился.
— В чем дело? — спросил он.
— А в том, что этот месье нас аккуратненько закладывал…
— Не может быть!
— Может. Он давно связан с бандой Каломара и держал их в курсе всех моих действий. Я застал его в тот момент, когда он рассказывал о моей жизни некоему Мейерфельду…
В разноцветных глазах Анджело загорелся злобный огонь.
— Ах ты, гад… — прошипел он, шагнув к Пауло.
Я остановил его.
— Не трогай, я сам…
Но больше я ничего сказать не успел, потому что Пауло внезапно бросился на меня головой вперед…
Я схлопотал его башку прямо в грудь и полетел вверх тормашками на ковер, испытывая немалое смущение перед своей дамой. В довершение всего я увидел, как в руке Пауло заблестел автоматический пистолет. Сказка закричала, но тут раздалось: «Пинг! Бинг!» Это Анджело исполнял соло на своей аркебузе.
Некоторое время Пауло стоял неподвижно, с удивленным выражением лица: он явно не ожидал от своего напарника такого проворства. Потом оступился и упал на колени, как грешник, на которого снизошла божья благодать или что-то в этом роде… Наконец он спикировал носом на ковер и застыл.
Я поднялся на ноги, немного бледный — не от страха, а от злости. Я хотел рассчитаться с Пауло сам и злился на Анджело за то, что обязан ему жизнью.
— Спасибо, парень, — сдержанно сказал я. — Если бы не ты, носить бы мне пару крылышек за спиной.
Он спрятал свою гаубицу и скромно ответил:
— Он напал неожиданно для тебя…
— Да, я его недооценивал. Не думал, что этот дрожащий суслик способен на бунт…
Я потолкал Пауло ногой.
— Сбрось эту падаль в подвал. А я съезжу в «Карлтон» и скажу пару слов господину Мейерфельду. Он уже начал меня порядком доставать…
Я открыл ящик стола и выбрал себе подходящий пистолет. У Кармони их была целая куча — тщательно вычищенных, аккуратно смазанных; он ухаживал за ними ревностно, как истинный коллекционер.
Я надел на ствол глушитель; полученный результат слегка выпирал из-под пиджака, но лучше уж идти так, чем без поддержки. Объяснение, предстоявшее нам с Мейерфельдом, рисковало принять кислый оборот, и мои железяки должны были в случае чего призвать его к благоразумию.
Анджело и Сказка смотрели на меня.
— Тебе не кажется, что туда идти небезопасно?
— Если бы меня волновала только безопасность, я стал бы блюстителем порядка, — с улыбкой ответил я.
Анджело взвалил покойника на плечи. Подождав, пока он выйдет, я взял Сказку за руку.
— Знаешь, Сказка, а ведь, в сущности, это ты меня спасла. Мало ли что еще мог сделать этот гад Пауло, если бы не твоя светлая голова…
Она счастливо улыбнулась.
— Так ты твердо решил туда идти?
— Да, наконец-то можно будет сыграть в открытую и увидеть того, с кем говоришь.
— Будь осторожен… Ну, хотя бы настолько, насколько ты вообще это умеешь. Если с тобой что-нибудь случится, я сойду с ума!
— Напрасно. Твоей прелестной головке рассудок очень идет!
VI
В холле отеля «Карлтон» торчала группа возмущенных шведских туристов: бюро путешествий их родного городишки забыло заказать для них места…
Я подошел к телефонисту, спросил у него номер комнаты мсье Мейерфельда и велел объявить тому о приходе мсье Пауло.
Американец жил в 134-м. Лифт вознес меня на второй этаж, и одетый в форму мальчик с глазами лани проводил меня к номеру 134. Я сунул ему сотню и постучал.
Бесцветный голос ответил «войдите».
Я положил руку на ручку двери. И она открылась, но гораздо быстрее, чем я ожидал.
Я немного качнулся вперед, и, прежде чем успел сделать хотя бы одно движение, меня схватило и втащило в комнату сразу несколько рук.
Их было четверо. Двое держали в руках автоматы. Меня здесь определенно уважали… С первого взгляда становилось ясно, что это полицейские. Пятый человек стоял за дверью. Когда меня схватили, он закрыл ее и проговорил:
— Отлично…
Я не знал, что сказать. Я не мог прийти в себя от изумления. Меня напарили, как пацана… Я ничего не понимал. Во-первых, как Мейерфельд мог ожидать моего визита? А во-вторых,
зачем он организовал мой арест? Это настолько не совпадало с интересами Организации, что я даже не знал, как мне на это реагировать. Может быть, он надеется, что я расколюсь? В таком случае он попал пальцем в задницу до самого локтя! Я ни за что не скажу им, где спрятаны деньги.
Мейерфельд был худым лысоватым типом в роговых очках, придававших ему неприятное сходство С экзотической рыбой.
— Вы думали, я попался в ловушку Пауло? — пробормотал он, пока мне надевали наручники. — Перед началом разговора он всегда произносил ключевое слово, сообщая тем самым, что говорит без принуждения.
Элементарщина! А я, кретин, не догадался…
Я улыбнулся. Что тут ответишь? Оскорбление было бы признаком слабости…
Все четверо легашей насмешливо смотрели на меня.
— Значит, это и есть тот знаменитый Капут? — проронил один из них, громадный детина с усами дрессировщика.
Внутренний голос шептал мне: «Сохраняй достоинство, Капут. Они хотят вывести тебя из равновесия, чтобы был предлог врезать тебе разок-другой по зубам. Не будь дураком…»
И я стоял прямо, спокойный и расслабленный, будто в гостях у почтенных людей. В конце концов полицейские повели меня вниз и без лишнего шума усадили в черный «ситроен», стоявший во внутреннем дворе отеля. Я влез на заднее сиденье, и двое охранников зажали меня с двух сторон. Арест прошел в высшей степени спокойно. По-моему, кроме мальчишки-коридорного, в отеле никто ничего и не заметил…
* * *
Странное дело: когда мы приехали в управление, меня не повели ни к какому инспектору. Просто заперли в полутемной камере, и я стал ждать, пока господа полицейские соблаговолят принять какое-нибудь решение.
Но в этот день я с ними так и не встретился. Видимо, они заперли меня просто для того, чтобы держать под рукой, и в данный момент улаживали проблемы Организации. Они предполагали, что на суде я стану разоряться насчет торговли наркотиками, и хотели проветрить помещение, прежде чем принимать гостей. Я их понимал.
Так вот, эти селедочные шкуры продержали меня под замком целый день, не потрудившись даже принести мне пожрать. Но если они думали, что я начну барабанить в дверь из-за куска хлеба, то плохо меня знали.
Потянулась ночь, медленная, как гонки улиток.
Они отобрали у меня пистолет и спички, оставив, вопреки всем правилам, сигареты и шнурки.
К середине ночи я начал думать о Сказке, и внутри у меня зашевелилась теплая печаль.
Мне не удавалось заснуть на нарах после стольких ночей, проведенных рядом с ней в мягком тепле нашей знаменитой кровати. Стоило мне закрыть глаза — и я видел ее загорелое тело, покоящееся на белых шелковых простынях, вспоминал медные отблески ее кожи в оранжевом свете ночника, чувствовал на своих губах ее сладкое дыхание. Я помнил, как закатывались ее глаза, когда я покусывал ей верхнюю губу… Попробуй засни после этого в вонючей камере!
К рассвету я изрядно намучился. Веки обжигали глаза, во рту пересохло, пустой желудок издавал страдальческое урчание… Наступило угрюмое утро. Я уже не на шутку загрустил. Может, обо мне забыли? А может, решили заморить голодом в этой дыре? Я не исключал и этой возможности: сюда не доносилось ни звука, и мне казалось, что я сижу в склепе.
Около полудня — мои часы были по-прежнему при мне — я вздрогнул от стука каблуков. Дверь открылась, и передо мной возник тот усач, который накануне надевал мне браслеты.
— Пошли! — приказал он.
На моих руках опять защелкнулись железки. Усач подтолкнул меня вперед. С ним были еще один мужик в гражданском и один полицейский в форме.
Мы двинулись к выходу. На улице стояла та же черная машина. Я послушно втиснулся туда, полицейский в форме сел за руль, и — погоняй, извозчик!
Места между усачом и его приятелем было, прямо скажем, маловато. В придачу ко всему меня мучили колики в животе…
Этот внезапный отъезд меня настораживал. Это не могло быть следственным экспериментом, поскольку с нами не ехали инспекторы. На перевод в другое место это тоже было не похоже: тогда бы меня везли в «воронке». Но, несмотря на терзавшее меня неведение, я помалкивал.
Усач иронично поглядывал на меня.
— Мсье Капут у нас не из болтливых, да? — обронил он, медленно разглаживая тыльной стороной руки свои тараканьи причиндалы.
Я продолжал молчать. Мы ехали по набережной в направлении Лионского вокзала. Что все это значило?
Доехав до канала, мы повернули налево, к Бастилии, потом покатили к пригороду Сент-Антуан… Я не выдержал.
— К арапам в гости едем? — спросил я.
Усач издал рык, который хотя и с трудом, но все же мог сойти за смех.
— Ага, мсье наконец-то соизволил открыть рот…
Добавить он ничего не успел: нас обогнала другая машина, которая вдруг остановилась посреди дороги, дико завизжав тормозами. Наш водитель выругался и тоже затормозил, но мы все же налетели на переднюю. Эту переднюю я сразу же узнал. Это была большая зеленая «американка», служившая моим ребятам для выполнения мелких поручений в Париже и его окрестностях…
Из нее выскочил Анджело с автоматом «томпсон» в руках. Он дал короткую очередь перед носом нашей телеги, чтоб усмирить воинствующих, и шагнул вперед.
— Выходи! — крикнул он мне, открывая дверцу.
Усач хотел было меня задержать, но я двинул ему головой в рожу. Его напарник даже не шелохнулся: он неотрывно смотрел в круглый глаз автомата…
Я вышел на дорогу, по-прежнему скованный цепочкой, как корова на ярмарке, и перебрался в нашу колымагу. За рулем сидела Сказка. Чтобы хоть как-то скрыть свою девчоночью внешность, она надела кепку с козырьком и завязала на шее платок. Однако спрятать все ее прелести было не так-то просто.
Как только я оказался в машине, в нее запрыгнул и Анджело. Мотор работал; Сказка включила скорость и яростно надавила на педаль; машина с душераздирающим ревом рванулась вперед. По кузову щелкнуло несколько пуль.
— А ну, полей их! — заорал я. — Давай!
Анджело помотал головой.
— У них только пистолеты, а что ими сделаешь? И потом, никуда они не поедут: я пробил им колеса…
Сказка уже однажды доказала мне, что умеет вертеть рулем. Но на этот раз она шла на рекорд. Надо было видеть, как она без малейшего колебания поворачивает на узкие улочки — туда, сюда, направо, налево! И все — совершенно спокойно, без лишних движений… Она будто знала наперечет все дорожные знаки в столице…
— Во дает девчонка, скажи, Анджело?
— Ага!
— Как вы это все устроили?
— Очень просто. О тебе писали в газетах…
— Обо мне?
— Ну, только настоящего имени не называли. Мол, арестован крупный торговец наркотиками… Его подозревают в убийстве Каломара и собираются отвезти для допроса в то место, где была найдена брошенная прокатная машина…
Я улыбался. Я был счастлив вновь обрести свободу и свою девчонку.
— Надо поскорее избавиться от этой тачки, — сказал я. — Хоть ты и нагнал на них страху, они наверняка записали номер…
— Не волнуйся, я об этом подумал…
Сказка немного сбавила скорость. Мы пересекли канал Сен-Мартен и остановились.
— Погоди-ка, — сказал Анджело. — Кажется, у нас в багажнике есть клещи…
Клещи там действительно были, и очень приличные, Снимая с меня наручники, Анджело изрядно ободрал мне запястья, но я скорее дал бы отрубить себе клешни, чем остался в этих стальных кольцах.
Сказка тем временем сняла кепку, платок и с улыбкой повернулась ко мне.
— Ты в порядке, милый?
Она была невероятно спокойна.
— Да, милая, я в порядке!
— Скорей! — сказал Анджело, указывая на стоявший неподалеку «пежо-404». — Я нанял ее в прокате на два дня.
— Похоже, парень уже взял все руководство на себя! Это меня слегка покоробило, но обижаться на него в подобную минуту было бы несправедливо….
VII
Я слегка опешил от этого приключения. События разворачивались будто в кошмарном сне, и мне казалось, что я только что выбрался не из комиссариата, а из собственной постели.
На этот раз за руль сел Анджело, а мы со Сказкой устроились сзади. Она положила голову мне на плечо, я машинально потирал запястья… Я не ел и не спал почти двое суток, и перед глазами порой начинали плыть круги…
Анджело свернул к Пигаль; и когда мы ехали вдоль метромоста, спросил:
— Ну, босс, какая программа?
Этот вопрос, возвращавший мне мои прерогативы, подстегнул меня словно кнутом.
— Анджело, малыш, ты сегодня заработал себе целое состояние!
Он сдержанно наклонил голову. Он не сомневался в том, что я сдержу свои обещания, но хотел показать, что действовал не из корысти.
Я продолжал:
— Возвращаться на Рю де Милан, конечно, нельзя — слишком опасно…
— Конечно…
Я на несколько мгновений позволил своим мыслям погулять на свободе.
— Интересно, откуда в «Карлтоне» оказались легавые?
— Их предупредил тот тип, о котором ты говорил, — предположил Анджело.
— Да, пожалуй. Но почему они не сообщили прессе, что поймали именно меня? Они ведь знали, кто я такой: тот, с усами, сразу назвал меня «Капут»!
— Да, темный лес, — согласился Анджело. — Да ладно, что тут голову ломать! Никогда не знаешь, что у легавых на уме. Давай лучше подумаем о будущем…
Он был прав.
Сказка сжала мою руку.
— Теперь ты засветился, — пробормотала она. — Тебе надо исчезнуть, иначе заберут снова…
Действительно, мне было самое время раствориться в природе. Меня страшно бесило, что приходится бросать такое великолепное дело. Еще несколько дней назад я считал себя человеком, добившимся успеха, закидывал ноги на стол и всегда имел под рукой бутылку лучшего скотча… И вот теперь, в результате стремительного изменения ситуации, снова стал объектом преследования. Видно, от судьбы не уйдешь. Она определена раз и навсегда, и ты следуешь по этому пути, как поезд по рельсам…
— Остановите возле какой-нибудь харчевни, я со вчерашнего утра ничего не ел…
Анджело знал один тихий кабачок на улице Лепик. Он остановился прямо перед входом — как ни странно, там нашлось для машины свободное место.
Хозяином кабачка был корсиканец, с которым они просидели вместе десять лет… Это крепко связывает людей. Он притащил мне кусок фаршированного кролика, и пока я с ним расправлялся, Анджело и Сказка спрыскивали мое досрочное освобождение шампанским…
Мы получили отсрочку, но она обещала быть недолгой. «Там», скорее всего, уже начали подготовку к организованной охоте на человека…
Скоро у Восточного вокзала обнаружат нашу зеленую машину, и непременно найдется какой-нибудь козел, который ляпнет этим господам, что видел, как мы сменили транспорт… Все-таки молодец Анджело, что взял «четыреста четвертый»: как бы там ни было, это
идеальная машина для тех, кто не любит привлекать внимания…
Я с наслаждением работал челюстями и раздумывал над ближайшим будущем. Чтоб не влететь головой вперед в расставленные легашами сети, нужно было обмозговать каждый шаг…
Через двадцать минут я шумно вздохнул и локтем отодвинул от себя пустую тарелку.
— О, уже лучше… Еще чашку крепкого кофе — и можете считать, что вы меня отремонтировали. Который час?
— Три, — сказал Анджело.
— Значит, так: сейчас съездим за деньгами, а потом возьмем курс на какую-нибудь дремучую деревуху. Все равно за портами и аэродромами в ближайшие несколько дней будут крепко следить…
— Наверняка.
— Так что проветриться нам не помешает. Заплати-ка за нашу оргию, малыш…
Мой уважаемый коллега сунул своему приятелю — кабатчику крупный билет.
— Куда ехать? — спросил он.
— Отдыхай, я сам порулю…
На этот раз Анджело сел сзади, а мы со Сказкой — впереди. Я ехал за своими сокровищами в довольно сильном волнении: мне вовсе не улыбалось таскать с собой такую сумму, когда на хвосте висят жандармы.
Я придумал для своих денег лучший в мире тайник. Об этом тайнике не знала даже Сказка. Я обдумывал его несколько дней подряд. Задача была не из легких, ведь такой деятель, как я, не мог отнести свои трудовые сбережения в банк…
Я доехал по бульвару Курсель до площади Терн… Чуть дальше, на улице, что шла вдоль железнодорожной линии, я в свое время снял частный гараж, закрывавшийся массивной металлической шторой.
Я остановил машину недалеко от этой улицы и попросил своих спутников подождать меня здесь. Не взять их с собой в гараж — это выглядело, конечно, по-идиотски, потому что теперь у меня не было от них никаких секретов, но мне нравилось окутывать себя этакой атмосферой таинственности. Главарь, шеф, начальник всегда должен окружать себя легендами, а их лучше всего создает преувеличенная скрытность…
Они не стали возражать.
Я повернул на «свою» улицу, проехал вдоль забора, потом мимо нового многоэтажного дома и поравнялся со старыми лачугами, половину из которых уже снесли, построив на их месте гаражи.
Мой был первым по счету. Из осторожности я оставил ключ здесь, рассудив, что при себе его держать опасно. Как-то ночью я выцарапал здесь маленькую щель между кирпичами — как раз такую, чтобы в ней поместился маленький плоский ключик. Потом, спрятав ключ, я тщательно залепил щель замазкой и напоследок присыпал замазку пылью.
Подойдя к гаражу, я отыскал щель по ориентиру и отковырнул замазку пилочкой для ногтей, которую взял в Сказкиной сумочке. Ключ оказался на месте, лишь покрылся кое-где пятнышками ненасытной ржавчины… Я вставил его в скважину на бронированной шторе, повернул, и штора легко, с шуршанием хорошо отлаженного механизма, намоталась на валик.
В гараже стоял пыльный «кадиллак». Машине было уже пять лет, но по моему заказу ей полностью обслужили двигатель, и она завелась с первого оборота стартера… Водить этот рыдван было на удивление легко, а сиденья были такие мягкие, что казалось, будто сидишь на бабкиной перине.
Я поехал прочь, не потрудившись опустить за собой штору.
Когда я остановился около «пежо», Анджело сунул руку в карман. Но я высунул голову из окна, и они со Сказкой изумленно выпучили глаза.
— Залезайте! — сказал я.
Решив больше ничему не удивляться, они оба сели вперед; машина была для этого достаточно широкой.
Я повернул налево и поехал на север.
— Ну у тебя и сюрпризы… — проговорила Сказка.
Я молча улыбнулся, Двигатель работал совсем тихо, и сидеть в этой карете было одно удовольствие. Двойной кофе, который я проглотил у корсиканца, что-то не действовал, и меня страшно клонило в сон. Когда мы выехали из Парижа, я посадил за руль Анджело и в гордом одиночестве улегся сзади.
— Если будут останавливать легавые — тормози, не выпендривайся. Машина зарегистрирована в Бельгии. Документы в бардачке…
— Но куда мы едем?
Я зевнул.
— Подыщи в сотне километров отсюда какой-нибудь спокойный мотель. Там заночуем, а может, поживем еще пару дней, если понравится…
Он наклонил голову.
— Знаешь, Капут, я, кажется, могу предложить кое-что получше…
— Давай…
— У меня есть старый хороший друг, у него классный дом в Нейи-ан-Тель…
— Где это?
— В нескольких километрах от Иль-Адам.
— А что за друг?
— Ну, он разбогател во время оккупации. Снюхался с фрицами и перепродавал их консервы. После освобождения его хотели расстрелять, но он успел убежать в родные места: так и не нашли. Потом реабилитировался — помогли знакомые чинуши, — но привык жить отшельником и теперь только рыбачит у себя на речке да готовит всякую диковинную жратву.
— Он правильный?
— Я дважды вытаскивал его из дерьма… Ради меня и моих друзей он в костер полезет. Так что, может, лучше поживем у него? Бумаги показывать не надо, в окна никто не заглядывает… Тишь да гладь!
— Хорошо, поехали…
— И я захрапел.
VIII
Разбудила меня Сказка, причем самым что ни на есть приятным способом: она поцеловала меня в глаза. Я узнал ее губы и ее запах еще до того, как выплыл из сонного тумана.
— Приехали, милый, — прошептала она.
Я выпрямился на сиденье, зевая, как целый конференц-зал.
За окнами машины виднелся аккуратненький домик из тесаного камня, типичный для центрального района страны. Вокруг — зелень, белые куры… Пастораль, да и только.
— А где Анджело?
— Пошел поговорить с хозяином…
Мой помощник с разноцветными глазами как раз выходил из дома. Его сопровождал пожилой сутуловатый мужик с седыми волосами, подстриженными под Брандо. На нем были штаны из крупного вельвета, шотландская рубашка и черный жилет.
Он исподлобья посмотрел на меня. Этот дядя казался не более искренним, чем продавец подержанных машин. Но раз уж мой дружочек Анджело за него поручился… Впрочем, жизнь уже научила меня не судить о людях по их рожам. Ничего удивительного, что хозяин сделался диким и жлобоватым: попробуй поживи с десяток лет в такой дыре…
Мы пожали друг другу руки.
— Мой приятель Антуан согласился принять нас на время нашего отпуска, — торжественно объявил Анджело.
— Спасибо, — ответил я, — мы вас отблагодарим.
— Раз вы друзья Анджело, мне ничего не надо, — сказал Антуан и похотливо зыркнул на. Сказку. Наверное, ему уже осточертело пользовать крестьянок, и он мечтал о постельных сценах, вроде тех, на которые насмотрелся в глянцевых журнальчиках.
— Ну, заходите… Анджело, машину можно поставить за сараем.
— Я сам, — живо сказал я.
Еще бы: в этой колымаге лежали миллионы и миллионы! Ключ зажигания был равноценен ключу от сейфа.
Поставив и закрыв машину, я пошел в дом. Сооружение было не лишено приятности: грубоватое, но уютное, со старинной мебелью, но с телевизором и проигрывателем… На широких окнах висели кретоновые шторы… Да, мсье Антуан умел жить.
Нам показали наши комнаты. Ни один постоялый двор не смог бы предложить нам такие мягкие кровати и такие белые простыни.
Мы со Сказкой тут же обновили свои апартаменты. Два дня без объятий были для нас целой вечностью!
Потом мы долго лежали голые на кровати; она держала меня за руку и счастливо улыбалась.
— Пока тебя не было, мне казалось, что я схожу с ума, — вздохнула она. — Я была на все готова, чтобы вытащить тебя оттуда.
— Ты это доказала на деле…
— Как по-твоему, мы выпутаемся?
— Я запрещаю тебе в этом сомневаться… Теперь я уже знаю, что к чему, и у меня есть ты. Так что им придется рано встать, чтоб меня сцапать… Ты газеты читала?
— Нет…
— Но Анджело ведь говорил…
— Это он читал. А я в это время ходила взад-вперед по комнате. Он позвонил мне из города и сказал, чтобы я приехала к полицейскому управлению и положила под сиденье автомат.
— Молодец парень!
— Да…
Когда мы проснулись, за окнами было совершенно темно. Я первым открыл глаза: мне послышался шум мотора. Но потом я решил, что ошибся: вокруг было тихо. То есть по-деревенски тихо: в черепицах посвистывал ветер, откуда-то доносились лай собак и хрюканье свиней.
Здесь было спокойно и безмятежно. Я закрыл глаза и попытался заснуть снова. Обычно я сплю довольно мало, но здесь это получалось так здорово, что я решил попросить добавки.
Когда я уже болтался между явью и сном, дверь распахнулась, и в комнату ворвались люди. Я потянулся к своим тряпкам, но чей-то голос крикнул:
— Не двигаться, иначе застрелю обоих!
Рядом со мной дрожала Сказка.
И вот в комнате брызнул свет, открывший моему взору, мягко говоря, необычную компанию. Я пораженно заморгал. Неужели кошмар начинается снова? Передо мной полукругом стояли люди, которые, казалось, дожидались только фотографа из «Франс-Суар», чтобы начать представление. Тут были Мейерфельд, усатый здоровила с напарником, которых мы утром оставили с носом, и мой верный Анджело. Правда, у Анджело был сейчас не такой уж верный вид: он держал в руках американскую винтовку со спиленным стволом, решительно направив этот ствол на меня.
Сказка прикрыла грудь простыней.
— Зачем же, подружка? — сказал усатый. — Раньше было лучше…
Я все косился на свой лежащий у кровати пиджак, откуда торчала рукоятка пистолета.
— Не трогай, придурок, — проговорил Анджело, — или я тебя размажу, как кусок дерьма!
Напарник усатого быстро приблизился к кровати и забрал оружие. После этого среди визитеров наступило заметное облегчение, а Анджело — тот даже рассмеялся.
— Поглядите-ка на его рожу! Ну что, бедняга Капут, лихо мы тебя обули? Ты считал себя крутым, но на самом деле ты годишься только на то, чтобы бить по морде алкашей…
Я призвал себя к спокойствию — из-за Сказки, но это оказалось намного труднее, чем накануне. Я вибрировал, как антенна. Ненависть пронизывала меня короткими сильными волнами; к горлу подкатил огромный ком.
В конце концов мне удалось проглотить его, как пилюлю.
— Смотри-ка, Сказка! — проговорил я как можно веселее. — Мы ошиблись ровно наполовину, когда выбирали между Пауло и Анджело: оказывается, они делили тридцать сребреников пополам!
— Заткнись! — крикнул человек с разноцветными глазами.
— Как же мы по его роже не догадались? — продолжал я. — У него же один глаз за своих, а другой — за чужих…
— Честное слово, я сейчас пришью эту падаль! — прошипел мой псевдоспаситель.
Его успокоил усач:
— Погоди, погоди, нам нужно мсье кое о чем расспросить.
— Вообще-то да, — согласился Анджело.
Мейерфельд подошел ближе.
— Наконец-то вы опять в нашем распоряжении, — сказал он своим ледяным голосом, из которого тщательно старался изгнать американский акцент. — Добиться этого было нелегко, но даже самую хитрую лису можно рано или поздно перехитрить.
Он мог ничего мне не объяснять: я уже все понял. Накануне, когда я поехал в «Карлтон», Анджело предупредил Мейерфельда о моем визите, а Мейерфельд вызвал к себе этого дутого полицейского, который, видимо, уже давно служил банде прикрытием. Эти господа арестовали меня тайно, не поставив в известность никого: ни свое начальство, ни журналистов. Они на сутки заперли меня в камере, чтобы тем временем спокойно разработать свой план. Они понимали, что говорить я не стану, но во что бы то ни стало хотели заполучить деньги. И решили сделать так, чтобы я забрал их с собой, разумеется, в сопровождении Анджело. Отсюда и инсценированное нападение, и все остальное… Отупев от голода и беспокойства, я принял все эти «подарки судьбы» как должное… Несчастный идиот! Называя меня лисой, Мейерфельд проявлял необычайную вежливость: на его месте я обозвал бы себя бараном! Они заставили меня вытащить деньги из тайника и привезли в этот неприметный дом… Что ж, они победили, и мне оставалось только получить награду за глупость — пулю в башку…
Мое сердце стучало как бешеное. Я не решался посмотреть на Сказку. И вдруг время словно остановилось, и во мне осталось одно лишь отвратительное подозрение: что если и она с ними заодно?! С самого начала моей одиссеи все меня обманывали, предавали, продавали… Я в очередной раз убеждался в том, что преступник на свете совершенно одинок!
Я посмотрел на нее и почувствовал облегчение, потому что увидел на ее лице страх. Страх непритворный, настоящий. Она тоже была жертвой, и ее ожидала та же участь, что и меня. Усатый «полицейский» подошел ко мне.
— Вот что, — сказал он. — Пора нам поговорить, как мужчина с мужчиной.
— А ты можешь представить на свой счет какие-то доказательства, крысиная жопа?
— Могу, — ответил он бесстрастно, как человек, привыкший слышать оскорбления. И врезал мне так, что у меня чуть не оторвалась голова. Я чихнул кровью, перед глазами запорхала эскадрилья черных бабочек.
Я выпустил когти, чтобы поймать его, но он знал эту музыку и проворно отскочил назад. Сидя почти голышом в этой постели, рядом с журнальной красавицей, я выглядел полным кретином.
— Ты мне это брось, — спокойно сказал усач.
Мне казалось, что остальные зрители должны были находить происходящее очень смешным, однако же никто не смеялся. Рожи у всех были сдержанные и внимательные, и это заставило меня задуматься. Я немного посидел в растерянности и вдруг тихо фыркнул от радости: мне стало ясно, что денег они еще не нашли! Вот почему они обступили мою кровать и разыгрывают здесь «Преступление и наказание»… Если бы они уже добрались до миллионов, то давно всадили бы мне пулю в затылок и вырыли яму как раз по моему размерчику… А может, усатый таракан поехал бы с моим трупом в управление — получать премию за то, что уничтожил опаснейшего государственного преступника?
— Где деньги? — спросил Мейерфельд. Он был человеком аккуратным, методичным, и в нем, похоже, не было ни грамма поэзии…
— Как! — воскликнул я. — Разве вы их не нашли?
— Нет.
Я изобразил крайнее удивление.
— Но они же были в багажнике, на виду!
— Неправда. Мы все там обыскали.
— Значит, их забрал кто-то другой…
— Хватит шутить!
— Постойте… Когда вы приехали?
— Пятнадцать минут назад.
— И за пятнадцать минут успели обыскать всю машину?
Тут вмешался Анджело:
— Я осмотрел ее еще до их приезда. Всю облазил. Ничего там нет!
— Разумеется, там уже ничего нет: ты и твой дружок-хозяин все уже перепрятали!
Услышав такое обвинение, он побелел и поднял свой обрез.
— Ах ты, сука!
— Стой! — крикнул я. — Конечно, Анджело, это легче всего — убить тех, кто может что-то рассказать. Так было и с Пауло! Ты испугался, что он с перепугу потащит тебя за собой, и угрохал, якобы для того, чтобы меня защитить!
— Вы не станете стрелять в этого человека без моего разрешения, — проскрипел Мейерфельд.
— Да вы послушайте, что он плетет! — вскричал Анджело. — Вот, спросите у Антуана…
Дутый полицейский забрал у него из рук обрез.
— Ты слишком нервный, чтобы играть такими игрушками, — пояснил он.
Теперь я ясно видел, что сделал верный ход, обвинив Анджело: я посеял в их рядах сомнение.
— Он врет! — завопил Анджело, чувствуя, что мысль получает дальнейшее развитие в головах его дружков. — Он говорит что попало, лишь бы свалить все на меня! Вы же знаете, я вас ни разу не подводил… А ведь иногда это было ох как нелегко…
— Честных людей вокруг сколько угодно, Анджело… — сказал я. — Все мы честные, пока речь не заходит о сотне миллионов!
Я зарабатывал себе все новые очки. Я поджаривал этому подонку задницу на медленном огне, и он плавился, как сыр.
— Ну, это уже вообще! — сорвался он. — Еще одно слово — и я его удавлю!..
— Спокойно! — отрезал Мейерфельд.
Он встал напротив меня — правда, достаточно далеко: чтобы я до него не дотянулся.
— Вы сказали, что деньги были в багажнике?
— Конечно. Ведь не стал бы я убегать с пустыми руками! Они были в ящике из-под печенья, под брезентом. Под зеленым брезентом, грязным таким!
Насчет брезента я сказал нарочно. Я помнил, что в багажнике «кадиллака» он действительно был. Мейерфельд наверняка его видел, и это должно было показаться ему подтверждением моих слов.
Что-то подсказывало мне, что я на верном пути. Мейерфельд ни за что не позволит убить меня до того, как деньги будут найдены. Я не представлял себе, как выберусь из такого тупика, но, как это ни странно, присутствие полумертвой от страха Сказки придавало мне силы и даже что-то вроде оптимизма.
— Надо разобраться, — нетерпеливо проговорил усатый.
Бедняга Анджело бешено вращал глазами.
— Не думай, Капут, что тебе это сойдет с рук! Я тебя, гада, заставлю выплюнуть правду! И очень скоро…
— Не говори о правде, Анджело, это тебе не идет…
Я повернулся к Мейерфельду.
— Послушайте меня и пошевелите извилинами, если они у вас есть. Деньги лежали в багажнике «кадиллака». Машина стояла в гараже, который я снимал на улице Сержанта Бенуа. Этот гараж закрывался специальной металлической шторой, от которой был один-единственный ключ — то есть никто, кроме меня, туда попасть не мог. Если этот итальяшка еще не совсем сгнил, то подтвердит, что после приезда сюда мы с девушкой сразу легли спать…
— Это правда, — пролепетала Сказка.
Сами по себе эти слова не имели никакой силы, но будучи произнесены таким простодушным тоном, они буквально взорвали тишину комнаты.
Пора было финишировать: мы уже достаточно сильно разогнались.
— Вывод, — заявил я. — Либо я оставил деньги в Париже (хотя вы сами чувствуете, что это не так), либо кто-то вытряхнул их здесь до вашего приезда…
Рассуждение выглядело таким бесспорным, что даже Анджело не нашел, что ответить.
Я откинулся на подушку и победно скрестил руки на груди.
IX
Последовало недолгое молчание.
— Вставай! — приказал мне полицейский.
Он был похож на толстого рассерженного кота. Его и без того выпуклые глаза почти вылезали из орбит.
— Пошли к машине, — постановил он.
Мейерфельд коротко кивнул в знак согласия. Он, Мейерфельд, выглядел все более холодным, прямо ледяным. Казалось, он вот-вот треснет и рассыплется на куски.
Я спрыгнул с кровати и под прицелом усатого натянул штаны.
— А ты присмотри за дамочкой, — велел усатый своему напарнику, бледному доходяге с белесыми ресницами.
Мы вышли во двор, под великолепное, увешанное звездами небо. Анджело скрипел зубами от ярости. Он шел сзади, и за ним краем глаза следил Мейерфельд, который, судя по всему, уже не питал к нему особой симпатии.
Я спрашивал себя, чем все это кончится, поскольку мы вступили на путь, одинаково безысходный для всех. Действительно: мне оставалось жить только до тех пор, пока не отыщутся деньги; Анджело не мог сказать им, где они, поскольку вообще этого не знал. Поэтому единственным выходом для остальных было «обработать» нас с итальянцем и заставить в муках родить секрет, которого не мог открыть ни тот, ни другой…
Подходя к машине, я заметил, что Анджело действительно произвел весьма тщательный обыск. Машина напоминала костюм, который распороли, чтобы перешить. Кузов был изрезан ножницами по металлу, обивка салона валялась на земле, сиденья весело ощетинились пружинами. С колес были сняты колпаки, багажник остался открытым… Словом, Анджело и его дружище Антуан измывались над ни в чем не повинным автомобилем, как хотели…
— Ну, спасибо, — проворчал я. — Такая была тачка… Да, Анджело, мастер ты комедию ломать!
Он подскочил ко мне и заехал мне в челюсть. Я стойко перенес удар и в ответ от души лягнул его копытом. Он взвыл и упал на колени, массируя себе простату.
— Спокойно! — рявкнул полицейский.
Анджело поднялся; его физиономия кривилась в гримасе, полной клыков и резцов.
— Сволочь! — задыхался он. — Ах, сволочь…
— Хватит! — крикнул Мейерфельд.
— Вы что, верите этому гаду?! — бунтовал итальянец. — Да если бы я загреб кассу, то разве стал бы уродовать машину и дожидаться вас, вместо того чтобы драпануть?!
— А почему бы и нет? — ответил я. — Ты же понимал, что далеко не уйдешь. Организация все равно отыскала бы тебя. А вот оставшись, ты мог выкрутиться, особенно если бы застрелил меня во время спора…
Мейерфельд обошел машину кругом, потом лег на землю и заглянул под нее…
— Там мы тоже искали, — пробормотал Анджело. — Спросите у моего друга Антуана…
Его друга Антуана поблизости не наблюдалось. Это привлекло внимание усатого:
— А где он, кстати?
— В доме, — ответил итальянец. — Он не любит вмешиваться в чужие дела.
— Если он такой скромный, — уцепился Мейерфельд, — то почему помогал вам обыскивать машину?
— Помогал, чтобы быстрее было…
— Давайте-ка его расспросим…
Мы вернулись в хибару. Мсье Антуан демонстративно сидел перед телевизором — дескать, «я выше всего этого». Происходящее его, похоже, изрядно расстроило. Он согласился оказать приятелю услугу, наверняка надеясь сорвать хороший куш, но его домишко вдруг превратился в арену сражения… Первым за него принялся Мейерфельд:
— Скажите, вы помогали Анджело заниматься машиной?
— Ну, помогал…
Хозяин говорил уголком рта, почти не разжимая губ.
— А вы не боялись, что Капут проснется и застанет вас за этим занятием?
— Нет, — вмешался Анджело, — я дал ему немного успокоительного. В Париже, у моего знакомого, который держит ресторанчик.
Собака! Вот почему он повез меня именно туда, на улицу Лепик! Да, приятели у итальяшки были, как на подбор…
Верно, я и сам тогда удивился, что так хочется спать. Ведь никогда раньше бессонная ночь не отправляла меня в нокаут…
Полицейский мягко отстранил Мейерфельда.
— Предоставьте дело мне, патрон, — уверенно сказал он. — Все эти свиньи водят нас за нос… Сейчас я с ними по-своему поговорю.
Он позвал того, что остался в спальне:
— Сидуан! Закрой девчонку в комнате и иди сюда… Сейчас я вам, ребятки, устрою праздник души, — пообещал он нам.
На этот раз сомнений не было: он валил в одну кучу нас всех — Анджело, его приятеля и меня.
— Я не имею никакого отношения к вашим разборам, — как можно достойнее сказал приятель Антуан.
— Вот мы это и проверим…
Появление доходяги Сидуана всех на секунду отвлекло.
— Бери пушку, — сказал усатый. — И стреляй в первого, кто дернется, понял?
Он двинулся к Антуану, видимо, соблазненный его чопорным видом.
— Так вы ничего не знаете?
— Ничего…
— И в машине, под брезентом, не было никакого ящика из-под печенья?
— Не было, честное слово!
Полицейский врезал ему в бок. Раздался такой звук, будто лопнул бумажный пакет. Антуан издал протяжный стон и широко разинул рот, чтобы подлечиться хорошей порцией кислорода.
Но продажный страж порядка не дал ему времени унять боль. Он тут же ударил в подбородок — на этот раз левой. Хозяин закачался и упал на четвереньки. Это автоматически влекло за собой удар ногой по ребрам, и он его тут же получил. После этого он улегся на спину и больше не двигался, несмотря на еще один пинок, которым его щедро наградил его мучитель.
Анджело плакал от бешенства.
— Как же так можно! — выпалил он. — Я все сделал, как вы просили, а вы мне же теперь и не верите! О, проклятье, да если б вы дали мне волю, этот ублюдок сразу бы ответил мне, где деньги!
— Правда? — спросил Мейерфельд, уже не зная, какому богу молиться.
— Клянусь вам! Дайте хоть попробовать!
Американец посмотрел на полицейского. Тот прекрасно понял этот взгляд. Он сунул руку в карман, извлек оттуда наручники и надел их на меня с ловкостью и быстротой, которые наверняка принесли бы ему первый приз на конкурсе легашей.
— Ладно, — пробормотал он. — Угощайся, Анджело. Только предупреждаю: если ты его угробишь, то составишь ему компанию в его фамильном склепе!
— Не беспокойтесь.
Взгляд Анджело полностью отражал состояние его души. Я понимал, что сейчас мне придется хреново. Я еще никогда не оказывался лицом к лицу с человеком, которого так распирало бы от ненависти.
Анджело глубоко вздохнул, потом снял пиджак и бросил его на стол. Мейерфельд закурил сигару. Он казался смущенным. Еще бы: он привык устраивать свои дела в чистеньком кабинете с дюжиной телефонов… Практическая сторона работы была ему до сих пор не видна; он открывал ее для себя только теперь — и без особого удовольствия. Он, наверное, сильно сожалел, что Каломару вздумалось испытать меня, вместо того чтобы сразу пустить мне пулю в лоб. Анджело поднял руку. Рука у него была изящная, ухоженная и небольшая — как у большинства убийц.
— Линия жизни у тебя коротковата, — сказал я.
Он поднес руку к моему лицу, и пять его острых ногтей огненными корнями вросли мне в правую щеку.
— Да? — проскрипел он, стиснув зубы.
Я попытался двинуть его коленом туда, где больнее всего, но он, уже наученный опытом, держался чуть в стороне.
Он коротко дернул рукой, и его ногти разодрали мне лицо. Это причинило ужасную боль — словно в рожу полыхнули паяльной лампой.
— Я всегда подозревал, что у тебя девчачьи замашки, — проговорил я. — Чуть что — сразу царапаться!
Он ничего не ответил и показал мне свою руку. Концы пальцев покраснели от крови, и под ногтями застряли кусочки мяса.
Он вытер руку о мою рубашку, потом внезапно и с поразительной силой замолотил меня в живот. Воздух убежал от меня куда-то далеко-далеко. Я отчаянно хлопал жабрами, но внутрь ничего не засасывалось…
— А что если я тебе яйца отрежу? — предложил он. — А? Давай?
— Каждый мечтает о том, чего у него нет… — выдавил я из себя.
Он сунул руку в карман брюк и достал длинный нож с очень тонким лезвием.
— Если сейчас же не скажешь, где деньги, я тебя вскрою!
— Не надо, я боюсь сквозняков…
Он улыбнулся какой-то странной улыбкой. Потом приложил лезвие к моей рубашке и быстро изобразил на ней какой-то нехитрый узор. Я ничего не почувствовал, однако лоскут рубашки упал на землю, и я увидел, что узор повторился на моей коже, окаймленный красными каплями…
— Зря ты молчишь, Капут: я сегодня в форме и запросто могу разрезать тебя на куски, слышишь, ты?
Я понял, что если не вмешаются остальные, он действительно изуродует меня, как бог черепаху.
— Послушайте, Мейерфельд, — сказал я, — вы не находите, что этот юноша малость переигрывает? По-моему, он просто хочет усыпить вашу бдительность, а потом…
— Ничего! — перебил Мейерфельд. — Если он так и не сможет добиться от вас признания, то потом мы развяжем язык ему!
Я помрачнел. Стимул был действительно неплохой… После такого предупреждения Анджело ничего не оставалось, как идти до конца. Его лицо ожесточилось.
— Слушай, Капут, — сказал он мне. — У меня преимущество над остальными: я знаю, что ты
знаешь… Я сильнее, потому что я не сомневаюсь, понимаешь?
Он был неглуп.
Его разноцветные глаза пристально смотрели на меня. Они вызывали у меня неприятное чувство, что-то вроде тошноты. Может быть, виной тому было отчасти и зелье, которое он подсыпал мне накануне…
— Я ничего не знаю! — ответил я. — Можешь нарезать меня хоть мелкими дольками — я ничего не скажу, потому что это ты…
Он яростным движением всадил нож мне в бедро. Потом, вместо того чтобы вытащить, начал медленно поворачивать лезвие в ране.
Боль была невыносимой… Остальные не сводили с меня глаз… Мейерфельд, все более и более недовольный, прятался за облаками голубоватого дыма… Лежавший на полу приятель Антуан выкарабкивался из забытья, помогая себе глубокими вздохами…
— Говори! — прошипел Анджело. — Говори, скотина, или я тебе все мясо порву!
Мне казалось, что он проковырял в моем теле целую пещеру. По бедру текла горячая кровь… Щека все пылала…
Глаза Анджело горели первобытным огнем на фоне мертвенно-бледного лица.
— Говори!
Я сжал зубы… И вдруг, сквозь полусомкнутые веки, увидел в проеме двери, выходящей в коридор, первоклассное привидение. Это была Сказка, одетая в ночную рубашку. Она стояла на пороге с кочергой в руке, немая, тихая и бледная… Я прикрыл глаза, чтобы мой взгляд не выдал ее остальным, стоявшим к ней спиной.
— Хорошо, — вздохнул я. — Я… Я скажу.
Это была именно та фраза, которую следовало произнести, чтобы приковать к себе внимание аудитории. Они словно дернулись в судороге и буквально всем своим существом потянулись ко мне.
— Итак? — торжествующе сказал Анджело.
Больше ничего он сказать не успел. Раздался глухой удар: это Сказка обрушила свою кочергу на затылок Сидуана. Она вложила в этот удар все свое мужество, всю волю. Доходяга выронил винтовку и зашатался. Прежде чем остальные успели сообразить, что к чему, Сказка подхватила оружие…
Что меня в этой девушке покоряло, так это ее решимость. Другая бы на ее месте наверняка начала переводить ствол с одного на другого и по-детски кричать «руки вверх»! Эта же, наоборот, сразу открыла огонь… Она начала с самого срочного дела — то есть с Анджело. Он схлопотал первую очередь, которая почти перешибла его пополам. Следующая порция леденцов досталась Мейерфельду. Он рухнул, не выпуская изо рта сигару, и зашаркал ногами по полу. Усатый получил свое уже тогда, когда вытаскивал свой персональный револьвер. Этому досталось крепче всех — она попала ему в голову. Тр-р-р-р! Его рожа мгновенно превратилась в корзину раздавленной клубники.
Тут я увидел, что за спиной Сказки вырос приятель Антуан с бутылкой в руке.
— Сказка, берегись!
Она отскочила в сторону и вскрикнула: бутылка все-таки задела ей плечо.
Я дал Антуану подножку, и он завалился.
— Давай в него! — крикнул я.
Но в карабине больше не было патронов, и затвор издал лишь негромкий дурацкий щелчок.
Я подскочил к пиджаку Анджело, который остался лежать на столе, выудил оттуда автоматический пистолет и разрядил его в Антуана, держа в скованных наручниками руках. Первая пуля прошла мимо, но вторая прошила ему левый глаз: тут уже не требовались ни комментарии, ни лечение.
Да, это была настоящая бойня. На полу, навалившись друг на друга, лежало пять трупов — один окровавленней другого…
Я повернулся к Сказке.
— Можно сказать, что ты появилась вовремя!
— Да, мне тоже так кажется.
Она посмотрела на меня и ахнула:
— Боже мой! Сколько на тебе крови!
Действительно, из второй раны — в боку — бежал целый ручей. Там все еще торчал нож Анджело. Я ухватился за рукоятку и резким движением вытащил лезвие. Кровь полилась сильнее.
— Видно, эта скотина перерезала мне какую-то вену, — проговорил я.
— Подожди!
Она убежала и через две минуты вернулась с аптечным шкафчиком, который сорвала со стены ванной комнаты.
Она быстро осмотрела его содержимое, затем залила мне бок спиртовым раствором, и кровь смешалась с беловатой пеной. Потом она достала марлю, скомкала ее в шарик, приложила к ране и заклеила сверху пластырем.
— Так, — сказала она. — Одеваемся — и поехали отсюда. Боюсь, что эта пальба всю деревню всполошила…
Я тоже не на шутку опасался приезда жандармов.
Сказка освободила меня от наручников, открыв их найденным у усатого ключом, и мы быстро пошли одеваться. Мои раны еще сильно болели, но кровь почти остановилась.
Одевшись, я поспешил к гаражу; Сказка шла за мной.
Я был изрядно огорчен тем, что мой «кадиллак» пришел в негодность. К счастью, во дворе стоял черный «ситроен» полицейских.
— Поехали скорее! — проговорила Сказка, направляясь к нему.
— Минутку, девочка, а деньги?
Она остановилась.
— Деньги?
— А как же? Ты думаешь, я оставлю их здесь на хранение?
Я дохромал до «кадиллака» и вытащил из багажника домкрат и монтировку.
— Помоги-ка мне снять шины: деньги там, внутри!
Сначала она мне даже не поверила и указала пальцем на распоротое запасное колесо:
— Если так, они бы их нашли!
— Я не такой олух, чтоб совать их в запасное колесо!
Я отвинчивал хромированные болты и объяснял
-.
— Я перевел деньги в доллары — в крупные купюры. Потом купил непробиваемые шины «X», снял внутреннее покрытие, выложил шины долларами, положил сверху бумагу и поставил покрытие на место. Триста миллионов в четырех шинах — разве это не гениальная идея?
Сказка была взбудоражена.
— Вот это да! И эти идиоты их не нашли!
— Как видишь…
Болты я отвернул быстро, но… снимать шины было уже некогда. Оставалось только засунуть все четыре колеса в «ситроен» и скорее сматываться подальше от этого места — потом разберемся…
Поднимать эту здоровенную тачку было несладко. Я снял колеса с одной стороны, потом, чтобы дело шло быстрее, свалил машину с домкрата. Когда я снимал третье колесо, Сказка воскликнула:
— Смотри, люди!
Действительно, к воротам подъезжал мотоцикл с коляской.
В лунном свете я различил кители троих жандармов, за которыми, скорее всего, бежала делегация из деревни.
Я выругался: я уже не успевал снять четвертое колесо. Мне страшно не хотелось оставлять здесь семьдесят пять миллионов, но другого выхода не было. К счастью, Сказка уже закатила два первых колеса в «ситроен». Я положил туда третье и сел за руль.
Жандармы прошли всего в двадцати метрах от нас; они направлялись в дом. Пока что они нас не видели, но должны были отреагировать при первых же оборотах нашего мотора.
— Пусть войдут в дом, — прошептала Сказка. — Пока они будут осматривать трупы, мы уедем…
Увы, перед воротами уже собрались люди: стрельба действительно привлекла всеобщее внимание.
Как только жандармы вломились в дом, я включил стартер. Один страж порядка — самый чуткий и самый проворный — тут же выскочил обратно. Увидев в темном углу двора нашу машину, он побежал к воротам, чтобы отрезать нам путь к отступлению…
Я включил все фары, в том числе и противотуманные, желая его ослепить. Но он оказался храбрецом. Он вытащил пушку и встал в воротах, твердо вознамерившись стрелять, если мы не остановимся.
Я замедлил ход и остановился в двух метрах от него. Он решил, что я сдаюсь, и опустил оружие. Тогда я включил сразу вторую скорость и крепко придавил акселератор. «Ситроен» рванулся вперед, сбив жандарма с ног. Я почувствовал, как по нему проехали наши колеса. Собравшиеся у ворот люди закричали, и дорога мгновенно стала свободной.
Я помчался в темноту. Все складывалось хуже, чем я ожидал… У меня все не выходило из головы то четвертое колесо, и я прямо кипел от злости…
X
В конце деревни дорога раздваивалась: налево — Муи-де-ль'Уаз, направо Париж через Иль-Адам.
Я на мгновение заколебался; Сказка это почувствовала.
— Не надо забираться в дебри, — посоветовала она. — Иначе можно заехать в тупик…
На этот раз я был с ней не согласен. Я знал, что те жандармы уже подняли тревогу во всех легашатниках департамента и что самое большее через двадцать минут все близлежащие дороги перекроют. У нас еще оставался шанс спрятаться в какой-нибудь дремучей дыре, в то время как в черте Парижа это сделать было практически невозможно. Но я все же повернул направо, решив положиться на смекалку моей подруги. Час назад она предоставила мне достаточно убедительные доказательства своей верности…
Я дал полный газ; с обеих сторон мимо машины понесся сонный темный пейзаж.
— Скорее! — крикнула вдруг Сказка.
Она залезла на сиденье коленями, чтобы удобнее было смотреть назад. Я глянул в зеркало. Далеко позади нас из черноты выбивалась желтая фара: это была трещотка жандармов. Мне показалось странным, что эти болваны сели нам на хвост. С их стороны это было довольно опрометчиво, ведь их осталось всего двое…
Мы проехали какую-то спящую деревню. Я на секунду высунул голову из окна, чтобы посмотреть, где сейчас наши преследователи, и одновременно констатировал две вещи: что на мотоцикле всего один жандарм и что он быстро сокращает разделяющее нас расстояние. Дело было плохо… Мужик шпарил как бешеный. Его машина была, наверное, в двести пятьдесят кубиков, и он прочищал ей трубы до упора!
— Сейчас он нас сделает, — проговорила Сказка. В ее голосе не было ни тени страха. Она словно комментировала спортивное состязание.
— Возьми мою пушку, — сказал я. — Ты же умеешь с этим обращаться… — И я протянул ей пистолет, вынутый из пиджака Анджело.
— Помедленнее! — попросила она.
Я слегка сбавил газ. Фара мотоцикла подпрыгивала за нами в темноте. До сих пор он ехал с ближним светом, но вдруг буквально взорвался золотым сиянием. Что-то ударилось о нашу машину. Этот кретин в нас стрелял!
— Он, наверное, захотел орден Почетного легиона, — усмехнулась Сказка, которую погоня, казалось, все больше возбуждала.
— Получит, — пообещал я, сжав зубы. — Только посмертно…
Увы! Этот гад был не так уж прост. Он оказался настоящим специалистом мотоциклетного абордажа. Он не спешил нас обгонять: ведь уже убедился в том, что нас не очень-то смущают живые препятствия. Его замысел заключался в том, чтобы ехать за нами и посылать вдогонку пули Освещая нас своей фарой, он мог следить за всеми нашими движениями и действовать по обстоятельствам. Сущий прилипала…
— Скоро Иль-Адам! — проговорил я. — Пора от него избавляться.
— Но как? Если я перелезу назад и разобью стекло, чтобы отстреливаться, он в меня легко попадет…
— Погоди-ка… А ну, держись крепче!
Нужно было срочно что-то предпринимать, иначе он мог подстрелить кого-нибудь из нас или пробить нам шину.
Я выключил передачу и яростно нажал на тормоз. Он ехал за нами по пятам и держал руль одной рукой, так что не успел последовать нашему примеру и на скорости сто километров в час врезался в наш задний бампер. Если бы я не потрудился выключить скорость, удар растер бы в порошок коробку передач. Но раздался лишь треск сминаемого металла, и машина дернулась вперед, как от порыва ураганного ветра.
Я поставил первую скорость и пощупал ногой акселератор. Тачка двинулась дальше. Похоже, все обошлось… Багажник был искорежен, заднее стекло превратилось во множество маленьких стеклышек, но главным было все же то, что машина осталась на ходу.
— Мы его сделали, Сказка!
— Да уж…
Я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел лишь темное пятно посреди дороги. Гонщик получил свою порцию снотворного… Будет знать, как выслуживаться!
Мы достигли Иль-Адама. Городок видел десятый сон; в нем горело всего два-три окна. Я повернул направо, на Овер-сюр-Уаз. Меня не нужно было подстегивать. Погоня длилась почти четверть часа, и о нас уже наверняка растрезвонили по всей округе. Я готов был поспорить, что жандармы из Понтуаз как раз в эту минуту ставят поперек дороги телегу. Да и не только они…
— Что будем делать? — спросила Сказка, словно эхом отозвавшись на мои мысли.
— Надо срочно где-нибудь спрятаться… Скоро нам все равно придется бросить машину, но мне, знаешь ли, неохота расставаться с теми тремя колесами…
— Спрятаться — но где?
— Постой-ка…
Я понял, что если буду гнать как безумный, то вообще ничего не найду. Пора было сбавить обороты и как следует осмотреться…
Вдруг я остановился.
Вдали, меньше чем в километре от нас, на дороге копошились огоньки.
— Это они! — прошептал я. — Мы едем прямо к ним в руки, с пылу с жару!
— Сдай назад! — сказала моя подруга. — Кажется, я видела в лесу дорогу: слева, в сотне метров отсюда.
Я погасил фары и стал пятиться назад. Она не ошиблась: там действительно оказалась дорога. Каменистая, с глубокими рытвинами, но все же проезжая.
Машина плясала на ямах, как лодка в бушующем море. Я вцепился в руль, а Сказку, у которой руля не было, швыряло от дверцы к моему плечу и обратно.
— Штормит, да? — улыбнулся я, желая ее подбодрить.
Но она не нуждалась в подбадривании. Она была дьявольски храбрая девушка, и такие мелочи ее не волновали.
— Езжай, езжай… — вздохнула она. — Только не включай фары: если их увидят с дороги, бежать будет уже некуда.
— Да ты что! Я дело знаю…
Она засмеялась.
— Да, Капут, свое дело ты знаешь!
Лесная дорога вела к берегу Уазы. Вдоль берега шла бывшая бурлацкая тропа, которую теперь окаймляли деревья; свернув на нее, я немного успокоился. Эта тропа была ненамного ровнее предыдущей, но ехать по ней было все же легче: она проходила по прямой.
Я замедлил ход. На время мы оказались вне досягаемости полицейских, однако передышка обещала быть недолгой. Если ехать дальше — мы окажемся в городке Овер, а если ждать здесь — утром кто-нибудь обязательно сообщит о машине властям.
Поскольку я всегда был ярым противником неподвижности, то лишь перешел на вторую передачу и продолжал двигаться вперед, пока не показалась какая-то ферма. Я выключил зажигание. Услыхав шум мотора на такой безлюдной и ненаезженной дороге, хозяева могли забеспокоиться и предупредить жандармов.
— Посиди здесь, — сказал я. — Пойду посмотрю, что там.
Я крадучись дошел до ворот. На них висела прикрученная проволокой деревянная табличка, к которой был прикноплен лист бумаги. Я приблизился и наполовину прочел, наполовину угадал слово:
«ПРОДАЕТСЯ»
Не иначе, сам Господь Бог направил нас сюда…
На воротах висела цепь с замком. Но замок никогда не означал для меня ни чужую собственность, ни препятствие. Через минуту он сдался; я размотал цепь, и левая половинка ворот открылась сама собой, издав ржавый скрип, похожий на крик ночной птицы.
Я вошел в сад, заросший ежевикой и бурьяном. Место для убежища было поистине сказочное… Я вытащил из земли стержень, удерживавший вторую створку ворот, распахнул их во всю ширь и вернулся к машине.
— Я только что сделал приобретение, — сообщил я Сказке. — Представь себе, этот райский уголок продавался. Несколько гектаров земли, столетние деревья, — и все это на самом берегу Уазы. Разве это не чудо? Стоит затаиться тут всего на два-три дня — и тогда нам уже все нипочем!
Она захлопала в ладоши, как девочка, которой подарили игрушку.
— Вот здорово, милый!..
Я медленно
въехал в сад, не побоявшись даже включить габаритные огни; растительность была такой густой, что те остолопы на дороге ни за что не могли их заметить.
У ворот начиналась так называемая конная аллея; она вела к большому, правильных размеров дому. Буйно разросшиеся кусты превращали аллею в узкую полоску земли; колючие ветки царапали бока нашей машины.
Я выехал на площадку перед домом, выключил свет и вышел.
— Подожди тут, дорогая, я пойду закрою ворота…
Повесив замок на место, я обернулся и успокоился окончательно: с бурлацкой тропы не было видно ни дома, ни тем более машины.
Успокоенный и счастливый, я побежал обратно. Я поцеловал Сказку, и мы стали подниматься по узким ступеням крыльца. Дверной замок был старинный (а значит — крепкий), однако вовсе несложный. Я достал из ящика с инструментами отвертку и довольно быстро открыл дверь. В лицо мне пахнуло сыростью и плесенью. Дом был холодным и гнилым, в нем, похоже, уже с десяток лет никто не жил. Может быть, причиной тому были ежегодные паводки на Уазе. В наши дни такие унылые хибары все реже находят покупателя; богачи предпочитают разукрашенные домишки в старом калифорнийском стиле…
Я нащупал на стене выключатель и повернул его, но, разумеется, безрезультатно: электричество в доме давным-давно отрубили. У меня была при себе одна единственная коробка спичек. Я зажег одну из них, и ее слабый огонек осветил большой голый вестибюль с отклеенными полосками обоев и обсыпавшимся потолком. Я чиркнул второй спичкой, собираясь продолжить осмотр; другие комнаты тоже были совершенно пусты и имели плачевный вид. В общем, жилище оказалось, мягко говоря, безрадостным.
— Ну, что? — спросила Сказка, когда я вернулся.
— Да, это не «Континенталь»…
— Ну что ж, зато здесь спокойнее…
— В комнатах полнейшая пустота и сыро, как на болоте. Я даже подозреваю, что тут где-то обосновались летучие мыши. Но в остальном…
— В остальном — мы по-прежнему вместе, и это идеальное убежище. Так что — какая нам разница?
— Хорошо. Будем устраиваться. Сейчас поможешь мне.
— А что делать?
— Занесем в дом сиденья. Будем на них спать.
— А колеса?
— Тоже занесем. И вытащим из них деньги. Плед тоже возьми: сдается мне, что по ночам в этом дворце не жарко…
Когда все упомянутые вещи оказались в доме, я спрятал машину за домом, среди зарослей бересклета. Обходя ее сзади, я увидел, что задняя часть серьезно повреждена. От столкновения с мотоциклистом багажник открылся и поднялся вверх; на таком транспорте было трудно проехать незамеченными.
Я вернулся в дом в задумчивом молчании; Сказка возилась в темноте, устраивая ночлег.
XI
Более скверной ночи, чем эта, я даже и припомнить не могу. Едва я улегся рядом со Сказкой, как мои раны стали напоминать о себе — особенно та, что на бедре. Пока я был разгорячен, их не чувствовалось, но когда начал остывать — а этому в немалой степени способствовал дом, боль возобновилась. Поначалу я лишь молча стискивал зубы, но боль — она как радость: ее нужно выражать вслух. Вскоре, сам того не замечая, я начал подвывать.
— Что с тобой? — испугалась Сказка.
— Нога болит…
— Давай сменю повязку?
— Чем сменишь? В этом сарае ничего нет, НИЧЕГО! Даже вода — и та перекрыта!
Тогда она взяла меня за руку, как мать берет за руку своего малыша, и мне стало чуть полегче…
Однако будущее все равно виделось мне в черном цвете.
То, что с нами происходило, было очень скверно. В считанные часы я вновь сделался прежним Капутом, Правда, на этот раз богатым, но загнанным в угол, как никогда. Сколько раз я уже мечтал покинуть Францию и зажить новой жизнью где-нибудь далеко, под ярким солнцем!.. И каждый раз судьба опять заворачивала меня обратно, словно вечного пленника своей неласковой родины!
Кажется, мне все же удалось заснуть, потому что я пришел в себя уже намного позже. Я открыл глаза, зашевелился — и меня мгновенно скрутила боль, которая не ушла, а лишь притупилась было от усталости и тревоги. Я закричал. Сказка подскочила:
— Что?!
— Ничего, девочка, просто неудачно повернулся — и заболело…
Она поднялась, заметно сутулясь: изогнутые сиденья машины не располагали к приятному отдыху.
— Видишь, говорил я тебе: это не «Континенталь»…
В помятом платье и с растрепанными волосами она все равно была очень красивой: настоящая туземка, вышедшая из тропического леса. Уже наступило утро, в окна светило солнце. Мне стало лучше только оттого, что я смотрел на нее.
Я встал, едва сдерживая страдальческое мычание.
— Послушай, — сказала она. — Меня вот что беспокоит: нам здесь нечего есть, нечего пить… Мы не сможем здесь долго оставаться. Знаешь пословицу: голод и волка из лесу выгонит…
Действительно, положение было паршивым.
— Пойди-ка взгляни, не завалялось ли что-нибудь в машине. А я пока осмотрю дом.
Я отправился на освоение берлоги. Похоже, тот, кто повесил на ворота табличку «продается», был изрядным оптимистом. Чтобы купить такой товар, нужно было по — настоящему любить развалины и одиночество. Во всех углах воняло гнилью, на стенах змеились трещины, там и сям висели оборванные провода… Пол местами вздулся; но главное — в комнатах не было ни одного предмета, ни единой вещицы… Я еще никогда не бывал в таком безнадежно пустом доме. Впору было завопить от отчаяния. Обшарпанные, затянутые паутиной комнаты по очереди обдавали меня своим ледяным дыханием. В некоторых были выбиты оконные стекла, а ставни болтались на одной петле. Тут можно было снять отличный фильм ужасов. Если призраки действительно существуют, то они наверняка уже избрали это место своей штаб-квартирой…
Я вернулся в нашу «спальню». Через минуту на пороге появилась Сказка. Она держала в руке что-то, завернутое в носовой платок.
— В машине была только коробочка аспирина и склянка рома. Господа полицейские берегут свое здоровье…
Она решительно сунула мне в рот две таблетки аспирина, и я проглотил их, запив глотком рома.
— Зато я нашла кое-что в саду…
В носовом платке у нее оказалась ежевика и несколько кисловатых яблок. Мы съели все это, пытаясь внушить себе, что еда придаст нам сил.
— Ну, что будем делать теперь?
— Теперь, Сказка, нам предстоит самое трудное: ждать.
— Ты думаешь?
— Уверен. Время работает на нас. Это будет невесело, но от этого зависит наша жизнь.
Она кивнула.
— Чем бы нам скоротать время?
— Для начала достанем из колес деньги…
Монтировки у нас не было, а резина на этих «непробиваемых» была невероятно жесткой. Я провозился с ободком довольно долго, но дальше дело пошло само собой. По мере того как я вынимал доллары, Сказка складывала их на полу. Вскоре набралась порядочная пачка.
Манипуляции с деньгами, казалось, нимало ее не возбуждали. Напротив, она казалась какой-то задумчивой.
— Знаешь что? — пробормотала она вдруг. — Этот жандарм почти что оторвал нам крышку багажника…
— Да, ну и что?
— В багажнике лежала банка с маслом. Ее пробило пулей, и масло вытекло…
— Ну и черт с ним.
— Тебе не кажется, что оно могло оставить на дороге следы?
Я обдумал это предположение.
— Знаешь, крошка, масло на дороге не особенно привлекает внимание…
— Пятна, может быть, и не привлекают. Но сплошная полоска может показаться полицейским подозрительной, особенно если она начинается на месте столкновения…
— Банка наверняка опустела задолго до того, как мы свернули в лес…
— Нет, масло льется из дырки довольно медленно.
Ее опасения смутно раздражали меня, тем более что я находил их немного детскими. Так или иначе — нам все равно нельзя было покидать сейчас свое укрытие. У нашей машины было не больше шансов пройти незамеченной, чем у разъяренного быка, вбежавшего в посудную лавку. Да и моя ободранная рожа бросалась бы в глаза не меньше, чем сама машина. Оставив после себя столько убитых жандармов, я не сомневался, что их коллеги видят мой портрет даже во сне.
В этот раз я передал этим господам слишком уж горячий привет… Они мигом бросят все остальные дела и займутся моей скромной персоной. Я сознавал, что у меня почти нет надежды проскочить сквозь ячейки расставленной сети…
Я уже почти управился с первым колесом, когда Сказка вздрогнула и прислушалась. Она жестом велела мне молчать, и я сразу превратился в живой радар… Я вовсю напрягал слух, но не улавливал ничего, кроме шелеста травы на ветру.
— Чего ты?
— Мне послышалось, что где-то хлопнула дверца…
— Да ладно!
Я взял ее за плечи и поцеловал.
— Не накручивай себя, а то еще и не такое почудится. Ну сама посуди: если легаши сюда доберутся, то разве станут они хлопать дверцами?
— Иногда это делаешь машинально, — возразила она.
Она подошла к окну, но за кустами ничего нельзя было разглядеть.
— Я залезу на чердак и посмотрю оттуда.
— Ну конечно! Чтобы тебя сразу увидели?
— Нет, я осторожно…
— Ну давай, если это тебя успокоит.
Она вышла — проворно, будто козочка.
Я принялся за второе колесо, но хотя аспирин и облегчил мои страдания, руки у меня сильно дрожали, и спина была покрыта потом.
Я вытер лоб рукавом. Черт побери, неужели я боюсь? Эта дурацкая история с банкой масла донимала меня все сильнее и сильнее. Действительно, если мы, сами того не подозревая, сыграли в Мальчика-с-пальчик, загребалы не заставят себя ждать…
Я глотнул рома, но он будто не дошел до желудка: горло сжимал страх. Лезвие ножа, сильно притупившееся о металлическую прослойку первого колеса, никак не хотело резать второе. Я еще не успел проткнуть его, когда услышал, как Сказка бежит вниз по изъеденной червями деревянной лестнице.
Она ворвалась в комнату, красная и взбудораженная.
Я выпустил из рук колесо.
— Скорей! Скорей! — выдохнула она. — Они уже тут!
— Что?
— На берегу стоят три полицейских фургона… Полно жандармов, каски на солнце блестят… Они окружают поместье!
Она не произносила, а будто выплевывала слова. От ее знаменитого спокойствия не осталось и следа: ее трясло от страха. Но вместо того чтобы передаться мне, ее мандраж вылечил меня от моего собственного. В таких случаях я всегда обретал свой «self-control[455]»…
— Ладно, смываемся, только без паники!
— Да как же нам смываться?! Говорю тебе, их везде полно!
— Слушай, перестань скулить и делай, как я. Прорвемся…
Она замолчала.
Я бросил отчаянный взгляд на два оставшихся колеса. Раскурочивать их было уже некогда. Мое состояние, заработанное таким жестоким, таким безжалостным путем, разваливалось на огромные куски и таяло на глазах. Три четверти я уже потерял. Однако собственная шкура была дороже…
Я торопливо распихал по карманам доллары из первого колеса; карманы живописно оттопырились.
Затем я осмотрел револьвер Анджело. В барабане осталось всего три патрона. Попробуйте выдержать осаду с тремя патронами…
— Пошли. Полезем через заднее окно.
Она молча устремилась за мной.
Мы открыли ставни в одной из дальних комнат; я прислушался, но услышал лишь тополиную песню ветра.
— Прыгай, Сказка!
Она влезла на подоконник и спрыгнула прямо в росшую у стены крапиву. Ей, видно, было так страшно, что она даже не почувствовала ожога от прикосновения этих поганых кустиков.
Я прыгнул вслед за ней. От толчка у меня страшно закололо в боку. Я зажал бок рукой, а когда отнял руку, она была липкой от крови: рана открылась вновь. Дело было дрянь.
XII
Согнувшись пополам, мы понеслись в глубь сада, в направлении реки. Это бегство угнетало меня: оно совершенно не отвечало моему характеру. Мне бы сейчас пулемет, я бы такое устроил этим гадам, из-за которых мне пришлось бросить свои миллионы…
Но я все бежал к забору, окружавшему поместье, и не хотел до него добегать, потому что у этого забора мне, похоже, оставалось только одно: поднять повыше клешни, услышав соответствующий приказ, и приготовить для фотографов свою улыбку number one[456].
Мы с горем пополам продрались сквозь колючие кусты к ограде. Каменный забор уже наполовину рассыпался, и в нем были широкие бреши, сквозь которые в сад, наверное, лазили пацаны и влюбленные парочки.
Я высунул голову в один из этих проемов и несмело посмотрел по сторонам. Всего в пяти метрах от забора протекала река. На нашем берегу громоздился прогнивший причал, к которому когда-то пришвартовывали рыбацкие лодки.
Полицейских видно не было. Они, как и полагается, первым делом подбирались к фасаду и боковым стенам дома. Я посмотрел на Сказку.
— Ты плавать умеешь?
— Да…
Водичка, конечно, обещала быть прохладной… Дул хлесткий ветерок, не вызывавший ни малейшего желания нырять в ледяную реку.
Я положил Сказке руку на затылок.
— Слушай, девочка, дело наше плохо. Если хочешь, останься и сдавайся. Можешь все валить на меня: я уже так далеко зашел, что это ничего не изменит. С твоей улыбкой и твоим простодушным лицом ты наверняка отделаешься двумя-тремя годами тюрьмы…
Она покачала головой.
— Я пойду с тобой хоть на дно, Капут!
— Тогда вперед, малыш. Но прежде чем мы начнем геройствовать, я хочу сказать, что ты — единственная настоящая женщина во всей моей сволочной жизни…
Я вылез из проема. Берег был мягким, затоптанная рыбаками трава — страшно скользкой; когда я пытался поддержать Сказку, у меня разъехались ноги, и я звучно шлепнулся на землю.
На углу сада, в сотне метров от нас, показался полицейский в черном шлеме.
— Стой! — крикнул он, увидев меня.
Рефлексы у этого козла оказались никудышними: за спиной у него висел карабин, но от неожиданности он даже не подумал взять его навскидку.
— Быстрей! Быстрей! — зашептал я Сказке.
Она поняла и, мужественно задрав юбку, сиганула со старого причала. Я прыгнул за ней в тот момент, когда легаш отчаянно дунул в свисток, скликая товарищей.
Сказка быстрыми размашистыми гребками приближалась к середине реки. Я шлепал за ней, то и дело оглядываясь назад. Берег пестрел полицейскими мундирами. Мои руки и ноги были точно свинцовые, пачки намокших купюр раздували карманы и мешали двигаться…
Я при всем желании не мог плыть быстрее, и это повергало меня в панику.
Позади нас чей-то голос закричал:
— Да стреляйте же, чтоб вас!.. Стреляйте, бараны!!!
И началось. Вокруг меня на воде появилось множество фонтанчиков, как при сильном ливне. Я каждую секунду ожидал, что кому-то из легавых посчастливится попасть в цель. Тогда можно было сразу ставить в программе соревнований заключительную точку.
К счастью, ветер продолжал топорщить реку частыми волнами, и отражавшееся в них солнце мешало полицейским как следует прицелиться…
Я размышлял с невероятной быстротой; в голове проносились тысячи мыслей и картин. Во-первых, говорил я себе, у полицейских нет лодки. Они не предполагали, что мы уйдем по воде. За лодкой им нужно ехать в Овер, а за это время мы сто раз успеем переправиться через реку. Зато когда выйдем на берег, в нашем распоряжении будет всего несколько минут. Да и то — если допустить, что рядом не окажется местных героев, привлеченных стрельбой. Хотя это вряд ли: скорее всего, они давно уже попрятались у себя в норах. Деревенские рыболовы — это, как правило, мирные и спокойные дедки, и подобная эпидемия выстрелов должна была их порядком перепугать…
Вдруг Сказка, уже почти достигшая противоположного берега, вскрикнула и исчезла под водой. Кровь взревела у меня в ушах. Сволочи! Прямо у меня на глазах… Я поплыл быстрее, увидел на поверхности воды розоватую пленку и нырнул. Сказка была на дне реки, ее медленно относило течением, Красивые застывшие черты ее лица были наполовину скрыты мокрыми прядями волос.
Я рванулся к ней, крепко обхватил ее за талию, оттолкнулся каблуками — и мы поднялись на поверхность.
Мне казалось, что всему настал конец и что мои последние отчаянные усилия уже никому не нужны. Я не знал, куда поразила ее эта проклятая пуля, но рана, видимо, была очень тяжелой, судя по тому, как быстро девушка пошла ко дну.
Я выбрался на берег… Я уже не обращал внимания на щелкающие вокруг пули. К великому счастью, теперь нас прикрывала полоса деревьев.
Я поднял Сказку на руки — и как сумасшедший побежал по свекловичному полю.
Перепрыгивая через ямы и спотыкаясь о комья земли, я смотрел на девушку и уже видел ее рану. Пуля прошла навылет через затылок, вроде бы не слишком глубоко. Я надеялся, что Сказку просто оглушило… Но сейчас было не время для тщательного осмотра.
Я рассчитывал, что после переправы через реку у меня будет запас времени в двадцать пять-тридцать минут. Но я, похоже, слишком размечтался полицейские, как видно, решили рвануть на машинах к ближайшему мосту. До него было четыре или пять километров. Это расстояние, помноженное на два, они преодолеют по здешним разбитым дорогам примерно за четверть часа. Половину этого времени я уже истратил на переправу и на вылавливание Сказки из воды… У меня оставалось каких-нибудь несчастных пять минут. А я все еще ковылял по полю в мокрой, прилипшей к телу одежде, с бесчувственной девушкой на руках и под градом пуль, летящих с другого берега…
В эту минуту я не сдавался только потому, что дух сопротивления был заложен во мне самой природой.
В отчаянии оглядевшись вокруг, я увидел какого-то крестьянина, стоявшего рядом с телегой навоза. Он смотрел на меня с таким глупым и ошарашенным видом, что я запросто мог бы убедить его в том, будто я воскресший святой.
Полицейские не могли разглядеть нас за деревьями; больше на горизонте никого не было. Я опустил Сказку на землю и достал свою пушку.
Это был здоровый, разъевшийся на деревенских харчах мужчина с грозными усищами и в надвинутой на брови фетровой шляпе.
Я подошел к нему с револьвером в руке.
— Подними руки!
Он, наверное, воевал на германском фронте, потому что подчинился с удивительным мастерством. Тогда я попятился и с размаху врезал ему ногой в живот. Он тяжело рухнул на землю, словно дуб, сваленный последним ударом топора.
Я еще разок двинул его ботинком. Потом, не теряя ни секунды, стащил с него штаны и вельветовую куртку и наспех натянул их поверх своей одежды. Мои мокрые тряпки сильно стесняли движения; благо, штаны и куртка мужика были на меня велики. Еще никогда я не чувствовал с такой остротой, как быстро летит время. Завалить этого навозника и нацепить его шмотки заняло у меня около трех минут. Теперь счет шел на секунды…
Я надвинул на уши его шляпу, оттащил его, бесчувственного, в кусты… Потом положил Сказку на телегу и принялся засыпать ее навозом, загребая его целыми охапками. Для ее раны это было вовсе не лучшим лекарством, совсем наоборот, но что поделаешь! Справившись с этим делом, я мимоходом подумал: что-то легавые запаздывают… Я схватил коняку за уздечку и крикнул «Но!» Однако эта скотина и не подумала пойти на взлет: видно, слушалась только хозяина.
«Ага, значит, ты у нас персональный транспорт, — подумал я. — Ну подожди, я тебя сделаю общественным»… Я достал из кармана вельветовой куртки перочинный ножик и ткнул им в лошадиную задницу. Кобыла, видимо, поняла, что «иди, детка, дам конфетку» — это не мой стиль, и двинулась вперед.
Я снова взял ее за уздечку и пошел рядом с телегой. К этому времени стрельба за деревьями прекратилась. Зато впереди, на дороге, появился черный автомобиль. Мне опять пора было вступать в игру.
Я замахал рукой. Машина остановилась рядом с нами; в ней сидело четверо фараонов со злобными рожами. Их, похоже, злило все сразу: что они легавые, что все у них сегодня идет через пень-колоду и что высокое начальство уже готовит им за это суровую вздрючку.
Я поступал крайне рискованно; они могли меня узнать. Однако, если вдуматься — они гнались за двумя промокшими беглецами, и им было плевать на небритого селянина, везущего навоз.
«Только бы Сказка не подала голос!» — подумал я.
Старший из полицейский рявкнул такое «Ну?!», от которого упал бы в обморок батальон марокканских стрелков.
Я показал пальцем на рощицу посреди поля, в километре от нас.
— Они вона куда побегли…
Полицашки выскочили из машины, которая не могла проехать по полю, и рванули к роще.
Я заколебался. Спокойнее было бы продолжить путь на телеге… Только Сказку нельзя было долго держать под этой кучей навоза. К тому же тащиться по полю было еще полбеды, но в деревне местные сразу узнали бы эту лошадь.
Я подождал, пока легаши отойдут достаточно далеко. Потом стащил девушку с ее вонючего ложа… Ее ресницы едва заметно вздрагивали.
— Потерпи, любимая, все будет хорошо, — прошептал я.
Для таких слюнявых утешений момент был совершенно неподходящий, но я ведь действительно ее любил…
Я заслонил машину телегой и буквально бросил Сказку на заднее сиденье. Потом отшвырнул прочь свою помятую шляпу и сел за руль. Двигатель завелся сразу, но передние, ведущие колеса, стоявшие на жирной земле, начали дьявольски буксовать…
Я попытался тронуться с места на второй передаче, «внатяжку», и машина наконец вылезла из грязи. Легаши на поле уже сделали «кругом» и неслись обратно. Бедняги размахивали ручонками, как огородные пугала во время бури! На задницах вовсю пробивалась седина… Продвижение по службе вылетало в трубу… Еще бы: в наши дни такая хреновина случается разве что в кинокомедиях!
Теперь дело пошло куда лучше, Оседлав мотор, я будто вновь оказался в родной стихии, Тем более что, пока они поднимут тревогу, пройдет не меньше двадцати минут… А пока их лопухи-коллеги снова нагромоздят на дороге баррикады, пробежит уже добрых три четверти часа… Опыт подсказывал мне, что мои подсчеты окажутся верными.
Я дал полный газ, не жалея амортизаторы. Главное было побыстрее выехать из этой опасной зоны…
Не иначе, отныне мне было суждено передвигаться только на полицейских машинах Странно: абонемента я вроде бы не покупал…
Когда они найдут эту свою тачку, то для начала им придется вылить на нее ведро одеколона, чтоб заглушить оставленный мною на память навозный штын. Не говоря уже об остальном ремонте…
XIII
До Овера нам не встретилось ни одной машины. Проехав его, я свернул налево, и после этого, уж поверьте, ни разу не убрал ноги с акселератора.
Теперь у меня оставался единственный выход, попробовать добраться до Парижа. Там я еще мог затеряться, благодаря своим долларам. Я знал несколько гостиниц, чьи хозяева охотно принимали вместо паспортов букетик купюр. Вот только до столицы было еще шестьдесят километров, и из-за интенсивного движения я мог преодолеть их не быстрее чем за час…
На заднем сиденье стонала Сказка. Она еще не пришла в себя. Ее рана сильно кровоточила, и ей срочно требовалась помощь.
Я на приличной скорости пересек два небольших поселка и достиг Таверни. Оттуда можно было ехать прямо, на Сен-Дени, или свернуть на Аржантей… Я избрал второй маршрут: так было ближе ехать до пригородных районов.
Каждое мгновение я ожидал, что легавые внезапно перегородят мне дорогу, но ничего такого не происходило. Я гнал так быстро, что встречные водители крутили пальцем у виска. Но мне было на это наплевать…
На подъезде к Патт-д'Уа движение замедлилось. Мне не нужно было рисовать иллюстрацию: я сообразил, что фараоны уже установили на шоссе турникет…
Хорошо еще, что по дороге валила приличная толпа: иначе я угодил бы головой прямо в сети.
Заметив справа второстепенную дорогу, я повернул туда. Улица оказалась узкой, без тротуаров. С одной стороны громоздилась заводская стена, с другой стояли деревянные домишки рабочих. Я медленно покатил дальше.
Эту улицу пересекала другая, такая же узкая, но чуть более живописная. Справа она заканчивалась тупиком, слева выходила на шоссе, означавшее для меня конец путешествия.
Я остановился, озираясь, тяжело дыша, ругаясь как извозчик (которым, кстати, и был одет). В это время дня все здесь было спокойно. Мужики были на работе, бабы пошли по магазинам или стирали белье, слушая «РТЛ». Да, все было тихо, но стоило мне тут засидеться — и мое присутствие обязательно привлекло бы внимание. Тем более что видок у меня был прямо-таки дикий, а на заднем сиденье истекала кровью раненая девчонка…
И тут — уже во второй раз за этот час — мне приветливо подмигнул случай. Подмигнул почти в буквальном смысле слова: из домика побогаче вышел какой-то тип, и в солнечных лучах сверкнула висевшая на двери медная табличка. «ДОКТОР ОБУЭН».
Ниже мелкими буквами были приписаны ученые звания хозяина, но издали их было не разглядеть. Впрочем, мне было начхать на все его дипломы и степени…
Я тихо подъехал к воротам и позвонил.
Дверь гаража была открыта, и там стоял маленький горбатый «рено»; это должно было означать, что костоправ дома.
Наконец на пороге показалась истрепанная годами женщина.
— Мне к доктору Обуэну! Срочно! — крикнул я.
Служанка вылупилась на меня, и результат осмотра оказался явно не в мою пользу, поскольку она бесстрастным голосом заявила:
— Доктор уже окончил прием и собирается на выезд, Он не сможет вас принять…
Говоря, она слегка морщила нос: от меня продолжал исходить веселый и назойливый запах навоза.
— И все же я должен к нему попасть, Я привез раненую. Случай очень серьезный.
— Если серьезный, тогда везите ее в больницу…
Я начал закипать.
— Послушайте, она истекает кровью, а на дорогах пробки. Неужели он допустит, чтобы она умерла у него на пороге?!
В доме открылось одно из окон, и в него высунулся худой парень в очках.
— Что там такое, Соланж?
— Девушка тяжело ранена! — крикнул я ему через плечо старой совы. — Надо спешить!
— Хорошо, входите!
— Откройте ворота, — велел я бабе. — Чтоб не так далеко было ее нести.
Она, ворча, открыла, и я поставил машину позади гаража. С улицы она теперь была не видна — этого я и добивался.
Служанка помогла мне внести Сказку в дом. Бедняжка уже вся побелела. Я испугался, что она уже отдала концы, но потом увидел, что ее грудь чуть-чуть приподнимается.
Тут подоспел и сам врач; он уже надел белый халат и стал в нем похож на измученного девственностью студента. Он наклонился над стоявшей в коридоре банкеткой, на которую мы положили раненую, и скорчил гримасу. Мамаша Соланж потопала на кухню за тряпкой.
— Что случилось? — спросил врач.
— Да, по всему видать, пулевое ранение…
Он подскочил и посмотрел на меня.
— Что-что?
— Я работал у себя в поле, тут остановилась машина, какие-то типы вытащили из нее эту девку, пальнули в нее и уехали. Ну, пока я ходил за своей машиной…
Но он уже не слушал. Все его внимание было обращено на рану.
— Ее нужно немедленно везти в больницу! — объявил он. — Я позвоню, чтобы прислали «скорую».
— А что, плохо дело?
— Хуже не бывает…
Я внезапно стал весь холодный, как ледышка.
— Неужели помрет?
— Пуля насквозь пробила ей основание черепа. Это просто чудо, что она до сих пор жива.
Я судорожно сцепил пальцы.
— Скажите, но, может быть, ее еще можно починить? Ну, какими-нибудь там переливаниями, пересадками…
Он покачал головой.
— Нет, ничего уже не поможет.
— Вы уверены в своем диагнозе?
— К сожалению, да.
Тон, которым он это произнес, был для меня не менее мучителен, чем сами слова.
Я посмотрел на Сказку… Она, казалось, понимала, о чем говорят. Глаза ее были открыты, и в них блестели слезы. И внутри у меня словно что-то закричало, но крик этот так и не смог вырваться наружу.
Ее губы зашевелились. Я наклонился и услышал ее шепот:
— Не бросай меня…
И вдруг я заорал гулким голосом, от которого задрожали стекла:
— Нет, Сказка, я тебя не брошу! Не бойся, не брошу никогда!
Врач попятился; служанка застыла с тряпкой в руке.
— Но… — пробормотал эскулап.
— Что?
Он шагнул к телефону, висевшему на стене у лестницы.
— Я позвоню в больницу.
Тогда я вытащил револьвер.
— Стойте!
Он обернулся и увидел оружие. Баба начала повизгивать; этот визг противно царапал мне барабанные перепонки. Я подошел к ней и жестоко врезал ей по роже. Она взвизгнула еще разок, но уже гораздо тише, и повалилась без чувств. Вставная челюсть наполовину вылезла у нее изо рта.
Молодой костоправ сразу утратил свои замашки будущего гран-патрона.
Я шагнул на него, подняв ствол револьвера. Револьвер, кстати, мог уже не действовать, хотя пробыл в воде совсем недолго.
— Ладно, доктор, хватит ломать комедию. Я преступник; моя шкура ценится сейчас дороже крокодиловой, и я намерен ее защищать. Я пробуду здесь до наступления темноты. Ведите себя спокойно, и все будет хорошо. Иначе завтракать будете уже на небесах. Ясно?
Он обреченно кивнул.
— Вот и хорошо, — сказал я. — Для начала надо убрать отсюда вашу старую кошелку. У вас тут есть погреб, который закрывается на замок?
— Да.
— Тогда помогите мне ее туда оттащить.
Я повернул ключ в замке входной двери, продолжая угрожать ему пистолетом; впрочем, я был совершенно уверен в его покорности. Такие, как он, борются разве что с холерой, но уж никак не с вооруженными бандитами.
Он взял старуху под мышки, я — за ноги, и мы спустились в подвал. Там были винный и угольный погреба; в последнем не было окошек, так что я уложил бабу на кучу антрацита и на прощание долбанул ее рукояткой револьвера по башке. Послышался хруст. Лицо врача, освещенное электрической лампочкой, страшно побледнело, По обе стороны от его носа стекали капли пота.
— Вам я тоже рекомендую эту форму анестезии, — проворчал я. — Очень эффективно: до завтра она даже не вспомнит, как ее зовут.
— Но вы, похоже, проломили ей череп! — воскликнул он, движимый чувством профессионального долга.
— Ну так сделаете трепанацию: заодно и руку набьете. Она уже в таком возрасте, что не беда, если и загнется…
Я силой вытолкал его из подвала и с грохотом задвинул засов.
— Пошли наверх.
Он был ни жив ни мертв.
Когда мы снова оказались рядом со Сказкой, я схватил его за халат.
— А теперь слушайте внимательно, дядя. Вы поняли, с кем имеете дело, да? Так что не пытайтесь меня обмануть. Сейчас мы с вами займемся девушкой… Несмотря на все ваши слова, я не верю, что ей уже ничем не помочь.
Он попытался изложить мне причины своего пессимизма, но я жестом велел ему замолчать.
— За работу! И поторопитесь! Если она к ночи умрет, я вас уничтожу!
Это сразу придало ему усердия. Мы перенесли Сказку на смотровой стол в его кабинете, и он принялся ковырять в ране пинцетом.
Я со сжавшимся сердцем смотрел на эту варварскую процедуру. Мне тяжело было видеть свою девочку калекой.
Она слабо вскрикнула от боли, и я отвел глаза. Я изувечил за свою жизнь стольких людей, но не мог видеть, как страдает Сказка. Меня мутило от вида ее крови.
— Скорее, док. Если вы ее спасете, то получите очень много денег. У меня их полные карманы, понимаете? Я очень выгодный клиент… Только вылечите ее!
Он повернулся ко мне.
— Ничего другого я и не желаю. Если бы только это было в моих силах…
— Пуля осталась в ране?
— Нет, вышла, но по дороге наделала много бед…
Он наложил Сказке на голову толстую замысловатую повязку. В ней она была похожа на тех монахинь, которых обычно рисуют в церковных книгах.
Потом врач установил капельницу и вставил девушке в вену иглу с резиновой трубкой.
— Это все, что я могу сделать. И еще разве что укол для поддержания сердечного тонуса.
Мы долго сидели молча, не зная, что теперь делать и что сказать. На помощь нам пришел телефонный звонок. Я жестом велел врачу следовать за мной и поднял трубку, направив на парня револьвер.
— Алло? — проговорил я.
— Доктор Обуэн? — спросил женский голос.
— Нет, — ответил я, — доктору пришлось внезапно уехать: у него скончался отец… Если у вас срочное дело, обратитесь к кому-нибудь из его коллег.
Женщина пробормотала что-то неразборчивое и повесила трубку, Я позвонил в службу отсутствующих абонентов, назвался доктором Обуэном, наплел, что у меня загнулся папаша и попросил сообщить об этом всем пациентам, которые позвонят в течение дня…
Это был лучший способ отгородиться от телефона, не обрывая проводов. Врачам звонят часто, и о неисправности сразу узнали бы на телефонной станции.
— Прошу прощения за то, что похоронил вашего уважаемого папочку, — сказал я Обуэну.
Он пожал плечами и равнодушно ответил:
— Ничего: я сирота.
XIV
К тому времени, когда мы вернулись в его кабинет, лицо Сказки (по крайней мере, так мне показалось) слегка порозовело, а дыхание сделалось ровнее… Я осторожно взял ее запястье и почувствовал под своими грубыми пальцами пульс, бьющийся в панике перед неминуемой смертью.
— Нет уж, — прохрипел я, — я не желаю, чтобы она подыхала!
Врач, не глядя на меня, спросил:
— Значит, вы ее любите?
Его вопрос удивил меня.
— Это вас шокирует?
— Нет, просто удивляет…
Он слабо, едва заметно улыбнулся:
— Вас трудно вообразить в роли Дон Жуана… Дело тут не во внешности: вам недостает хороших манер…
Его нравоучения, да еще сказанные в подобную минуту, разозлили меня.
— Дурак ты! — рявкнул я, надвигаясь на него. — Да ты хоть знаешь, что такое любовь? Хоть одной бабе понравилась твоя поганая рожа, которой только говнопровод затыкать?!
Он испугался. Под глазами у него обозначились темные круги… Меня так и тянуло заткнуть ему глотку навсегда; удержало меня лишь то, что он еще мог оказаться полезен Сказке.
Резь в желудке вернула меня к суетной действительности. Мне дико хотелось жрать. Кислые яблочки моей бедной Сказки не могли компенсировать истраченные мной силы и нервы.
— Так что лучше помалкивай, костоправ, — со вздохом подытожил я, — и пойди организуй нам чего-нибудь поесть. Это хоть как-то отвлечет тебя от твоих банок и горчичников…
Мы вышли; Сказка, похоже, спала благотворным сном.
На кухне, на самом видном месте, стояла, словно натюрморт, тарелка с сырыми бифштексами.
— Поджарь-ка их, парень, если, конечно, умеешь!
Он молча поставил на плиту сковородку. Я начинал дрожать от мокрой одежды, которая по-прежнему оставалась на мне. Со штанин еще капала вода…
Пока врач жарил бифштексы, я разделся и развесил свои мокрые тряпки у плиты. Моя рана крепко давала о себе знать. Я подумал было заставить врача сделать мне перевязку, но голод был сильнее… В этой кухне пахло, как в доме старого холостяка или даже как в доме священника. Да, это была точь-в-точь кухня старенького кюре, с ароматами любовно приготовленных блюд и традиционных приправ. Посуда была начищена до блеска и пахла дезинфицирующим средством.
Обуэн положил оба поджаренных бифштекса на одну тарелку.
— Прошу к столу, — сказал он.
Он, казалось, уже смирился со своей судьбой. Может быть, потому, что был, в сущности, еще пацаном, мечтавшим о приключениях, и после того, как рассеялся первый страх, находил всю эту историю довольно увлекательной.
— Ты что, не будешь? — спросил я.
— Обед я обычно пропускаю…
— Фигуру бережешь?
Мне почему-то хотелось называть его на «ты», говорить с ним как со старым другом. Наверное, оттого, что помощь, которую он оказывал моей девушке, делала нас своего рода сообщниками…
— Скажите, — осмелел он, — может быть, вы всё-таки позволите мне помочь моей горничной?
— Как, ты еще не забыл об этой старой карге?
— Как забыть о человеке, который верно служил тебе тридцать лет, а теперь лежит при смерти в твоем подвале?
— Она тебе по наследству досталась?
— В общем-то, да…
Он удивленно и чуть насмешливо наблюдал, как я пожираю мясо.
— А у вас, я вижу, аппетит от горя не пропал…
Я звякнул вилкой по краю тарелки.
— Я запрещаю тебе так со мной разговаривать, слышишь, ты!
— Я это не со зла. Я ненавижу притворство… А у больных его столько…
Я ничего не ответил.
— Нет, серьезно, можно мне пойти посмотреть, как там Соланж?
— Нет… Если она издохла, это вгонит тебя в тоску, а если нет, она доставит мне лишние хлопоты, так что лучше уж давай оставаться в неведении.
Он вздохнул:
— Кто же вы такой?
Я посмотрел на фаянсовые часы, висевшие над буфетом.
— Уже полдень! — заметил я. — Время последних известий. Послушай радио — и все узнаешь. Журналисты умеют рассказывать получше моего.
Он повернул ручку маленького приемника, В динамике затрещало, потом мало-помалу проклюнулся голос комментатора. Он говорил об итальянском правительстве, которое, похоже, уже сидело на чемоданах. Всегда одна и та же лапша!
После этого пошла моя порция.
— В районе Эрбле продолжается розыск преступника по кличке Капут…
Док сообразил.
— Это вы? — неуверенно спросил он.
— Вроде я.
— Я уже читал о ваших достижениях. Вы настоящий мясник…
— Я всегда был лишь жертвой коварных обстоятельств и людей…
Мы замолчали и стали слушать дальше. Серьезный и равнодушный голос мужика с радиостанции продолжал:
— Как мы уже сообщали, вчера от рук этого опасного рецидивиста погибло четыре человека: преследовавший его полицейский, американский бизнесмен и двое мужчин с уголовным прошлым. Один из полицейских, инспектор Жамбуа, которому Капут нанес удар стальным прутом, что повлекло перелом черепной кости, и сообщил нам обстоятельства дела…
Я повернул ручку. Я знал эту историю получше их всех.
— Вам не нравится слушать о своих подвигах?
— Нет, это меня угнетает…
— Понимаю.
Главным из всего услышанного было то, что легавые продолжали рыскать в этом районе. Они вполне могли заявиться и сюда. Соседи наверняка видели, как я проезжал по улице на машине… Стоит им сообщить жандармам о своих наблюдениях — и трагикомедия возобновится с новой силой.
— Пошли! — сказал я докторишке. — Посмотрим, как там девушка.
Мы вернулись в его кабинет. Я очень боялся увидеть ее мертвой, но нет — она дышала. Ее грудь приподнималась частыми рывками, щеки горели.
Глаза ее были закрыты не полностью, и между веками виднелись узкие светлые полоски, напоминавшие кошачьи зрачки.
— Как по-твоему, она в сознании?
— Навряд ли, но это не исключено. Во всяком случае, окружающий мир она почти не воспринимает.
— Похоже, у нее температура.
— У нее развивается пневмония, скорее всего — от той ледяной ванны. Где она промокла?
— В Уазе.
— В такой холод?!
— Нужно было выбирать: или это, или полиция!
— Для нее лучше бы уж полиция.
Я понимал, что он прав, и от этого мне было не по себе. Меня мучила совесть.
— Ты уверен, что для нее все кончено?
— Уверен. Во всяком случае, у меня нет условий для того, чтобы пытаться совершить невозможное… Если бы у вас была хоть капля здравого смысла и человечности, вам следовало бы убраться отсюда. Когда вы уедете, я позвоню в больницу…
— А заодно и легавым, да?
Он задумчиво посмотрел на меня.
— Разумеется, я сообщу в полицию, но только после того, как девушку отвезут в больницу. Это даст вам время…
Похоже, он был из тех, кто выполняет свои обещания. Передо мной вставал вопрос совести (если таковая у меня вообще была). У Сказки оставался один шанс из тысячи; имел ли я право отобрать у нее этот последний шанс? И на что я вообще надеялся? Когда стемнеет, мне нужно будет уезжать. Забирать ее с собой никак нельзя. Волей обстоятельств между нами все было кончено… Итак?.. Я обхватил голову руками. Будь у парнишки-врача хоть капля смелости, он запросто отобрал бы у меня сейчас револьвер; только ему это и в голову не приходило. Он чувствовал, что я в замешательстве, и терпеливо ожидал результата моих раздумий.
Я покосился на Сказку. Она только что открыла глаза и смотрела на меня — но не туманным взором умирающего, а встревоженным взглядом человека, находящегося в совершенно здравом уме.
— Ты слышишь меня, любимая?
Она несколько раз опустила ресницы.
Мы очень долго смотрели друг на друга. Наши глаза говорили друг другу то, чего я никогда бы не смог высказать ей даже в минуты самой безумной страсти. Я безмолвно благодарил Сказку за ее любовь, за ее дикую верность… И ее взгляд тихо отвечал, что она ни о чем не жалеет и принимает смерть, как мой последний подарок…
Ее губы слабо зашевелились. Я наклонился…
Я ничего не услышал, но я знал, что она силится сказать. Да, я знал. Только слова эти были слишком жестокими, и она должна была произнести их сама.
Я смотрел на нее и плакал. По моим щекам бежали ручьи, и на скрещенные руки Сказки падали одна за другой горячие капли.
— Повтори, малыш…
Ей удалось сказать; фраза была короткой и страшной.
— Убей меня…
Подошедший было врач вздрогнул; его лицо осунулось, как у старика.
Я утонул в бездонных глазах Сказки. Приближение смерти придавало им головокружительную неподвижность.
Она хотела, чтобы я ее убил. Это напоминало какой-то обряд. Да, в некотором роде это и была наша свадьба, наша несчастная кровавая свадьба…
Что еще мог я ей преподнести, кроме этого ужасного подарка? Я, которому столь часто приходилось убивать, дрожал при мысли о том, что мне предстоит остановить эту уже угасающую жизнь… Но я чувствовал, что должен исполнить ее желание. Я знал, что это убийство станет уже чем-то вроде искупления грехов и, может быть, частично снимет с меня вину за все остальные…
— Слушай, Сказка, я хочу, чтобы ты знала: я не совсем законченный негодяй… Все это было потому, что жизнь повернулась ко мне спиной. Я всегда мечтал жить спокойно, не совершая никаких мерзостей…
Продолжая говорить, я приставил к ее груди револьвер и почувствовал беспорядочные удары ее сердца, которые передавались моей руке по металлическому стволу.
— Вы не сделаете этого! — умоляюще прохрипел врач.
Я не потрудился ответить. Я припал губами к губам девушки и нажал на спусковой крючок.
Короткое пребывание в воде револьверу нисколько не повредило.
Раздался глухой выстрел; по телу Сказки пробежала длинная судорога, и вскоре ее губы стали бесчувственными. Тогда я оторвался от нее и посмотрел.
Ее последний поцелуй превратился в улыбку. На простыне теперь виднелась черная дырка с коричневыми подпалинами по краям. Врач отошел, и я краем глаза увидел, как он оперся о стол, словно от недомогания.
— Прощай, Сказка… — прошептал я и вытер мокрые щеки рукой, державшей револьвер. Я чувствовал огромную усталость и нечто вроде окоченения. Печали не было; вместо нее во мне разрасталась и кружилась водоворотом пустота.
Я тронул доктора за локоть.
— Идемте отсюда.
Услышав мой голос, он немного собрался с духом и посмотрел на меня.
— Зачем вы это сделали? — горячо спросил он. Его работа состояла в том, чтобы бороться за человеческую жизнь, пока не исчезнет последняя надежда, и это дикое доказательство любви не укладывалось у него в голове. Гнев прибавлял ему смелости.
— Вы ненормальный. Ваше место в психбольнице!
Его нападки меня не волновали. Мне было на все наплевать… Отныне я был одинок и свободен.
— Пошли, говорю. И помалкивай, нечего ерунду пороть.
Он поплелся за мной… Часы в гостиной показывали три. Я и не заметил, как прошло время.
Вдруг я взвыл: моя рана жестоко напомнила о себе. Парень удивленно посмотрел на меня.
— Мне тоже оставили кое-что на память… — Я показал ему рану в боку. — Вот, полюбуйся.
Он поморщился.
— Можешь что-нибудь придумать?
— Знаете, это первый в моей жизни случай, когда нет никакого желания помогать больному…
Больше мы ничего сказать не успели: у ворот раздался звонок. Я подскочил и посмотрел на докторишку.
— Постой, не выходи…
Я подкрался к окну и увидел перед воротами двух человек. По их виду можно было без труда определить их профессию.
До сих пор я еще надеялся, что обстановка в районе мало-помалу успокоится; но, как видно, жандармы решили не останавливаться на полпути и довести поиски до конца. Они методично прочесывали квартал за кварталом, высматривая мою машину.
— Ну? — проговорил врач. — Клиент, что ли?
— Два клиента, — поправил я. — Ко мне…
Легавые нетерпеливо зазвонили снова.
Обычно я сразу придумывал, как организовать оборону, но на этот раз растерялся. Голова была совершенно пустой. Смерть Сказки выкачала из меня все силы и мысли.
Обуэн приблизился к окну и посмотрел.
— Полиция? — спросил он.
— Похоже.
— Что будете делать?
Я не ответил.
— Капут, — сказал он, — я слышал, что вы говорили этой женщине, прежде чем ее застрелить. Во имя ее памяти — будьте хоть сколько-нибудь благоразумным; сдавайтесь и не добавляйте новых трупов к черному списку, который за вами тянется.
Я ухмыльнулся.
— Ага, и мне тут же отстригут башку.
Он потрясенно посмотрел на меня.
— Как вы не понимаете, что настала ваша очередь расплачиваться?
— А вам, доктор, пора бы понять, что я давно живу по волчьим законам…
Незаметно для себя я снова начал называть его на «вы», потому что теперь в моих глазах он стал сильнее меня.
Полицейские толкнули ворота и вошли во двор. Когда они дойдут до угла дома, то увидят черную машину, и этим все будет сказано.
В этот момент я словно очнулся, и ко мне вдруг вернулось былое чувство экспромта.
— Откройте дверь, спросите, чего им надо, и скажите, что ничего такого не замечали, понятно? Если сдадите меня — получите пулю в спину…
Я был вынужден вверить ему свою судьбу. Это был мой самый последний шанс.
Я отпер дверь и спрятался за ней. Врач шагнул вперед… Я смотрел на него сквозь щель, оставшуюся между дверью и стеной.
— Чем могу служить, господа?
— Полиция!
Теперь я видел в профиль одного из легавых, Он был высокий, хмурый, со светлыми усами. Второй стоял где-то позади него.
— Вы и есть доктор?
— Да.
— Мы ищем опасного преступника, который прячется где-то в вашем квартале… Одна женщина видела, как утром к вам во двор заезжала черная машина, Это верно?
— Верно, на ней мне привозили пострадавшего…
— Вы ничего подозрительного не заметили?
— Нет-нет, ничего…
— Что это был за пострадавший?
— Строитель, упал с лесов…
— Какого возраста?
— Лет пятидесяти.
Док был настоящим чемпионом по брехне! Я мысленно восхвалял его находчивость. Кто знает, может быть, потом ему за это не поздоровится…
— Ладно, доктор, извините.
— Пожалуйста…
Полицейские ушли; врач вернулся в дом и запер дверь.
— Что, натерпелись страху? — проворчал он.
— Кто — я?!
— Да ладно: вы весь зеленый, как неоновая вывеска на аптеке…
— Просто я себя хреново чувствую. Это от раны…
— Ах да, кстати… Идемте в кабинет.
— Нет…
Я не хотел смотреть на Сказку. Она была мертва, и реальность этого факта меня ужасала. Мне казалось, что, увидев ее, я грохнусь в обморок, как девчонка-цветочница.
— Ладно, тогда подождите здесь…
Вскоре он вернулся и принес кучу всякого барахла, в том числе шприц. Он вскрыл какую-то ампулу и наполнил его; он был спокоен, только губы его оставались белыми, как воск.
— Колоть будете?
— Придется.
— На кой черт?
— Это антибиотик. Ваша рана сильно инфицирована…
— О'кей…
Я засучил рукав, и он протер мне предплечье эфиром. Когда он уже собирался вогнать иглу, я оттолкнул его, подобрал пустую ампулу и прочел на этикетке: «Пентотал».
Во мне вспыхнула злость.
— Ах ты, сука, вот, значит, какие у тебя антибиотики?!
Обуэн опустил голову.
— Хотел меня усыпить, да, паршивец? А потом позвонить этим дяденькам, и им осталось бы только дождаться, пока я проснусь?
Я влепил ему пару звучных пощечин.
— Вот тебе, для румянца!
Румянец у него действительно появился.
— Ну, давайте, убейте меня! У вас, похоже, этим всегда кончается!
Странное дело: я не испытывал ни малейшего желания отправлять его на тот свет.
— Нет, поганец, живи: ты еще пригодишься хворому человечеству… Сегодня у меня день раздачи подарков!
Тут я резко обернулся: оконное стекло разлетелось вдребезги, и из-за него на меня смотрел автоматный ствол.
Чей-то голос заорал:
— Руки вверх, Капут, или ты мертв!
— От этого я и пытался вас уберечь… — пробормотал докторишка.
— Это ты их предупредил?
— Одними глазами, — признался он.
Всегда одно и то же! От людей помощи не жди. Какое-то время они еще пытаются войти в положение и уже вроде бы готовы тебе подыграть, но нет — не могут устоять перед обаянием легашей.
Я поднял руки, но внезапно схватил врача за плечи и развернул, прикрываясь им от автомата.
— Отпустите врача!
— Хрен вам!
Дверь распахнулась, и в нее ворвался тот высокий полицейский со светлыми усами. Я поднял пушку над плечом доктора и выстрелил. Усач рухнул: я убил его на месте. Крепко прижимая к себе трясущегося врача, я попятился к лестнице… У ее подножия я отпустил парня и ринулся наверх… В три прыжка я очутился на втором этаже. Там начиналась другая, более узкая лестница. Я стал карабкаться по ней.
Третий этаж оказался чердаком. Я вбежал туда и запер за собой дверь на засов.
На этот раз я был загнан, пойман, готов, уже мертв!
Я толкнул за подпорку чердачное окно… Дом дрожал от бешеного галопа. По лестнице валил наверх целый отряд. Один рывок — и я выбрался на черепичную крышу, полуголый и без единого гроша в кармане. Мои миллионы испарились за какие-нибудь несколько часов. Последние доллары остались в той одежде, которую я повесил сушиться у плиты…
Я побежал по черепице, и снизу мне сразу начали слать горячий свинец. Я заскочил за дымоходную трубу…
Крыша соседнего дома была метрах в четырех от края; она располагалась чуть пониже моей. Прыгать было рискованно: не только из-за четырехметрового расстояния, но еще и потому, что скаты той крыши были намного круче.
Я разбежался короткими, быстрыми шагами, но в момент прыжка ржавый карниз просел под моим весом, и я полетел в пустоту.
Я понял: это конец. Полет обещал быть впечатляющим: десять метров свободного падения и приземление на мостовую — это очень помогает от ломоты в суставах.
Но вышло иначе: на улочке ремонтировали канализацию, и по чистой случайности, которую, кроме как чудесной, и назвать-то нельзя, я грохнулся на огромную кучу песка. Удар был жестоким: мне показалось, что мои ноги вогнало в грудь. Однако я быстро обнаружил, что ничего не сломал.
Не теряя время на подсчет своих запчастей, я рванулся вперед, к концу улицы. Мое падение осталось незамеченным, и легавые, скорее всего, решили, что мне удалось перемахнуть через пропасть, потому что я исчез из их поля зрения.
Улочка выходила на пустырь, посреди которого началось строительство отличного многоквартирного дома. Нижние этажи были уже готовы… Странное дело: вокруг не оказалось ни одной живой души. Я вспомнил, что сегодня суббота и у строителей выходной.
Я побежал к дому, надеясь спрятаться там. Но он был плохим убежищем: полицейские мигом заявятся на стройку и прищучат меня здесь. Тем более что человек, бегущий по пустырю в неглиже, не может не привлечь внимания прохожих. А на открытом месте меня заловят еще быстрее…
Задыхаясь, я в отчаянии огляделся по сторонам. И только тогда наконец заметил то, что должно было сразу броситься в глаза: гигантский подъемный кран, возвышавшийся рядом с недостроенной многоэтажкой. И я решил, что кабина крановщика будет надежным укрытием, откуда я смогу (еще бы!) наблюдать за ходом событий.
Поблизости по-прежнему никто не появлялся. Проворно, как обезьяна на пальму, я начал карабкаться по металлическим скобам на башню крана и в два счета достиг круглого люка, ведущего в застекленную кабину.
Стекла были грязные, и все же, вознесясь над всем этим грязным и облезлым поселком, я мог видеть очень далеко. Я встал на колени, чтобы меня не увидели снизу, но на стройке было все так же безлюдно. Со своей высоты я прекрасно видел дом врача. Его сад казался совсем крошечным. Вокруг дома рыскали полицейские, точь-в-точь как молодые охотничьи псы, которых тренируют в парке, нарисовав на траве замысловатые вензеля куском сырого мяса.
На соседних улочках тоже царила суета. В район понаехала куча полицейских фургонов, а на выездах я различил заграждения.
Лучше всего было пересидеть в этом скворечнике всю ночь и весь следующий день. Если к следующей ночи меня не найдут, с наступлением темноты можно будет двигать дальше. До тех пор мне нечего будет жрать, но я об этом не думал: такое испытание было мне по силам.
Ладно, но что потом? Что я смогу предпринять, на что могу надеяться, выходя в город без рубашки и без денег? Мне чудилось, что жизнь начинается сначала, что мать еще раз родила меня на свет, на этот раз калекой, да таким и бросила.
Внезапно мое внимание привлекла машина скорой помощи, въезжающая к врачу во двор. Полицейские в форме достали оттуда двое носилок и пошли в дом пожинать плоды моего труда.
Первым вынесли убитого жандарма, потом — Сказку. Я увидел ее с высоты, хрупкую, лежащую на темном брезенте, и у меня сжалось сердце.
Я качнулся вперед, стоя на коленях на металлическом полу кабины, и ударился лбом о круглые стальные заклепки.
— Сказка, Сказка, — шептал я, — не оставляй меня…
Но я чувствовал, что теперь одинок и всеми проклят…
XV
Я еще долго смотрел, как копошатся на улицах полицейские. Они пришли на пустырь, облазили всю стройку, но ни один не подумал о кране… С точки зрения психологии было совершенно невозможно предположить, чтобы загнанный полуголый человек спрятался здесь, наверху. Эти бравые зуболомы не могли представить, что отчаявшийся беглец полезет по железным скобам на тридцатиметровую высоту…
Мало-помалу в поселке вновь воцарилось спокойствие. Полицейские фургоны разъехались один за другим, и с дорог убрали заслоны. Только на улочках еще виднелись полицейские мундиры. Немало ищеек готовилось провести сегодняшнюю ночь на свежем воздухе, позвонив своим женам, чтобы к ужину не ждали…
С наступлением вечера я почувствовал, что меня сковывает противный холод. Зубы мои стучали… Ночь обещала быть суровой в первую очередь для меня.
Я осмотрел свою кабину. Она была небольшой. Со стороны подъемника располагался ящик с наклонной, как у школьной парты, крышкой. В нем лежали испачканный мазутом синий рабочий комбинезон, пустой холщовый мешок, инструменты и треть бутылки красного вина…
Я надел комбинезон (оказавшийся мне слишком тесным), расстелил на полу мешок и высосал все, что оставалось в бутылке. Вино оказалось кислой грошовой бормотухой.
Я долго смотрел в темно-синее небо, набитое черными тучами, прежде чем погрузиться в тяжелое оцепенение, которое заменило мне сон.
Мне приснилась вереница жутких кошмаров. Я видел мертвую Сказку с той белой повязкой на голове, чувствовал холодный вкус ее губ. Меня бил озноб. Порой мне снилось, что я сижу в корзине воздушного шара, который с головокружительной быстротой поднимается в небо, и с ужасом смотрю, как тросы корзины рвутся один за другим. Я проснулся в такой лихорадке, что почти не мог дышать.
Слегка изогнувшись, я смог разглядеть свою рану. Она стала фиолетовой, и вокруг нее проступила подозрительная паутина из синих прожилок.
Я тянул не меньше чем на сорок градусов. В глазах двоилось… Уже рассвело, и я, продираясь сквозь забытье, гадал, что же это меня разбудило. Я помнил. это было что-то реальное, конкретное.
По всему подъемному крану пробегала слабая ритмичная дрожь. Я приблизил лицо к люку и увидел десятилетнего шпингалета, который быстро спускался по скобам. Внизу его ждали, задрав головы, четверо или пятеро дружков.
Что это могло значить?
Мальчишка, который лазил на кран, спрыгнул на землю и воскликнул:
— Эй, пацаны! Там, наверху, мужик сидит! Спорим — это его полиция ищет…
— Капут! — подхватил другой.
Компания унеслась, как стая воробьев.
Итак, эти поганцы играли на стройке в войну и случайно раскрыли мой секрет… Мне опять предстояло уносить ноги… Куда могла привести меня эта гонка? Имело ли смысл продолжать эту бесконечную игру в прятки? Наверное — нет. Но моя жизнь строилась уже не на здравом смысле.
Теперь мне уже полагалось оправдывать легенду — и не только для других, а и для самого себя. Я должен был идти до конца.
Я помотал головой. Боже мой, до чего мне было хреново! Я свесил ноги в люк, стараясь не смотреть вниз, чтобы обмануть дурноту. Я говорил себе, что нужно двигаться, действовать, что размявшись, я сразу почувствую себя лучше.
Неуклюже, как пьяный, я начал спускаться по железным ступенькам и наконец почувствовал под ногами твердое, надежное основание крана.
— Так, хорошо, — прошептал я самому себе. — А теперь ходу, сынок! Беги, сколько выдержишь, — а там будь что будет!
Я побежал. Меня заносило и болтало из стороны в сторону; дыхание все учащалось. У меня горела нога, пылало лицо, пекло в груди…
— Быстрее, Капут! Ну, постарайся… Быстрее. Быстрее… БЫСТРЕЕ!
За стройкой начиналась оживленная улица. Люди в выходных костюмах удивленно таращились на меня. Я все бежал, хромая и зажимая ладонью свое порченое бедро.
Я добрался до шоссе… Я достаточно долго изучал окрестности из кабины крана и теперь держал примерный план поселка в голове. Поэтому бежал я не то чтобы наугад: я знал, что справа от шоссе расположена заправочная станция, на которую заезжают очень часто, Значит, можно было надеяться свистнуть там машину.
Подходящая машина там, кстати, уже была: отличный, совершенно новый спортивный автомобиль. Ее хозяин стоял сзади; он дал заправщику десятитысячный билет и ожидал сдачу.
Я обошел станцию кругом, чтобы приблизиться к машине с другой стороны, и увидел, что в машине сидит женщина. Когда мужик вышел за бензином, она, как и положено гусыням, принялась подмалевывать рожу, глядя на себя в зеркало заднего вида.
Я одним прыжком вскочил в машину, захлопнул дверцу и тут же запер ее на кнопку. Потом включил стартер, не выпуская из рук револьвер, который заблаговременно достал из кармана комбинезона.
— Вперед, без страха и упрека! — буркнул я женщине.
— Вы что, с ума сошли?!
Отвечать было некогда. Ее старикан с воплями дергал за дверную ручку, Женщина еще успевала выскочить; но в следующую секунду я так резко рванул машину с места, что у нее пропало всякое желание сойти на ходу.
Я гнал в направлении Парижа, желая поскорее затеряться в потоке машин. Кстати, то, что рядом со мной сидела женщина, было мне на руку: это не позволяло легавым стрелять. Я ни на что особо не рассчитывал, и все же эту случайность можно было считать счастливой — до тех пор, пока мне не докажут обратное.
Ее губы побледнели под слоем помады… Ее карманная красильня свалилась на пол, но она этого даже не заметила.
— Выпустите меня! — проикала она.
— Да сидите, не стесняйтесь! Вы мне вовсе не мешаете…
Это была дама из высшего общества. Сорок лет, полушубок из черной и белой норки и молодой любовник…
— Зачем вы меня похитили?
Я расхохотался. Как видно, движение, действительно, пошло мне на пользу: сейчас я чувствовал себя уже куда лучше.
— Никто вас, бабуся, не похищал: это разве что я сам похищаю себя у полиции.
Стрелка спидометра плавала вокруг ста двадцати… Я не снимал руки с клаксона и обгонял все, что попадалось на пути. Баба вцепилась в сиденье. Она помалкивала, чтобы меня не разозлить, и я мысленно похвалил ее за это, тем более что желания заорать у нее, похоже, было хоть отбавляй.
Я на бешеной скорости пересек Аржантей… Авария произошла уже на самом выезде из городка. Я подъезжал к перекрестку, на светофоре горел желтый свет, который через секунду должен был превратиться в красный. Я решил проскочить, стиснул зубы, до отказа надавил на акселератор, и машина вылетела на перекресток, как орудийный снаряд. Красный свет загорелся, когда мы были на самой середине… В этот момент сбоку выскочил фургон лавочника, спешившего доставить страдающему населению волшебный дурман, разлитый в винные бутылки. Водитель фургона лихо вывернул руль и затормозил, призвав на помощь весь свой опыт, но столкновения избежать не удалось. Удар был страшный. Огромный кусок лобового стекла, вылетевшего из фургона, почти полностью отрезал голову моей почтенной мадам и остановился в трех сантиметрах от моего лица…
Машину протащило еще на десять метров, и она уперлась в стену. Я попытался открыть свою дверцу; это удалось мне почти без труда, потому что от удара она сорвалась с петель. Но едва успев выбраться из этой кучи металлолома, я тут же оказался в плотном кольце любопытных. Само собой, среди них был и регулировщик с этого перекрестка, с блокнотом в руке, поднятой на пять сантиметров правой бровью и полным ртом ругательств.
— Пропустите, мне нужен врач… — забормотал я, протискиваясь сквозь толпу.
Люди расступились. Однако регулировщик рассуждал иначе. Ему уже достались дамочка с отрезанной башкой и бравый фургонщик, пролетевший сквозь стекло своей машины и лежавший на асфальте в луже крови… Так нет, он решил, что этого мало; ему еще и я понадобился!
— Эй, минутку!
Тут я показал ему свой добрый револьвер, и он по-свойски заткнулся.
XVI
На несколько секунд я сделался полным хозяином положения. Ощущение было очень странное. Наверное, нечто подобное испытывает оратор, когда притихшая толпа ждет начала его речи.
Люди были ошарашены. Они уже настроились было на аварию — а я взял да и переключил их на свирепый полицейский детектив. Они ничего не понимали. Регулировщик оглядывался по сторонам. Наконец он понял, что является по сценарию моим обязательным партнером, и потянулся к кобуре. Я выстрелил… Пуля вошла ему в плечо. Он сморщился и остановился; зрители мужественно бросились наутек. Кстати говоря, наша храбрость вообще всегда основана на чужой трусости…
Я нырнул в какую-то подворотню. Мне казалось, что за мной по пятам гонится весь мир. Пробежав мимо старой консьержки, я ворвался во двор, заваленный пустыми бочками. Я поднял голову и увидел враждебно обступившие меня бетонные стены — четыре высоченных серых утеса… Это был конец. Что было делать теперь? В барабане у меня оставался один-единственный патрон.
Погоня приближалась. С улицы все слышнее доносились крики и полицейские свистки.
Я готов был себя задушить. Зачем я, дурак, полез в эту подворотню, как крыса в ловушку?! У меня жгло все тело, картины в глазах растягивались, как в кривом зеркале… До чего ж мне было плохо!.. О, маета, маета человеческая…
Я увидел в углу двора маленькую низкую дверь, которую поначалу не разглядел за бочками, подбежал к ней, попытался открыть, но она была заперта на ключ. Я разбежался и ударил в нее плечом. Мне показалось, что этот удар раздробил мне все кости. Я будто превратился в сплошной пылающий костер, и тысячи красных искр заплясали у меня перед глазами. Но дверь подалась. Я вошел, и у меня перехватило дыхание от приторного запаха крови: я попал в мясную лавку. В этой комнате хозяин, видимо, забивал мелкую живность. На стенах виднелись большие коричневые пятна. Повсюду были крюки, разделочные колоды, сверкающие ножи — кошмар, да и только… Другая дверь вела в служебные помещения… Я толкнул ее, она открылась; я вошел в полутемную кладовую, закрыл за собой дверь и задвинул засов изнутри.
В магазине никого не было; металлическая штора на витрине была опущена. Видно, в это воскресенье хозяева сунули ключ под коврик и поехали за город выветривать мясной душок…
Я остановился и прислонился лбом к белой кафельной стене.
«Ну а дальше, Капут?»
Я перевел дыхание.
«Ну а дальше?»
* * *
Я обвел взглядом магазин. Сквозь штору было видно, как перед домом собирается толпа, как отовсюду рысью сбегаются жандармы… Все смотрели на главный вход. Они еще не знали, что я нахожусь в мясной лавке, но это должно было обнаружиться с минуты на минуту, и тогда все эти поганые возбужденные рожи повернутся ко мне…
Ты попал на бойню, Капут… Ты пришел умирать туда, где пахнет кровью и блестят отточенные ножи… Какая ирония судьбы!
Кто это тут шепчет? Я посмотрел вокруг: никого. Я здесь один — один среди мраморных разделочных столов, отвратительных крючьев, точильных брусков… Один среди этих запахов — запахов крови и чистенькой, аккуратной смерти.
Кто-то уже ломится в дверь, которую я только что закрыл, и чей-то бас кричит:
— Он тут!
Дверь дрожит, как барабанная перепонка… Голос затихает, и на смену ему приходит неясный гул.
Я отрываю горящий лоб от холодной стены…
Капут, ты должен сделать ЕЩЕ что-нибудь! Еще не все потеряно. Пока в тебе есть хоть капля жизни, ты должен бороться. Так надо. Ты — зверь, которого все давно мечтают подстрелить, слышишь, Капут?
Я подхожу к кассе магазина и выдвигаю ящик. Мне нужны не деньги — теперь мне на них наплевать. Будь прокляты эти деньги, которые сделали из меня того, кем я стал! К тому же мясники, уходя, не оставляют деньги в кассе… Но в ящике у мясника бывают не только деньги. Там часто можно найти револьвер. Особенно в наши дни, когда мир кишит негодяями…
Но в этом ящике ничего такого нет… Карандаш, блокнот, мелкие монеты…
Я отхожу от кассы… Удары в дверь усиливаются. К счастью, она сделана на совесть, и засов на ней что надо…
Я вытаскиваю из разделочного зала огромную колоду и подпираю ею дверь. Теперь, чтобы ее выломать, им понадобится разве что бульдозер… Тут меня будто затопляет гигантская волна. Я закрываю глаза, и меня уносит мощный горячий поток…
Я прихожу в себя уже на полу. Похоже, кратковременный обморок… Чертова рана: она-то меня и доконает… Что если у меня гангрена? Может быть, это просто иллюзия, но мне кажется, что от раны отвратительно воняет… Еще бы: повязка не менялась уже двое суток…
Этот обморок почему-то избавил меня от тумана в голове. Я поднимаюсь и иду через лавку. В дальнем углу — дверь, ведущая в апартаменты живодера.
Я криво усмехаюсь при мысли о том, что умираю у коллеги, — ведь я тоже был мясником. Только вместо скотины забивал людей…
Узкая деревянная лестница… Я взбираюсь по ней ценой невообразимых страданий. Каждый раз, когда я двигаю левой ногой, мне кажется, что бок вот-вот лопнет по швам. Наконец я добираюсь до второго этажа… Зачем бежать, если надежды уже нет? Зачем пятиться от направленного на меня оружия, если мне все равно не выбраться из ловушки?
Снаружи по-прежнему раздается многоголосый гул. В доме полно полицейских — внизу, наверху, справа, слева, везде… Свистки, окрики, приказы… Противный вой сирен на фургонах… Топот на лестницах…
Я толкаю одну из дверей: это дверь в трапезную. Мебель в стиле рококо поблескивает в мягком полумраке. Вышитая скатерть на столе, цветы в бронзовых горшках, раскрашенные гипсовые статуэтки…
На маленьком передвижном столике стоит бутылка рома. Чарка приговоренного к смерти, Капут! Угощайся, парень, пока наливают…
Я зубами вытаскиваю пробку, сую горлышко в рот и жадно, долго пью. Ром обжигает глотку, но все же подстегивает. В меня вливается сила… Хорошо знакомая мне иллюзорная сила, смягчающая болезненную реальность.
Я бегу в другую комнату… Скорее, Капут, ночной столик! На этот раз в ящике все-таки оказывается пистолет, о котором я так мечтал: небольшой «6,35» расхожей модели. Я оттягиваю затвор: полная обойма… Я крепко зажимаю ребристую рукоятку. Эта штуковина сразу прибавляет мне уверенности.
Я кидаюсь к двери, выходящей на площадку второго этажа, но слышу, как за ней суетятся легавые, и отступаю назад.
Мне остается только один путь: через спальню. Она выходит на. балкон. Может быть, с него удастся перепрыгнуть на другой?
Я подбегаю к окну, открываю балконную дверь, и на меня обрушивается мощная волна звуков. «Вот он!» — орут внизу.
Я плюю на них с высоты и оглядываюсь по сторонам. Других балконов рядом нет. Карниза тоже. Есть только водосточная труба. Я обхватываю ее обеими руками и начинаю фантастическое восхождение…
— Стреляйте! — вопят снизу какие-то извращенцы… Щелкает несколько пуль, но меня защищает балкон. Чтобы в меня попасть, легавым нужно подняться в дом напротив. Пока они туда доберутся, я…
Я продвигаюсь на один этаж вверх, и внезапно перед моими глазами возникает крыша, потому что это старый трехэтажный дом. Я хватаюсь за карниз, пытаюсь подтянуться, но не могу. Силы покидают меня, благотворное влияние рома уже прекращается. Собственный вес тянет меня в бездну… Вокруг по-прежнему цокают пули. Теперь это опасно, потому что балкон меня больше не прикрывает. Но стреляют пока что только из револьверов, а чтобы попасть из них в цель с такого расстояния, надо быть настоящим Буффало Биллом. Я закрываю глаза и повисаю на руках, пытаясь восстановить силы. Если бы еще не этот проклятый шум в голове!..
Давай, Капут! Давай, парень, держись, еще не все! Тебе осталось сделать всего несколько движений… Для такого парня, как ты… Для такого, как ты…
По моему лицу дождем стекает пот…
Давай, парень! Давай! И-и, раз!
Страшное, опустошающее, самое дикое в моей жизни усилие… И я оказываюсь на крыше, даже не пытаясь понять, как мне это удалось. Я лежу плашмя на черепице, силясь перевести дух…
В голове у меня все подернуто красной пеленой. В висках бешено стучит кровь, моя кровь, которой скоро придет время вырваться на свободу…
Я открываю глаза… Надо мной чистое голубое небо. Воздух Пронизан золотыми лучами. Солнце… Старое доброе солнце… Вдруг над самой поверхностью крыши сверкает стеклянный прямоугольник окна, и за ним появляется голова в кепи.
Вслед за головой показывается рука с револьвером.
Скорее, Капут! Скорее! Ты должен выстрелить первым, как всегда… Бык на арене не позволяет заколоть себя без боя. Даже после того, как тореадор вонзает в него шпагу, он еще рвется вперед…
Два выстрела раздаются одновременно. Я чувствую хлесткий удар в грудь и начинаю кашлять. Во рту кровь…
Голова в кепи исчезла. Попал я или нет? Над крышей плывет вонючий белый дым… Скоро появятся другие головы, много голов, потому что полиция — это гидра. Мне не удастся загнать все эти головы обратно в окно. Это невозможно…
Я замечаю чей-то силуэт за дымоходной трубой. Эти гады вылезают на крышу по ее противоположному скату. Я стреляю… Моя пуля с воем ударяет в черепицу и поднимает облачко красноватой пыли. Я стреляю снова, слышу крик, но впереди тут же возникают новые силуэты… Я пытаюсь отдышаться, не обращая внимания на кровь, которая забивает дыхательные пути…
Я стреляю еще… Мой палец давит на спусковой крючок, слезящиеся глаза ищут цель… Раздается новый вопль. Я убиваю! Я убиваю! И вот под моим пальцем уже лишь пустой, безжизненный механизм. Патронов больше нет. Это все. Теперь уже действительно все…
В ближайшем чердачном окне возникают голова и грудь очередного жандарма. У него в руках автомат. Ствол направлен на меня. Нас разделяет всего два метра. Маленький черный глаз автомата будто бы расширяется, растет. Позади него маячит человеческое лицо с цепким внимательным взглядом… Я смотрю на отверстие ствола. Ну, сколько еще ждать?
— Стреляйте же, во имя…
Я не успеваю произнести имя Того, кто обрушивает на меня свою широкую карающую длань. Ствол автомата превращается в огромную, черную, жадную, бездонную пасть, которая заглатывает меня…
Шарль Эксбрайя
БЕСПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Пролог
Возвращаясь в тот вечер в свою квартиру на улице Боннвилль в Уайонаксе, я был счастлив, так как мог сообщить Луизе, моей жене, приятную новость. Администрация завода по производству пластмассы, на котором я работал, решила значительно увеличить мне жалованье. Это позволило бы нам вести легкую и спокойную жизнь, тем более что, несмотря на десять лет совместной жизни, ребенка у нас не было.
Не успев закрыть за собой дверь нашей квартиры, я крикнул:
— Луиза!
Никакого ответа.
— Луиза!
Я нашел ее в спальне, она была одета так, словно собиралась уходить. На кровати лежали два открытых чемодана. Я замер от изумления.
— Но, Луиза… Что происходит?
Она смотрела на меня полными слез глазами.
— Скажешь ты мне наконец?..
— Я больше не могу, Мишель, я ухожу.
— Уходишь?
— Ты чуть не убил меня прошлой ночью… Не могу больше переносить твои приступы… Я боюсь, Мишель, и не хочу больше жить с тобой. Я ухожу.
— Уходишь… Ты оставляешь меня, Луиза… Ты?
— Я держалась в течение десяти лет, Мишель… Но теперь все кончено.
— Ты отдаешь себе отчет в том, что без тебя я пропаду?
— Я не могу больше приносить себя в жертву… Хочу жить нормально. Прости меня.
— Куда ты идешь?
— Какая разница? Я не вернусь, Мишель. Потребуешь развода сам, заяви, что я ушла из дома… Знаю, как ты дорожишь своей работой, и не хочу, чтобы там поняли истинную причину моего ухода.
— Истинную причину… Это мужчина?
— Клянусь тебе, нет.
— Может быть, немного подождешь?
— Я ждала десять лет.
— Вдруг я поправлюсь?
— Ты отлично знаешь, что нет.
Шум захлопнувшейся двери еще долго звучал у меня в ушах. В тот вечер я распрощался с молодостью и потерял вкус к жизни. Горе мое было безгранично, но обижаться на Луизу я не мог. Нужно быть особенным человеком, чтобы жить с больным, а я тяжко болен.
В январе 1944 года мне исполнилось двадцать четыре, и вот уже четыре года я был женихом Луизы — подруги детства.
Стоило закрыть глаза, и передо мной вставали картины детства, воскресные дни, когда все жители нашего городка отправлялись в сосновый лес, разводили костры, жарили колбасу и телячьи отбивные, пили вино. Играл оркестр, молодежь танцевала, впрочем, не только молодежь…
Мне никогда не забыть Ла Бретуз…
В январе 1944-го я партизанил в Сюр-ле-Мон, над Роше де Нантуа. Однажды мы напоролись на немцев. Если бы не Пьер Сандрей, я попал бы к фрицам, потому что меня прошила автоматная очередь. Каким образом я выжил, неизвестно. Две пули угодили в грудь, одна — в живот и одна — в голову. Пьер отдал мне все бинты, которые удалось найти, взвалил на плечи и вместе с друзьями стал отходить к Беллейду. Меня прооперировал какой-то хирург-волшебник: вы, вероятно, догадываетесь, в каких условиях ему приходилось работать. Он не смог извлечь только пулю, попавшую в голову. Она засела в мозгу таким образом, что, вмешайся он, девяносто девять шансов из ста, я отправился бы на тот свет. Я вернулся с войны живым, но значительно похудевшим, кроме того, меня мучили приступы. Иногда стали случаться выпадения памяти, а перед ними чудовищные мигрени. Я терял представление о времени. Жизнь моя останавливалась, но, придя в себя, я ничего не помнил.
Мы с Луизой разошлись. Она уехала в Бордо, чтобы начать жизнь сначала. Я отправился в Париж и стал заниматься уже не пластмассой, а скобяными изделиями… Минуло десять лет…
Глава 1
Десять лет полного спокойствия. Я жил словно на обочине жизни. Я не забыл Луизу, но смирился: старательно исполнял свою работу, правда, время от времени приходилось брать двухнедельный отпуск из-за приступов, в которых по-прежнему никто ничего не понимал. Мой хозяин провел полгода в Освенциме и поэтому с пониманием относился ко мне, стараясь по возможности помочь.
В апреле я почувствовал приближение нового приступа и, как всегда, отправился в Уайонакс. Воздух родины благотворно влияет на мои нервы, кроме того, я обычно останавливаюсь у Пьера Сандрея и его жены, а они трогательно заботятся обо мне. Пьер вот уже пять лет служит в Уайонаксе комиссаром полиции.
Из-за пули, засевшей в голове, я не вожу машину, поэтому, чтобы попасть в Уайонакс, я, как и мои предки, решил воспользоваться железной дорогой и около часа дня прибыл в родной город. С чемоданом в руке я не спеша поднялся по улице Мишеле к «Отель де ля Репюблик». Это была очень старая гостиница, и я не сомневался, что там меня ждет столь необходимый сейчас покой. Хозяева были в курсе всех моих неприятностей, как физических, так и духовных, и проявляли ко мне трогательную симпатию.
В этот день, как и всегда, я отправился в «Кафе де Франс», где встретил многих своих знакомых. Мои одногодки стали чиновниками, инженерами, рабочими, а те, кто не работал на государство, служили на пластмассовом производстве — гордости и богатстве Уайонакса. Мы много говорили о прошлом и настоящем и очень мало — о будущем, потому что для большинства людей будущее тесно связано с медленным подъемом по иерархической лестнице и увеличением зарплаты. Поэзия осталась в прошлом, в тех годах, когда мы сражались, уверенные, что должны изменить мир. Годы иллюзий…
Около пяти вечера я распрощался с друзьями и по длинной улице Анатоля Франса пошел к комиссариату, где рассчитывал встретиться с Пьером.
Все полицейские Уайонакса знают меня, а многие из них называют по имени: Мишель. Молодые же здороваются со мной, называя по фамилии: мсье Феррьер.
Когда я вошел в кабинет, Пьер спорил с офицером полиции Оноре Вириа, неприязнь к начальству которого служила постоянной темой для разговоров. Пьер ничуть не изменился, в свои сорок пять он выглядел так же хорошо, как и в двадцать пять, когда его взгляд с поволокой смущал сердца добропорядочных барышень Уайонакса. Все были очень разочарованы, когда он выбрал Каролину Барби, дочь картонажника.
Пьер дружески похлопал меня по плечу.
— Как дела, Мишель?
— Все по-старому.
— Но ты приехал не потому?..
— Увы! Потому…
— Хорошо, что приехал, старина. Мы с Каролиной серьезно займемся тобой. Вы можете идти, Вириа.
— Не стоило уточнять, господин комиссар, — язвительно ответил тот, — я достаточно умен, чтобы понять, когда мое присутствие нежелательно.
— У вас все в порядке, мсье Вириа? — обратился я к нему.
— Нет, мсье Феррьер, не все, но я не думаю, что это может кого-нибудь заинтересовать.
Он вышел, громко хлопнув дверью. Пьер расхохотался.
— Видишь, этот осел Оноре не меняется. Он по-прежнему меня ненавидит!
— Но… почему?
— Уверен, что я занял его место, если бы не я, комиссаром полиции был бы он. Ну, ладно, хватит говорить об этом придурке. Поужинаешь у нас, мы ждем гостей, я позвоню Каролине и скажу, чтобы приготовила еще один прибор.
— Нет, если можно, сегодня я не приду.
— Что?
— У меня началась мигрень, наглотаюсь лекарств и пораньше лягу спать… Не хочу, чтобы приступ случился у тебя…
Он ответил не сразу, но его рука крепче сжала мое плечо.
— Я зайду к тебе завтра утром… Ты остановился в «Отель де ля Репюблик»?
— Конечно.
— Предупреждаю: если завтра днем ты не придешь, мы с Каролиной силой утащим тебя к нам. Так что, если хочешь сохранить свободу, выздоравливай побыстрей, ладно?
Может быть, благодаря теплому приему Пьера, выходя из комиссариата, я почувствовал, что голова болит меньше, и почти уверился, что на сей раз дело обойдется банальной мигренью. Чтобы окончательно в этом убедиться, я решил зайти к одному приятелю, Шарлю Эбрею, он работал на почтамте.
Я снова оказался на улице Анатоля Франса — в этом городе, куда бы ты ни шел, все равно попадешь сюда, — и уже почти дошел до небольшой площади, где расположен почтамт, как увидел идущую впереди меня женщину. Сам не знаю, почему она привлекла мое внимание. Возможно, своим изможденным видом, хотя чемодан в ее правой руке, судя по объему, не был особенно тяжелым. Я пошел за ней, не думая ни о чем, кроме того, что ее отчаяние сближает нас. Девушка вошла в здание почтамта, не обратив на меня никакого внимания, а я, стоя позади, услышал, как она обратилась к служащему в окошке «Корреспонденция до востребования» с вопросом:
— У вас ничего нет для меня?
Наивность вопроса и тон, которым он был задан, заинтриговали служащего, и он поднял голову, чтобы рассмотреть странную клиентку. Тихо, почти нежно, если так можно выразиться в подобном случае, он спросил:
— На какое имя?
— Сесиль Луазен.
— Нет, ничего, мадемуазель… — огорченно ответил парень.
По щекам девушки потекли слезы. Не люблю любовных историй и не верю в них, но плачущие девушки волнуют меня. Я успел заметить, что моей незнакомке не более двадцати пяти лет. В ней была приятная свежесть и что-то очень симпатичное, хотя красивой, по сегодняшним канонам, установленным кинозвездами, ее не назовешь.
Забыв о приятеле, к которому шел, я последовал за ней.
Выйдя на улицу, девушка, поколебавшись, направилась к «Кафе де Франс» и вошла туда. Я устроился за соседним столиком. Она заказала кофе, но даже не прикоснулась к чашке. Я смотрел на нее, позабыв о мигрени, терзавшей виски и затылок, хотел заговорить, но не знал, с чего начать.
— Мадемуазель…
Девушка не шелохнулась.
— Мадемуазель, — уже громче повторил я.
Она вздрогнула и повернула ко мне усталое лицо с припухшими глазами.
— Мадемуазель… Я достаточно несчастен сам, поэтому всегда чувствую, когда несчастны другие… Мне кажется, вы в отчаянии. Со мной тоже такое бывало, и я знаю, как в некоторые моменты жизни необходима дружеская поддержка… Вы позволите сесть за ваш столик? — Не ожидая ответа, я взял чашку и сел напротив нее. — Любовные огорчения, не правда ли?
Она пожала плечами.
Чтобы вызвать ее доверие, я решил сообщить некоторые подробности.
— Моя жена ушла от меня очень давно, но я так и не смог от этого оправиться… Глупо… Я совсем вас не знаю, но вы мне симпатичны и, если я смогу не дать вам пережить то, что пережил сам, думаю, совершу доброе дело. Простая влюбленность или нечто более серьезное?
— Более серьезное.
— Рассказывайте, это принесет вам облегчение.
Она слишком долго переживала свое несчастье, чтобы не испытать желания хоть часть его переложить на чьи-то плечи. Пристально уставившись в одну точку, она заговорила:
— Он мне обещал… Я приехала к нему, ведь он обещал… что мы сегодня же вечером уедем в Париж и будем жить вместе. У нас было назначено свидание в кафе «Шмен де Фер». Я прождала три часа.
— Может быть, в последний момент ему что-то помешало?
Незнакомка покачала головой.
— Он предупредил бы меня. Я верила ему… Я столько ждала этого дня, потому что задыхалась, слышите? В Сен-Клоде я задыхалась! Моя тетя не хотела, чтобы я работала, она боялась плохих знакомств… И потом, ей это казалось позорным. Она считала, что окажется вместе со мной на более низкой ступени социальной лестницы… Весь день я должна была заниматься шитьем, а вместо развлечений — благочестивые собрания и посещения почтенных людей, от которых пахло нафталином… Я больше не могла. Пыталась сбежать, вырваться из болота то с одним, то с другим, но все… все они в последний момент путались и предпочитали свое ущербное существование приключению… И тут появился он… Я сразу поняла: он или никто — либо он спасет меня, либо я откажусь от жизни! Мы познакомились случайно. Он пошел меня провожать, спросил, не хочу ли я прогуляться, прежде чем пойду к тетке. Я согласилась. Он сказал, что, несмотря на внешнюю респектабельность, несчастен, ему постоянно чего-то не хватает. Он надеялся познать настоящую, большую любовь… готов был всем пожертвовать ради этой любви… Никто никогда не говорил со мной так. Он утешал меня, обнимал… целовал… Когда я вернулась домой, то была вне себя от счастья. В течение трех месяцев мы встречались раз в неделю, но однажды, став его любовницей, я сказала, что хочу быть счастлива в открытую, что мне надоела подпольная любовь… Мы решили уехать сначала в Париж, а потом за границу.
Во мне поднималась глухая злоба. Эта девочка слишком напоминала мне Луизу, которая тоже думала, что сможет найти смысл жизни в новой любви, и тоже не заботилась о том, что оставляла за собой.
— Мы должны были встретиться сегодня в Уайонаксе, в кафе «Шмен де Фер», и сесть в поезд до Бурга, а оттуда — в Париж… И он не пришел. Почему? Скажите, почему он не пришел?
— Не знаю… Человек не всегда может делать то, что
хочет.
— Он мне обещал, — упрямо твердила она, — он мне обещал… Я не могу вернуться домой после того письма, что оставила тетке! Мне остается только броситься под поезд…
— Послушайте, неужели вам не стыдно так говорить?
— А что же мне делать?
— Прежде всего нужно найти комнату и отдохнуть. А я схожу в кафе «Шмен де Фер» и попрошу, чтобы тому, кто спросит о девушке, дали ваш адрес.
— Какой адрес?
— Я живу в старом отеле, его хозяева — славные люди. Могу попросить их, чтобы они приютили вас на ночь.
— У меня почти нет денег.
— Позвольте предложить вам комнату в память о моем собственном прошлом… Я хочу помочь вам завоевать счастье…
Она с удивлением взглянула на меня.
— Но я даже не знаю, кто вы.
— Какое это имеет значение, если я готов оказать вам помощь? Меня зовут Мишель Феррьер.
Когда я представил свою протеже, папаша Жаррье как-то странно посмотрел на меня и глубоко вздохнул.
— Только потому, что мы давно с вами знакомы… Номер восемь свободен… Как зовут эту «оставленную»?
К моему изумлению, та заявила:
— Альберта Морсен.
Почему она не назвала своего настоящего имени? Жаррье дал ей заполнить карточку, и она без зазрения совести подписалась вымышленным именем. Я спросил себя, не связался ли с фантазеркой.
— Вы, конечно, поужинаете вместе?
— Если мадемуазель Морсен согласна разделить мой ужин…
Немного поколебавшись, она согласилась. Я проводил ее до номера, а потом, сдерживая данное слово, сходил на вокзал, чтобы поговорить с хозяином «Шмен де Фер». Когда я возвращался в город, мне встретился Пьер.
— Смотри-ка, а я думал, ты уже спишь. Тебе стало лучше? Ты идешь к нам? Я сказал Каролине, что ты приехал, и она выругала меня за то, что я тебя не задержал.
— Нет, старина, если не возражаете, завтра. Моя мигрень разыгралась с удвоенной силой, и я забыл ее лишь потому, что случилось нечто из ряда вон выходящее.
… Моя история заинтересовала комиссара. Но когда я сказал, что отвел девушку в свой отель, он остановился.
— Скажи-ка, нет ли у тебя задних мыслей?
— Ты отлично знаешь, что у меня в голове, милый Пьер.
— Во всяком случае, мне кажется, что ты слишком быстро расчувствовался. Твоя Альберта пренебрегла правилами приличий, и нет никаких доказательств, что она рассказала правду…
— Но ее поход на почту, к окошку «До востребования»?
— Вполне возможно, у нее был любовник, но вряд ли их связь могла перерасти в такую драму. Нынешние девушки обладают невероятной наглостью и способны придумать что угодно, лишь бы вызвать к себе интерес. Она, вероятно, заметила тебя еще в кафе и, оценив твою физиономию, решила, что ты вполне можешь оплатить ей комнату и ужин.
— Не уверен… Она не похожа на любительницу приключений… Хоть я в не очень хорошо разбираюсь во всех этих женских историях… Впрочем, завтра мы узнаем правду.
— Почему завтра?
— Потому что я посоветовал ей пойти к этому типу. Естественно, она знает его фамилию, и ей остается только вернуться в Сен-Клод, но не жертвой, а мстительницей. Короче говоря, я посоветовал ей в случае необходимости устроить скандал, но нужно, чтобы этот мерзавец…
— Если он существует…
— Если он существует, чтобы он не сбежал. А я провожу девочку, чтоб помочь ей!
Пьер расхохотался.
— Чертов Мишель! Ей-Богу, она тебе приглянулась! Я бы посоветовал не вмешиваться в это дело и отдохнуть как следует, но, поскольку, разыгрывая верного рыцаря, ты меньше думаешь о своих бедах, может быть, это даже полезно. Она хоть хорошенькая?
— Нет… Я не стал бы утверждать, что она красива… Просто молода… Но я уверен, она не все мне рассказала… У нее круги под глазами, и она плохо выглядит…
— Ничего удивительного, если она ведет разгульную жизнь…
— Или если она беременна.
— Ну вот еще! Тебе не кажется, что это чересчур?
— Луиза, когда ждала ребенка, которому не суждено было родиться живым, выглядела точно так же.
Пьер взял меня под руку.
— Ты интересуешься ею потому, что она похожа на Луизу, да? Бедный старина Мишель…
Мы дошли почти до самого его дома.
— Ты не зайдешь поздороваться с Каролиной?
— Лучше завтра… Сегодня очень болит голова… Очень, как и всякий раз… Боюсь…
Вместо ответа Сандрей крепко пожал мне руку. Я был благодарен ему за то, что он не стал меня утешать.
— До завтра. Расскажешь, чем закончится эта история, но все-таки повнимательней следи за бумажником.
Наш ужин тет-а-тет прошел не очень весело. Голова болела все сильней, поэтому аппетита у меня не было. Моя знакомая сказала, что очень устала и потому есть не хочет. Глядя на нее, я все время думал о Луизе. Ноющий голос девушки теперь только раздражал, хоть совсем недавно вызывал во мне сочувствие. Она такая же трусливая, как Луиза… Луиза, бросившая меня. Я вдруг резко спросил:
— Вы что, больны?
Мой тон испугал ее.
— Вольна? Почему я должна быть больна?
— Если только вы не беременны.
Кровь отлила от ее щек, и она вдруг разрыдалась.
Удовлетворение, которое я испытал от того, что не ошибся в своих предположениях, не смогло компенсировать смущения, вызванного этой сценой. Несколько клиентов Жаррье смотрели на нас. Казалось, что они с особенной строгостью взирают на меня, и я занервничал.
— Замолчите! Замолчите же, ради Бога!
Подошла мамаша Жаррье узнать, что произошло. Я пожал плечами, показывая, что и сам не понимаю. Франсуаза Жаррье была славной женщиной. Во время оккупации она потеряла двух сыновей, но это не ожесточило ее, скорее наоборот. Она погладила лже-Альберту по голове.
— У вас не все в порядке, малышка?
— Я так несчастна, — всхлипнула девушка.
— Ладно, ладно, успокойтесь… Все может устроиться, кроме смерти.
Я взял свою спутницу за руку и потряс ее.
— Я приказываю вам замолчать! Я привел вас сюда не для того, чтобы устраивать скандал!
— Вы делаете мне больно!
Мадам Жаррье вступилась за девушку.
— Что с вами, Мишель? Вы с ума сошли? Посмотрите-ка на ее руку! Завтра на этом месте будет хороший синяк! Вам не стыдно?
Казалось, меня бьют по голове острием кинжала, боль ослепила… Хотелось вопить. Я уже не понимал, где нахожусь. Слово «стыдно» на несколько секунд отрезвило меня. Стыдно? Мне? Стыдно должно быть Луизе! Я путал двух женщин, ту, что была раньше, и сегодняшнюю. Передо мной сидела Луиза, такая же, как в тот день, когда распрощалась со мной. Сам того не желая, я закричал:
— Стыдно? А эта, что, хороша? Это ей должно быть стыдно, маленькой стерве!
Я различал враждебный шепот, смущенный гул вокруг себя. Но мне было наплевать. Я вернулся в прошлое двадцатилетней давности.
— На сей раз я не позволю тебе уйти, Луиза, слышишь? Я не позволю тебе уйти! Уж лучше убью собственными руками!
На помощь жене подоспел папаша Жаррье. Мне показалось, что он сказал:
— Я вам объясню… Он тяжело болен… — Он тихонько обнял меня за плечи, помогая подняться. — Пошли, Мишель, нужно отдохнуть…
Сам не знаю почему, но я вдруг расплакался. Жаррье вывел меня из зала, а его жена занялась Сесиль, о которой я совершенно забыл. Впрочем, я забыл обо всем, кроме чудовищной боли, разрывавшей мой череп.
— Вызвать доктора? — спросил папаша Жаррье, помогая мне раздеться.
Я хмыкнул.
— Доктора!.. Никто ничего не может для меня сделать!..
Я выпил две таблетки снотворного, чтобы погрузиться в спасительное забытье.
— Не буду закрывать дверь на ключ, чтобы можно было быстро войти, если вам что-нибудь понадобится…
Закрыв глаза, я жаждал погрузиться в сон, из которого обычно выходил отдохнувшим, спокойным, хоть и никогда не мог вспомнить о том, что со мной было накануне.
В мозгу постепенно прояснялось. Сознание возвращалось порциями. Приоткрыв веки, я постепенно начинал понимать, что вижу. Потом мало-помалу оживала память. Сколько времени я спал? Восемнадцать, двадцать часов? Пока я раздумывал над этим вопросом, в дверь постучали.
— Войдите.
На пороге появился папаша Жаррье.
— Ну что, мсье Мишель, как вы себя чувствуете?
— Освобожденным… Все кончилось.
Жаррье пересек комнату и открыл ставни. Я закрыл глаза от яркого света, залившего комнату. Он приблизился и внимательно посмотрел на меня.
— Не скажешь, что вы хорошо выглядите.
— Я никогда не выгляжу хорошо после приступов.
— Вам уже не больно?
— Нет. В котором часу я пришел вчера вечером?
— Около половины восьмого… Вы поужинали с малышкой…
— С малышкой?
И вдруг я вспомнил. Девочка, брошенная каким-то донжуаном из Сен-Клода, которая хотела умереть. Я рассмеялся.
— Надеюсь, ее приступ тоже кончился. Она уехала?
— Да.
— Ничего не просила мне передать?
— Нет.
Не знаю, было ли это плодом моего воображения, но мне показалось, что он не смотрел на меня так открыто, как обычно.
— Хотите завтракать?
— Только черный кофе. В котором часу я пошел спать?
— Около девяти часов… Я сам уложил вас. Приступ начался внизу…
— Бедный Жаррье, извините меня за все неприятности, которые я вам причиняю.
Он пожал плечами.
— Я знаю, через что вы прошли, мсье Мишель. Если бы наши мальчики вернулись в таком состоянии, как вы, я ухаживал бы за ними… Вы в некотором роде наш сын…
У меня пересохло в горле, и я не мог проронить ни звука, только сжал его руку.
— Мсье Сандрей просил, чтобы вы позвонили ему, как только проснетесь, волнуется за вас. Я скажу, что все в порядке, хорошо?
— Все в порядке, отец Жаррье, не стоит его беспокоить, я сам зайду в комиссариат.
Когда Пьер вошел в мою комнату, я как раз допивал кофе. К моему удивлению, за ним следовал Оноре Вириа.
— Здравствуй, Мишель. Как дела?
Его тон удивил меня.
— Приступ прошел. Думаю, что смогу поужинать сегодня с тобой и Каролиной.
Тут я сообразил, что они как-то странно смотрят на меня.
— Что случилось, Пьер?
Он сел рядом со мной на кровать, а Вириа — на единственный в комнате стул.
— Ты оказался прав относительно этой… Альберты, что так заинтересовала тебя. Она действительно была беременна.
— А ты откуда знаешь?
— Вскрытие показало.
— Вскры..? Она что?..
— Да.
Бедная девочка. Значит, ей не хватило смелости нести дальше свой крест… А я не смог найти слов, которые хоть немного облегчили бы ей жизнь, и злился на себя за это.
— Как она покончила с собой?
— Она не покончила с собой.
— Что?!
— Ее убили сегодня ночью в номере.
Глава 2
Папаша Жаррье обнаружил преступление в десять часов утра, когда, удивившись, что клиентка до сих пор не спустилась, поднялся и долго стучал к ней в номер. Судя по всему, убийца хорошо знал гостиницу. Он вошел через заднюю дверь, ведущую в сарайчик, где хозяин хранил старые, ненужные инструменты.
— Ты ничего не слышал этой ночью?
— Я был в таком состоянии…
— Конечно.
В разговор вмешался Вириа.
— Самое интересное, что и ближайшие соседи жертвы ничего не слышали.
— В это трудно поверить!
— Есть только одно разумное объяснение. Она знала того, кто вошел к ней в номер, и не боялась его. Он спокойно смог ударить ее, а когда она потеряла сознание, завершил свое грязное дело.
— Без сомнения, это был человек, которого она ждала в кафе «Шмен де Фер». Иначе откуда бы он узнал, что она здесь?
— Видишь ли, Мишель, самое странное, что в кафе никто не спрашивал об этой женщине.
— Не может быть!
— К сожалению, может, и это значительно усложняет нашу задачу. В течение последнего месяца среди постояльцев Жаррье не было ни одного человека из Сен-Клода.
— Нужно провести расследование в Сен-Клоде. Там, вероятно, можно будет найти кого-нибудь, кто был знаком с мерзавцем — отцом ее ребенка.
— Это нелегко…
— Почему?
— Во-первых, потому что я не имею права вести расследование в Сен-Клоде, а во-вторых, я уже звонил в тамошнюю мэрию…
— Ну и что?
— Там никогда не было девушки по имени Альберта Морсен.
Я чуть было не ляпнул, что на самом деле покойную звали Сесиль Луазен, но промолчал. Может быть, подсознательно я хотел сам отомстить за Сесиль, найдя ее убийцу.
— Что ты собираешься делать, Пьер?
— Пока не знаю. Одна из тех грязных историй, которые в любую минуту могут вызвать скандал и за которые неизвестно с какого конца браться. Впрочем, не хочу больше тебе надоедать, Мишель. Отдыхай, чтобы вечером быть в форме. Заходи за мной в комиссариат часов в семь, ладно?
— Договорились.
— Очень жаль, что я не принял всерьез твой вчерашний рассказ. Правда, я все равно ничего не смог бы для нее сделать. Она солгала бы мне точно так же, как и тебе.
— Она не лгала мне!
— А вымышленное имя? Я почти уверен, что она разыграла перед тобой комедию. Почему? Не знаю. Очевидно, свидание было назначено не в кафе «Шмен де Фер», а в отеле.
— Откуда она могла знать, что я предложу ей остановиться в этой гостинице?
— Она этого и не знала, но, если бы ты предложил ей другую, вероятно, отказалась бы. Будем надеяться, что все-таки удастся разгадать тайну, хоть я и не чувствую особого оптимизма. До вечера.
Уже стоя у самой двери, Вириа обратился ко мне:
— К счастью для вас, мсье Феррьер, хозяин гостиницы утверждает, что вчера вечером сам вынужден был уложить вас спать, а вы были в бессознательном состоянии…
— К чему это замечание?
— К тому, что иначе вы — подозреваемый номер один.
Я был ошеломлен и не нашелся, что ответить. Впрочем, Сандрей сделал это за меня, резко поставив Вириа на место. Он попросил его не проявлять инициативу и не забывать, в чьем подчинении тот находится. Вириа вышел, не проронив ни слова, но в его взгляде я прочел: он никогда не простит мне, что я стал свидетелем его унижения.
Я чувствовал себя ослабевшим и усталым. Приступ и чудовищная весть о смерти Сесиль выбили меня из колеи. Я потратил кучу времени для того, чтобы одеться, а спускаясь вниз, был вынужден крепко держаться за перила.
Внизу меня ждала мамаша Жаррье. В глазах ее читалась легкая тревога.
— Ну как? — спросила она.
— Что касается меня, то постепенно прихожу в себя.
— Не похоже. Пойдемте пропустим по стаканчику, это пойдет вам на пользу.
Она увела меня в свою комнату, куда обычным постояльцам вход воспрещен. Жаррье читал газету, но, увидев нас, поднял очки на лоб.
— Доставай свою газетную бутылочку. Альфонс, — обратилась к нему жена.
Альфонс подчинился и налил мне стакан вина. Я выпил залпом и вздрогнул.
— Еще один?
— Нет, спасибо.
Воцарилась мучительная тишина, потому что никто не решался первым затронуть тему, обсудить которую хотелось всем. Наконец я решился.
— Вы, должно быть, сердитесь на меня за то, что я привел к вам несчастную девушку.
Жаррье вздохнул.
— Конечно, у нас теперь будет много хлопот… Полиция, прокурор, следователь, фотографы… Все тут… А для отеля это не самая лучшая реклама.
— Я не мог предположить…
Мамаша Жаррье покачала головой.
— Бедный мсье Мишель… Вы слишком добры. Современные девицы таковы, что лучше не вмешиваться в их жизнь…
— Конечно, я не очень хорошо разбираюсь в женщинах, но у нее возникли серьезные неприятности… Она плакала как ребенок… Ребенок, которому пообещали игрушку, а потом обманули… Пока не будет доказательств обратного, я верю в ее искренность…
Я почувствовал, что начинаю нервничать, и встал.
— Спасибо за вино. Теперь я чувствую себя лучше. Сегодня я ужинаю у Сандрея и вернусь поздно.
— Возьмите ключи. Я велел поставить новый замок на дверь чулана, — произнес Жаррье.
По дороге в комиссариат я вдруг подумал, что Жаррье намекнул на замок в двери чулана не случайно, словно хотел дать понять, что я пользовался этой дверью. От злости и возмущения у меня даже дух перехватило. Я готов был вернуться назад и потребовать объяснений, но вдруг меня охватила усталость, о которой я на время забыл. К чему? Если Жаррье больше не доверяет мне, если его раздражение дошло до такой степени, что он видит во мне убийцу, то ничто не заставит его изменить свое мнение. Без сомнения, с ним побеседовал Оноре Вириа. Следует поставить его на место.
В комиссариате я поделился своими проблемами с Пьером, и он тотчас вызвал Вириа. Тот вошел с весьма нелюбезным видом.
— Вириа, находясь в комнате мсье Феррьера, вы сделали весьма необдуманное замечание. Говорили ли вы об этом с Жаррье?
— Господин комиссар, я не имею привычки разглашать сведения, связанные с ведением следствия.
— Я был бы счастлив, Вириа, если бы вы не переносили неприязнь, которую испытываете ко мне, на моих друзей. Иначе буду вынужден официально призвать вас к порядку.
— Когда я веду следствие, господин комиссар, то совершенно не забочусь о том, какие отношения существуют между розными людьми, а просто исполняю свои долг. Я вовсе не собирался обвинять мсье Феррьера, впрочем, и никого другого, не имея доказательств.
— Отлично!
— Но могу заверить вас, господин комиссар, что поймаю убийцу Альберты Морсен, даже если он друг самого префекта или президента республики.
— Довольно. Вириа.
— К вашим услугам, господин комиссар.
Он уже собирался уходить, но я схватил его за руку.
— Мсье Вириа, посмотрите мне в глаза: вы действительно считаете, что я мог убить Альберту Морсен?
Он осторожно освободился:
— Не знаю, мсье Феррьер.
За ужином у Сандреев все чувствовали себя неловко. Каролина пыталась завязать разговор, но безрезультатно.
Когда мы прощались, она поцеловала меня и пожелала удачи.
Пьер мог бы найти более красивую жену, но никакая другая не любила бы его так сильно. Правда, так же я думал когда-то о Луизе, но Каролина, конечно, более надежна.
Сандрей вызвался меня проводить. По дороге мы разговорились.
— Я решил сделать все возможное, чтобы разобраться в этом деле, понять…
— Что понять?
— Все… Моя встреча с Альбертой… Я хочу быть уверен в том, что она произошла лишь по воле случая… Хочу понять, врала ли она, когда говорила о человеке, которого ждала в кафе «Шмен де Фер». И, наконец, хочу знать имя отца ребенка, которого она носила.
Пьер расхохотался.
— Именно такова программа полиции, старина.
— Возможно, но меня ничего не удерживает, и я собираюсь завтра же выехать в Сен-Клод и провести там небольшое следствие: хочу полностью очиститься от подозрений.
— Поступай как знаешь, но, боюсь, твое путешествие окажется бесполезным. Действуй осторожно, Мишель, убийца без колебания прикончит тебя, если узнает, что ты напал на его след.
— Думаешь, это может меня испугать?
— И потом, в Сен-Клоде есть полиция.
— Какое отношение имеет ко мне полиция Сен-Клода?
— Если твое любопытство покажется ей чрезмерным, она начнет выяснять, почему ты заинтересовался этим делом.
— Я все объясню.
— Не забывай, что комиссар Сен-Клода не станет с тобой возиться, профессионалы не любят любителей. Ты ведь приехал в Уайонакс отдыхать, не так ли?
— Ну и что?
— Так вот, отдыхай и не лезь в наши дела.
— С тех пор как я пообещал Альберте покровительство, а меня обвинили в ее убийстве, ваши дела стали и моими, Пьер.
— Ты принимаешь эти бредни слишком близко к сердцу.
Мы подошли к отелю и пожали друг другу руки.
— Если возникнут сложности, немедленно звони мне, ладно?
— Более того, если узнаю что-то новое, то сразу же посоветуюсь.
— Это немного успокаивает меня… Спокойной ночи, старина… Желаю удачи… Да, кстати… как ты собираешься наводить справки о девушке, если даже не знаешь ее настоящей фамилии?
— Как-нибудь выкручусь…
Когда на следующий день я спустился с чемоданом, Жаррье не поверили своим глазам. Франсуаза дрожащим голосом спросила:
— Это правда, что вы уезжаете, мсье Мишель?
— Да.
— И куда же?
— На поиски человека, который прошлой ночью убил девушку.
— Значит, вам известно, кто он?
— Нет, но я найду его. До свидания, мадам Жаррье.
Когда я приехал в Сен-Клод, шел дождь, но городок оказался настолько красивым, что все равно приглянулся мне. Чтобы не увлечься достопримечательностями города, я решил взять такси и доехать до «Отель Жоли» в Мартине, в нескольких шагах от города. Приехав в отель, я поднялся в свой номер, принял душ и лег. Проснулся около семи часов вечера, бодрый и готовый к действию. Ни следа головной боли, ни следа тоски, мучившей меня с тех пор, как я узнал о смерти Сесиль. Я решил с шиком поужинать. Вкусная еда — одно из немногих удовольствий, которые еще могу себе позволить. Я заказал копченый язык, сморчки в сметане, жареного бекаса и вино «Помероль» 1961 года. Настроение мое стало превосходным.
Когда на следующее утро я вышел из отеля, чтобы пешком дойти до Сен-Клода, яркое солнце заливало своим светом деревушку, расположенную на склонах Юры. Я был уверен, что пешеходная прогулка пойдет мне на пользу и поможет продумать тактику действий. Я не спешил и потратил немногим больше часа, чтобы дойти до города. Мое появление никого не удивило, так как я был похож на туриста, довольного тем, что наконец вырвался на свежий воздух из своего загазованного города. Мне предстояло отыскать адрес тетки Сесиль. Действовать приходилось вслепую, полагаясь лишь на свою счастливую звезду. Я старался вспомнить, как выглядела покойная, и пытался определить, в каком районе она могла бы жить, какие магазины посещать. Поднимаясь по древней улице Пуайя, я подумал, что есть все же один магазин, который посещают все без исключения жители квартала, и вошел в первую же попавшуюся бакалейную лавку. У кассы сидела женщина и, высунув от старательности язык, проверяла какие-то счета. Я кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Она приветливо улыбнулась.
— Что вам угодно?
— Хочу кое о чем узнать, мадам. — Ее лицо помрачнело. — Знаете ли вы мадемуазель Сесиль Луазен, примерно двадцати пяти лет, живущую у тетки?
Она пожала плечами.
— Ей-Богу, нет… не помню… Должно быть, она живет не в этом районе… очень сожалею.
Подобные вопросы я задавал все утро и получал только отрицательные ответы. Я опросил всех бакалейщиков и бакалейщиц с улицы Пуайя, улицы Пре, проспекта Бельфор, бульвара Репюблик, улицы Рейбер. Одни были более любезны, другие менее, это зависело от того, сколько покупателей находилось в тот момент в магазине. Некоторые даже обращались к своим клиентам, надеясь, что те смогут помочь мне. К полудню я почувствовал себя уставшим и обескураженным. Наконец мне смертельно надоело открывать двери и приставать к людям с бесполезными вопросами, я решил взять такси и вернуться в Мартине.
Когда я шел к площади Аббей, меня обогнали две молодые женщины, и вдруг я услышал, как одна спросила у другой.
— А что стало с Сесиль? Очередная любовь?
Сердце мое забилось сильней, и, не особенно раздумывая над тем, что поведение мое может показаться неприличным, я подошел к ним.
— Простите меня, мадам…
Они обернулись, чтобы взглянуть на человека, осмелившегося им помешать.
— Я позволил себе обратиться к вам только потому, что случайно услышал, как вы произнесли имя Сесиль… Я приехал в Сен-Клод, чтобы найти одну Сесиль… и, клянусь, до сих пор не нашел ее.
Женщины расхохотались.
— А откуда вы знаете, что вам нужна именно наша Сесиль?
— Увы! Конечно…
— Скажите нам фамилию вашей возлюбленной. Может быть, мы ее знаем? Видите ли, Сен-Клод не такой уж большой город…
— Сесиль Луазен.
Они растерянно переглянулись.
— Вы что, разыгрываете нас?
— Простите?
— Сесиль вам о нас рассказала?
— Клянусь, нет… Впрочем, мадам, ведь я незнаком с вами.
— Это правда… А что вам нужно от Сесиль Луазен?
— Это трудно объяснить…
— Ладно, не трудитесь… Все мужчины одинаковы… Вы, впрочем, довольно симпатичны, так вот предупреждаю: Сесиль — отнюдь не сахар. Она верит только в большую любовь… понимаете? Хочет встретить мужчину, который настолько полюбит ее, что сможет вырвать из лап мамаши Ирель.
— Мамаши Ирель?
— Ну да, ее тетки.
Наконец-то!
— Вы знаете ее адрес?
— Естественно… Вилла «Макс», у моста де ла Пип, в районе Су-Сен-Уайян.
Глава 3
На следующий день, разгуливая по улице Пре, где расположены прекрасные магазины, в одной из витрин я вдруг увидел женщину, очень похожую на ту, что рассказала мне о тетке Сесиль. Наши взгляды встретились, и она приветливо помахала мне рукой. Я тоже помахал ей и вошел в магазин.
— Ну что, узнали что-нибудь новенькое о Сесиль?
— Нет.
— Вот это да… Интересно, куда она могла деваться?
— Если вы свободны, мы могли бы поболтать.
— У меня перерыв в четверть первого.
— Я могу вас где-нибудь подождать?
— В «Кафе Америкен».
— Хорошо. Пообедаем вместе?
— Нет-нет! В час дня я обедаю с одним приятелем… Он не простит, если я подведу его… Он очень ревнив…
— Для вас это имеет значение?
— Не особенно, но он может причинить мне неприятности.
— Почему?
— Потому что работает в полиции.
Девушка появилась в двадцать минут первого. Ее приход вызвал в кафе волну веселого возбуждения среди молодежи. Девушка села напротив меня и, изображая задумчивость, произнесла:
— Вот видите, я сдержала слово.
— Очень признателен. Позвольте представиться: Мишель Феррьер, поверенный.
— А я Арлетта Шатенуа.
Мы сделали заказ, и, когда нас обслужили, Арлетта спросила:
— Очень странно, что Сесиль в последние дни не показывается. Вы были у ее тетки?
— Еще нет… А вы?
— О! Я не по вкусу старой святоше… Похоже, моя компания — не самое достойное общество для ее племянницы. За кого она себя принимает, эта старая астматическая сова? Бедная Сесиль! Она практически ничего не умеет делать… Тетка воспитала ее так, как воспитывали девушек сто лет назад… Немного живописи, уроки музыки, вышивание… Попробуйте-ка этим заработать себе на жизнь!
— Мадемуазель Шатенуа…
— Люди, которым я симпатизирую, называют меня просто Арлеттой, а вы мне нравитесь, несмотря на серьезный вид… Можете называть меня Арлеттой.
— Хорошо… Так вот, Арлетта, между нами говоря, Сесиль… она была серьезной девушкой?
— Что вы имеете в виду? Она любила гулять, танцевать… По-вашему, такую девушку не назовешь серьезной? Но если вы хотите спросить, были ли у нее любовники, то готова поклясться, что нет!
Итак. Арлетта знала Сесиль значительно хуже, чем думала.
Виллу «Макс» я обнаружил без труда. Очевидно, вилла переживала период упадка. Дома, как и люди, подвержены разрушительному влиянию времени. Кое-где облупилась штукатурка, водосточная труба погнута, краска на ставнях тоже облупилась, за садом давно никто не ухаживал.
Звонок, висевший у калитки, издал тонкий надтреснутый звук. Я сомневался в том, что его можно было услышать в доме, но через несколько минут на крыльце появилась худенькая, сгорбившаяся под тяжестью лет старушка. Подойдя ближе, она подняла ко мне свое сморщенное лицо, на котором горели очень молодые глаза, и тихо спросила:
— Что вам угодно, мсье?
— Я хотел бы встретиться с мадам Ирель, если это возможно и не очень затруднит ее.
Старушка колебалась.
— По какому поводу?
— Из-за ее племянницы.
— О! Боже мой!
Она прижала руку к груди.
— Надеюсь, по крайней мере ничего плохого? Понимаете, я ее вырастила.
Я подумал: если сейчас скажу, что Сесиль умерла, она упадет прямо у двери. Поэтому из жалости соврал:
— Нет, просто мне необходимы некоторые сведения для устройства на работу.
— А… Понятно…
Старое лицо осветилось доверчивой улыбкой, и мне стало стыдно.
— Входите, мсье, присаживайтесь. Я предупрежу мадам. Не угодно ли вам назвать свое имя?
— Мишель Феррьер.
Она слегка поклонилась и вышла, оставив меня одного в комнате, где я чувствовал себя столь же чужим, как первый астронавт на Луне. Я сел в кресло и ощутил запах увядания.
Вот где в течение долгих лет жила Сесиль Луазен. Теперь я понимал, почему ей хотелось сбежать. Детство, юность, девичество, проведенные среди старой мебели, в дряхлом доме с затхлой атмосферой, — есть от чего прийти в отчаяние.
Дверь гостиной бесшумно отворилась, и на пороге появилась пожилая женщина, платье и походка которой полностью соответствовали обстановке в комнате. Мадам Ирель явно перевалило за шестьдесят. Бледное лицо, шаль, окутывавшая плечи, прозрачные руки — все говорило о том, что она пережила свое время. Я бы ничуть не удивился, если бы она достала из кармана юбки бонбоньерку и предложила бы мне конфетки с просвирняком.
— Мсье Феррьер?
— К вашим услугам, мадам.
Голос у нее был тихий, какой-то фетровый.
— Прошу вас, садитесь. Я не очень хорошо поняла, что сказала моя старая служанка по поводу вашего визита.
— Мадам, я — инспектор одной из парижских фирм, предприятия по производству хозяйственных товаров. Мы набирали по объявлению служащих для работы в цехах и конторах.
— Должна ли я понимать, мсье, что моя племянница?..
— Мадемуазель Сесиль Луазен, не правда ли?
— Да.
— Она действительно прислала нам предложение, заинтересовавшее руководителя предприятия, и, поскольку я все равно был в этих краях…
— И она осмелилась! — скорей прошипела, чем произнесла мадам Ирель. — Даже не спросив моего мнения! Даже не предупредив меня! Удрала в Париж, ах, потаскуха!
— Позвольте, мадам…
— Нет! Вы ведь ничего не знаете! А еще говорят, что за добро всегда воздается добром! Не смешите меня! Неблагодарность, слышите! Нынешняя молодежь — воплощение неблагодарности! Подумать только, я взяла ее к себе, когда ей не было и пяти лет, моя бедная сестра и ее муж погибли в результате несчастного случая в горах… Ради этого ребенка я пожертвовала собственной жизнью. Мне хотелось воспитать женщину, которая сможет стать хорошей женой и матерью семейства, но порок у нее в крови… В возрасте шестнадцати лет ее выслали из монастыря, потому что она могла испортить одноклассниц. Тогда я наняла домашних учителей… Только один из них был удовлетворен ее успехами. Это Хюбер Вижо, учитель музыки, он считает себя артистом… — Она презрительно пожала плечами. — Какая жалость!.. Плевать я хотела на артистов! Настоящий бездельник, он даже не в состоянии обеспечить приличное существование жене и дочерям… Никчемный человек! Не удивляюсь, что они с Сесиль нашли общий язык! Они прямо-таки созданы друг для друга!
— Простите, мадам, но чему научилась ваша племянница?
— Вы имеете в виду, что она умеет делать?
— Совершенно верно!
— Так вот, мсье, к сожалению, должна вам сказать, что моя племянница ни одно дело не может довести до конца. А ведь я не жалела денег, чтобы дать ей образование! Музыка, живопись, вышивание, Бог знает что!
— Не кажется ли вам, мадам, что в наше время этого недостаточно для жизни?
Она выпрямилась.
— Мсье, я получила именно такое образование и не понимаю, почему то, что было хорошо для меня, может оказаться плохо для моей племянницы? Нет, тут дело во всепоглощающей аморальности молодежи… Они ни во что не верят, ни на что не надеются… У них нет идеалов, нет религии, нет уважения!
Я изо всех сил сдерживался, чтобы не сказать ей все, что думаю о ней и ее тупости.
— С вашего позволения, мадам, я хотел бы передать вашей племяннице, что она не может рассчитывать на наш положительный ответ.
— Это невозможно!
— А?
Она резко выпрямилась.
— Эта стервочка оказалась настолько неблагодарной, что позавчера сбежала, оставив письмо, где пишет, что выбирает свободу и готова ради этого на любые жертвы!
— Она не сообщила вам, куда едет?
— Представьте себе! Она боялась, что я прибегну к помощи полиции, чтобы вернуть ее домой.
— К помощи полиции? Но, если верить анкетным данным, она совершеннолетняя.
— Ну и что? Лучше сразу скажите, что вы ее одобряете!
Больше сдерживаться я не мог.
— Совершенно верно, мадам, я ее одобряю.
— Что?
— Я понимаю, что она бежала от вашей чудовищной власти, вы — преступница, мадам, одна из тех преступниц, которые в угоду собственному эгоизму, глупости, тщеславию портят жизнь существам, воспитание и заботу о которых им доверили. Вы хотели воспитать племянницу так, как воспитали вас… но ни на мгновение не задумались, что жизнь изменилась, что вы делаете из нее несчастного человека, неспособного заработать себе на пропитание! Вам и в голову не пришло, что она может не захотеть вести тоскливую жизнь среди этого отвратительного окружения.
Она покраснела и, приоткрыв рот, слушала меня. Злость буквально парализовала ее, и она не могла проронить ни звука.
— Сесиль Луазен не сбежала, она спасалась, предпочитая что угодно жизни в болоте, которую вы ей уготовили!
— Уходите!
— С удовольствием, мадам!
— Я… я пожалуюсь на вас в полицию!
— Лучше подумайте о том, что полиция и вам может предъявить счет!
— Агата!
Старая служанка, должно быть, подслушивала у двери, потому что сразу же вошла.
— Мадам?
— Выкинь этого типа вон!
Славная старушка с испугом посмотрела на меня.
— Вам нужно идти, мсье.
— Я следую за вами.
Прежде чем выйти из комнаты, я посмотрел на мадам Ирель, которая буквально поедала меня полными ненависти глазами.
— Не думаю, что вы садистка по натуре и вам нравится причинять страдания другим, но вы — дура, мадам, и ваша глупость безгранична…
— Мошенник! — взвыла она. — Идите к ней, вы одного поля ягоды!
Я спустился по ступенькам, быстро пересек сад и, не дожидаясь Агаты, открыл калитку. Я уже шел по улице в направлении моста Пип, когда меня окликнули:
— Мсье!.. Мсье!..
Я оглянулся. За мной семенила старая служанка.
— Вы слишком быстро идете! Я хотела вам сказать… Я все слышала… Спасибо…
— Спасибо?
— Да, спасибо за меня и за Сесиль… Вы правы: мадам — чудовище! Она всегда думала только о себе, до других ей и дела нет… Если бы я не была так стара, то давно ушла бы от нее. Я оставалась только из-за малютки Сесиль… Вы думаете, она вернется?
— Нет, Агата, не думаю.
Она покачала головой.
— Без нее моя жизнь становится бессмысленной, но я ее понимаю. Она правильно сделала, что уехала, но нужно было предупредить меня… Она боялась, что я ее выдам… Славная девочка, но очень несчастная… Мадам говорила, что она бегала за мужчинами. Это ложь. Она гналась за счастьем, которого не могла найти дома. Если бы вы знали, как она была счастлива, когда думала, что сможет выйти замуж за Жоржа…
— Жоржа?
— Жоржа Бенака, хозяина «Серебряного барана» — магазина дамского готового платья на улице Пре… Я тоже думала, что свадьба будет, но потом все разладилось.
— Почему?
— Потому что старшая продавщица — мадемуазель Маргарита — решила женить патрона на себе. Она старше Сесиль, у нее большой опыт общения с мужчинами, и она уже много лет держит мсье Жоржа под каблуком. Моя малышка была в отчаянии, она так надеялась, что сможет сбежать от тетки… И после этого ей тоже не везло… Она предпринимала и другие попытки, столь же неудачные, но мне об этом не рассказывала… Вероятно, ей было стыдно… А теперь она уехала…
Старушка тихонько заплакала, мне было очень жаль ее, но правдой я мог лишь усугубить ее горе.
Измученный разговором со старой Агатой, я вернулся в отель. С одной стороны, нелепая, ограниченная тетка, ничего не желающая понимать, с другой — кормилица, готовая принять и простить все.
Поднявшись в номер, я сел в кресло и стал думать о том, каким же человеком была Сесиль. Мои мысли прервал телефонный звонок. Это был хозяин отеля, который сообщил, что внизу меня ждет какой-то господин.
— Он назвал свое имя?
— Похоже, мсье, что вы незнакомы, но у вас есть общие знакомые.
— А?.. Хорошо, сейчас спущусь.
Я привел себя в порядок и отправился на встречу с незнакомцем, приход которого весьма меня заинтриговал.
Возле конторки администратора стоял высокий симпатичный молодой человек, отлично сложенный и напоминающий игрока в регби. Улыбаясь, он подошел ко мне.
— Мсье Феррьер?
— Да, но, кажется, я не имею удовольствия…
— Меня зовут Жак Сессье…
Сессье… Где я мог слышать эту фамилию? Он сразу же пришел мне на помощь.
— Полагаю. Арлетта Шатенуа говорила вам обо мне?
Я вздрогнул.
— Ах, да!.. Вы…
— Офицер полиции.
— Вы пришли с официальным…
— Это не совсем точно, и только от вас, мсье Феррьер, зависит, чтобы наш разговор носил сугубо частный характер. Давайте присядем.
Я пригласил его в бар, и мы сели за столик, зажатый между стойкой и окном. Когда нас обслужили, я обратился к своему собеседнику:
— Слушаю вас.
— Мсье Феррьер, ваше поведение заинтриговало нас.
— Кого же именно?
— Нашу службу.
— И… почему же?
— Приехав в Сен-Клод, вы расспрашиваете всех о Сесиль Луазен.
— Верно. Но ничего предосудительного в этом не вижу.
— У мадемуазель Арлетты Шатенуа вы узнали домашний адрес мадам Ирель, тетки мадемуазель Луазен.
— Верно.
— Вы отправились к ней под видом представителя фирмы по производству хозяйственных товаров.
— Это ведь не так страшно?
— И все же… Вы обманным путем добились приема у мадам Ирель.
— Я назвал свою фамилию.
— К счастью для вас, мсье Феррьер… Но только, похоже, вы очень некрасиво вели себя по отношению к этой старой даме… Вы оскорбили ее?
— Если правду вы считаете оскорблением, то готов признать, я действительно сказал ей, что она дура.
— Мы знаем, она позвонила в полицию и пожаловалась на вас. Но мы не обратили бы на это внимания, если бы ваше поведение, вата манера действовать не заинтриговали бы нас.
— Честно говоря, не понимаю, в чем дело. Ведь никогда не считалось преступлением разыскивать девушку.
— При обычных обстоятельствах нет. Но все значительно усложняется, когда девушка становится жертвой убийства.
Я ничего не ответил. Ясно, почему мои действия встревожили полицию Сен-Клода.
— Значит, вы в курсе дела?
— Как и вы, хоть и из другого источника.
— Что вы имеете в виду?
— Мы в курсе дела потому, что нам сообщили, а вот вы…
— Что я?..
— Поскольку вам известно о смерти Сесиль Луазен, возможно, вы и убили ее?
— Вы действительно так думаете?
— Если бы я действительно так думал, мсье Феррьер, мы разговаривали бы в другом месте.
— Кто навел вас на эту мысль?
— Один из моих коллег в Уайонаксе.
Этим коллегой мог быть только Вириа.
— Я думал, смерть Сесиль Луазен будут держать в секрете.
— Это сложно, особенно по отношению к полиции города, из которого приехала жертва… Впрочем, еще несколько дней мы действительно хотим держать это дело в тайне… Мсье Феррьер, чего вы конкретно добиваетесь?
— Хочу понять, каким человеком была Сесиль.
— Зачем?
— Чтобы найти ее убийцу.
— Не разумней ли предоставить дело полиции, а самому вернуться в Уайонакс?
— Если только полиция не вынудит меня, я не последую вашему совету.
— Тем хуже.
— Это угроза, инспектор?
— Нет. Обычное предупреждение. Хорошенько подумайте, прежде чем что-либо предпринимать. Кстати, нас интересует еще один вопрос. Откуда вы узнали, что Альберту Морсен на самом деле зовут Сесиль Луазен?
Не дожидаясь моего ответа, Сессье вышел.
Глава 4
Прожив несколько дней в Сен-Клоде, я понял, что здесь все знают о смерти Сесиль Луазен, знают и имя ее убийцы, но, как члены одной большой семьи, не желающие выносить сор из избы, объединились в молчании против чересчур любопытного чужестранца.
Однажды я увидел Сессье в районе Сен-Хюбер. Я не пытался избежать встречи.
— Ну что, инспектор, на меня больше никаких жалоб не поступало?
— Нет, и я очень рад за вас. Вы по-прежнему не хотите вернуться в Уайонакс?
— Я очарован вашим городом: на каждом шагу открываю для себя что-то новое и восхитительное.
Естественно, нам не удалось провести друг друга.
— Я и не думал, что вы приехали к нам как турист, мсье Феррьер!
— Успокойтесь, я не забыл о своих планах!
— Очень жаль… Было бы значительно лучше, если бы вы удовлетворились одними прогулками.
Я много раз проходил мимо «Серебряного барана», где хозяином был тот самый Жорж Бенак, о котором мне рассказала старуха Агата и в котором Сесиль полагала найти столь долгожданного спасителя. Если бы я хоть что-то знал о нем, то мог бы составить план действий в соответствии с его характером, но я не знал абсолютно ничего, а справки наводить боялся, чтобы не вызвать подозрений. Значит, придется вести игру, рассчитывая лишь на удачу.
Сердце мое бешено колотилось, когда я открыл дверь в «Серебряный баран».
Очаровательная продавщица с изумлением посмотрела на меня. Очевидно, в этот предназначенный для женщин магазин не часто входили мужчины. Две девушки, болтавшие в углу, резко замолчали, разглядывая меня. Придя в себя от изумления, продавщица подошла ко мне:
— Что вам угодно, мсье?
— Мсье Бенак здесь?
— Полагаю, да…
— Я хотел бы поговорить с ним.
Она повернулась к болтушкам.
— Мадемуазель Жермен, мсье хотел бы поговорить с мсье Бенаком.
Девушка подошла к нам.
— Если вы по поводу поставок, мсье, то я могла бы…
— Я по личному делу, мадемуазель, оно не имеет никакого отношения к торговле.
— В таком случае схожу узнаю. Назовите, пожалуйста, свое имя.
— Мишель Феррьер.
— Подождите несколько минут, пожалуйста.
Она ушла в глубь магазина, но вскоре снова появилась и, стоя на ступеньках, позвала:
— Идите сюда, мсье Бенак ждет вас.
Я поднялся по лестнице за мадемуазель Жермен, и через минуту мы оказались на площадке с несколькими дверями. Мадемуазель толкнула дверь и посторонилась, пропуская меня.
Я оказался в обставленном со вкусом кабинете. Из-за стола, уставленного всевозможными безделушками, поднялся мужчина.
— Вы хотели побеседовать со мной по личному делу, мсье?
Человек, столь любезно говоривший со мной, худощавый блондин в очках, был одет очень
элегантно, но скромно.
— Мсье Бенак, прошу простить… за столь необычный визит.
— Вы заинтриговали меня. Прошу вас, присядьте.
Мы сели, и я приступил к делу.
— Я слышал, вы хорошо знакомы с Сесиль Луазен.
Он вздрогнул.
— Но, мсье, не понимаю…
— Я веду следствие по делу Сесиль Луазен.
— Вы из полиции?
— Скажем, я помогаю полиции.
— Почему вы ведете следствие?
— Потому что мадемуазель Луазен ушла из дома своей тетки три или четыре дня назад, и никто не знает, где она.
— Вы работаете на мадам Ирель?
Я слегка поклонился, что вполне могло сойти за положительный ответ.
— Знаете, меня это не удивляет.
— Что вас не удивляет, мсье Бенак?
— Что Сесиль ушла.
— Правда?
— Она давно хотела удрать.
— Из Сен-Клода?
— Возможно. Но особенно из дома тетки.
— Я слышал, что… что вы встречались с мадемуазель Сесиль Луазен.
— Встречались — слишком громко сказано… Я не был ее любовником, если вас это интересует.
— Давайте условимся, мсье Бенак, я здесь не для того, чтобы осуждать ваше поведение, меня оно не касается. Просто, поскольку люди очень лестно отзываются о вас, я подумал, что вы лучше других сможете рассказать, каким человеком была Сесиль Луазен.
Похоже, мое объяснение польстило ему. Он расслабился и заговорил более фамильярно:
— Видите ли, мсье Феррьер, как и во многих провинциальных городах, духовным личностям в Сен-Клоде тяжело живется. Так вот, к несчастью, духовное привлекает меня значительно больше, чем материальное. Если бы не магазин, доставшийся мне в наследство от родителей, я уехал бы в Париж. Особенно после того, как был удостоен премии «Флоро де Тулуз».
— Значит, вы поэт? Меня это не удивляет. Переступив порог вашего кабинета, я сразу же понял, что его обставил человек, который заботится не только о продаже платьев, хотя и эти заботы вполне достойны уважения.
Бенак проглотил наживку, дело шло как по маслу.
— Я счастлив, мсье Феррьер, что у вас сложилось такое впечатление. Кстати, где вы остановились?
— В «Отель Жоли».
— В Мартине? Но вы не успеете вернуться туда к обеду. Может, согласитесь отобедать со мной и моей женой?
— Я не ожидал такой любезности, мсье Бенак. Не знаю, смогу ли принять…
Он снял трубку и набрал номер.
— Алло? Дорогая? Это я… У меня в кабинете сидит один человек, я хотел бы познакомить тебя с ним. Как ты думаешь, могу я пригласить его пообедать с нами?.. Конечно, я предупреждаю тебя в последний момент, но мсье Феррьер знает, что особых разносолов не будет… Да, да, все самое простое… Отлично. В половине первого, договорились… Целую тебя, дорогая.
Он с торжествующим видом положил трубку.
— Ну вот, вопрос улажен… А теперь давайте поговорим о цели вашего визита. Я познакомился с Сесиль Луазен два года тому назад самым банальным образом. Она пришла сюда, желая устроиться в магазин продавщицей. В те времена старшим продавцом была мадемуазель Маргарита, женщина весьма здравомыслящая. Сесиль ей сразу же не понравилась, так как была полной ее противоположностью. Через несколько дней после того, как она поступила на работу, мы остались наедине под предлогом переучета. Под тем же предлогом я увел ее в свой кабинет и стал читать ей стихи. Кажется, в тот вечер мы впервые поцеловались. Поверьте мне, мсье Феррьер, Сесиль была изумительным созданием: тонкая, чувствительная, сама свежесть и изящество… Она рассказала о своей тоскливой жизни у мадам Ирель, а я ей — о своем одиночестве.
— Короче говоря, вы нашли родственную душу.
— Я искренне верю в это, мсье Феррьер. Мы часто гуляли вместе, рискуя попасться на язык сплетницам… К несчастью, мадемуазель Маргарита возненавидела Сесиль, а мадемуазель Маргарита была мне необходима, чтобы дела в магазине шли нормально…
— И долго это продолжалось?
— Несколько месяцев.
— Почему вы расстались?
— Боюсь, вы плохо обо мне подумаете, но никакого желания жениться у меня не было… И потом, у Сесиль не было приданого. Когда я сказал ей, что не собираюсь жениться, она заплакала. Я был так потрясен, что два дня пролежал в постели.
— А что стало с мадемуазель Луазен?
— Точно не знаю… Мы с ней долгое время не встречались. Должно быть, она старалась не ходить по улице Пре. Думаю, она действительно меня любила, но я понял это слишком поздно.
— Слишком поздно?
— Да… Я женился.
Некоторое время мы молчали. Потом Бенак глухо продолжил:
— Мсье Феррьер… я совершил страшную ошибку, не женившись на Сесиль Луазен. Нет, у меня хорошая жена, но… она чувствует совсем не так, как Сесиль… Возможно, я зарабатывал бы меньше денег… Может быть, вообще продал бы «Серебряного барана», но я бы жил! Понимаете? Я бы жил!
Его голос задрожал.
— Я желаю Сесиль счастья, она его заслуживает… Хрупкая девочка, не созданная для нашего сурового, безжалостного мира… Вот и все, что я могу рассказать о ней, а теперь, если не возражаете, идемте обедать.
Бенак жил неподалеку от магазина в симпатичном домике на улице Жанвье. Открыв дверь, он громко сказал:
— Вот и мы, дорогая…
Хозяин пригласил меня в гостиную, обставленную с большим вкусом, вскоре туда вошла молодая высокая женщина. У нее была мужская походка, грубые черты лица, волосы затянуты на затылке. В ее присутствии Жорж Бенак счал похож на лицеиста, опасающегося получить взбучку. Я подумал, что он уже жалеет о приглашении на обед.
— Маргарита… Позволь представить тебе мсье Феррьера.
Я поклонился. Итак, передо мной была Маргарита, разбившая надежды Сесиль, потому что Жорж был ее имуществом, ее добычей, и она вовсе не собиралась уступать его какой-то «интриганке».
Мадам Бенак старалась быть со мной максимально любезной, но, похоже, любезность не значилась в списке ее достоинств. Во время обеда мы обменивались бесполезными и банальными репликами, из которых обычно и состоит беседа незнакомых людей. Я спрашивал себя, сколько еще времени пройдет, прежде чем Маргарита спросит, зачем я приехал в Сен-Клод. Это произошло в тот момент, когда Бенак разрезал мясо.
— Вы впервые в Сен-Клоде?
— Впервые, мадам, — уверенно соврал я, — и признаюсь, очарован красотой города и любезностью его жителей.
— Представьте себе, мсье Феррьер, муж никогда не рассказывал мне о вас.
Начинался серьезный разговор. Краем глаза я перехватил смущенный взгляд Бенака.
— Все очень просто, мадам. Еще два часа тому назад ваш муж и не догадывался о моем существовании.
Она вздрогнула, лицо ее стало хмурым, и она пристально взглянула на мужа.
— Ну и ну! Прошу простить мое изумление, но я не привыкла к тому, чтобы у Жоржа столь быстро появлялась симпатия к людям…
Бенак выглядел жалко, объясняя, что пригласил меня пообедать, иначе мне пришлось бы возвращаться в Мартине, где я остановился.
— Ты правильно поступил, — одобрила мадам Бенак и обратилась ко мне: — Вы являетесь представителем ткацкой фабрики или фабрики готового платья, мсье Феррьер?
— Ни то, ни другое, мадам… Я являюсь представителем фабрики по производству скобяных изделий, мы собираемся открыть филиал недалеко от Лиона.
Мадам Бенак недоверчиво посмотрела на меня.
— Какое отношение к скобяным товарам имеет Жорж?
— Никакого, мадам, никакого. Но мои хозяева поручили навести справки о людях, которые предложили нам свои услуги. Мы хотим набрать персонал, которому можно было бы полностью доверять.
Я нисколько не заботился о том, что подумает Бенак, слушая, как я вру его жене. В любом случае он должен быть доволен, что я представил удобоваримое объяснение, не впутывая в это дело его. Но Маргарита была не из тех женщин, которые останавливаются на полпути.
— Могу ли я спросить, мсье, какое отношение к моему мужу имеет ваша работа?
— Дело в том, мадам, что среди многочисленных претенденток из Сен-Клода была одна, имевшая рекомендацию из вашего магазина, где она раньше работала. Вот я и позволил себе побеспокоить мсье Бенака. Мне посчастливилось познакомиться с очень милым человеком и, конечно же, с вами, мадам.
Не обращая внимания на лесть, Маргарита продолжала интересоваться подробностями.
— Я полагаю, вы могли бы мне сказать, о ком именно идет речь.
— Конечно, мадам…
Я сделал вид, будто вспоминаю.
— Мадемуазель Клотильда… нет, Сесиль…
— Сесиль Луазен, — вскрикнула она.
— Да, верно, Сесиль Луазен.
— Ну и ну! Наглости этой стервочке не занимать! Ссылаться на рекомендацию фирмы, из которой ее выгнали!
— Ты преувеличиваешь, Маргарита, — мягко возразил Жорж, — я ее не…
— Замолчи! Не напоминай мне о своей позорной слабости к этой бесстыжей!
Я бросил Бенака на произвол судьбы.
— Не волнуйтесь, мадам.
— Бог свидетель, я вовсе не хочу мешать кому бы то ни было честно зарабатывать себе на жизнь, но вы наш гость, и я считаю, что не выполню своего долга хозяйки, если позволю вам отнестись с доверием к человеку, который этого доверия абсолютно не заслуживает! Мы с мужем дорого заплатили за знакомство с изворотливой душой Сесиль Луазен! Я удивлена, что Жорж не рассказал вам всей правды об этой девушке!
Вышеупомянутый Жорж не знал, как держаться. Он ерзал на стуле, открывая рот, как рыба, вытащенная из воды, пытался что-то сказать, но не мог проронить ни звука. Его пальцы нервно скручивали шарики из хлебных крошек. Я же безжалостно бередил его рану.
— Мсье Бенак сказал мне, что эта девушка больше мечтала, чем занималась своей работой.
Маргарита буквально визжала от гнева.
— Старая песенка! Женщины-девочки! Хрупкие куколки! Им читают стихи, в которых они ничего не понимают, но делают вид, что в восторге, льстят самолюбию глупцов! К счастью, есть люди, которые помогают прозреть добровольным слепцам!
— Если я правильно понял, мадам, вы не советуете мне принимать на работу Сесиль Луазен?
— Категорически! Естественно, если вы не хотите с самого начала ввести в свою группу разлагающий элемент.
— Конечно, нет.
— В таком случае, мсье, благодарите моего мужа за то, что он пригласил вас отобедать с нами, иначе вы могли бы совершить большую глупость… Сесиль Луазен — воплощение нынешней молодежи, которая не останавливается ни перед чем, чтобы достигнуть цели…
Я испуганно смотрел на нее. Маргарита с циничной откровенностью описывала себя самое, но, похоже, и не подозревала об этом.
— …Она осмелилась притворяться, что влюблена в моего мужа! Если бы меня не оказалось рядом, он стал бы жертвой ее происков! Послушать ее, так она любила только Жоржа, но не прошло и недели, как ее вышвырнули из «Серебряного барана», и она уже виста на шее этого придурка Гастона де Ланкранка, который разводит черно-бурых лис в Куарьере.
Жорж хотел было возразить.
— Маргарита, ты утверждаешь…
— Ты просто ревнуешь, дурачок! Я знаю, о чем говорю, твоя Сесиль всегда была обыкновенной шлюхой!
Доев сыр и десерт, мы с Жоржем по молчаливому соглашению решили выпить кофе где-нибудь в другом месте.
Мы молча шли по улице. Жорж первым решился заговорить.
— Теперь вы понимаете, почему я сожалею о том, что не женился на Сесиль?
— У мадам Бенак, без сомнения, масса достоинств…
— …которые мешают жить тем, кто вынужден оставаться с ней рядом.
— Кстати, она сказала правду об этом Гастоне?
— Сесиль действительно видели в обществе Ланкранка, я хорошо его знаю… Славный парень, хотя и не очень умный.
— Богатый?
— Не особенно. Но они с Сесиль только дружили.
— Мсье Бенак, слушая вас, можно подумать, что вы все еще влюблены в Сесиль Луазен.
— Это так, мсье Феррьер.
— А вы… вы встречались после свадьбы?
— Да. Мы встречались в других городах. Я ездил туда якобы в командировки.
— В Уайонакс, например.
Мы медленно пошли дальше.
— Мсье Бенак, я склонен верить скорее вам, чем вашей жене, которая, кажется, из ревности…
— Чудовищной ревности!
— В случае, если она узнает…
— Мне это совершенно безразлично!
— Мсье Бенак, вам никогда не хотелось удрать с Сесиль Луазен?
— Да… Именно поэтому я был так взволнован, когда вы рассказали мне об ее исчезновении… Жить, не встречаясь с ней, выше моих сил!
Говорил ли он искренне?
Глава 5
Я встал поздно, с сильной головной болью и подумал о том, что меня ждет еще один приступ. Я пытался успокоить себя мыслью, что головная боль — только следствие плохо проведенном ночи и на свежем воздухе она быстро пройдет.
Уже по привычке я быстрым шагом прошел четыре километра, отделяющие Мартине от Сен-Клода, я, когда показались первые домики города, почувствовал себя значительно лучше.
Войдя в ресторан, где обычно обедал, и сев за столик, я приступил к цыпленку с креветками, но тут официантка сказали:
— Сюда, пожалуйста, мсье, тут свободное место.
Она поставила на мой столик еще один прибор. Подняв голову, я увидел офицера полиции Оноре Вириа.
— Вы?!
Он улыбнулся.
— Я мог бы сказать то же самое, мсье.
— Но не столь искренне. Вы ведь уже давно следите за мной.
— Можете не поверить, но я не знал, что вы здесь, и вовсе не ожидал, что мне предложат место за вашим столиком.
Он заказал закуску. Но мне есть уже не хотелось.
— Инспектор…
— Да?
— Это Сандрей послал вас сюда?
— В некотором роде… скажем так, он одобрил мое предложение.
Вириа произнес это таким тоном, что я понял: его враждебность по отношению ко мне не прошла.
— Но ведь Сен-Клод находится вне вашей компетенции, и вы не можете вести здесь расследование.
— А кто вам сказал, что я веду расследование?
— Вы смеетесь надо мной?
— Нет, мсье Феррьер, нет… Вы сегодня почему-то очень нервничаете.
— Состояние моих нервов касается только меня.
— Но не в том случае, когда вы замешаны в убийстве. Не будем больше об этом. Как продвигается ваше следствие?
Охваченный внезапным доверием, я рассказал ему о своих беседах с жителями Сен-Клода и о том, что отчаялся составить мнение о жертве.
Вириа улыбнулся.
— Вы романтик, мсье Феррьер, и рассматриваете преступление как своего рода искусство… считаете, что его можно распутать лишь психологическими методами. Поверьте, убийство — значительно более простое дело и в основе его всегда лежит страх… Кто-то очень боялся Сесиль Луазен.
— Люди, с которыми я говорил, вполне могли бояться.
— Но не до такой степени, чтобы убить. Мадам Бенак знает: что бы ни случилось, ее муж никуда не уйдет… Чтобы убить, мсье Феррьер, нужна энергия… А чтобы задушить, нужно обладать большим хладнокровием…
— Значит, вы советуете мне прекратить расследование?
— Нет-нет… Продолжайте, если вам хочется. Когда человек целиком и полностью отдается какому-то делу, нельзя утверждать, что он попусту теряет время.
Я сказал ему, что ко мне приходил один из его сен-клодских коллег.
— Знаю… Но могу заверить, что, пока вы не совершили ничего противозаконного, вас не будут трогать. Мсье Сандрей специально просил об этом. Вы не мешаете полиции, мсье Феррьер. И, чтобы вы испытывали по отношению ко мне чуть меньше неприязни, добавлю, что нахожусь в Сен-Клоде лишь для того, чтобы снять с вас подозрение. Мы с комиссаром Сандреем счастливы, что о вас перестали говорить. Так вот, постарайтесь облегчить нашу задачу и не вступать в конфликт с местной полицией.
Славный Пьер… Ему, должно быть, пришлось провести неприятные часы. Хотел бы я знать, поверил ли он хоть на миг в мою виновность. Не думаю, он давно знает меня и понимает: человек, у которого в голове засел кусок свинца, не может думать о любви…
Если у Луизы не хватило смелости жить со мной, я не имел права предлагать даже самой жалкой из женщин стать моей женой. Но меня удивляло, что Вириа придерживается того же мнения, что и Пьер, и в конце концов стал доверять мне. Возможно, я просто слишком плохо думал о нем.
Я взял такси и отправился в горы, в Куайрьер, где без труда нашел ферму по выращиванию черно-бурых лис, принадлежавшую Гастону де Ланкранку. Здания огромной фермы, которую при большом желании можно было назвать и дворцом, были расположены на склонах. Попросив водителя подождать, я стал подниматься в гору. Чем ближе я подходил к ферме, тем отчетливее слышался лай лисиц, а их резкий запах неприятно щекотал ноздри. Сарайчики, в которых жили животные, находились на опушке леса, покрывавшего склон. Во двор фермы можно было войти через красивые ворота. Часть двора занимал низкий дом, в котором, судя по всему, жил хозяин. Я увидел человека, катившего тачку с навозом.
— Здравствуйте…
— Привет…
— Я нахожусь на ферме мсье Ланкранка?
— Да.
— Он здесь?
— Кто?
— Мсье Ланкранк… черт возьми!
Парень снял кепку и стал с наслаждением почесывать голову. Мне показалось, что он забыл о моем вопросе.
— Ну?
— Что «ну»?
— Я спросил, здесь ли мсье Ланкранк.
— Который?
— Как это который?
Мой собеседник огорченно пожал плечами.
— Мсье Альфонс или мсье Гастон?
— Я незнаком с мсье Альфонсом. Кто это?
— Отец. Значит, вы с ним незнакомы?
— Нет.
— Жаль…
— Почему?
— Потому что дома только он.
Сказав это, он, вероятно, счел, что и так уже потерял слишком много времени, и, поплевав на руки, снова взялся за тачку. За неимением сына я решил побеседовать с отцом и постучал в окошко на открытой двери. Через минуту на пороге показалась женщина в голубом фартуке.
— Что вам угодно?
Похоже, прислуга мсье Ланкранка не отличалась особой любезностью.
— Я хотел бы поговорить с мсье Ланкранком.
— С мсье Альфонсом?
— Да, потому что мсье Гастона нет.
— О! Этот…
Уважением прислуги наследник явно не пользовался.
— Подождите, пойду узнаю.
Нисколько не церемонясь, она оставила меня на дворе и ушла. Я осмотрелся. То ли не хватало денег, то ли было мало прислуги, но ферма господ Ланкранков выглядела не особенно привлекательно. Я плохо представлял Сесиль Луазен в этой обстановке.
— Эй, вы! — окликнула меня женщина.
— Ну?
— Мсье Ланкранк согласился вас принять. Идите за мной!
Пройдя две или три комнаты, назначение которых определить не удалось, я оказался в кабинете хозяина. Меня ждал настоящий гигант. Ему было более шестидесяти пяти лет, и он производил впечатление человека, только что приехавшего из английской деревни второй половины девятнадцатого века. Кирпично-красное лицо обрамляли седые бакенбарды. На мсье Ланкранке были сапоги, штаны для поездок верхом и рубашка без рукавов в крупную клетку.
— Это вы хотели меня видеть?
— Да.
— Странная мысль. Вы что, интересуетесь черно-бурыми лисами?
— Нет, я хотел поговорить с вашим сыном.
— Вы приятель придурка Гастона?
— Ни разу с ним не встречался.
— Уже лучше! Потому что друзей моего сына я привык выбрасывать за дверь пинком под зад! Но вы заинтриговали меня. Как вас зовут?
— Феррьер. Мишель Феррьер.
— Вы из Сен-Клода?
— Нет.
— Ага… Выпьете стаканчик?
— С удовольствием.
Он достал графин с бесцветной жидкостью, разлил ее по стаканам и предложил чокнуться. Он осушил свой стакан одним глотком. Из вежливости я последовал его примеру… Я думал, что сейчас я лопну. Пот стекал по вискам, ладо горело, я едва перевел дух. Хозяин расхохотался.
— Крепкий? Его готовят специально для меня.
— Не сомневаюсь: немногие способны пить это.
— Народ измельчал. Ну что ж, рассказывайте свою историю.
— По правде говоря, мсье, боюсь, что моя, как вы говорите, история скорее касается вашего сына.
— А?.. Что еще натворил этот негодяй? Никому не пожелаю иметь такого выродка! Вы женаты?
— Нет!
— В таком случае вы рискуете меньше… Подумать только, сколько у меня отличных детей по всему свету, нужно же было испортить того, что родила мне покойная жена…
Я ничего не понимал. Невероятно, чтобы Сесиль влюбилась в калеку. Но мой собеседник вскоре поведал, в чем заключалась «увечность» его выродка.
— Представьте себе, вместо того чтобы интересоваться черно-бурыми лисами, Гастон занимается только регби! Ничего, кроме вытянутого мяча, не имеет для него значения! Еще стаканчик?
— Нет, спасибо.
Хозяин тяжело вздохнул. Не знаю, сожалел он о сыне, неспособном увлечься черно-бурыми лисами, или о госте, не оценившем напиток, который гнали специально для него.
— Ну так что, мсье Феррьер, вы будете наконец говорить?
Я снова пересказал байку о пропавшей Сесиль, о следствии, которое я веду, о необходимости узнать как можно больше о ее привычках, чтобы попытаться угадать, куда она могла сбежать.
— Сесиль Луазен?.. Не помню… Ах нет, подождите… Это такая маленькая блондинка, в ней не более сорока пяти килограммов? Незаметная? Банальная? В общем, из тех хлипких куколок, что сейчас в моде.
— Ей-богу…
— Да-да, вспомнил… Некоторое время она вертелась около моего сына, а может, это мой сын вертелся вокруг нее… Помню, однажды, в воскресенье утром, он привез ее сюда… Она даже поела с нами… У нее совсем нет аппетита… Настоящая птичка! И потом, подумать только, ее раздражал запах лис! Короче говоря. Гастон взял ее с собой на матч, и больше я ничего о ней не слышал… Так, говорите, она удрала?
— Похоже.
— Какое это имеет значение? Ну, а если вам совершенно необходимо выслушать мнение Гастона, то вы можете найти его на стадионе Серж. Накануне матча он практически все время проводит там.
— Я хотел бы поговорить с мсье Гастоном Ланкранком. Вы не знаете, он там? — обратился я к сторожу на стадионе Серж.
— Еще бы! Он всегда приезжает первым и уезжает последним! Этот человек по-настоящему предан нашей команде! Если бы все были такими, как он! Пойду скажу ему. Вы кто?
— Он меня не знает. Меня прислал его отец.
— Хорошо… Извините, вынужден оставить вас здесь, такие правила, понимаете?
Издалека я увидел, как сторож подошел к группе мужчин и поговорил с одним из них. Потом вернулся ко мне.
— Мсье Ланкранк просит вас немного подождать. Они скоро закончат.
Действительно, минут через пять люди ушли с поля и остановились в нескольких метрах от меня. Потом каждый подошел к своей машине, и только один продолжал стоять, махая рукой разъезжавшимся друзьям. Когда все машины уехали, Гастон де Ланкранк подошел ко мне. Красивый парень и вовсе не придурок, как называл его отец.
— Извините, что заставил вас ждать.
— Ничего… Ваш отец рассказал, где я смогу вас найти.
— Вы говорили с моим отцом?
— Примерно полчаса назад.
Он рассмеялся.
— Представляю, какими словами он описал своего сына!
— Похоже, он не особенно одобряет ваше пристрастие к регби?
— Конечно, он предпочел бы, чтобы я разделял его пристрастие к напитку, «который гонят специально для него». Но вряд ли вы приехали сюда, чтобы говорить о регби или о черно-бурых лисах.
— Нет. Я приехал, чтобы поговорить с вами о Сесиль Луазен.
— О Сесиль Луазен? Довольно странно.
Гастон слушал меня очень внимательно. Он не производил впечатления интеллектуала, но был славным парнем. Когда я закончил, он сказал:
— Меня это не удивляет…
— Правда?
— Она была не такая, как все.
— В чем?
— Трудно объяснить… Она не смеялась, не развлекалась, всегда была чем-то озабочена… словно стремилась к какой-то цели и не имела права ни на минуту отступить от нее…
Не таким уж наивным оказался это Ланкранк.
— Мне кажется, она нашла средство для достижения своей цели и удрала, никого не предупредив. Что бы вы хотели услышать от меня, мсье..?
— Феррьер. Я веду дело об исчезновении Сесиль.
— Вы из полиции?
— Отнюдь.
— Частный детектив? Не знаю, чем могу быть вам полезен.
— Каким образом вы познакомились с Сесиль Луазен?
— В «Кафе Америкен». Я часто захожу туда после матча… Она мне понравилась… Мы встречались несколько раз.
— Просто флирт или нечто более серьезное?
— С ее стороны, конечно. После пятой или шестой встречи она просила, чтобы я отвез ее в Куайрьер и познакомил с отцом. Не думаю, что они понравились друг другу, тем более что Сесиль никогда не согласилась бы жить с нами в горах на те скудные средства, которыми мы располагаем.
— Она говорила с вами о свадьбе?
— Да… Я бы даже сказал: поставила условие.
— Но ведь вы только что сказали, что ей не понравилось в Куайрьере.
— Она хотела, чтобы мы продали ферму и уехали… — Он рассмеялся. — Малышка отлично знала, чего хочет.
— И… вы не согласились.
— Не совсем так… Видите ли, мсье Феррьер, вообще-то Сесиль мне нравилась… и мне хотелось бы стать ее мужем и избавиться от лисиц, которых я ненавижу.
— Так в чем же дело?
— Нас разделяло нечто весьма серьезное, поэтому я не мог просить ее стать моей женой.
— Что же?
— Она не любила регби.
Я взглянул на него. Он говорил вполне искренне.
— И вы расстались… без скандала?
— Не стоило затевать его.
— Была ли Сесиль огорчена вашим отказом?
— Мне хотелось бы дать вам положительный ответ, но ровно через две недели я встретил ее в обществе Франсуа Лалоба, владельца авторемонтной мастерской в Моне де Сен-Блер.
Глава 6
— Мсье Франсуа Лалоб?
Человек, изучавший двигатель автомобиля, выпрямился и повернулся ко мне.
— Да. Чем могу служить?
Невысокий толстячок, должно быть, когда не возится с поломанными машинами, проводит время, рассказывая анекдоты. Он был буквально воплощением жизнелюбия, но жизнелюбия, заключенного в рамки материального благополучия. Таких людей любят в компании, потому что у них всегда наготове какой-нибудь веселый анекдот.
— Весьма деликатное дело.
— Деликатное?
— Я хотел бы поговорить с вами о Сесиль Луазен…
— Серьезно? Что же произошло с малюткой?
— Она исчезла.
Он добродушно расхохотался.
— Исчезла? Ну вы и скажете, старина! Должно быть, удрала с каким-нибудь парнем… Она только об этом и мечтала.
— Боюсь, тут все значительно серьезнее, мсье Лалоб.
Он нахмурился.
— Да?.. Но почему вы пришли ко мне?
— Вы ведь хорошо знали ее?
— О! Вы несколько преувеличиваете… Я не спал с ней, если вы это имеете в виду… Но сначала скажите: какое отношение к этому имеете вы, дружище?
— Ее родственники волнуются и…
— Ее родственники? — оборвал он меня. — Старая сова мамаша Ирель? Волнуется о судьбе племянницы? Расскажите кому-нибудь другому!
— Но она платит мне, чтобы я попытался узнать, что стало с девушкой.
— Вы меня просто огорошили! Как вас зовут?
— Мишель Феррьер.
— Мы с вами раньше не встречались?
— Я приехал из Лиона.
— Скажите, пожалуйста, старуха решилась на такие расходы! Но я все равно не понимаю, почему вы пришли с этой историей ко мне. Может, думаете, что малышка Сесиль прячется у меня?
— Конечно, нет!.. Но я видел девушку только на фотографии. Так что с информацией у меня негусто… Поэтому я опрашиваю всех, с кем она встречалась, и пытаюсь нарисовать себе более четкий ее портрет.
— Тяжелая работенка… Не хотел бы я быть на вашем месте…
Он вытер руки тряпкой.
— Мы ведь не станем говорить об этом стоя? Идемте в дом, жена нальет нам по стаканчику.
— Вы полагаете, мсье Лалоб, что ваши отношения с Сесиль Луазен — тема, которую можно обсуждать в присутствии жены?
— Марии-Жозефы? Да ей на это плевать! Идемте, не ломайтесь!
Дом, в котором жил Лалоб, примыкал к гаражу. Он ввел меня в гостиную, обставленную довольно безвкусно.
Не успели мы сесть, как вошла мадам Лалоб. С первого взгляда становилось ясно, что именно о такой жене и мог мечтать Франсуа. Кругленькая пышка тридцати пяти лет. Импозантная фигура, грудь, как на картинах мастеров начала века, и две отличные щеки, почти не оставившие места для короткого носа и скорее живых, чем красивых глаз.
— А вот и моя жена, Мария-Жозефа Лалоб, — весело объявил Франсуа Лалоб.
Я встал, чтобы поприветствовать хозяйку, но хозяин снова усадил меня.
— Мы не особенно следим за этикетом. Дай-ка нам белого вина, толстуха!
Мадам Лалоб улыбнулась и спросила:
— Я и себе налью?
— Конечно!
Франсуа, не сдержавшись, громко хлопнул супругу по заднице, а она заурчала от удовольствия. Поистине, семья без комплексов. Когда жена вышла из комнаты, Лалоб счел необходимым добавить:
— На свете нет никого лучше моей толстухи… Не знаю, что бы со мной было, если бы не она: у меня деньги буквально текут сквозь пальцы… Друзья, девушки, пирушки… К концу года остается совсем негусто. К счастью, Мария-Жозефа каждый месяц старается хоть немного откладывать, чтобы нам было на что жить в старости. Такие женщины на дороге не валяются. Конечно, для секс-бомбы она немного толстовата, но ведь это не так уж и важно, правда? Развлечения — дело преходящее… Вы женаты?
— Нет.
— Сколько вам лет?
— Сорок пять.
— Ну, дружище, пора жениться, иначе вам скоро придется искать невесту в доме для престарелых. Шучу, шучу, но вам надо поторопиться. Некоторое время приятно жить холостяком, но… Если решитесь, желаю вам найти такую же, как моя…
Этот Лалоб начинал выводить меня из себя.
— Могу я задать вам один нескромный вопрос? Если мадам Лалоб обладает таким количеством добродетелен, в чем я, конечно, не сомневаюсь, почему же вы интересуетесь другими женщинами?
Похоже, мой вопрос сильно позабавил хозяина, и, поскольку в этот момент в комнату вошла его жена с подносом, на котором стояли бутылка и три стакана, он призвал ее в свидетельницы:
— Знаешь, что он тут болтает?
— Я не подслушивала под дверью.
— Он упрекает меня за то, что я бегаю за другими юбками, хотя мне посчастливилось обладать тобой.
— Я хорошо его знаю, приятель. Он неисправим. Так зачем же устраивать сцены? Я спокойно переношу свои неприятности, зная, что в любом случае он вернется ко мне… И потом, должна вам сказать, он нравится женщинам. Они без ума от него… Но только не воображайте, что это заходит слишком далеко… Я крепко держу поводья. И, если вижу, что его занесло на опасную дорожку, сразу же натягиваю их. Он брыкается, но слушается.
Я одобрил философию мадам Лалоб, а ее муж спросил меня:
— Она неглупа, моя толстуха? Погоди, дай я тебя поцелую! — Нисколько не стесняясь, хозяин встал и поцеловал жену в толстые щеки, затем продолжил: — Мсье Феррьер пришел сюда, чтобы поговорить со мной о Сесиль Луазен.
— О той блондиночке, что хотела тебя похитить?
— Совершенно верно.
— Она хотела похитить вас? — вмешался я.
— Мария-Жозефа несколько преувеличивает.
— Я преувеличиваю? Но, если бы меня не оказалось рядом, тебя бы ловко обведи вокруг пальца. А почему вы интересуетесь этой девчонкой, мсье Феррьер?
— Она исчезла.
— Это серьезно?
— Боюсь, что да.
— Бедная малышка… Ты знаешь что-нибудь, что могло бы помочь мсье Феррьеру, Франсуа?
— Ей-богу, не знаю… не представляю… Вы сказали, что это может быть очень серьезно?
— Серьезно, как и всегда, когда кто-нибудь бесследно исчезает.
— А, понятно. Вы нагнали на меня страху! Я уж подумал, что она покончила с собой… Это бы сильно меня удивило!
Почему он выглядит таким взволнованным? Не смеются ли они надо мной? Может быть, я просто попался на удочку двух хитрецов, разыгрывающих наивных простаков? По какой причине Лалоб подумал о самоубийстве? Если он на самом деле такой, каким хочет казаться, то есть эгоист, пользующийся всеми благами жизни, почему вдруг такое волнение? Атмосфера в комнате менялась прямо на глазах.
— Я вас слушаю.
— Должен вам сказать, мсье Феррьер, что я, как и все жители Сен-Клода, очень горжусь нашей командой по регби. И всякий раз, когда она играет на своем поле или где-нибудь поблизости, хожу на матчи. Мы как раз разбили команду из Вульта, и я встретил одного знакомого парня. Ланкранка, Гастона де Ланкранка, он вроде бы из дворян, но не кривляка. Занимается выращиванием черно-бурых лис в Куайрьере. Наши машины чуть не столкнулись, но мы оба были так счастливы, что даже не стали ругаться. Наоборот, выпили вместе по стаканчику, и он познакомил меня со своей подружкой. Это была Сесиль Луазен. Вот как все произошло.
— Что?
— Что… что?
— Вы сказали, что так все произошло, а я вас спрашиваю, что именно произошло.
— Ну вот, мы с Сесиль познакомились, и я стал пудрить ей мозги.
Мария-Жозефа буквально урчала от восторга.
— Мой Франсуа — просто ужас! Ни одна девушка перед ним не устоит!
— Вы часто встречались с Сесиль?
— То тут пропустим по стаканчику, то там… но чисто по-дружески. Несколько раз гуляли вместе… Иногда целовались… Но, можете мне поверишь, между нами не было ничего серьезного.
— А почему вы перестали встречаться?
— Она чересчур настойчиво интересовалась моими доходами.
— И несколько охладела, когда узнала, что мастерская принадлежит мне, — дополнила объяснение мужа мадам Лалоб. — Все они одинаковы. Когда узнают, что у моего Франсуа нет ничего, кроме прекрасных глаз, начинают находить его значительно менее соблазнительным, не так ли, толстяк?
Я перехватил взгляд, полный ненависти, который Лалоб бросил на свою супругу. Значит, хозяйкой была Мария-Жозефа… Этот факт прояснял многие вещи, в том числе и странное поведение супругов. Он зависел от нее.
— Тебе не следовало говорить об этом, — проворчал муж.
— Лучше расставить все точки над «i».
Франсуа в ярости стукнул кулаком по столу.
— Может быть, ты заткнешься? Какое кому дело до наших отношений? Он пришел сюда, чтобы поговорить о Сесиль Луазен, а не о нас.
Я попытался успокоить их.
— Да, давайте поговорим о Сесиль Луазен. Что бы вы сказали, мсье Лалоб, если бы я попросил вас высказать мнение о Сесиль?
— Славная девушка, всегда готовая посмеяться. Конечно, она думала о своей выгоде, но ведь это нормально, не так ли? И, поскольку я ей нравился… она хотела, чтобы мы жили вместе… Но только я не могу жить, как все. Я связан, понимаете? Связан! И все из-за денег мадам!
Куда подевался веселый Лалоб, оптимистично смотрящий на жизнь? Куда подевалась сговорчивая, добродушная толстуха? Передо мной были ненавидящие друг друга мужчина и женщина. Он не мог уйти, потому что у него не было ни гроша: она не хотела его выгонять, потому что боялась остаться одна.
— Ты был очень рад, когда получил мои деньги, а?
— Ну и что? Считаешь, я не заслуживаю денег за то, что живу с таким чудовищем, как ты?
— С чудовищем, которое тебя содержит!
— Слушай, Мария-Жозефа, мне все надоело! В один прекрасный день я соберу чемодан и сбегу!
— С чем? — хмыкнула она. — У тебя и рубашки своей нет!
Это замечание, должно быть, окончательно вывело его из себя, и он залепил жене пощечину, а она в ответ швырнула ему в лицо стакан. Я вовсе не хотел участвовать в этой, вероятно, далеко не первой драке и попытался успокоить их.
— Мадам Лалоб… Мсье Лалоб… Прошу вас!
— Оставьте нас в покое! — грубо крикнул Франсуа.
— Какого черта он тут делает? — поддержала его жена.
Я взял шляпу и пошел к двери. Охваченный угрызениями совести. Лалоб произнес:
— Подождите, я провожу вас.
Я решил, что не стоит прощаться с толстой мадам Лалоб. Мы вышли во двор и остановились перед мастерской.
— Не обижайтесь, не хотелось вам этого показывать, но ничего не вышло… Мы терпеть друг друга не можем…
— Почему же вы в таком случае продолжаете жить вместе?
Он пожал плечами.
— Я в таком возрасте, когда уже не хватает смелости вырваться на свободу. Я нуждаюсь в деньгах… Девочки вроде Сесиль — мое утешение…
— Если я правильно понял, мсье Лалоб, вы с сожалением расстались с Сесиль Луазен?
— Да, можно сказать…
— И не пытались вновь встретиться с ней?
— Раз или два, но нее было уже совсем по-другому.
— Вы случайно не давали ей понять, что готовы расстаться с женой и начать с ней новую жизнь?
— Никогда в жизни!
— Ну ладно! Вы ведь назначили ей встречу в Уайонаксе, если быть уж совсем точным, в кафе «Шмен де Фер»…
Лалоб поднял руки, словно призывая Бога в свидетели.
— Нет. Что это на вас нашло? Вы спятили?
— Но только у вас не хватило смелости встретиться с ней. Вы ее бросили!
— Что с вами, старина? Вы начинаете мне надоедать! Что это вы плетете? По какому праву суете нос в мою личную жизнь?
— Будьте вежливы!
— Вежливы? Какого черта я буду вежливым с типом, который взялся неизвестно откуда! А что, если я попрошу ваши документы?
— Вы ведь не думаете, что я приехал сюда, чтобы похитить вашу жену?
— Ну вот, теперь он начинает меня оскорблять! А не хочешь ли получить кулаком в рыло? Я не заставлю себя долго упрашивать.
— Грубиян! Мсье слишком глуп, чтобы разрешить спор словами!
— Ах, я еще и глуп!
Его удар пришелся в подбородок, и я упал. Он рассмеялся:
— За что боролся, на то и напоролся, старина!
Придя в себя, я встал и бросился на Лалоба. Но тут раздался отчетливый голос, холодно произнесший:
— Довольно, мсье Феррьер!
Я обернулся и увидел, что к нам приближается инспектор Сессье.
— Мне кажется, я успел вовремя, чтоб не дать вам совершить большую глупость… Что же касается вас, Лалоб, рекомендую успокоиться раз и навсегда. Мне надоели ваши постоянные драки.
— Но, господин инспектор, он оскорбил меня!
— В таком случае подайте на него жалобу. Идите домой… Это в ваших же интересах.
Хозяин мастерской, немного поколебавшись, повернулся и пошел к дому.
Когда мы дошли до предместья Марсель, Сессье тихо произнес:
— Я же предупреждал вас, мсье Феррьер.
— Согласен… Но дайте мне время до послезавтра.
— Почему не до завтра?
— Потому что, боюсь, полученный удар может вызвать внеочередной приступ.
— Ладно, пусть будет до послезавтра. Поезд отходит в два часа дня.
— Я уеду этим поездом.
Мы вышли на улицу Пре, и Сессье остановился.
— Надеюсь, вам не станет плохо от удара этого дурака Лалоба… Но, если заболеете, позвоните мне в комиссариат. Если же все будет в порядке, я приду послезавтра на вокзал проводить вас.
— Хотите убедиться, что я действительно уехал?
— Совершенно верно.
Мне не удалось заснуть. Я злился, что так и не понял, каким человеком была Сесиль Луазен: безмозглой девчонкой, какой описывал ее Лалоб, извращенкой, каковой ее считала тетка, мадам Ирель, расчетливой женщиной, как думал Ланкранк, мечтательницей, которую не мог забыть Бенак? Может быть, она была разной, в зависимости от того, с каким мужчиной общалась, кого хотела завоевать?
Но кто из них на самом деле был любовником Сесиль? Кто являлся отцом ребенка, которого она носила? Кто, охваченный паникой, убил Сесиль, а вместе с ней и ребенка?
Глава 7
На следующее утро я встал в подавленном состоянии и, испытывая сильное отвращение ко всему на свете, попросил счет в отеле и позвонил Сессье.
— Алло? Комиссариат? Я хотел бы поговорить с офицером Сессье.
— Кто у телефона?
— Мишель Феррьер.
— Не кладите трубку, пойду посмотрю, пришел ли он.
Через две-три минуты трубку взял Сессье.
— Алло? Сессье слушает… Вы нездоровы, мсье Феррьер?
— К счастью, здоров. Просто хотел сказать, что отказываюсь от дополнительного времени, которое вы столь любезно мне предоставили, и уезжаю сегодня же двухчасовым поездом.
— Рад за вас и желаю счастливого пути.
— Спасибо. А я желаю вам преуспеть в деле, в котором я потерпел фиаско.
— Надеюсь, нам удастся распутать его, мсье Феррьер.
Тяжело вздохнув, я положил трубку. Эти типы всегда воображают себя умнее других.
Вызвав такси, я велел ехать на вокзал, оставил чемодан в камере хранения и, чтобы скоротать время перед отъездом, решил просто побродить по городу. При мысли о том, с какой жалостливой улыбкой будет смотреть на меня Пьер, я испытывал неприятное чувство. К тому же я буквально слышал хихиканье Оноре Вириа.
Улица Райбер и проспект Бельфор привели меня на бульвар Трюше. Было очень тепло. Громко смеясь, мимо спешили парочки. Должно быть, будущее виделось им столь же солнечным, как сегодняшний день. А Сесиль в это время лежала в морге в Уайонаксе. Усевшись на скамейку, я твердо решил, что буду просто греться на солнышке, но тут же торговец предложил мне газету «Прогресс». Я купил ее и постарался заинтересоваться новостями политики, но мне это плохо удавалось. Перевернув страницу, я наткнулся на колонку, посвященную новостям сен-клодской жизни, и мне сразу же бросился в глаза заголовок: «Девушка, пришедшая в отчаяние, покончила с собой в одной из гостиниц Уайонакса. Она приехала из Сен-Клода». Я с жадностью прочел репортаж. В газете приводилось имя девушки, но о беременности не сообщалось. Репортаж заканчивался обещанием опубликовать подробности в следующем номере. Без сомнения. Сандрей потребовал, чтобы пресса еще сутки молчала о подробностях убийства. Он еще питал какие-то иллюзии, славный Пьер…
Мне вдруг захотелось остановить машину и съездить на виллу «Макс», но стыдливость удержала меня. Триумф был бы слишком легким и слишком жестоким. Возможно, теперь мадам Ирель поняла, что ее племянница была слишком несчастна? Возможно, в этой смерти она видела подтверждение своего мнения о Сесиль, которая вопреки церковным догмам сама наложила на себя руки. Заберет ли она тело, чтобы захоронить его, или, опасаясь общественного мнения, позволит захоронить Сесиль в общей могиле? Она вполне на это способна. Старая же служанка, напротив, должно быть, ревет в три ручья. Думаю, что не поехал на виллу «Макс» главным образом из-за нее.
Часы пробили половину десятого, их бой отвлек меня от мрачных мыслей. Смяв газету, я бросил ее в урну и, чтобы успокоиться, пошел куда глаза глядят.
Почему я оказался на улице Гласьер? Не знаю. Но вдруг на двери одного из домов взгляд упал на табличку: «Хюбер Виже, учитель музыки и сольфеджио». Хюбер Виже? Кто мне рассказывал о нем? Я долго стоял, роясь в памяти, и наконец вспомнил. Мадам Ирель говорила, что Сесиль брала уроки музыки у Виже и он считал ее очень способной. Может быть, хоть этот сможет рассказать, какой
была настоящая Сесиль.
Не раздумывая, я вошел в подъезд и стал подниматься по темной лестнице. Учитель музыки жил на четвертом этаже. Да, не скажешь, что у него денег куры не клюют. Уже на площадке второго этажа стали слышны дрожащие ноты мучимого каким-то учеником пианино. Вечная пытка учителей…
Звонок прозвучал гулко, как в пещере, никак, впрочем, не отразившись на деятельности человека, терзавшего клавиатуру. Потом я услышал тихие шаги. Дверь отворилась, и на пороге показалась бледная женщина неопределенного возраста.
— Мсье Виже дома?
— Вы по какому делу?
— По личному.
Она подозрительно посмотрела на меня.
— Мой муж сейчас дает урок.
— Я подожду…
— В таком случае…
Она наконец решилась впустить меня и, проведя через коридор с выцветшими обоями, толкнула дверь с облупившейся краской, прошептав:
— Садитесь, пожалуйста.
Зловещего вида комната больше всего напоминала аквариум, так мало в ней было света. Чудовищные цветы в горшках были похожи на щупальца.
— Вы уже встречались с Хюбером, мсье? — спросила мадам Виже.
— Нет, мадам.
Самое неприятное заключалось в том, что разговор сопровождался гаммами, которые ничуть не приглушали закрытые двери.
— Будет ли нескромным спросить у вас, что вы хотели?
— Вы читали сегодняшнюю газету?
Похоже, мой вопрос сбил ее с толку.
— Просматривала.
— Может быть, вы обратили внимание на рубрику «Происшествия», героиней которой стала жительница вашего города?
— Вы говорите о бедняжке Сесиль?
— Да.
— Вы ее родственник?
— Нет.
— Тогда почему?..
— Мне поручили найти ее. Когда я начал поиски, то и не подозревал, что она умерла. Это ужасно…
— Да, ужасно… Такая молодая… Вся жизнь впереди, но все-таки… если судьба уготовила ей существование, подобное моему, я не жалею, что она избежала его, пусть даже таким ужасным образом.
— Вы очень желчны, мадам.
— Нет, просто я потеряла надежду. Чего вы ждете от Хюбера, мсье?
— Ничего конкретного, мадам, я просто думал, что с помощью музыки мсье Виже, возможно, лучше, чем все остальные, смог увидеть настоящее лицо девушки.
В этот момент в гостиную вошли две дылды лет пятнадцати и, увидев меня, замерли как вкопанные, не зная, что делать. Мадам Виже радостно закудахтала:
— Мои дочери. Антуанетта и Ида.
Они неловко поклонились. Тощие, плохо одетые, с огромными зубами, болезненного вида. Желая казаться любезным, я спросил:
— Эти очаровательные девочки так же музыкальны, как их родители?
Мадам Виже снова вздохнула.
— Нет… Бедняжки не особенно талантливы, но, благодарение Богу, у них есть другие достоинства!
— Я в этом не сомневался!
Меня поблагодарили кивком головы. В это мгновение мы вдруг осознали, что в квартире воцарилась тишина. Мсье Виже закончил урок. Мадам Виже встала. Я хотел было последовать за ней.
— Нет, нет, прошу вас, не беспокойтесь, я пришлю мужа к вам. Кажется, сегодня у него больше нет учеников.
Она вышла вместе с дочками, и я надолго остался один. Из коридора доносился невнятный шепот. Бесспорно, мадам Виже рассказывала мужу о причине моего прихода. Наконец вошел Хюбер Виже. Я с трудом верил своим глазам. Пятидесятилетний мужчина, казалось, сошел со страничек старых семенных альбомов в бархатных переплетах: такими обычно изображали музыкантов до первой мировой войны. На нем была просторная рубаха типа гимнастерки с черным бантом вместо галстука. И лицо у него было, как у музыканта с картинки. Густые, романтично вьющиеся волосы, гладко выбритое лицо, нежный взгляд, взгляд побежденного.
— Здравствуйте, мсье… Жена только что сказала мне… Вы по поводу этой бедняжки…
Голос его дрогнул.
— Кто бы мог подумать… в таком возрасте… Это ужасно!
— Да, ужасно. Вы хорошо ее знали?
— Думаю, да. Она была воплощением юношеской чувствительности, ее мечты, надежды, иллюзии… Сесиль не сознавала, насколько уродлив мир… Не верила в человеческую жестокость…
— Но ее конец…
— Без сомнений, она вдруг поняла всю правду жизни и не смогла пережить этого откровения.
— Значит, вы не думаете, что она была меркантильна?
— Она была само благородство, сама доверчивость, сама увлеченность!
— У нее были тайны от вас?
— Не думаю.
— Значит, вам известно, что у нее был любовник?
Он буквально подпрыгнул на стуле.
— Любовник? У Сесиль? Это безумие!
Внутренне я восхищался наивностью этого славного человека, воображавшего, что знает о своей ученице все.
— Мне дали это понять.
— Люди воистину неблагодарны.
Бедный учитель музыки. Я надеялся, что ему удастся сохранить иллюзии относительно Сесиль, но боялся, что завтрашняя газета нанесет ему чудовищный удар…
Мне нужно было немного пройтись, чтобы привести мысли в порядок. Выйдя от Виже, я пошел в сторону района Мулен. Мне еще раз пришлось признать свое поражение. Из всех встреченных мной мужчин самым симпатичным оказался Хюбер Виже, он выглядел самым искренним, самым незаинтересованным. Его нежность к покойной не была похожа на отношение к ней остальных.
В половине первого я был на улице Пре и, проходя мимо «Кафе Америкен», решил пропустить стаканчик, сочтя, что вполне заслужил его. Подойдя к бару, я обернулся и посмотрел в зал. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что за одним столиком сидели Гастон де Ланкранк, Жорж Бенак, Франсуа Лалоб и… Хюбер Виже. Раскрыв рот, я смотрел на этих мужчин, которые — я теперь понимал это — в той или иной степени обманули меня. Они собрались не случайно и, должно быть, говорили о смерти Сесиль. Мало-помалу я успокоился и благословил случай, подтолкнувший меня зайти в это кафе. Пришлось бы покинуть Сен-Клод, так и не узнав о странном сообщничестве мужчин, в течение двух последних лет любивших или делавших вид, что любят Сесиль Луазен. Если бы Сесиль умерла естественной смертью, она бы принадлежала им всем и каждому из них. Но ее убили, и я был уверен, что убийца — среди этих четверых. Мне хотелось угадать, кто он.
Взяв свой стакан, я направился к ним. Они обратили на меня внимание только тогда, когда я оказался у самого столика. Бенак и Виже сидели ко мне лицом. Увидев меня, они опустили глаза.
— Вы снова пришли действовать нам на нервы? — проворчал Лалоб.
— Может быть, предпочитаете собраться в полиции?
— А зачем нам идти в полицию?
— Ну, например, чтобы поговорить о смерти Сесиль Луазен.
Лалоб украдкой взглянул на других и замолчал. Я взял стул и просунул его между Лалобом и Бенаком, которые, ворча, подвинулись.
— Господа, не стану ходить вокруг да около. Я встречался с каждым из вас. Вы все были влюблены в Сесиль Луазен. Вы все по тем или иным причинам, в которых и не могу вас упрекнуть, бросили ее… Все, кроме одного.
И тут заговорил Лалоб:
— Кто?
— Тот, кто назначил Сесиль Луазен свидание в Уайонаксе, чтобы сбежать с ней.
Я вглядывался в их лица. На всех было написано одинаковое изумление. Убийца легко не сдается. Бенак скромно задал вопрос, которого я давно ждал:
— Откуда вы знаете?
— Я был последним, с кем перед смертью говорила Сесиль.
— Это еще не причина для самоубийства, если человек не пришел на свидание, — вмешался Лалоб.
— Вы не правы. Ведь она настолько верила ему, что согласилась иметь от него ребенка!
Я почувствовал, как они окаменели на своих стульях.
— Это неправда, — прошептал Бенак.
— Правда, мсье Бенак. Сесиль была любовницей одного из вас, человека, обещавшего ей то, чего она хотела. Возможно, в тот момент он говорил искренне, но потом, когда надо было уезжать, он испугался… и отказался от приключения, не заботясь о бедной девушке и о том, что с ней будет.
Тут вмешался Гастон Ланкранк.
— Это не решение вопроса. Уайонакс не так уж далеко. Сесиль в любой момент могла вернуться.
— Нет, мсье Ланкранк, не могла.
— По какой же причине?
В этот момент я понял, какую тоску испытывает убийца, тоску, которая скоро превратится в панику, как только я открою им правду.
— Потому что любовник Сесиль не уехал, опасаясь скандала, возможно, он боялся ухудшить свое материальное положение… Вы правы, мсье де Ланкранк: не явившись на свидание, он не решал проблему. Возвращение озлобленной и разочарованной Сесиль, без сомнения, вызвало бы скандал, которого он так опасался. Значит, любовник был вынужден помешать ей вернуться.
— Хотел бы я знать, как ему это удалось, — хмыкнул Лалоб.
— Убив ее, мсье Лалоб.
— Что? — воскликнули все хором.
— Вы с ума сошли! — пробормотал хозяин автомастерской.
— Беру на себя смелость рассказать вам то, что вы узнаете из завтрашней газеты… Сесиль Луазен была убита.
Хюбер Виже заплакал.
— И вы действительно считаете, что один из нас… — тихо произнес Бенак.
— Я в этом уверен.
— Тогда назовите убийцу.
— Это невозможно… Меня могут преследовать по закону… Но могу точно сказать, что он женат…
Гастон Ланкранк внезапно оттаял, оживился.
— …что он несчастлив в семье… Что Сесиль была для него надеждой на лучшее будущее. Я уверен, что он сам поверил в свою смелость, обманулся собственными обещаниями… Он стал любовником мадемуазель Луазен, будучи твердо уверенным, что устроит свою жизнь с ней… Но потом проходили дни, недели, месяцы… Он размышлял, сравнивал жизнь, наполненную приключениями и случайностями, со спокойной обеспеченной жизнью, которую он вел рядом с ненавистной супругой… И его смелость постепенно уменьшалась… Он уже не испытывал непреодолимого желания сбежать… Но не осмеливался признаться в этом Сесиль, бесспорно, опасаясь, как бы она не отправилась к его жене и не рассказала ей о ребенке, которого носила, и о письмах, которые не оставляли сомнений в отцовстве одного из вас, господа… Когда этот человек увидел, что его загнали в угол, он потерял голову… Назначил Сесиль свидание в Уайонаксе, в кафе… Она ждала его там два часа… А когда поняла, что он бросил ее, то была в отчаянии… Но он приехал в Уайонакс с твердым решением покончить с угрозой, которую несла молодая женщина… Он следил за ней, когда она вышла из кафе… Он видел, как я подошел к Сесиль… он следил за нами… Так он узнал, где она остановилась на ночь, и, пробравшись в отель, пошел к ней… Она открыла ему и была вне себя от радости, что ее тревоги не оправдались. Он же, воспользовавшись ее доверчивостью, задушил ее.
— Задушил! — прохрипел Виже.
— Да, задушил, мсье Виже. Можете себе представить, каковы были последние прожитые Сесиль минуты, когда она поняла, что любовник хочет ее убить.
Воцарилось молчание. Я слышал только, как они тяжело дышат.
— Вы сообщили об этом в полицию? — спросил Лалоб.
— Нет.
— Почему?
— Виноват один из вас. Не хочу, чтобы в дело были замешаны и остальные.
— Мсье Феррьер, — спросил Бенак, — не знаю, правы ли вы, но тем не менее… что вы предлагаете?
— Через час с четвертью я уезжаю в Уайонакс. Пусть виновный тоже придет на вокзал… Мы вместе подумаем, что следует предпринять, чтобы смягчить удар… Конечно, ему придется расплачиваться, но мы попытаемся найти самую низкую ставку.
— А если вы ошибаетесь?
— Я не ошибаюсь. Один из вас обещал Сесиль бросить все, чтобы начать с ней новую жизнь. Этого человека я буду ждать.
Глава 8
Я приехал на вокзал на двадцать минут раньше. Меня охватило лихорадочное нетерпение. Я не находил себе места. Придет ли он? И если придет, то кто? Я надеялся, что им окажется Франсуа Лалоб, самый отвратительный из всех. Но время шло, и постепенно я приходил в отчаяние.
— Счастлив встретиться с вами, мсье Феррьер.
Я обернулся. Мне улыбался Сессье.
— Вы решили проверить, сдержу ли я слово?
— Нет, просто уезжаю вместе с вами.
— Чтобы следить за мной?
— Вы можете отказаться от моего общества.
— Почему вы вдруг решили ехать?
— Мой коллега Вириа пригласил меня к себе.
— В Уайонакс?
— В Уайонакс.
— Почему?
— Друзьям вопросов не задают. Их приглашения либо принимают, либо нет. Я принял. Вы пришли на вокзал с большим запасом времени.
— Я кое-кого жду, но, боюсь, он не подойдет, если увидит вас.
— Правда?
Пришлось ввести его в курс дела, иначе мое ожидание могло стать совершенно бесполезным. Когда я закончил, Сессье, ничуть не рассердившись, сказал:
— Вы не имели права говорить о преступлении, но, поскольку речь идет всего о нескольких часах, бранить вас я не стану. И все-таки вы очень интересный человек, мсье Феррьер. Сколько вам лет?
— Сорок пять.
— Просто чудо, что человек, дожив до сорока пяти, может оставаться таким наивным…
— Наивным?
— Вы действительно думаете, что убийца Сесиль Луазен придет, чтобы признаться в своем преступлении?
— Надеюсь. А вы окажите любезность и спрячьтесь, чтобы не спугнуть мою дичь.
Он исчез в здании вокзала, а я стал ждать.
За пять минут до прихода поезда возле меня остановилось такси, из которого вышел Хюбер Виже. Расплатившись с шофером, он подошел ко мне.
— Слава Богу! Я боялся, что приеду слишком поздно.
— Виже, вы ведь не станете утверждать, что это вы?
— Нет… Обождите… Я пришел сказать, что вы ошибаетесь… Я не убивал Сесиль и не знал, что она ждет ребенка, но я хотел сбежать с ней, убежденный, что смогу начать новую жизнь.
Этот пятидесятилетний мужчина с бантом вместо галстука казался мне смешным и одновременно вызывал жалость.
— Я уговаривал ее сбежать со мной, я твердо решил бросить все, чтобы не сдохнуть здесь от удушья.
— И она верила вашим обещаниям?
— Невероятно, правда? Но ей тоже очень хотелось сбежать.
— И вы… в последний момент вы испугались?
— Нет, я не испугался… мне стало стыдно. Я уже старик, а она очень молода. Я понял, что не имею права. И потом, моя озлобленная жена, мои бедные девочки. Это было бы преступлением, а я не преступник.
— Вы вели себя как идиот, Виже! Понимаете? Идиот! Ваша Сесиль, такая чистая, имела любовника и ждала от него ребенка! И, насмехаясь над вами, старикашкой, крутила любовь с тем, который ее убил! Ну и хохотал же убийца, сидя с вами за одним столом! Хотите знать мое мнение, Виже? По отношению к малышке вы все оказались трусами! Убил ее лишь один из вас, но вы все помогали ему в этом!
— Возможно, вы правы, мсье…
Я смотрел, как уходит этот жалкий человек. Его круглая спина была, казалось, воплощением мировой скорби.
— Ну что, он признался? — прошептал мне на ухо инспектор Сессье.
— Это не он, — проворчал я.
— Конечно… Знаете ли, мсье Феррьер, преступники редко признаются в своих преступлениях вот так, спонтанно.
— Но все они выглядели перепуганными только что, в кафе.
— Возможно, так оно и было?
— Потому что среди них находился преступник!
— Или просто потому, что все они немного любили Сесиль Луазен.
— Короче говоря, вы не считаете, что в ее смерти виновен кто-то из них?
— О! Мсье Феррьер, я хочу только одного — арестовать убийцу.
— В таком случае он может спать совершенно спокойно!
— Чтобы успокоить вас, скажу, что он вовсе не спит спокойно, а скорее всего совсем не спит.
Короткое путешествие прошло безо всяких приключений. Я ненавидел Сессье за его наглую уверенность. В течение всего пути мы не обменялись и двумя словами.
Выйдя из здания вокзала, я протянул руку своему спутнику.
— Прощайте, мсье Сессье, не думаю, что мы еще когда-нибудь встретимся.
— Кто знает?
Папаша Жаррье встретил меня не так, как я рассчитывал. Когда я вошел в гостиницу, он стоял в вестибюле.
— А, это вы…
— Да, я!
— Ну что, нашли убийцу?
— Нет.
Он хмыкнул.
— Я бы очень удивился, если бы вы сказали что-то другое.
— Что вы имеете в виду?
— Ничего… В конце концов меня эта история не касается, у меня и так достаточно неприятностей… Надолго приехали?
— Мое присутствие вас смущает?
— Честно говоря, да!
— Ну что ж. Пойду поищу приюта в другом месте.
— Вы очень меня обяжете.
— Жаррье… Я полагаю, мы расстаемся, но сохраним хорошие отношения?
— Возможно.
— Что же произошло за время моего отсутствия?
— Много чего.
— Что же?
— Другие, более сведущие люди расскажут вам об этом. Прощайте!
Выйдя на улицу, я столкнулся с мадам Жаррье, которая шла из магазина.
— Мишель! Я так рада вас видеть! Но что это вы таскаетесь с чемоданом?
— Ваш муж выставил меня за дверь!
— Это еще что такое? Выставил за дверь? Кто ему дал право?
— Он хозяин в своем доме.
— А я, кто я тогда? Идемте.
Последовавшее объяснение было коротким и бурным. Жаррье, чувствовавший себя не очень уверенно, покорился. Я получил номер, закрылся в нем и сразу заснул.
Меня разбудил телефонный звонок. Прежде чем снять трубку, я посмотрел на часы: шесть часов вечера.
— Алло!
— Не кладите трубку, — холодно произнес Жаррье, — с вами будут говорить из комиссариата.
Я услышал характерные щелчки соединения.
— Мсье Феррьер?
— Да.
— Здравствуйте, это полицейский Маллеран.
— А, Маллеран… Как дела, старина?
— Отлично, мсье Феррьер, а у вас?
— Так себе. Чем могу служить?
— Не мне, комиссару.
— Что случилось?
— Он хочет, чтобы вы пришли к нему.
— Прямо сейчас?
— Если вас не затруднит.
— Ладно. Только немного приведу себя в порядок.
— Спасибо, мсье Феррьер.
— Почему он сам не позвонил мне?
— Я полагаю, он очень занят.
Показалось ли мне? На самом ли деле он был чем-то смущен? Глупости… Глупости… Почему он должен быть смущен, если Пьер занят?
Дежурный полицейский проводил меня в кабинет Пьера, и я очень удивился, увидев, что Сессье сидит рядом с Вириа. Сандрей встал:
— Мишель! Счастлив тебя видеть. Как доехал?
— Ей-Богу…
— Ладно, садись.
Я сел на стул, на который он мне указал.
— Итак, Мишель, расскажи о своем путешествии в Сен-Клод.
— Ты вызвал меня затем, чтобы послушать рассказ о моих прогулках по Сен-Клоду? Боюсь, что не смогу рассказать ничего нового. Сессье, вероятно, уже ввел тебя в курс дела?
— Ты забываешь о том, что я не имею права ему приказывать. Он мне не подчиняется.
— Ба! Следить за подозреваемым — услуга, которую друзья вполне могут оказать друг другу.
— Ты считаешь себя подозреваемым?
— Не я, а он.
— Не нервничай!
— Разве я похож на человека, который нервничает?
— Ты взволнован… Кричишь… Сессье еще не говорил мне о тебе. Видишь, твой рассказ я услышу первым. Ну, давай, я слушаю.
Что-то мне тут не понравилось. Казалось, Пьер, как и Жаррье, стал относиться ко мне не так, как раньше. И все-таки я как можно подробнее рассказал об изысканиях, которые провел в Сен-Клоде. Когда я закончил, Пьер объявил:
— Бедный Мишель, боюсь, твое путешествие было совершенно бесполезным. Никто из этих людей, очевидно, не является убийцей Сесиль Луазен.
— Что ты можешь об этом знать?
— Сессье проверил их алиби. Они безупречны.
— Но…
Сандрей взял листок бумаги, лежавший у него на столе, и стал читать вслух:
— «В ночь преступления Гастон де Ланкранк находился в Морезе, Жорж Бенак был в гостях у друзей, Франсуа Лалоб играл в кеч[457] и за недостойное поведение был задержан службой порядка, что же касается Хюбера Виже, то в девять часов вечера он давал последний в этот день урок музыки».
Я был в ярости. Они смеются надо мной!
— Почему Сессье не рассказал мне об этом?
— Ты ведь так хотел сам вести расследование, он не стал тебя переубеждать… Кстати, в чем ты так хотел убедиться?
— Ну и вопрос! Во-первых, что убийца, как и жертва, приехал из Сен-Клода…
— Дело в том, Мишель, что мы совершенно не уверены в этом. Вероятно, убийца — житель Уайонакса.
— Уайонакса? Ты с ума сошел! Если бы у Сесиль была назначена встреча с кем-нибудь из местных, она не стала бы ждать его в кафе! И потом, если этот тип из Уайонакса, то он поехал бы за ней в Сен-Клод.
Двое других молча смотрели на меня. Их вид повергал меня в отчаяние.
— Я полагаю, — тихо продолжал Пьер, — мы все допустили одну и ту же ошибку — соединили в одном лице соблазнителя и убийцу.
— Что?
Сандрей успокаивающе махнул рукой.
— Подумай, Мишель… Сесиль Луазен ждала мужчину, он не пришел, и, я думаю, ты прав, он живет не в Уайонаксе. Но, раз он не встретился с Сесиль, откуда ему было знать, в какой отель ты ее отвел? И откуда он мог знать о том, что в этом отеле есть дверка, ведущая в сарай? Нет, очевидно, убийца не тот человек, которого Сесиль ждала в кафе. Совершенно ясно, что он постоянный клиент отеля, в котором вы остановились.
— Это ни в какие рамки не лезет! Зачем ему убивать Сесиль, если они вообще не были знакомы?
— Возможно, она немного знала его, иначе не открыла бы дверь.
— Ничего не понимаю.
— Повторяю, любовник и убийца не одно и то же лицо.
Сессье встал и подошел к двери. В тот момент я не обратил на это внимания.
— Послушай, Пьер, давай рассуждать логически… Только отец ребенка, которого искала Сесиль, мог быть заинтересован в том, чтобы избавиться от нее.
— Но никак не мог встретиться с ней в отеле.
— Тогда, может быть, ты мне скажешь, зачем человеку, у которого не было ничего общего с Сесиль, убивать ее?
— Я не сказал, что он решил ее убить…
— Я не совсем тебя понимаю. И потом, не забудь: я не отходил от Сесиль с того момента, как она вышла из кафе, а отель, насколько мне известно, она не покидала.
— Она не выходила из отеля, Мишель.
— Ну, так каковы твои выводы?
— К сожалению, я давно уже пришел к определенным выводам, старина.
Почему такой тон? Почему он сказал: «К сожалению, старина»? И тут я понял, что Сессье стоит позади меня. Я дрожал как осиновый лист. Пьер встал, подошел ко мне и положил руку на плечо.
— Успокойся, Мишель.
— Пьер… Ты ведь не думаешь… что это… что это я?..
Он сочувственно посмотрел на меня и скорее прошептал, чем произнес:
— Да.
Все поплыло у меня перед глазами, и я вцепился в стул, чтобы не упасть.
— По… почему? Зачем мне убивать женщину, которую я никогда раньше не видел?
— Она была похожа на Луизу.
— Она была похожа…
— Либо ты решил, что она похожа на Луизу, либо — что она Луиза…
Вириа не отводил от меня глаз, очевидно, готовый в любую минуту броситься на меня. Повернувшись к двери, я увидел Сессье. Они заманили меня в ловушку. Я схожу с ума… Я не убивал Сесиль! Я уверен, что не убивал Сесиль!
— Это неправда, Пьер!.. Ты ведь отлично знаешь, что это неправда… Эта девушка нравилась мне…
— До тех пор, пока ты не начал мучиться головной болью… Ты пригласил ее поужинать… Она рассказала тебе о своей любви к другому мужчине… Она сказала тебе, что ждет ребенка… И в твоем воспаленном мозгу произошло смещение понятий: Сесиль стала похожей на Луизу, ведь она хотела сбежать, как сбежала десять лет назад Луиза… Ты пришел в ярость.
— Это ложь! — завопил я.
— Ты ничего не помнишь, Мишель, но ведь ты хотел ее ударить. То ли Жаррье, то ли его жена, я уже не помню точно, вмешались, чтобы успокоить тебя… Протокол их допроса в папке. Похоже, другие клиенты были возмущены твоим поведением.
Жестокая тоска сдавила мне грудь. Я посмотрел на свои руки, они приводили меня в ужас… Неужели это я… Я… Я!
Я покачивался, сидя на стуле, и чувствовал себя загнанным зверем. Они только ждут команды, чтобы броситься на меня.
— Зачем же я совершил это бесполезное путешествие в Сен-Клод? Раз убийца я, кого я хотел там найти?
— Ты искал доказательства собственной невиновности. Ты не помнил об убийстве, но в глубине души у тебя было какое-то волнение. Иначе почему бы ты скрыл от нас настоящее имя Сесиль? И откуда ты узнал его?
— Я… я подслушал его… на почте… в окошке для писем до востребования.
— А может быть, она сказала тебе его во время ужина, когда ты вдруг стал называть ее Луизой? Подумай, Мишель… Может быть, ты смутно подозревал, что замешан в этой драме, и отправился в Сен-Клод в надежде найти преступника, признание которого дало бы тебе возможность спокойно вздохнуть. Ты спрашивал не их, а самого себя и хорошо понимал их, потому что они твои собратья по несчастному браку. Несмотря на лекарства, которые дал Жаррье, ты встал среди ночи и пошел к той, которая в твоих глазах уже полностью превратилась в Луизу. Она, должно быть, удивилась, увидев тебя, потому что знала, что ты болен. Возможно, ей было жаль тебя, и она говорила словами, которые обычно употребляла Луиза. Тогда, чтобы заставить ее замолчать, ты сжал ей горло…
— Нет!
Пьер схватил меня за лацканы пиджака и приподнял со стула.
— Постарайся, Мишель! Ты должен вспомнить! Была ночь… Ты зажег ночник… Надел тапочки… Ты не очень хорошо понимал, где находишься, и еще некоторое время сидел на кровати…
На лице Пьера выступили капельки пота. Я потерял всякое понятие времени, злость охватила меня, но я уже не мог сопротивляться. Без сомнения, Сандрей прав: я убийца, потерявший память.
— …Ты встал, выскользнул в коридор… Постучал в ее дверь, вошел и вообразил, что перед тобой Луиза… Ее чемодан стоял открытым на столе, как и тогда, десять лет назад, когда Луиза сообщила тебе о своем решении уехать…
Я слушал. Казалось, по мере того как он говорит, в тумане моей памяти наступает некоторое просветление. Я видел эту сцену. Но все произошло десять лет назад… Или совсем недавно?
— …Ты не хочешь, чтобы Луиза уходила, потому что ты любишь ее, Мишель… Ты говоришь ей, объясняешь, но Сесиль путается… Она готова закричать… И тогда, чтобы заставить ее замолчать, ты хватаешь ее за горло… и душишь… душишь…
Теперь мне казалось, что и на самом деле…
— …Когда она упала на кровать, ты бросился к ее вещам… у тебя было только одно желание: узнать, к кому уходит от тебя Луиза. — Пьер очень увлекся, пытаясь заставить меня вспомнить драму, главным действующим лицом которой был я. — …Ты открыл ее сумку, Мишель, достал ее бумажник и стал смотреть. Ты не сознавал, что это Сесиль, а не Луиза, потому что хотел во что бы то ни стало узнать, кто твой соперник. Фотографии не было… Она сожгла ее, мы нашли пепел… Ты порылся в ее чемодане и нашел письма, связанные желтой ленточкой, письма от соперника. Ты взял первое письмо и прочел… помнишь, Мишель, ты словно испытал удар кинжалом, когда узнал, как он называл ее: «Моя дорогая, только моя»?
— Откуда ты знаешь об этом, Сандрей?
Эти слова произнес не я, а Вириа. Мы с Пьером замерли на минуту, словно вопрос Вириа не умещался в наших мозгах. Я видел, как лицо Пьера постепенно приобретало нормальное выражение. Он медленно вздохнул, выпрямился и, оставив меня, повернулся к Вириа.
— Это вы со мной осмелились разговаривать в таком тоне, инспектор?
— С тобой, я повторяю вопрос: откуда ты знаешь, что она сожгла фотографию своего любовника? Кто рассказал тебе, какой ленточкой были связаны письма? И кто рассказал тебе о существовании этих писем, ведь мы их не нашли?
Хладнокровие уже вернулось к Пьеру, и он воскликнул:
— Инспектор Вириа! Приказываю вам замолчать! Я отстраняю вас от должности вплоть до решении командования, которому сегодня же будет направлен рапорт. Инспектор Сессье, призываю вас в свидетели.
Сессье покачал головой.
— Будет лучше, если вы ответите на вопросы моего коллеги, комиссар.
— Ага! Значит, вы сообщники. Но при чем тут вы, Сессье?
— Вы убийца, комиссар, вы убили эту несчастную девушку и приписали свое преступление другу, воспользовавшись состоянием его здоровья. Если хотите знать мое мнение, комиссар Сандрей вы самый низкий подонок из всех, кого я встречал.
— Честное слово, вы оба сошли с ума, — возмутился Пьер.
Вириа встал, подошел к Сандрею и, слегка толкнув его в грудь, сказал:
— Садись!
Пьер, подчинившись, подошел к своему креслу и буквально упал в него.
— А теперь слушай: мы с Сессье расставили для тебя ловушку, потому что я подозревал, что виновен именно ты. Мы сделали вид, что поверили в историю с Феррьером, убившим как бы в гипнотическом состоянии. Ты прав: убийца не мог не знать, где остановилась Сесиль Луазен, а знали об этом только Феррьер и ты. Ты утверждал, будто убийца и любовник — разные люди, но такое предположение верно только в том случае, если убийца — Феррьер. А если не он? В виновность Феррьера я не верил, честно говоря, маловероятно, чтобы его охватило желание убивать через десять лет после того, как ушла жена. Я говорил с его начальником и услышал только положительные отзывы. Я спросил у доктора Ветейля, мог ли Феррьер, приняв двойную дозу пипольфена, совершить обдуманное преступление. Доктор высказался однозначно: если Феррьер действительно принял снотворное, то должен был спать мертвым сном, а Жаррье поклялся, что дал ему двойную дозу. И наконец, волнение, которое проявил твой друг, его искреннее желание найти убийцу тоже свидетельствовали в его пользу. Мы с Сессье считали его виновность все более и более проблематичной, а ты с настойчивостью, казавшейся нам подозрительной, хотел сделать из него сумасшедшего преступника. А ведь ты говорил, что он твой лучший друг…
Пьер… Пьер, мой старый друг… Я слушал, и каждое слово Вириа ранило мою душу… Пьер, которому я так доверял. Пьер, который спас мне жизнь.
По мере того как говорил Вириа, комиссар съеживался в своем кресле. Я не хотел больше ничего слышать, потому что понимал: Вириа прав. Пьер действительно убил Сесиль Луазен, свою любовницу.
— Если Феррьер не убийца, то убийцей мог быть только ты. Ты всегда любил женщин. Твои приключения трудно пересчитать. Я съездил с твоей фотографией в Сен-Клод, и Сессье нашел гостиницу, в которой вы занимались любовью. Хозяйка узнала тебя по фотографии.
Я вдруг подумал о Каролине, которая сейчас готовит мужу ужин, и заплакал.
— Сесиль Луазен хотела уехать из Сен-Клода. Ты пообещал, что уедешь с ней. Не знаю, каким образом ты собирался избавиться от нее, когда она надоела бы тебе. Вероятно, просто бросил бы ее, как бросал многих других. Но тут возникла неприятная неожиданность — она ждала ребенка. Когда она сообщила об этом, тебя охватила паника. Ты не хотел ради девчонки, которая была для тебя лишь развлечением, терять должность и богатую жену… Когда Сесиль сообщила, что приедет и будет ждать тебя в кафе, ты понял, что пропал. Не знаю, каким образом, но тебе удалось сохранить инкогнито. Она, без сомнения, не знала ни твоего имени, ни места работы… Ты присылал ей письма до востребования в Сен-Клод. Заперевшись в кабинете, ты с ужасом думал о том, как выйти из положения, и тут появился Феррьер. Возможно, ты уже готов был обратиться к нему за помощью. Случайно встретив Феррьера, ты узнал о его встрече с Сесиль и воспользовался случаем. Ты решил не только убить девушку, но и пожертвовать другом. Хитро, а? Твоя жена призналась, что той ночью ты выходил из дому, потому что тебя срочно вызвали в комиссариат. Но пошел ты не в комиссариат, а в гостиницу. Ты заботливо позвонил Жаррье, якобы для того, чтобы узнать, что произошло за ужином, как он уложил спать Феррьера и в каком номере остановилась Сесиль.
Жалкое зрелище. Вся ненависть Вириа воплотилась в этих логичных пояснениях. Наконец ему удалось взять столь долгожданный реванш… Мне было тошно от его столь явного удовлетворения. Поистине пиршество гиены.
— Но мы не знали, как вынудить тебя признаться. Пришлось сделать вид, что мы поверили в виновность Феррьера. Мы надеялись на сцену, которую ты разыграл. Нужно было, чтобы этот несчастный признался в преступлении, которого не совершал. И произошло странное явление. Убеждая Феррьера в том, что он убил Сесиль, добиваясь, чтобы он пережил заново сцену, произошедшую десять лет назад, ты, сам того не замечая, уподобил себя ему и описывал свои действия… Я всегда считал тебя плохим полицейским, Сандрей, но сегодня мы получили подтверждение этому.
Длинный рассказ Вириа кончился, воцарилась тишина. Пьер, кажется, был очень далеко отсюда. Потом он шевельнулся, скользнул взглядом по инспекторам и пристально посмотрел на меня. Через несколько секунд он прошептал:
— Мишель… прости.
Я ехал в поезде в направлении Бург-ан-Бресс. Пьера посадили в тюрьму сразу же после того, как он признался.
Я никогда больше не приеду в Уайонакс.
Луиза унесла часть моей молодости Пьер убил все, что еще оставалось. Мне больше не за что ухватиться. Теперь я старик.
1
Максимильен Робеспьер (1758–1794) — активный деятель Великой французской революции, один из руководителей якобинцев.
(Здесь и далее примечания переводчика.)
(обратно)
2
Сантэ, Фрэн — тюрьмы в Париже.
(обратно)
3
Микадо (буквально: величественные врата) — титул императора Японии.
(обратно)
4
Имеются в виду старые франки. Один новый («тяжелый») франк равен ста старым.
(обратно)
5
Этна — самый высокий в Европе действующий вулкан. Расположен на Сицилии.
(обратно)
6
То есть пять миллионов старых франков.
(обратно)
7
Итальянское блюдо.
(обратно)
8
Брижит Бардо (род. в 1934 г.) — французская кинозвезда.
(обратно)
9
Сара Бернар (1844–1923) — великая французская актриса.
(обратно)
10
Бенвенуто Челлини (1500–1571) — итальянский скульптор и ювелир.
(обратно)
11
В Божоне расположена школа комиссаров полиции.
(обратно)
12
Жан Франсуа Милле (1814–1875) — французский живописец-жанрист.
(обратно)
13
Баярд — знаменитый своими подвигами французский рыцарь нач. XVI в.
(обратно)
14
Рудольф Валентино (1895–1926) — знаменитый американский киноактер.
(обратно)
15
Шарль де Голль, президент Франции в 1958–1969 гг.
(обратно)
16
Лакки Лучиано (Сальваторе Луканиа, 1897–1962) — американский гангстер, выходец из Сицилии.
(обратно)
17
Луи Бачелтер (1897–1944) — американский гангстер.
(обратно)
18
Фрэнк Костелло (Франческо Кастилиа, 1891–1973) — американский гангстер, выходец из Италии.
(обратно)
19
Блюдо из баранины.
(обратно)
20
Сирано де Бержерак, Савиньен (1619–1655), французский писатель, герой посвященной ему драмы Э. Ростана.
(обратно)
21
Виды лапши.
(обратно)
22
Душа моя
(итал.)
(обратно)
23
Здесь и далее характерные итальянские восклицания даются без перевода, поскольку вставлены автором оригинала исключительно "для колорита".
(обратно)
24
Моя любимая
(итал.)
(обратно)
25
Черт возьми! Я не понимаю, что вы говорите!
(англ.)
(обратно)
26
Состав преступления
(лат.)
(обратно)
27
Вперед, карабинеры!
(итал.)
(обратно)
28
Пожалуйста
(итал.)
(обратно)
29
Извините, миссис
(англ.)
(обратно)
30
Извините, миссис
(англ.)
(обратно)
31
Простите, сударыня
(нем.)
(обратно)
32
Ронни, вы? Предатель!
(англ.)
(обратно)
33
Нет, синьор, нет! Что вы? Нет, это невозможно!
(итал.)
(обратно)
34
Извините
(итал.)
(обратно)
35
Пойдем, брат мой!
(итал.)
(обратно)
36
Верно?
(обратно)
37
Спасибо
(итал.)
(обратно)
38
Большое спасибо
(итал.)
(обратно)
39
Корабль, на котором в Америку прибыли первые эмигранты.
(Примеч. авт.)
(обратно)
40
Папа римский.
(обратно)
41
До скорого, старина
(англ.)
(обратно)
42
Этот рыцарь! Этот сердцеед!
(итал.)
(обратно)
43
Позволь мне слушать биение твоего сердца
(англ.)
(обратно)
44
Мак-Миллан — тогдашний премьер-министр Великобритании.
(обратно)
45
То есть на каторгу.
(обратно)
46
Печеные яблоки, покрытые слоем безе и утыканные миндалем, отсюда и название — "яблочный ежик".
(обратно)
47
По-русски в тексте.
(обратно)
48
Коктейль.
(обратно)
49
Бисквит, пропитанный ликером или вином и залитый сбитыми сливками.
(Примеч. авт.)
(обратно)
50
Рыжий бык (англ.).
(обратно)
51
Юбочка шотландских воинов. — Примеч. авт.
(обратно)
52
Жители Уэльса. — Примеч. перев.
(обратно)
53
Так в оригинале. Вне всякого сомнения, Эксбрайя имеет в виду Роб Роя, знаменитого разбойника и одного из горских вождей и героя одноименного романа Вальтера Скотта. — Примеч. перев.
(обратно)
54
Особый подбор цветов клетчатой ткани. — Примеч. авт.
(обратно)
55
Ежегодное соревнование по регби между командами Англии, Шотландии, Ирландии, Уэльса и Франции. — Примеч. авт.
(обратно)
56
Высшее общество (англ.).
(обратно)
57
Спортивные игры. — Примеч. авт.
(обратно)
58
Брус, длинная балка. — Примеч. авт.
(обратно)
59
Скоун — ячменная лепешка. Страной ячменных лепешек именовали Шотландию. «Скоунский камень» — камень, на котором короновали королей Шотландии. — Примеч. перев.
(обратно)
60
Мания величия.
(обратно)
61
Старинный палаш, древнее орудие шотландских горцев. — Примеч. перев.
(обратно)
62
Кинжал. — Примеч. перев.
(обратно)
63
Кусок пурпурной ткани, которым матадор дразнит быка. — Примеч. перев.
(обратно)
64
Картофельное пюре с тушеной капустой. — Примеч. авт.
(обратно)
65
«Лучший парень» — баллада Роберта Бернса. — Примеч. перев.
(обратно)
66
Специальный подбор цветов в шотландской клетчатой ткани. — Примеч. перев.
(обратно)
67
Имеется в виду один из персонажей романа Р.Л.Стивенсона.
(обратно)
68
Набережная
(исп.)
(обратно)
69
Улица
(исп.)
(обратно)
70
Китайский квартал
(исп.)
(обратно)
71
«Ангелы и Демоны»
(исп.)
(обратно)
72
Бригада уголовных расследований
(исп.)
(обратно)
73
Центральный полицейский участок, полицейское управление
(исп.)
(обратно)
74
«Любовь души моей»
(исп.)
(обратно)
75
Каид — главарь банды.
(обратно)
76
Матерь Божья
(исп.)
(обратно)
77
Sereno
(исп.) — сторож.
(обратно)
78
Дубинка, которой приводят в исполнение смертный приговор.
(обратно)
79
Официальный прием ученика в число матадоров.
(обратно)
80
Страстный поклонник корриды.
(обратно)
81
Вы помните Пако?
(исп.)
(обратно)
82
Друг
(исп.)
(обратно)
83
Это удар…
(исп.)
(обратно)
84
Именем закона! Откройте!
(исп.)
(обратно)
85
Гомес, мы знаем, что вы здесь!
(исп.)
(обратно)
86
Подождите минутку!
(исп.)
(обратно)
87
Ну, Гомес? Откроете вы дверь или мы ее вышибем?
(исп.)
(обратно)
88
Дорогая моя
(исп.)
(обратно)
89
Avenida — проспект
(исп.)
(обратно)
90
Святая Матерь Божья
(исп.)
(обратно)
91
Бедняжка
(исп.)
(обратно)
92
Прощайте
(исп.)
(обратно)
93
См. Ш.Эксбрайя. «Не сердитесь, Иможен!»
(обратно)
94
См. Ш.Эксбрайя. «Возвращение Иможен».
(обратно)
95
См. Ш.Эксбрайя. «Не сердитесь, Иможен!»
(обратно)
96
См. Ш.Эксбрайя. «Возвращение Иможен».
(обратно)
97
Горации — в римской мифологии три юноши-близнеца, победившие трех своих двоюродных братьев-близнецов Куриациев из Альба-Лонги, чтобы закончить этим поединком войну (VII в. до н. э.). — Примеч. перев.
(обратно)
98
См. Ш.Эксбрайя. «Возвращение Иможен».
(обратно)
99
Эрин — древнее название Ирландии. — Примеч. перев.
(обратно)
100
Оскорбительное прозвище ирландцев-скотоводов. — Примеч. перев.
(обратно)
101
См. Ш.Эксбрайя. «Не сердитесь, Иможен!»
(обратно)
102
Английский писатель, предшественник декадентства, известный своими скандальными воззрениями. — Примеч. перев.
(обратно)
103
Персонаж классической английской литературы. — Примеч. перев.
(обратно)
104
См. Ш.Эксбрайя «Не сердитесь, Иможен!»
(обратно)
105
См. Ш.Эксбрайя «Возвращение Иможен».
(обратно)
106
Старинный палаш, излюбленное оружие шотландских горцев. — Примеч. перев.
(обратно)
107
The Rouge's March
(англ.) — какофония, которой сопровождается изгнание с позором из полка или с корабля.
(обратно)
108
Жизнеописание, краткая биография
(лат.)
(обратно)
109
Милосердие, великодушие
(франц.)
(обратно)
110
От attestation
(франц.) — свидетельство, аттестат; перен. — залог, обеспечение.
(обратно)
111
Французский поэт второй половины XIX в., автор многих поэм и сказок в прозе.
(обратно)
112
Жена римского императора Клавдия (I в.), известная распущенностью и жестокостью.
(обратно)
113
Deus ex machina
(лат.) — букв «бог из машины», т. е. неожиданно появляющееся (обычно в античных трагедиях — боги) лицо или непредвиденное обстоятельство, своим вмешательством распутывающее положение.
(обратно)
114
Суперинтендант — у протестантов духовное лицо стоящее во главе церковного округа (
Прим ред.)
(обратно)
115
Меласса — вид патоки (
Прим. ред.)
(обратно)
116
Целибат — обязательное безбрачие католического духовенства (
Прим. ред.)
(обратно)
117
Студент Итона, занимающийся греблей.
(обратно)
118
Марка автомобиля.
(обратно)
119
Возлюбленной.
(обратно)
120
Гаэльцы — древнее название ирландцев и бретонцев.
(обратно)
121
Национальное ирландское блюдо из бараньего мяса, лука и картофеля.
(обратно)
122
Игра со свинцовыми шарами, которые необходимо загонять в ямку, бросая их.
(обратно)
123
«Господи, спаси Королеву» — английский гимн.
(обратно)
124
Паром (
англ.).
(обратно)
125
Дорогой (
англ.)
(обратно)
126
В далеком городе Дублине, где такие красивые девушки, // Я первым заметил красавицу Молли Мейлоун… (
англ.).
(обратно)
127
В Европе владельцы гаражей занимаются ремонтом и перепродажей автомобилей.
(обратно)
128
Завтрак (
англ.).
(обратно)
129
Здесь: программа (
англ.).
(обратно)
130
Английское название пролива Ла-Манш.
(обратно)
131
Эйре — одно из названий Ирландии.
(обратно)
132
Непобедимая Армада — название испанского флота в эпоху войны между Англией и Испанией за морское владычество (XVI в.).
(обратно)
133
Бар (
англ.).
(обратно)
134
Флит-стрит — улица в Лондоне, на которой находятся редакции крупнейших газет.
(обратно)
135
Ласковое обращение к отцу (
англ.)
(обратно)
136
Улица (
итал.).
(обратно)
137
Двор (
итал.).
(обратно)
138
Область на северо-западе Италии.
(обратно)
139
Дети (
итал.).
(обратно)
140
По значению близко русскому выражению «Вот еще!» (
итал.).
(обратно)
141
Во имя мадонны! (
итал.).
(обратно)
142
Моя (
итал.).
(обратно)
143
Ломбардия — северная область Италии
(обратно)
144
Моя любовь (
итал.).
(обратно)
145
Один из приемов в боксе (
англ.).
(обратно)
146
Дорогой, дорогая (
англ.).
(обратно)
147
Сыночек мой (
итал.)
(обратно)
148
Черный принц — Эдуард, принц Уэльский (1330–1376), сын английского короля Эдуарда III. Прозван так из-за цвета своего вооружения.
(обратно)
149
По имени английского полководца А. Веллингтона (1769–1852).
(обратно)
150
Английский король Карл 1, казненный в 1649 году
(обратно)
151
Один из самых известных германских самолетов периода Второй мировой войны пикирующий бомбардировщик Юнкерс Ju-87 «Штукас» (сокращение от «Штурцкампффлюгцойг» — «пикирующий боевой самолет»).
(обратно)
152
Лицо, принимающее денежные ставки при игре в тотализатор, главным образом на скачках и бегах (
англ.)
(обратно)
153
Здравствуйте, как поживаете? (Обмен приветствиями) (
англ.)
(обратно)
154
Г. Блюхер (1742–1819) — прусский фельдмаршал времен войн с Наполеоном.
(обратно)
155
Д. Ливингстон (1813–1873) — английский путешественник, исследователь Африки, миссионер.
(обратно)
156
Г. Стэнли (1841–1904) — путешественник по Африке.
(обратно)
157
Безотцовщина (
итал.).
(обратно)
158
Соборная площадь, главная площадь в Милане (
итал.).
(обратно)
159
Вид паштета (
итал.).
(обратно)
160
Национальное блюдо (
итал.).
(обратно)
161
Начинающий тореро.
(обратно)
162
Дети.
(обратно)
163
Улица.
(обратно)
164
Денежная единица Испании.
(обратно)
165
Коррида, в которой участвуют только новички.
(обратно)
166
Сын шлюхи.
(обратно)
167
Пространство за барьером вокруг арены.
(обратно)
168
Пестрая ткань.
(обратно)
169
Работа тореро с плащом.
(обратно)
170
Человек доверия — менеджер, тренер и т. п.
(обратно)
171
Барьер вокруг арены.
(обратно)
172
Рана от рога.
(обратно)
173
Город в Мексике, административный центр штата Халиско.
(обратно)
174
Заключительная часть корриды.
(обратно)
175
Болельщики корриды.
(обратно)
176
Самая знаменитая улица в Севилье.
(обратно)
177
Усадьба.
(обратно)
178
Маленькая изгородь, закрывающая проходы в барьере.
(обратно)
179
Обманное движение плащом.
(обратно)
180
Жители Кастильи, столичной области Испании.
(обратно)
181
Вагон, разделенный на купе, в которых есть только сидячие места.
(обратно)
182
Сорт вина.
(обратно)
183
Блины.
(обратно)
184
Куриный паштет.
(обратно)
185
Жареная рыба — барабулька.
(обратно)
186
Copт вина.
(обратно)
187
Topт в форме полена.
(обратно)
188
Мужчина! (
исп.)
(обратно)
189
Гора.
(обратно)
190
Движения с плащом.
(обратно)
191
Как дела, Луис?
(обратно)
192
Матерь Божья!
(обратно)
193
Географическая область в Испании.
(обратно)
194
Названия движений с плащом.
(обратно)
195
Сад, орошаемая земля.
(обратно)
196
Мой (
исп.).
(обратно)
197
Одежда матадора.
(обратно)
198
Шляпа тореро.
(обратно)
199
Область в Испании.
(обратно)
200
Жители одного из регионов Испании.
(обратно)
201
Дневной сон во время жары, когда испанцы не выходят из дома.
(обратно)
202
Моя.
(обратно)
203
Дорогая.
(обратно)
204
Страсть, вкус.
(обратно)
205
Область на границе Испании и Франции, со своим языком и национальностью (баски), которая разделена между двумя странами.
(обратно)
206
Боже мой!
(обратно)
207
Храни вас Бог! (
исп.).
(обратно)
208
Район на юге Франции.
(обратно)
209
Накладная коса тореро.
(обратно)
210
Житель одного из географических районов Испании.
(обратно)
211
Квадрат разноцветной ткани в клетку.
(обратно)
212
Всадники, одетые по моде короля Филиппа IV, которые получают ключи от загонов, где содержатся быки, и передают приказы и решения Председательствующих.
(обратно)
213
Жители Кастильи — центрального района Испании и ее столицы.
(обратно)
214
Команда привидений (
исп.).
(обратно)
215
В Западной Европе вдоль тротуаров предусмотрены желоба со стоком в канализацию, куда должны ходить домашние животные.
(обратно)
216
Друзья.
(обратно)
217
Географическая область в Испании.
(обратно)
218
Район Испании.
(обратно)
219
Четыре пути (
исп.).
(обратно)
220
Житель одного из регионов Испании.
(обратно)
221
Очарователь.
(обратно)
222
Треть (
исп.).
(обратно)
223
Верхушка холки.
(обратно)
224
Бога ради!
(обратно)
225
До свидания.
(обратно)
226
Пожалуйста.
(обратно)
227
Испанский танец.
(обратно)
228
Область в Испании.
(обратно)
229
Рис по-валенсийски.
(обратно)
230
Сглаз.
(обратно)
231
Матадору.
(обратно)
232
Постелью ему стал гроб на колесах // В пять вечера. // В его ушах звук флейт и костей // В пять вечера. // Бык уже ревет над его головой // В пять вечера. // Комната стала цвета агонии // В пять вечера.
(обратно)
233
Издали уже подступает гангрена // В пять вечера. // Лилия упала на зеленые иглы // В пять вечера.
(обратно)
234
Словно множество солнц, горят раны // В пять вечера. // Толпа била окна // В пять вечера.
(обратно)
235
А! Как ужасны эти пять вечера! // На всех часах было пять вечера! // В сумерках вечера было пять часов!
(обратно)
236
Представление участников.
(обратно)
237
Надежда.
(обратно)
238
Региональный Отдел уголовной полиции — далее РОУП.
(обратно)
239
Улица в Лионе, на которой стоит здание РОУП.
(обратно)
240
Станки, вышивающие позументы.
(обратно)
241
Двести тысяч франков.
(обратно)
242
Во Франции нотариусы занимаются помещением капитала их клиентов в биржевые и банковские операции.
(обратно)
243
Обращение к нотариусу, адвокату, учителю.
(обратно)
244
Во французском языке, глаголы «петь» и «шантажировать» произносятся и пишутся одинаково.
(обратно)
245
Непереводимая игра слов. Второй смысл: кто хотел шантажировать Изабель.
(обратно)
246
Характерные итальянские восклицания даются без перевода, поскольку вставлены автором исключительно «для колорита».
(обратно)
247
Блюдо из телятины на косточках с рисом и томатным соусом.
(обратно)
248
Аристид — греческий государственный деятель и полководец.
(обратно)
249
Площадь
(итал.)
(обратно)
250
Улица
(итал.)
(обратно)
251
Итальянский солдат легкой инфантерии.
(обратно)
252
Ну вот, бедняжки!
(итал.)
(обратно)
253
Смесь растительного и сливочного масла, чеснока, анчоусов, трюфелей и сельдерея.
(обратно)
254
Слегка обжаренная форель.
(обратно)
255
Мясные шарики, обернутые капустными листьями.
(обратно)
256
Проспект
(итал.)
(обратно)
257
Вареная колбаса.
(обратно)
258
Кукурузная каша.
(обратно)
259
Пожалуйста
(итал.)
(обратно)
260
Здесь: тетушка
(итал.)
(обратно)
261
Дражайшая
(итал.)
(обратно)
262
Изящнейшая
(итал.)
(обратно)
263
Прекраснейшая
(итал.)
(обратно)
264
Боже мой
(итал.)
(обратно)
265
Овечка моя, услада моего сердца
(итал.)
(обратно)
266
Бедняжка, несчастное создание
(итал.)
(обратно)
267
Бесстыжая! Позор семьи!
(итал.)
(обратно)
268
Потише!
(итал.)
(обратно)
269
Осторожнее
(итал.)
(обратно)
270
Честное слово
(итал.)
(обратно)
271
Разумеется
(итал.)
(обратно)
272
Ну, все-таки
(итал.)
(обратно)
273
Здесь: черт возьми
(итал.)
(обратно)
274
Не может быть
(итал.)
(обратно)
275
Виноградная водка.
(обратно)
276
Не так ли?
(итал.)
(обратно)
277
Простите
(итал.)
(обратно)
278
Прекрати, остановись
(итал.)
(обратно)
279
См. «Илиаду» Гомера.
(обратно)
280
Марка пенистого вина.
(обратно)
281
Дорогой мой
(итал.)
(обратно)
282
Конечно
(итал.)
(обратно)
283
Полицейское управление.
(обратно)
284
Медальоны из жареной телятины.
(обратно)
285
Марка тосканского сладкого вина.
(обратно)
286
Дедушка, дедуля
(итал.)
(обратно)
287
Здравствуйте
(итал.)
(обратно)
288
Прошу прощения, прелестная
(итал.)
(обратно)
289
Очаровательная
(итал.)
(обратно)
290
Река.
(обратно)
291
Прошу тебя
(итал.)
(обратно)
292
Мое почтение
(итал.)
(обратно)
293
До скорого свидания
(итал.)
(обратно)
294
Бедняжка
(итал.)
(обратно)
295
Тогдашний лидер коммунистической партии.
(обратно)
296
До скорой встречи, Анджело. До свидания, синьоры
(итал.)
(обратно)
297
Милый ангелочек
(итал.)
(обратно)
298
Какая жалость
(итал.)
(обратно)
299
Вывих
(итал.)
(обратно)
300
Посмертно
(лат.)
(обратно)
301
Большое спасибо
(итал.)
(обратно)
302
Охотно!
(итал.)
(обратно)
303
Живо!
(итал.)
(обратно)
304
Шалопай
(итал.)
(обратно)
305
Здесь: Благодарю покорно
(итал.)
(обратно)
306
Какой стыд!
(итал.)
(обратно)
307
Отлично!
(итал.)
(обратно)
308
Мое сердечко
(итал.)
(обратно)
309
Здесь: Спокойнее
(итал.)
(обратно)
310
Язычник! Богохульник! Проклятый!
(итал.)
(обратно)
311
«Колокол бьет святой час полуночи. Он родился! Аллилуйя! Аллилуйя!»
(итал.)
(обратно)
312
Пирог с каштанами.
(обратно)
313
Известный английский писатель, автор множества детективных романов. — Примеч. перев.
(обратно)
314
Наследственный дворянский титул, введенный в Англии в 1611 г. — Примеч. авт.
(обратно)
315
Фешенебельный район Лондона.
(обратно)
316
Британская контрразведка.
(обратно)
317
Высшего света (англ.)
(обратно)
318
Награда за особые достижения на стезе добродетели.
(обратно)
319
La framboise
(фр.) — малина.
(обратно)
320
Лк. 4.28–30. Здесь и далее ссылки на Библию даны по изданию Московской Патриархии, М., 1988.
(обратно)
321
Мф. 5.10.
(обратно)
322
Мф. 5.11.
(обратно)
323
Всемирно известное туристическое агентство.
(обратно)
324
Мф 7.15–16.
(обратно)
325
На самом деле Иеремия Лафрамбуаз цитирует «Притчи Соломона» (23.28, 33–34).
(обратно)
326
Мф. 7.13–14.
(обратно)
327
Псалтырь 36.30.
(обратно)
328
Мф. 17.
(обратно)
329
Еккл. 2.22.
(обратно)
330
Мф. 26.42.
(обратно)
331
Авв. 2.9.
(обратно)
332
Соф 1.17.
(обратно)
333
Знаменитый шотландский пудинг. — Примеч. перев.
(обратно)
334
См. Ш.Эксбрайя. Опять вы, Иможен?
(обратно)
335
Место на границе Шотландии, где влюбленные могли повенчаться без всяких формальностей. — Примеч. авт.
(обратно)
336
Преступников.
(обратно)
337
Марсельская тюрьма.
(обратно)
338
Главарь банды.
(обратно)
339
Марсель стоит на месте древней Фокии.
(обратно)
340
Во Французскую Гвиану ссылали каторжников.
(обратно)
341
Ш.Эксбрайя имеет в виду сцену из драмы Ф.Шиллера «Дон-Карлос».
(обратно)
342
Анисовая настойка, сильно разбавляемая водой.
(обратно)
343
Действие происходит в 1963 г. Следовательно, речь идет о старых деньгах.
(обратно)
344
Главная улица Марселя.
(обратно)
345
Рыба довольно устрашающего вида.
(обратно)
346
Рыбная похлебка с чесноком и пряностями.
(обратно)
347
Изящная золотистая рыбка.
(обратно)
348
Провансальский овощной суп, заправленный молотым базиликом.
(обратно)
349
Уменьшительное от имени Селестина.
(обратно)
350
Торчок — жаргонное название наркомана;
кумар — абстинентный синдром, характеризуется сильными болями.
(обратно)
351
Эмблема команды регби Англии.
(обратно)
352
Эмблема команды регби Шотландии.
(обратно)
353
Секта, верующая в скорое возвращение Христа.
(обратно)
354
Секта, отрицающая догмат о триединстве Бога.
(обратно)
355
Блюдо наподобие пудинга из овечьей или телячьей требухи, заправленное овсяной мукой, луком и перцем. Хаггис воспет Робертом Бернсом в известной оде (см. Бернс Р. / Пер. С.Маршака. Изд 5. М., 1959. С 158).
(обратно)
356
Клаймор — шотландский обоюдоострый меч с широким лезвием.
(обратно)
357
Так в тексте, хотя в соответствии с христианской традицией Страстная неделя наступает после Вербного вокресенья. —
Примеч. перев.
(обратно)
358
Квартал Севильи.
(обратно)
359
Хиральда — башня древней мечети, после изгнания мавров ставшая колокольней.
Маэстранс — арена для боя быков.
(обратно)
360
Фрихолес — блюдо из мелкой темной фасоли.
Карнитас — кусочки свинины, поджаренной в масле.
Пульке — водка из магьи (особый вид кактуса). —
Примеч. авт.
(обратно)
361
Алкогольный напиток из сахарного тростника. —
Примеч. авт.
(обратно)
362
«Дядя Пепе» (исп.). Пепе — сокращенное от Хосе.
(обратно)
363
Статуя Святой Девы, дарующей надежду. Стоит в церкви Святого Хиля в Макарене, одном из беднейших кварталов Севильи.
(обратно)
364
Народные испанские танцы и мелодии.
(обратно)
365
Архитектурный стиль, сочетающий мавританские и готические черты. —
Примеч. авт.
(обратно)
366
Обряд миропомазания. В отличие от православных, католики впервые причащают и конфирмуют детей не раньше, чем те постигнут основные догматы христианской религии.
(обратно)
367
Как поживаете, дон Хосе?
(исп.)
(обратно)
368
Сан-Хуан — церковь Святого Иоанна Крестителя.
Ла Пальма — название квартала и одной из площадей города.
(обратно)
369
Известная гостиница. Названа в честь Диего Фернандеса де Кордова, графа де Кабра, который был одним из правителей города и отличался необычайной храбростью.
(обратно)
370
Мечеть была заложена в 785 г. эмиром Абдеррахманом I. В XIII–XVI вв. превращена в христианскую церковь.
(обратно)
371
Американские тюрьмы.
(обратно)
372
Каудильо по-испански «вождь», «предводитель». Здесь явно имеется в виду Франко.
(обратно)
373
Мелкая монета. —
Примеч. авт.
(обратно)
374
Проспект
(исп.)
(обратно)
375
Притоптывание каблуком. —
Примеч. авт.
(обратно)
376
Кофе с молоком. —
Примеч. авт.
(обратно)
377
«Иисус — Великий Владыка».
(обратно)
378
Богоматерь, дарующая надежду.
(обратно)
379
Песня-выкрик без музыкального сопровождения. Ею встречают наиболее почитаемые изображения святых на Страстной неделе.
(обратно)
380
Титул испанских священников.
(обратно)
381
«Прославленным приходом священного братства кающихся Отца нашего Иисуса, безмолвствующего пред судом Ирода, и Святейшей Марии Армагурской»
(исп.)
(обратно)
382
Невыносимое состояние, которое испытывает наркоман, лишившись привычной дозы.
(обратно)
383
Добрый день, дядюшка Пако!
(исп.)
(обратно)
384
В Испании, как и во всех католических странах, Богородицу особенно чтят и к имени девочки часто добавляют один из эпитетов ее святой покровительницы.
(обратно)
385
«Цветы»
(исп.)
(обратно)
386
Марка сигар.
(обратно)
387
Коррида для новичков, где мечтающий стать матадором юноша может показать свое искусство.
(обратно)
388
Мальчик, который неожиданно прыгает на арену, когда выводят нового быка, и дразнит зверя, пока тореро и его помощники не отправят храбреца к уже поджидающим полицейским. —
Примеч. авт.
(обратно)
389
Мужчина, человек
(исп.)
(обратно)
390
Ну, с Богом, Пепе!
(исп.)
(обратно)
391
Сорт мелких анчоусов.
(обратно)
392
Кающиеся.
(обратно)
393
Платформа с балдахином, на которой несут изображения святых.
(обратно)
394
Улица
(исп.)
(обратно)
395
Закуски.
(обратно)
396
Ярмарка! Так же называется одно из предместий города.
(обратно)
397
Приемы работы тореро с мулетой. Разные способы дразнить быка.
(обратно)
398
Удар, которым матадор убивает быка. Досл.: «момент истины».
(обратно)
399
Страстные поклонники и знатоки тавромахии.
(обратно)
400
Уже без четверти два
(исп.)
(обратно)
401
Рис по-валенсийски. —
Примеч. авт.
(обратно)
402
Знаменитая в Севилье тополевая аллея. Получила название из-за установленной там статуи Геракла.
(обратно)
403
Что вам угодно?
(исп.)
(обратно)
404
Для вас, сеньор
(исп.)
(обратно)
405
Скотина
(исп.)
(обратно)
406
Шлюха
(исп.)
(обратно)
407
Проклятые
(исп.)
(обратно)
408
Двойные ломтики хлеба с жареной свининой.
(обратно)
409
Праздничный торт в форме полена.
(обратно)
410
Колбаса с телячьей печенью.
(обратно)
411
До встречи, сеньор Моралес.
(обратно)
412
С большим удовольствием.
(обратно)
413
«Золотой колос»
(исп.)
(обратно)
name=t803>
414
Сумасшедший (исп.)
(обратно)
415
Желаю вам здравствовать, сеньор (исп.)
(обратно)
416
Национальный герой средневековой Испании, центральная фигура испанской эпической литературы Исторический прототип — Руй (Родриго) Диас де Бивар (род. ок. 1099 г. в Валенсии). За доблесть и множество подвигов получил от арабов имя Сид («сеид», «сиди» — господин). Кампеадор — Воитель, Ратоборец.
(обратно)
417
Гамбас — крупные креветки. Адьбондигас — мясные или рыбные тефтельки. Альса чофас релленас — фаршированные артишоки. Эмпанадильяс — рыбные пирожки. Манос де тернера гвисадас — телячьи ножки под соусом. Карне де мербрильо — айвовое желе. Бискочо боррачо — ромовая баба. «Сан Садурни де нойя» — каталонское пенистое вино.
(обратно)
418
Сторож (исп.)
(обратно)
419
Вставай, трус (исп.)
(обратно)
420
Довольно, хватит! (исп.)
(обратно)
421
Богомагерь-миротворица.
(обратно)
422
Богоматерь, увенчанная дроком.
(обратно)
423
Богоматерь, дарующая прощение и надежду.
(обратно)
424
Путеводная звезда.
(обратно)
425
Как поживаете, дон Хосе? (исп.)
(обратно)
426
Матерь Божья (исп.)
(обратно)
427
Кающийся (исп.)
(обратно)
428
Здесь — руководитель церемонии.
(обратно)
429
Узкие длинные пирожки с начинкой.
(обратно)
430
«Христова ладья» (исп.)
(обратно)
431
Здесь: допрос с пристрастием (англ.)
(обратно)
432
«Иисус перед Кайафой».
(обратно)
433
«Страдающий Иисус».
(обратно)
434
Вид плотной ткани.
(обратно)
435
«Христа, испускающего дух».
(обратно)
436
Простите меня, сеньора Долорес, но мне некогда болтать (исп.)
(обратно)
437
Влюбленный, а? (исп.)
(обратно)
438
«Иисус, несущий на плече Истинный крест».
(обратно)
439
«Христос — Спаситель и Наставник на истинном пути» (исп.)
(обратно)
440
«Сретения». Сретение Христа — один из величайших праздников церкви. По обычаю, младенца приносили в Иерусалимский храм на восьмой день после рождения, чтобы, как повелевал закон Моисеев, «представить ко Господу».
(обратно)
441
«Милосердие» (исп.)
(обратно)
442
Черт возьми (англ.)
(обратно)
443
Марка виски.
(обратно)
444
Baratillo (исп.). — «толкучка», «торговля всяким старьем». Вероятно, врач относился к приходу не слишком самостоятельного братства, либо название носит несколько иронический характер.
(обратно)
445
Затворников.
(обратно)
446
«Христа, увенчанного терновым венцом».
(обратно)
447
«Пяти скорбящих», очевидно, по числу ран Христовых.
(обратно)
448
Улочки Влюбленных (исп.)
(обратно)
449
«Молчаливых».
(обратно)
450
«Иисус Всемогущий».
(обратно)
451
At home — домой (англ.).
(обратно)
452
«Вдова» — жаргонное название гильотины (Прим. пер.).
(обратно)
453
In the pocket — в карман (англ.).
(обратно)
454
Да, понимаю! (англ).
(обратно)
455
Self-control — самоконтроль (англ.).
(обратно)
456
Number one — номер один (англ.).
(обратно)
457
Вид американской борьбы.
(обратно)
Оглавление
Шарль Эксбрайа
АЛИБИ НА ВЫБОР
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Огюст ле Бретон
СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
Шарль Эксбрайя
Предисловие
БОЛОНСКАЯ КАДРИЛЬ
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ИДИОТКА
Главные действующие лица:
Предуведомление
Суббота, утро, 6 часов
6 часов 30 минут
7 часов 00 минут
7 часов 15 минут
7 часов 30 минут
7 часов 45 минут
8 часов 00 минут
8 часов 15 минут
8 часов 30 минут
8 часов 45 минут
9 часов 00 минут
10 часов 00 минут
10 часов 30 минут
11 часов 00 минут
Суббота, вечер 12 часов 30 минут
14 часов 30 минут
16 часов 30 минут
17 часов 00 минут
18 часов 00 минут
18 часов 30 минут
19 часов 00 минут
20 часов 00 минут
21 час 00 минут
Воскресенье, вечер
Понедельник, утро 9 часов 30 минут
10 часов 00 минут
10 часов 30 минут
11 часов 00 минут
11 часов 15 минут
Понедельник, 16 часов
16 часов 30 минут
17 часов 00 минут
17 часов 30 минут
18 часов 00 минут
19 часов 00 минут
20 часов 30 минут
21 час 30 минут
22 часа 00 минут
23 часа 00 минут
Вторник, утро 10 часов 00 минут
11 часов 00 минут
12 часов 30 минут
13 часов 30 минут
15 часов 00 минут
16 часов 30 минут
17 часов 30 минут
20 часов 00 минут
21 час 00 минут
Полночь
Среда, утро 0 часов 45 минут
7 часов 00 минут
9 часов 00 минут
10 часов 00 минут
Среда, вечер 17 часов 30 минут
18 часов 30 минут
20 часов 00 минут
21 час 00 минут
21 час 30 минут
22 часа 00 минут
22 часа 30 минут
23 часа 00 минут
23 часа 20 минут
23 часа 30 минут
Четверг, утро
1 час 00 минут
1 час 30 минут
1 час 50 минут
6 часов 30 минут
7 часов 00 минут
7 часов 15 минут
7 часов 30 минут
7 часов 45 минут
8 часов 10 минут
Понедельник, вечер 15 часов
17 часов 00 минут
18 часов 00 минут
18 часов 20 минут
18 часов 50 минут
ПОСЛЕДНЯЯ СВОЛОЧЬ
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Шарль Эксбрайя
НЕ СЕРДИСЬ, ИМОЖЕН
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
ОВЕРНСКИЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ
I
II
III
IV
V
ВЫ ПОМНИТЕ ПАКО?
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
ГЛАВА X
Глава XI
Глава XII
Шарль Эксбрайя
ОПЯТЬ ВЫ, ИМОЖЕН?
Главные действующие лица
Пролог
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
НУ И НАЛОМАЛИ ВЫ ДРОВ, ИНСПЕКТОР
Главные действующие лица
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
ЕЕ ВСЕ ЛЮБИЛИ
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Шарль Эксбрайя
РАНЫ И ШИШКИ
Пролог
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
ЛЮБОВЬ И ЛЕЙКОПАЛСТЫРЬ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
ПОРРИДЖ И ПОЛЕНТА
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
ОЛЕ!.. ТОРЕРО!
Пролог
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Эпилог
ПОЙ, ИЗАБЕЛЬ!
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Шарль Эксбрайя
САМЫЙ КРАСИВЫЙ ИЗ БЕРСАЛЬЕРОВ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
ВЕДИТЕ СЕБЯ ПРИЛИЧНО, АРЧИБАЛЬД!
Главные действующие лица:
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА, ТОНИ!
Пролог
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Эпилог
НАША ИМОЖЕН
Глава 1
Злоключения любви
Глава 2
Форели Мак-Грю и преступление Ангуса
Глава 3
Самоубийство Мак-Клостоу
Глава 4
Обыватели Каллендера
Глава 5
Предательство Иможен Мак-Картри
Глава 6
Инспектор Мак-Хантли начинает сомневаться в себе
Глава 7
Все возвращается на круги своя
Глава 8
Мак-Хантли наконец понимает Каллендер
Шарль Эксбрайя
СЕМЕЙНЫЙ ПОЗОР
Главные действующие лица
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
МЫ ЕЩЕ УВИДИМСЯ, ДЕТКА!
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
НОЧЬ СВЯТОГО РАСПЯТИЯ
Страстное воскресенье[357]
Страстной понедельник
Страстной вторник
Страстная среда
Страстной четверг
Страстная пятница
Страстная суббота
Вербное воскресенье
Святой понедельник
Святой вторник
Святая среда
Святой четверг
Святая пятница
Святая суббота
Сан-Антонио
УБИЙЦА
Часть первая
ЯРМАРКА ОПАРЫШЕЙ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Часть вторая
СВОИХ И ЧУЖИХ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Часть третья
БЕЗ ДУРАКОВ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Часть четвертая
КАЗНЬ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Шарль Эксбрайя
БЕСПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Пролог
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
*** Примечания ***

 Шарль Эксбрайа
Шарль Эксбрайа









 СЕМЕЙНЫЙ ПОЗОР
СЕМЕЙНЫЙ ПОЗОР
 МЫ ЕЩЕ УВИДИМСЯ, ДЕТКА!
МЫ ЕЩЕ УВИДИМСЯ, ДЕТКА!
 НОЧЬ СВЯТОГО РАСПЯТИЯ
НОЧЬ СВЯТОГО РАСПЯТИЯ