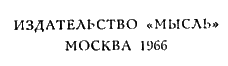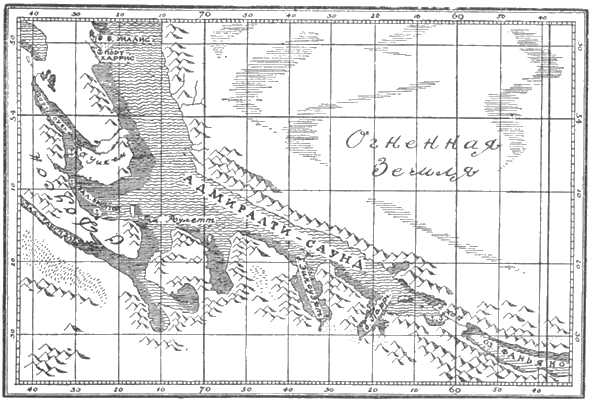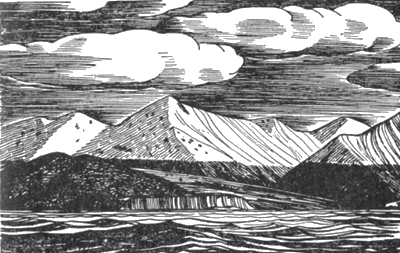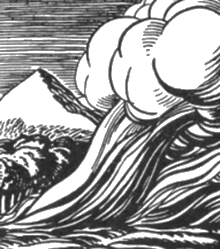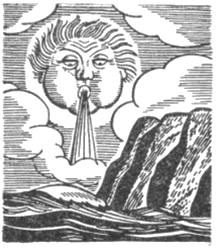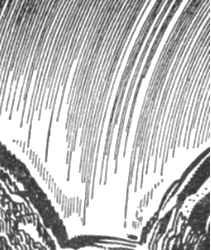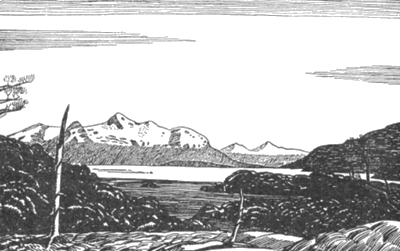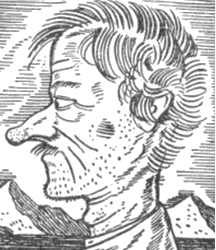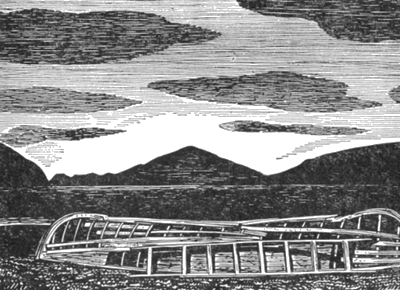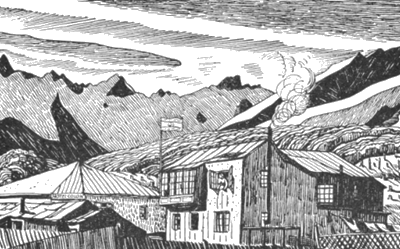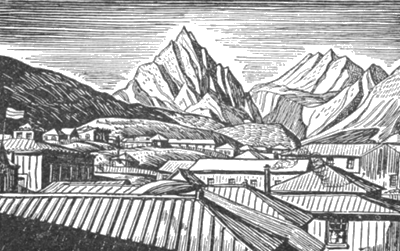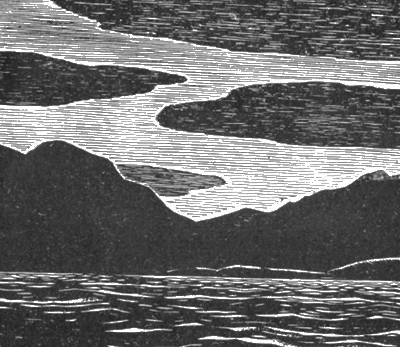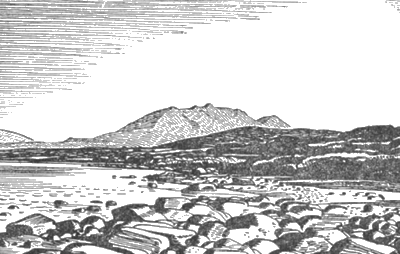Рокуэлл Кент
 ПЛАВАНИЕ К ЮГУ
ОТ МАГЕЛЛАНОВА ПРОЛИВА
ПЛАВАНИЕ К ЮГУ
ОТ МАГЕЛЛАНОВА ПРОЛИВА
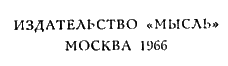
*
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
VOYAGING SOUTHWARD FROM
THE STRAIT OF MAGELLAN
BY ROCKWELL KENT,
with illustrations by the author.
New York., London., G. P. Putnam’s sons. 1924
Перевод с английского M. ТУГУШЕВОЙ и H. ЯВНО
Редакция и примечания H. Я. БОЛОТНИКОВА
М., «Мысль», 1966

Посвящается Кэтлин

Примечания
Перевод этой книги Рокуэлла Кента, так же как и репродукции его рисунков, сделаны с американского издания: Voyaging southward from the of Magellan by Rockwell Kent with illustrasion by the author. New York. London. G. P. Putnam’s sons. 1924.
На русском языке книга выходит впервые. Главы I–XIV переведены М. П. Тугушевой; главы XV–XXIV — Н. Я. Явно. Стихи перевел Н. В. Разговоров.
Редакция перевода и примечания Н. Я. Болотникова. Морская терминология отредактирована Н. Г. Морозовским, им же составлен словарь морских терминов.
ПИСЬМО АВТОРА РЕДАКТОРУ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ К СОВЕТСКОМУ ИЗДАНИЮ
Дорогой друг!
ПРОЯВЛЕНИЕ Вашей дружбы, выразившееся в содействии переводу на русский язык и изданию нескольких моих книг, подтверждает мое давнишнее предположение или, если хотите, веру в то, что все сделанное мной в области живописи и литературы по сути своей было каким-то страстным поиском друзей, призывом к дружбе. Вот почему это предисловие к моей книге «Плавание к югу от Магелланова пролива», написанное в эпистолярной форме, я рассматриваю как письмо ко всем моим советским друзьям и к тем, кто, прочитав мою книгу, надеюсь, станут ими.
Если с детстве я действительно мечтал стать художником, то мое писательство началось столь же непреднамеренно, как непреднамеренно появляется пушок на щеках юноши. Меня рано отдали в закрытую школу, далеко от родного города. Оттуда я исправно писал матери и друзьям. Знаю, что эти письма были очень скучными. Но вот наконец я вырос и отправился бродяжничать. Порой мои странствия заводили меня за тридевять земель. Однажды, например, вместе с сыном — тогда ему было всего только восемь лет — я очутился на одном чудесном острове близ побережья Аляски. Путешествуя, я писал письма, предназначенные для семьи и круга близких друзей. Вот из этих-то посланий, написанных в форме дневника и не подвергнутых буквально никаким изменениям, и сложилась моя первая книга «В диком краю. Дневник мирных приключений»
[1].
Гонимый все той же страстью колесить по свету, устав от шума, суматохи и развлечений Нью-Йорка, я отправился в «худшее место земли», как часто называют район мыса Горн. Я спрашивал себя: неужто там может быть хуже, чем в Нью-Йорке? Именно этому моему приключению и посвящено «Плавание».
В дороге я вел дневник, а по возвращении написал книгу, в которую включил значительную часть дневника. Я обнаружил, что мое воображение куда менее увлекательно, чем сама жизнь. Быть может, об этом стоит пожалеть.
Но теперь, дорогой друг, я сделаю небольшое отступление (манера делать отступления, к несчастью, стала моей привычкой). Я отвлекусь от «Плавания», чтобы признаться в следующем: всю свою жизнь — как художник, как писатель, просто как человек — я испытываю раздражение всякий раз, когда слышу одно из самых кичливых заявлений моих соотечественников. Я имею в виду разговоры о пресловутой «свободе самовыражения в искусстве».
Спору нет, человек выражает себя во всем: в искусстве, которым он занимается, в том, что говорит и делает, даже в том, как сидит или стоит, как ходит или двигает руками. Но говорить, что человек сознательно мотивирует все эти акты самовыражения, — значит свести на нет их непосредственность. Вообразите, если можете, человека перед лицом благородной и величественной природы. Что, кроме предельного самозабвения, можно ждать от него в этом случае? В такие минуты — сколько раз я это испытал! — мы исполнены благоговения и уподобляемся Кортесу Китса
[2], который, как писал поэт,
…устремил свой орлиный взор
на Тихий океан, и все его люди, притихши
и охваченные какой-то смутною догадкой,
молча глядели на вершину Дариена.
Только превознесением нарочито безответственного «самовыражения» можно объяснить появление и развитие того предельно непонятного художественного стиля, который принято называть абстракционизмом. Искусство есть социальная функция, и все разглагольствования о том, что художник хотел выразить, должны отступить на задний план перед тем, чего хочет и что понимает народ, что нужно народу для того, чтобы его существование, вся его жизнь стали богаче.
Я говорил о самозабвении, внушаемом величием природы. Не раз я убеждался в этом, посещая различные страны. Очень хорошо сказал об этом блаженный Августин
[3]: «И люди пошли туда и залюбовались высокими горами, широкими морскими просторами и могучими потоками, низвергающимися в долины, и океаном, и движением звезд — и позабыли о себе».
Именно в порыве такого самозабвения я и писал свое «Плавание». Этим порывом, как мне верится, пронизано все, что я совершил.
Мои советские друзья, вероятно, помнят, что несколько лет тому назад я передал в дар вашему народу много своих картин. После их показа в Москве настал час отъезда. На вокзале нас провожали десятки людей. Моя жена Салли и я простились с друзьями и поднялись на ступеньки вагона. Вот-вот поезд должен был тронуться. И внезапно какой-то человек в одежде рабочего стал пробиваться сквозь толпу.
— Спасибо вам, мистер Кент! — прокричал он на хорошем английском языке. — Спасибо за то, что вы привезли русскому народу Гренландию!
Никогда не забуду его слов! Так вот что значили для него мои картины! Ведь я всегда только того и хотел, чтобы в моих картинах любили не искусство, а изображенный в них живой мир, саму Жизнь.
А ведь Жизнь — это единственное, что действительно стоит принимать всерьез. Так было всегда и во всем, что я делал, — и в изобразительном искусстве, и в книгах. Я пытался лишь воспроизводить Жизнь, доносить ее красоту до сознания, души и сердца других людей. Спасибо же тебе, незнакомый, но дорогой мне москвич! Спасибо за твои прощальные слова!
Искусство только средство, в лучшем случае самое убедительное и впечатляющее средство, помогающее человечеству глубже осознать скрытую в нем возможность быть счастливым. И пусть самым подлинным и окончательным «самовыражением» всех людей станет их любовь к Жизни, любовь к вечному, нерушимому и всеобщему Миру.
Преданный Вам
Рокуэлл Кент[4]
Озэбл Форкс, Нью-Йорк, США
10 мая 1965 г.
ВСТУПЛЕНИЕ

В ЭТОЙ повести рассказывается о всевозможных проходимцах и головорезах. Из-за напастей, которые преследовали их на родине, или в силу природной необузданности нрава они бежали за границу и нашли там единственное пристанище, где земля могла еще выносить их присутствие. И так как место действия этой истории — наихудшая из окраин нашего мира, то, можно предположить, и люди, там обитающие, — самые отвратительные отбросы человечества, закосневшие во зле подонки. Среди них людоеды, браконьеры, солдаты, буяны, миссионеры, губернатор, один-два душегуба, сын священника и представитель секты трясунов.
Часто автору трудно, в сущности невозможно писать о себе самом. Те, кто пишут книги о путешествиях, в силу установившейся традиции делают вид, что сами они рыцари без страха и упрека, и не очень-то охотно нарушают эту традицию, стремясь сохранить благожелательное внимание добродетельного читателя.
И все-таки нет-нет да и найдется среди них чуткий к зову правды писатель, избегающий такой наглой, бесстыдной лжи. Вот и я решил громогласно и в то же время благоразумно признаться в своих прегрешениях в этом обособленном и не слишком часто посещаемом месте, каким является предисловие к книге. Здесь, где любопытный прохожий, быть может, случайно остановится, чтобы послушать, как я бью себя в грудь и, по хорошему русскому обычаю, взываю: «Слушай! Слушай! Я — тот, кто на протяжении двадцати четырех глав «Плавания» выставляет напоказ свои добродетели, — на самом деле обманщик и лицемер. Я — грешный человек».
И в доказательство этого (как похвальба своими добродетелями свидетельствует о безнравственности, так и безнравственность требует доказательств) я предупреждаю читателя об одной неясности во второй главе этой книги. В ней пространно описывается наша бедность и то, как рука дающего щедро снаряжает меня и моего помощника, но ни слова не говорится, как и где мы заполучили продукты для многомесячного путешествия. Где мы их раздобыли, я не скажу, потому что к этому делу оказались бы причастными некоторые высокопоставленные лица, но я сознаюсь, как мы их достали. Мы стащили их.
Стащили мы их за три набега.
В первый раз мы зацепили двести фунтов сахара (его владелец Хосе Крус, ставший впоследствии моим близким другом, широко откроет глаза и, конечно, не закроет своего сердца, услышав это признание), четыреста фунтов муки, двести фунтов кофе, десять фунтов чая, двадцать пять фунтов бобов, шесть бутылей кетчупа, ящик сгущенного молока и еще много разных разностей, всего не упомнишь. Все это мы уволокли среди бела дня.
Второй набег был совершен в темную полночь. Мы обнаружили тайный склад деликатесов, украденных и припрятанных вором, выжидавшим случая, чтобы увезти их подальше.
«Несчастный вор!» — воскликнули мы.
Мысль, что в данном случае два зла сделали одно несомненное добро, доставила мне некоторое удовлетворение. Не теряя времени на разглядывание находки, мы нагрузили мешки и перетащили их из укрытия в наш шлюп. Как же мы обрадовались, когда обнаружили, что в нашу собственность перешли двадцать одна банка солений (местного изготовления и привозных), двадцать банок сладких маринадов, одиннадцать банок клубничного варенья, семь банок и две жестянки мармелада, тридцать семь банок консервированных фруктов, девять банок черного перца и семнадцать банок пряностей.
Третье по счету предприятие вызвало у меня некоторые угрызения совести. Продуктов у нас накопилось больше, чем можно было съесть или обменять, но мы уже набили руку и не могли остановиться. Дальнейший грабеж принес нам больше муки, изюма, чернослива, грецких орехов и т. д. А кроме того, еще две дюжины маленьких и десять больших ракет, двадцать лоцманских, красных и синих, две дюжины свинцовых брусков и шесть больших бутылей лимонного сока.
Этим поступком, рассматривая его как явление, характеризующее только меня одного, я бы мог и закончить свое признание. Но чтобы не оставалось ни малейших недоразумений относительно общественной стороны сего поступка, я напоминаю, что после некоего вечернего увеселения на островах Уолластон я проснулся с памятной зарубкой на носу.
Те, кто прочтут вышесказанное, могут заинтересоваться подобно моему очень хорошему и разумному другу американскому консулу в Пунта-Аренасе
[5], почему автор все еще на свободе. Тем не менее это легко объяснить. Кроме присущего мне искусства и чудовищной силы моего спутника нам благоприятствовали неизменные доброта и щедрость тех, с кем нас сводили приключения. Снова и снова я выражаю благодарность тем, чьи имена перечислены ниже:
Капитану парохода «Кураса» И. X. Канну, офицерам Риду, Эсдону, Кавагану и корабельному плотнику.
Хорге Инену из Пунта-Аренаса.
Его превосходительству В. Фернандесу, губернатору Магеллановых земель, Остину Брэйди и капитану Делано; сеньорам Соренсену, Виллумсену, Курцу, Алонсо, Бабю, Холку, капитану Уилсону, капитану Грезу и капитану Джеку.
Капитану «Онеиды», Морскому Волку, младшему машинисту «Лонсдейла», Французику и коку.
Сеньорам Моррисону, Марку, Гарезе и Браво с Доусона. Сеньорам Мюлаху, Лоуренсу, Лундбергу, Нильсену из Тьерра-дель-Фуэго и Антонио, Кудрявчику, Франсиско, Кристоферсону, Нана и Заротти.
Васкесу с островов Уолластон.
Капитанам Даньино и Акеведэ из Талкухуано.
Моему брату Эдуарду Сильва Руису с «Чилое».
Капитану Нильсену и м-ру Пеннингтону с «Талумы», Виолетте и Чилийской Розе.
Бэйярд Бойезен
О НАЧАЛЕ НАЧАЛ
Кто спросит, в час какой
Мы, сотворенные деяньем,
И алый, словно кровь, поток людской
Столкнемся и потом
Пойдем одним путем?
Кто знает, в час какой?
И утра глубина
Открыта нам до дна,
И светят по ночам
Огни блаженства нам.
А вы, что без конца всю жизнь
Из года в год
Руинам и вещам вести привыкли счет,
Что знаете о нас, которым с детских лет
Дороги озарил жемчужный звездный свет?
Загадки жизни, прочь!
Какое дело нам?
Отчаянье и смерть
Заплатят по счетам!
Смеяться любим мы под грохоты лавин,
И ветер мчит наш смех к далеким очагам.
Мы утром на заре под парусом скользим
По вспененным волнам.
Но зори, паруса — не поклоняться ж им?
До зорь и парусов какое дело нам?
Загадки жизни, прочь!
Пошли ко всем чертям!
Отчаянье и смерть
Заплатят по счетам.
А что такое жизнь,
Какое дело нам?
А в жизни по плечу
Найти бы дело нам!
ГЛАВА I
ПОЧЕМУ И ГДЕ

ВПЕРВЫЕ после нескольких месяцев лихорадочной работы я сделал перерыв. Труд, бесчисленные лишения и препятствия, заботы, связанные с недостатком средств, — все должно было окончиться в этот день вместе со спуском на воду моего бота с палубы судна. Смеясь, я вытер грязные руки о ветошь, швырнул ее за борт и с чувством превосходства взглянул на толпу, сгрудившуюся около фальшборта, где висел над водой бот.
— Эй, древняя неповоротливая развалюха, можешь ли ты вспомнить о таком же скопище народа на твоей палубе? Когда ты горделиво спускалась на волны, присутствовали при этом губернаторы и капитаны, богачи, умники и красавицы? Здесь, на самом дальнем юге Южной Америки, была весна и на щеках девушек из Пунта-Аренаса пылали такие яркие розы, которые расцветают лишь на холодном и соленом морском ветру. Какими красивыми казались дамы в ослепительных пышных нарядах на этой грязной, ржавой железной палубе, на фоне широких голубых просторов Магелланова пролива! И как прекрасен был мир, весь осиянный молодым сентябрьским солнцем, как вспыхивали в его лучах белизна и пурпур флагов, развеваемых упругим западным ветром, ветром юности и веселья! А на закрытом люке, застланном белоснежной камчатной скатертью, стояли хрустальные бокалы и шампанское. Чудесное, благоухающее шампанское! Мы смеялись от счастья. Это были крестины моего бота.
Мы вспоминали другую весну, полный разгар весны пятью месяцами раньше. Май в Нью-Йорке. Тот же самый западный ветер очистил небо; на городских небоскребах тени последних облаков, скользящих в глубокой синеве. Солнце посылает на землю такое ласковое тепло, что каменные громады зданий не в силах удержать свое живое сокровище — людей, и вот уже мостовые — сад, кипящий красотой и весельем жизни. Весной Нью-Йорк — рай, эдем, неизмеримо более счастливый и прекрасный, чем тот, о котором когда-либо мечтали аркадские пастушки. Плод счастья и мудрости висит на столь отягощенных ветвях, что не нужно никакого искусителя: плод сам искушает. Здесь нет ни врат, ни стен, ни херувимов с огненными мечами, чтобы грозить и изгонять. Но на этом пиру счастья сердце кричит на весь мир о своем отчаянии, о своей злой судьбе и одиночестве.
Как неприметно, неслышно истощается мера душевной выносливости. Вот волна уже поднялась над краем, помедлила мгновение и бурно выплеснулась в широкий, свободный поток действия. Сейчас вы еще связаны всем образом вашей жизни и мыслей. В следующий момент безошибочное движение души — и вы свободны. Как упоительна радость освобождения от горя и счастья, толпы и покоя, неудач и успеха, от постоянно возвращающегося избытка чувств, от всего чрезмерного! Человек всегда будет искать одиночества, стремиться в самые отдаленные, забытые богом пустыни, чтобы в тяжелых испытаниях вновь обрести свободу.
Часа не прошло, как я принял решение ехать, а у меня уже было место конторщика на грузовом судне, отплывающем на крайний юг Южной Америки, к самым скудным и заброшенным местам, о которых кому-либо приходилось слышать или читать. Не потому ли, что я любил холод, заброшенность и пустынные края? Трудно объяснить.
Рассказы о приключениях и кораблекрушениях, о долгих месяцах борьбы с ветром и морем, которые бушуют у мыса Горн, о водяных горах в полмили вышиной, обрушивающихся с грохотом на гранитные берега, придавали этому месту под названием Кладбище моряков волнующее очарование ужаса.
И в то же время об этом крае почти ничего не известно. Продавец книжного магазина, у которого я спросил карту Тьерра-дель-Фуэго, посмотрел на меня с высокомерным презрением и сказал, что никогда не слышал о таком названии. Нет, не у сухопутных жителей надо спрашивать о нашей земле. Для них весь свет лишь те перенаселенные клочки суши, которые, как рифы, преграждают широкий морской путь. Зато я сразу же нашел, что искал, в маленькой лавчонке на набережной и по морской карте, обладавшей той четкостью контуров, какие есть лишь у морских карт, узнал, что вопреки моим первоначальным предположениям Тьерра-дель-Фуэго — земля, а не море.
И, словно из опасения, что дух бродяжничества во мне не будет потревожен такими именами и названиями, как Магеллан, Тьерра-дель-Фуэго и мыс Горн, здесь завлекательно теснились другие, вроде Фамин-Рич, Дезолешн-бей и Ласт-Хоуп-Инлет
[6]. Намекая на всякие ужасы, они предупреждали потерпевших кораблекрушение моряков о «жестокости туземцев» и подтверждали самые страшные легенды об этих местах. Я окончательно укрепился в решении отправиться туда.
В сутолоке, волнениях и спешке приготовлений три недели пролетели, как одна. Наконец, упаковав краски, холст, кисти, бумагу, чернила, палатки, одеяла, груды старой одежды, обуви и флейту, с семьюстами долларами в кармане, я готов. Был конец мая, канун отплытия. Полночь, проливной дождь, угрюмая набережная, загроможденная штабелями иноземных грузов, вавилонское смешение звуков, раздающихся в сонной, сырой, таинственной мгле; здесь, среди дорожного чада и шума, покинутые любовь и дружба казались прекраснее, чем всегда.
Мы снялись с якоря. Миновали Хук
[7]; земля утонула вдали. Жизнь моя стала воспоминанием; будущее надвигалось на судно, мерцало и пенилось, бурлило в кильватерной струе. Единственной мерой времени была смена дней и ночей. Они проходили незаметно, с умиротворяющим однообразием, словно растворяясь в обманчивой быстроте, с которой сменяли друг друга времена года, по мере того как на протяжении шести недель и семи тысяч миль пароход увлекал пас к югу от северной весны, через цветущее лето экватора в июльскую зиму Магелланова пролива.
Когда земля исчезает из виду, корабль в море уподобляется звездному телу, вращающемуся по предназначенной ему орбите в текучей беспредельности океана. Он порывает все многочисленные житейские связи — они существуют только в памяти плывущих. Поле деятельности ограниченно, и ум обращается к созерцанию или размышлениям; настоящий рассказ о морских путешествиях и должен быть рассказом о призрачных фантазиях почти не сознающего действительности разума, который внимает усыпительно-монотонным вздрагиваниям корпуса судна, прозрачному журчанию воды, омывающей его борта, бесконечным ритмичным колебаниям носа судна и равномерному бурлению за кормой. Вспоминаешь обо всем этом, как о длительном и неизменном благополучии.
Эти страницы, посвященные затянувшемуся приключению, не содержат воспоминаний о дружеских узах, которые могли стать неразрывными благодаря времени, обстоятельствам и, главное, однообразию окружения. В них говорится о дружбе как следствии необычного, но очень реального и напряженного испытания, называемого путешествием.
Я приношу здесь благодарность капитану Канну из Новой Шотландии
[8] и старшему помощнику капитана с пиратского судна «Пензанс» мистеру Риду. Но о третьем помощнике капитана, с которым меня связала во время странствий не столько дружба, сколько тесное товарищество, следует сказать сразу же. Хотя я пишу, пользуясь великодушным разрешением рассказать историю его жизни и о нем самом с совершенной откровенностью, все же, когда я обращаюсь к обстоятельствам его происхождения и раннего детства, мне мешает окутывающий их покров тайны, который он скорее из сдержанности, чем из стыда, за все восемь месяцев нашего содружества никогда не позволил себе приподнять.
Оле Иттерок родился в Тронхейме, в Норвегии. В четырнадцать лет он ушел в море на судне, которым командовал его отец. Этот моряк, по-видимому, был капитаном старого закала. Он добился своего положения тяжелым трудом и решил сделать из Оле человека, подвергая его нужде и лишениям. Два или три месяца мальчик терпел побои, а потом в одном из иностранных портов сбежал. Оле никогда больше не видел отца, который умер спустя несколько лет после побега сына. Сын проклял его, расставаясь, и даже память о нем была ему ненавистна.
В жизни Оле много было подобных приключений. Я уж не помню, каким образом и сколько раз он бегал с кораблей и в скольких иностранных портах дебоширил, обретая свою украденную свободу. Он дважды убегал с судна по прибытии на Борнео, и оба раза его ловили. Очевидно, именно в тот период его жизни — по моим расчетам, после возвращения в Норвегию — он оказался замешанным в каком-то сомнительном деле. Это навсегда сделало его отверженным, по крайней мере он сам так считал и горько из-за этого сокрушался.
Дезертировав в Сиднее, он нанялся на грузовое судно, идущее в Гуаякиль
[9]. Все матросы и офицеры, кроме двоих, были негры, и с Оле обращались очень жестоко. По прибытии в Гуаякиль он немедленно сбежал. Тогда ему уже было двадцать лет, и он завербовался в революционную эквадорскую армию, сразу получив звание лейтенанта. Во время уличных боев Оле ударили по рту железным ломом и выбили почти все зубы. Немного спустя он заболел тифом, и его отправили в гуаякильский военный госпиталь. Выздоровев, он сбежал из госпиталя и в компании с другим дезертиром спустился на плоту по реке Гуаякиль, страдая в пути от голода и жары. Еще несколько сот миль до Кальяо
[10] он и его спутник прошли босиком вдоль берега по раскаленному песку. Снискав дружеское расположение английского консула, он получил визу на въезд в Европу.
Тем временем, понаторев в мореходном искусстве, Оле получил диплом старшего помощника капитана и до конца войны служил в этой должности на трех норвежских пароходах, которые погибли один за другим. Однажды во время гибели парохода его ранило в лицо осколком торпеды, и это еще больше его обезобразило. Затем он некоторое время служил помощником капитана на четырехмачтовой американской шхуне — кажется, до тех пор, пока ее не потопили. Оказавшись в Нью-Йорке без денег, он вступил в переговоры с администрацией фирмы, занятой изготовлением спасательных лодок, насчет кругосветного путешествия в их двухвесельной посудине. Но он так проявлял свою безрассудную храбрость, что потерял доверие представителей фирмы, и дело расстроилось. Вот в главных чертах вехи жизни Оле Иттерока до нашей встречи. Ему исполнилось к тому времени двадцать шесть лет, и он служил третьим помощником капитана на «Курасе».
В Оле было пять футов восемь дюймов росту, весил он сто пятьдесят шесть фунтов. Окружность груди — сорок два дюйма. Черные волосы густыми прядями ниспадали на лоб. Глаза узкие, голубые, рот безобразно изуродован. Однако его топорное лицо иногда светилось такой добротой, что становилось просто красивым.
Когда я прибыл на пароход, Иттерок нес ночную вахту.
— Сумасшедший, — сказал он обо мне, услышав от кого-то, зачем и куда я отправляюсь. Через три дня он сам предложил себя в качестве спутника.
— Но я не смогу вам платить: у меня нет денег, — предупредил я.
— А я и не позволил бы вам платить, — ответил Оле.
И мы, захваченные заманчивым и практически выполнимым проектом, склонились над картами, обсудили все возможные и невозможные случайности путешествия. Мы достаем спасательную шлюпку, настилаем на ней палубу, ставим мачту и парус, направляемся из Магелланова пролива через расположенные к западу и югу от Тьерра-дель-Фуэго проливы с многочисленными гористыми островками к мысу Горн и огибаем его. Вполне возможно, что мы потерпим кораблекрушение, утонем или нас съедят людоеды, однако мы ударили по рукам.
В середине июля мы вошли в Магелланов пролив. Была ночь, и мы едва могли разглядеть темный плоский берег. Большая часть команды спала, когда, увлекаемые приливной волной, мы проскочили через Первый и Второй проливы и вошли в Брод-Рич. Проснулись от стука лебедки. Было ясное, голубое утро. Завывал ветер. Мы стали на якорь у Пунта-Аренаса.
Когда видишь эту гавань в первый раз, то диву даешься: словно машина времени перенесла тебя на пятьдесят лет назад. Перед тобой славное морское прошлое. Смотришь и глазам своим не веришь: вот они, корабли и барки. Где ты, в каком порту? Но, вглядевшись, замечаешь, что с судов все ободрано, реи спущены, мачты сняты, что это негодные для плавания суда.
За кораблями виднеется густонаселенный город. Это раскинувшийся на милю в окружности на широкой угрюмой, кое-где повыжженной равнине торговый город с большими магазинами, литейной мастерской, верфями, деловыми кварталами, церквами, одноэтажными домами и небольшими лавчонками.
Дул штормовой ветер, и было трудно дышать. Мы с помощником напряженно вглядывались в даль Сиял золотисто-голубой, ветреный, брызжущий светом юный день.
Мы уже стояли на пороге нового бытия, и перед нашим мысленным взором мгновенно пронеслась вся наша прежняя жизнь. Одинокие искатели приключений в чужой стране, победители без меча, мореплаватели без судна, с непомерными запросами, тощим карманом и не знающие друзей. В едином порыве мы повернулись, и в слезящихся от ветра глазах другого каждый прочел глубочайшее волнение.
Два дня, проведенные на «Курасе» в гавани Пунта-Аренас, запечатлелись в моей памяти как один долгий праздник. Я радовался предстоящему отъезду и был счастлив добрым отношением ко мне. Однако грусть разлуки была сильней, потому что за время долгого путешествия судно стало для нас домом, а друзья на борту— родными. И болезненное чувство утраты в ту темную ночь заглушало предвкушение перемены. О господи! Вспомнить только ту суматошную темную ночь в гавани, беспорядок, гам, сутолоку на судне, пьяные тосты, прощальные слова, смятение чувств, когда боль переходит в ощущение счастья, а счастье разрешается слезами. Поднимают якорь: «Эй, на буксире! Прощайте!» Мы уходим. Ширится полоска черной воды. В ней сполохами отражаются судовые огни. Из освещенного пространства мы вступаем в такую кромешную тьму и одиночество, что кажется, наступил конец света.
ГЛАВА II
ПЛЫТЬ ИЛИ В ТЮРЬМЕ БЫТЬ?

ПРОШЛА неделя, и мы попали в дружеские объятия Чили. Оказалось, это немаловажное дело — поддержка лучшего капитана в Пунта-Аренасе. Замешательство и неловкость, что мы должны были испытывать, появившись среди незнакомых людей в роли путешественников-сумасбродов, быстро исчезли благодаря искреннему доброжелательству и беспримерной щедрости, с которыми к нам отнеслись. Самым полезным для нас человеком в этих новых местах оказался Хорге Инен — морской агент крупнейших пароходных компаний в порту. Это был молодой человек незаурядной внешности, одаренный способностью по-человечески разбираться в людях и понимать их, добросердечный и не лишенный воображения. Он сразу же составлял представление о человеке, и его симпатия подкреплялась постоянным доверием и активной помощью.
В первый же наш разговор он подверг меня детальному, но отнюдь не враждебному допросу и наконец величественно изрек:
— В любое время, что бы вам ни понадобилось, приходите и просите.
В итоге оказалось, что мне нужно очень многое, но ни в чем — ни в малом, ни в большом — я не получал отказа. И если путешествие к югу на собственном, хорошо экипированном боте я с подобающей скромностью отношу в какой-то мере за счет и наших упорных усилий, то в несравненно большей степени мы обязаны этим дружескому участию Инена и тех, с кем познакомились благодаря ему. В первый же день по прибытии для нас подыскали шлюпку, и главная наша проблема была решена.
Когда спустя несколько дней мы с помощником сидели в уютном плавучем жилище и рассуждали об этом негаданно привалившем счастье, нам, незадачливым авантюристам, вдруг получившим в руки все козыри, показалось, что мы похожи на Короля и Герцога из «Гекльберри Финна». И что если нам еще больше повезет, то разъяренная толпа набросится на нас и выгонит из города. Но недели шли, а нас все не выводили на чистую воду, нас чествовали, и поэтому, как и следует самозванцам, мы поверили, что в самом деле являемся Королем и Герцогом милостью божьей. А вот вам картина того, что собой представляла наша жизнь.
В гавани Пунта-Аренас ночь. Старое судно «Лонсдейл» тихо покачивается на мертвых якорях. Мы оба спим в давно пустующей капитанской каюте, обставленной мебелью красного дерева. Наступает утро. Мы просыпаемся еще затемно, зажигаем лампу и одеваемся. Я ощупью поднимаюсь по трапу в колючий холод. Выпал снег, и мои шаги звучат приглушенно на железной палубе.
Сквозь низко нависшие облака прорывается к черной воде золотистый рассветный луч. Над судном, окутанным сумраком, светятся штаговые огоньки. В домах мерцают лампы — это поднялись ранние пташки. Полная тишина. Ковшом зачерпываю ледяную воду из бочки, умываюсь и, дрожа от холода, бегу вниз. В кают-компании старого судна слабый свет качающейся лампы теряется на серых от грязи палубе и подволоке, на темных стенах и в углах, где в беспорядке навалены корабельные снасти. Пузатая железная печка раскалилась докрасна. Мой помощник закончил уборку, и, пока мы подвигаем маленький стол к огню, на нас оседает облако пыли. Кок приносит кофе. Хорошо! Зимний Магелланов пролив, холодное, еще темное утро, а мы посиживаем, поджаривая у огня ноги и бока, и согреваем нутро дымящимся кофе.
Тяжелая шлюпка колотится о бок нашего судна, грохочут ступеньки штормтрапа о железные борта, раздаются людские голоса, стук грубых сапог на палубе. Все это возвещает, что пробило семь и начался рабочий день. Два плотника на палубе докладывают о ходе работ. У правого борта, на шлюпблоках, стоит закрепленное в прямом положении наше суденышко, купленное мной. Это спасательная шлюпка с потерпевшего крушение «Бикон-Г рейнджа».
Длина ее — двадцать шесть футов, ширина — восемь футов шесть дюймов, глубина — три фута и один-два дюйма. Она типа вельбота, с клинкерной обшивкой на легких изогнутых шпангоутах. Нос ее был расколот, семь досок проломлены и прогнили; шлюпка покоробилась, пересохла, как кость, в бортах зияло множество дыр. Небрежной фабричной работы, с кницами и креплениями, выпиленными из прямослойного дерева, — вот какая была у нас шлюпка — настоящая развалина. Я купил ее за двадцать долларов.
С тех пор все время, когда мы были на ногах, — в будни, воскресенья, праздники, с рассвета до отхода ко сну, в солнце, дождь, снег, ветер, — мы трудились над нашим суденышком. Заменили поврежденные доски в бортах на новые, приделали ей крепкий высокий киль из твердого дерева и обили его железом, достали лес для палубы и каюты. Место нашей кипучей деятельности напоминало судостроительные верфи: тук-тук-тук стучал молоток по клепке, жужжала пила, раздавался гром падающих досок, звучно бил кузнечный молот по наковальне, шипели паяльные лампы, противно скрипел скребок по гвоздям и песку. Вот так в снег и слякоть, в проливной дождь и мороз, с окоченевшими руками и холодными, как лед, ногами, с песней и смехом мы работали в течение долгих дней, складывавшихся в недели, в месяц и в два, и эта работа была единственной темой наших разговоров, воздухом, которым мы дышали, нашей жизнью. Жили мы на борту нашей посудины «Лонсдейл» по-королевски: семь раз на день ели разнообразнейшие блюда, и все из баранины, а постели нашим усталым телам казались пуховиками, набитыми сновидениями. И все же старый «Лонсдейл» напоминал сумасшедший дом. Это было скопище людских отбросов, людей, еще живущих какой-то тщетной надеждой или уже утративших ее, людей, для которых все было позади.

«ЛОНСДЕЙЛ»
На судне кроме нас было еще четверо. Они занимали помещения, бывшие когда-то каютами помощников капитана. Эти люди пьянствовали. По вечерам все они поодиночке запирались в своих каютах, за исключением старого француза, неизменно составлявшего нам компанию в долгие вечера. Французик был мирный, непьющий человек, остальные же в зависимости от состояния добры и благожелательны или тупо безразличны. От постоянного безделья эти неудачники погрязли в бесплодной мечтательности или овечьем смирении.
На судне пили мало, но иногда случались оргии, о которых потом вспоминали целую неделю. Вот, например, вечер, дающий представление о подобных празднествах.
Грохот. Рев ругательств. Опять грохот, что-то тяжелое падает на пол. Звон разбитого стекла. Молчание. Внезапно распахнутая дверь хлопает о деревянную обшивку стены. Кто-то грузно шагает по коридору и входит в другую каюту. Голоса, шум отодвигаемых стульев, рев, затем злобный хохот — и Французик шмыгает в нашу каюту. На его круглом розовом лице ужас маленького затравленного зверька. Он молчит и, доставая колоду карт, лихорадочно раскладывает пасьянс. На миг наступает затишье. Затем мы слышим, как кто-то огромный тащится по коридору к нам, спотыкаясь и отвратительно бранясь. В двери, занимая весь проем, стоит громадный, как носорог, норвежец. У него грубое, топорное лицо, круглые водянистые серые глаза, воспаленные веки и мешки под глазами. Он рывком подтягивает брюки и вторгается в каюту, словно корабль па всех парусах.
— Добрый вечер, господа, — говорит он подобострастно и в то же время вызывающе. И опускается на скамью. Французика и след простыл.
Норвежец что-то бормочет с бессвязностью сентиментального пьяницы и затем более разборчиво говорит:
— Господин Кент, или капитан, или король, как там вас, я вот напился, и все…
Пока он собирается с мыслями, чтобы продолжить свою речь, его пальцы шевелятся, словно он играет на пианино.
— Вот я что хочу сказать, — выпаливает он с внезапным раздражением, делая неимоверные усилия, чтобы сосредоточиться. — Нам не нужны американцы на борту, понимаете? И скоро здесь будет небольшая перестрелка.
Не желая с ним связываться, я пытаюсь все это время думать лишь об очень сложном рисунке, которым и занимаюсь. Я не гляжу на норвежца. Он продолжает:
— Я сильнее всех на судне, я сильнее всех в округе, я могу бросить…
Но мой помощник уже на ногах:
— Встань, ты, мразь несчастная, пузатый желтушный задавака, встань сейчас же, и я тебя положу на обе лопатки, не успеешь глазом моргнуть…
— Неужто ты и вправду так сделаешь? — вопрошает громадина очень жалобным голосом.
— Можешь прозакладывать свою никчемную жизнь, — рычит от ярости мой помощник.
— Да, — говорит силач едва слышно. — Наверное, ты смог бы это сделать. — И, словно состарившись и устав от жизни в одно мгновение, силач поднимается и уходит.
А тем временем бежали недели, работа близилась к концу и все никак не кончалась. Начинал беспокоить не только недостаток времени, но и приближающиеся платежи. Хотя жизнь на «Лонсдейле» нам ничего не стоила, каждую субботу вечером надо было расплачиваться с рабочими и оставлять немного денег про запас на всякие расходы, возникающие по мере перестройки шлюпки. Были неожиданные траты и во время наших визитов на берег: например, в копеечку влетавшие периодические загулы моего помощника, пока я не положил им конец, а также весьма дорого обходившаяся нам знаменитая общительность жителей Пунта-Аренаса.
«У обитателей «Кампо» есть закон, — писал в 1884 году Бове, капитан Итальянского королевского флота. — Сколько бы они ни привезли денег в так называемую колонию (Пунга-Аренас), все должны истратить. Оставить хоть фартинг было бы так же недостойно, как лишить преступника человеческого участия». И чтобы не допускать такого бесчестья, в Пунта-Аренасе существовало множество благодатных кабачков.
Мы прожили так два месяца, и у меня не осталось ни гроша, если не считать скромной суммы, которую я отложил, чтобы заплатить по огромному счету за стальной и пеньковый тросы, парусину, цепи, краску, поковки и тому подобное, а также на подарки всем добрым людям с «Лонсдейла», которые нам помогали. И однако, знай я, в какие хорошие руки мы попали, безденежье причинило бы мне меньше беспокойства.
Одна бесшабашная ночь в клубе Магеллана навела меня на кое-какие размышления. Нас было шестеро, и после неоднократных возлияний все фишки, за исключением монеты в сорок центов, достались одному человеку.
— Пасуйте, и я оплачу все!
— Заметано, — ответил я, — пошел — и проиграл.
Еще раз — и снова проиграл.
Через две минуты все фишки — всего на огромную сумму в восемь американских долларов — оказались у меня. К счастью, я мог уплатить и подозвал служителя. Вдруг человек, сидевший слева от меня, встал и отодвинул от меня все фишки, в то же время приказал служителю ничего от меня не принимать.
— Нет, — сказали присутствующие, — вы наш гость, и мы вам не позволим платить.
Тем не менее огромный счет за припасы висел над пик и головой, как дамоклов меч. Я уже запросил этот счет, но все никак не мог получить Оказалось, что составление такого обширного документа требует бесчисленного количества совещаний между начальниками департамента. «Или плыть, или в тюрьме быть», — не раз бормотал я себе под нос в ожидании счета. И вот однажды капитан Делано, капитан порта и морской инженер Соренсен пригласили меня в контору.
— Нас интересует расход на краску и сосновые доски, — сказали они мне. — Вы ведь использовали их, работая на нас, правда?
— Нет, — ответил я, — все это ушло на мои нужды.
Я вошел в кабинет Инена.
— Дайте мне счет, — попросил я.
Он закончил работу, поднялся и подошел к окну.
— Что случилось? — спросил он, положив руку мне на плечо и поворачивая мое лицо к свету.
Я чувствовал, что сейчас у меня слезы брызнут из глаз, и ответил:
— Ничего.
Инен улыбнулся. Он вызвал секретаря и послал его с письмом к капитану Делано Через несколько минут секретарь вернулся, и мне вручили счет.
— Три, четыре, пять тысяч песо, — твердил я про себя, чтобы с должным мужеством встретить извещение о своем банкротстве.
Я развернул счет. Это был краткий перечень, всего лишь дюжина пунктов: шлюпка, ее окраска, немного троса… Общую сумму я забыл: она была ничтожна.
А Инен уже опять что-то усердно писал. Тогда его нельзя было благодарить — я это делаю только сейчас. Был еще один случай, о котором я расскажу. Да не создастся у читателя впечатление, что лишь латиноамериканское сердце может быть добрым. Мистер Брэйди, американский консул в Пунта-Аренасе, с самого начала относился с неизменным дружеским участием к нашей безумной затее и к нам самим.
— Идемте, — сказал он мне в памятный день перед отплытием. — Идемте за покупками. Что вам нужно?
— Лук, — сказал я.
Он купил лук.
— Еще дрожжи, сыр, будильник.
Он купил все это и многое другое и еще бутылку своего любимого особого средства против гриппа, которому я, по его мнению, был подвержен.
По возвращении в консульство он подарил мне американский флаг и большой конверт, в котором, как он говорил, были «указания на поход», с надписью: «Вскрыть после отплытия».
В море я вскрыл конверт. В нем были двести пятьдесят песо и записка. «Плывите как хотите», — прочитал я в «указаниях».
Но возвращаюсь назад. Бот полностью оборудован: настлана палуба и построена каюта; весь он проконопачен, окрашен, покрыт лаком. Не хватало лишь последних штрихов, но это относилось уже к области роскоши и искусства и могло быть сделано за неделю. На моей обязанности оставался рангоут. Я собственноручно изготовил из прочной и стройной норвежской ели мачту, гафель и гик, выровнял, обтесал и отполировал их; они были отлично сработаны до самой последней детали. Тем временем мой помощник мастерил паруса из крепкой парусины. Они оказались достаточно мощными, чтобы разнести пополам сам бот, как я пророчески заметил тогда. Лучшего же мастера-такелажника, чем помощник, трудно было найти. Оставалось только навести глянец, немного подконопатить, замазать швы, кое-где подкрасить и положить лак, что было совсем не обязательно, но для нас казалось очень важным. Последние дни перед спуском мы вертелись, как белка в колесе, достойно завершая долгие недели работы.

«КЭТЛИН». ВИД ПАЛУБЫ СВЕРХУ
Работали мы далеко за полночь при свете фонарей, освещавших палубу и твиндеки, где были сложены рангоут и такелаж. Но всегда, как бы ни поджимало время, все делалось на высшем уровне, мы не позволяли себе даже малейшей погрешности. Восторгаясь совершенством нашего судна, я сравнивал его со щегольским фаэтоном. Оно во всем, от киля до клотика,
где красуется флаг, с гордостью думал я, будет одинаково крепко, и ничего с ним не приключится до самого скончания века.
Во всей истории американского кораблестроения не было еще случая, чтобы судно спускали на воду так далеко на юге. Мы решили отпраздновать событие особенно пышно и продемонстрировать предприимчивость янки. Нам помогали абсолютно во всем. На борт нашей старой посудины была прислана бригада рабочих, чтобы навести порядок, убрать мусор и материалы, оставшиеся от нашей работы. Палуба стала восхитительно чистой, тали были осмотрены, блоки смазаны, прислан новый трос для стропов.
День накануне отплытия; лебедка наготове, наш бот подвешен на талях. Мы суетимся и наводим лоск, хотя и так все уже блещет совершенством. И все-таки этот последний день оказался слишком коротким. Уже поздно, очень поздно, когда я вынимаю из укромного местечка пустую бутылку из-под шампанского, незаметно проношу ее на палубу и наполняю желтой, как янтарь, водой из бочки.
Вернувшись с ней опять в каюту, я вырезаю из пробки старого спасательного пояса затычку. Аккуратно окручиваю ее проволокой так туго, что пробка вспучивается между пересечениями проволоки. Затем обмазываю горлышко над этикеткой клеем и, достав кусок свинцовой фольги, оставшейся от сигарет, прихлопываю ее сверху и плотно притираю к пробке. Когда я срезал лишнюю фольгу, отполировав оставшуюся и немного измазав ее, у меня в руках оказалась настоящая, совершенно нетронутая бутылка шампанского. Для крещения бота. Пожалуй, это красноречивее всего говорит о нашей бедности.
Великий день восстал ото сна ясный и лучезарный, как настоящее божье благословение по случаю крестин нашего маленького суденышка. Для нас, изнемогающих от спешки и неразберихи, как всегда под конец, часы мелькали, словно мгновения. Среди всей этой суматохи вдруг загудел гудок и показался портовый буксир, ярко расцвеченный развевающимися флагами и нарядами толпы, собравшейся на борту. Пришло время.
Настал час, с которого я начал повествование. Городские власти, капитаны, консул, журналисты, милые женщины и хорошенькие девушки столпились у места спуска. Надо было кончать. Мой мозг бешено работал, я механически стер тряпкой грязь с рук и бросил ее за борт. Это был одновременно и бессознательный жест, означавший, что труд закончен, и знак того, что неразумный путешественник вновь обрел безмятежность духа. Сейчас начнутся крестины. Около новорожденного бота, висящего на стропах у фальшборта, стоит красивая чилийская девушка с моей жалкой бутылкой «шампанского», нарядно украшенной трехцветной полосочкой. Девушка говорит: «Судно, нарекаю тебя Каталиной, и да сопутствует тебе всю твою жизнь благословение божье».

«КЭТЛИН», КАКОЙ ОНА БЫЛА РАНЬШЕ
Она разбивает бутылку. Янтарная жидкость, будто редкостное вино, разливается по носу бота. В это самое мгновение «Кэтлин» с гордо стоящим на ее борту помощником мягко скользит вниз и легко касается морской волны.
— Мама, — сказала маленькая девочка, когда разбили бутылку, — мне брызнуло в лицо.
— Ничего, дорогая, — ответила ее милая матушка, — это было доброе шампанское.
Последние дни на исходе. Я получаю у начальника порта судовой билет и прокладываю на морской карте намеченный курс.
— Если через четыре месяца вы не вернетесь, — говорит капитан, — мы пошлем на розыски крейсер.
Я оформляю в консульстве завещание, слышу добрые напутствия губернатора и всех наших друзей, и вот уже брезжит утро заветного дня.
Нам оказывают последние почести, сопутствующие отплытию судна. Буксир выводит бот из гавани. Под заздравные крики и добрые пожелания друзей мы спускаемся на бот и отваливаем. Мы отплываем все дальше, и над ширящейся полоской воды гремит наша песня времен парусного флота «Мчимся домой». И хотя слова, сочиненные нами, нельзя назвать поэзией, я все-таки приведу их здесь, потому что для нас и для тех, кто в этот день слушал песню, в них чудилось трепетное ожидание приключений:
Из Пунта-Аренас плывет наш фрегат.
Там девушки статны и звонко смеются,
А если нас вдруг людоеды съедят,
Назад наши души одни доберутся!
Припев: Мчимся домой и т. д.
Мыс Горн нам своею пучиной грозит,
На дне океана готовит местечко,
Ну что же, там смелых немало лежит,
Поверьте, нас встретят тепло и сердечно!
Припев: Мчимся домой и т. д.
И еще много-много куплетов. Они долго звучали, хотя слушали их только мы да ветер. И когда Пунта-Аренас скрылась из наших глаз, мы еще могли видеть то опускающийся, то взмывающий красно-бело-синий флаг Чили, поднятый в нашу честь на мачте «Лонсдейла».
ГЛАВА III
ПЛЫТЬ

ВДОЛЬ проливов Брод-Рич и Фамин-Рич высятся белые пики гор и тянутся нескончаемые пустыни. В их таинственном молчании и угроза, и обещание. Над ними высоко поднимаются в небо недоступные, покрытые снегом вершины Сармьенто
[11]. Ах, что за день! До чего свежий и голубой, до чего золотистый там, где далекий небосклон касается круга земли! Воздух над нами пронизан сверкающей водяной пылью, срываемой ветром с гребешков волн. Небо на западе охватила крутая радуга — предзнаменование сильного ветра и удачи, и там, где она опускается на южные горы, в мирной, одинокой, девственной долине, спрятано золото счастья, которое всегда ищут и никогда не находят.
Под всеми парусами, наполненными ветром, дующим с траверза, маленькая «Кэтлин» лежит на борту, грота-гик чертит по воде. Палубу заливают волны, а бот мчится, как дикий зверь, вырвавшийся на свободу.
— Не сбавляйте хода! — кричит мой помощник.
Судно рассекает волны, и нас окатывает холодный душ. Вокруг резвится, прыгая и ныряя, стая дельфинов. Это к счастью. Боги к нам благосклонны.
Поднялся ветер, и на море началось волнение Огромные валы с белыми гребешками угрожающе обрушиваются вниз и, смеясь, нежно вздымают нас кверху, покачивают, как в колыбели. Мы несемся по морю. Наш бот прочен и вынослив, он плывет, он неуклонно следует по курсу.
— Красавец! — кричит помощник. И когда я спускаюсь вниз, душа, как орел, парит на крыльях счастья.
В каюте безупречная чистота и порядок. Там были удобные полки, на которых ровными рядами мы расставили банки консервов, котелки и тарелки, надежно прикрепленные к своим местам, чтобы не разбились от качки, и где оставалось достаточно места для белья, книг, фотоаппаратов и красок. Здесь были стеллажи для инструментов и карт, компаса, часов и лампы, для рейсфедеров и кистей, для пил, молотков, клещей и напильников, сваек, лопаточек для конопатки, для флагов, лоцманских фонарей и ракет, моих холстов и бумаги. Наши постели были сделаны весьма хитроумно: на парусиновые полосы, закрепленные крест-накрест, мы разложили нашу одежду и сделали из нее матрасы. В этот день постели, чистые и прохладные, были уже приготовлены на ночь. Печка начищена до блеска, пайол выскоблен. Все в каюте блистало совершенством, если не считать небольшого количества воды, поднявшейся из-под пайола и неопрятно плескавшейся в углу.
Я взял чашку и стал вычерпывать воду, одновременно болтая через открытый иллюминатор с помощником.
— При таком ветре, — проговорил он, когда налетевший шквал обдал нас водой с головы до ног, — мы должны быть в бухте Уиллис сегодня в пять вечера.
Было еще около одиннадцати, за полтора часа мы покрыли расстояние почти в двадцать миль. Шли мы на мыс Валентин, к острову Досон. Через два дня, по нашим расчетам, мы должны были войти в залив Альмирантасго, еще через два дня опять выйти в море и плыть в западном направлении, чтобы обогнуть оконечность полуострова Брекнок.
А между тем я все вычерпывал воду.

Я совершенно не подозревал об опасности, но меня осенило, что дело пойдет скорее, если вычерпывать воду котелком, а не чашкой. Я взял котелок и усердно принялся за работу.
Вода летит через голову поющего помощника. Его счастье слишком велико для него одного. Он влюблен, а она далеко, за много тысяч миль. Котелок холодной воды, опрокинувшийся ему на ноги, выводит его из этого блаженного состояния.
Прошло четверть часа. Я черпаю изо всех сил, выплескивая воду через голову моего помощника, его нежное сердце и все остальное. Стою в воде по колено, а она все подымается. Нет ни малейшей возможности повернуть к ближайшему наветренному берегу. Ложимся на подветренный, до которого пятнадцать миль. Ветер штормовой, мы в открытом море, и наш бот отяжелел от набравшейся в него воды. Мы черпаем по очереди, работаем до изнеможения, а он все наполняется, и один бог знает, где течь.
Наконец становится ясно: мы тонем. Земля слишком далеко, до нее не добраться.
Начинаем спускать парус. Гафель заклинивает, и помощник карабкается вверх, чтобы нажать на него ногой. Парус яростно хлопает и вырывается из рук, скрипят блоки, хлопают фалы, но мы все-таки спускаем его. Дрейфуем под стакселем. У нас на палубе привязан плоскодонный тузик восьми футов длины, четырех футов ширины. Для моря он не годится. Тем не менее мы спускаем его на воду и крепим по корме, и, пока тузик брыкается, как разъяренное животное, пытаясь освободиться от меня, мне удается накрыть его сверху парусом. Я кладу в тузик весла, спасательные пояса и еще некоторые необходимые вещи, вонзаю в нос тузика открытый складной нож, чтобы в последний момент перерезать фалинь, крепящий нас к «Кэтлин», и спасательная шлюпка готова.
Если смотреть с тузика, то, несомненно, положение «Кэтлин» катастрофично. Она тяжело налегла на борт, палуба наполовину затоплена, через нее перекатываются волны. Внезапно меня поражает, как безнадежно сознание гибели. Нет ни мысли о боге, ни страха смерти, одно только мучительное ощущение, что жизнь кончена, оставшись, увы, незавершенной. Промелькнуло молнией видение: дом, маленькие дети, их плачущая мать. Я испытываю болезненный стыд от горькой нелепости такой смерти, мгновенное головокружение, слабость в коленях, спазмы внутри, словно я наклонился над необъятной, бесконечной бездной, и нарастает безумное, сумасшедшее желание — воздеть вверх руки и закричать. Но сразу же, в тот самый момент, когда вот-вот потеряешь над собой контроль, еще более глубокий стыд вытесняет смятение и освобождает душу от воспоминаний. У меня хватало юмора слушать, как помощник сильным молодым голосом лихо пел «Пока улыбайся» в такт выплескиваемой воде. Я мог уловить даже легкое дрожание в голосе и, понимая, почему он поет и почему прерывается голос, улыбался, думая, что даже он немного боится.

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР
Мы стояли по пояс в воде, черпали по очереди. Кругом был хаос. От сильной качки вода плескалась и смывала наши сокровища с полок. Ботинки, носки, белье, бумага, хлеб, какао, мясные концентраты, орехи и сигареты всплывали и кружились в воронке водоворота, образуемого бадьей. Моя койка была затоплена, и простыни выплыли из постели.
Я взял бортовой журнал «Кэтлин», присел на край кадки и на чистой первой странице написал то, что, как я думал, будет нашей эпитафией.
«Первый день в море, прошло три часа со времени отплытия. Бот наполовину заполнен водой, дрейфуем. По очереди вычерпываем воду, приготовили спасательную шлюпку, чтобы добраться до Порвенира. Дует сильный западный ветер. Помощник поет. Чудесный он парень! Нет никакой возможности что-либо спасти: тузик для этого слишком мал».
Затем, завязав в непромокаемый пакет несколько дорогих мне вещей, я приготовился. Гибель «Кэтлин» была неизбежной. Целый час мы боролись с водой, сделали все возможное и не в силах были сделать больше. Ни на мгновение нам не удалось приостановить подъем воды. О том, что нас ждет, гадать не приходилось. Я знал, что через десять минут наше судно потонет. Рассудок не позволял надеяться.
У помощника много благородных и внушающих симпатию качеств: он храбр, добросердечен и настойчив в достижении цели. Но что касается умения рассуждать, делать выводы и соотносить следствия и причины — этим он не обладал ни в малейшей степени. Было трогательно не только наблюдать, как он при всей не вызывавшей сомнений трагической тщетности наших усилий упорно вычерпывал воду тяжелым ковшом в такт бесконечной песне, но и думать, что не сознающему неизбежность смерти не дано понять величие и страдание самой значительной минуты жизни. Он был слишком туп и не понимал, что мы обречены.
Так мы черпали и пели. Прошло пять минут, десять. Прошел срок, отмеренный рассудком нашему боту, а он, медленно покачиваясь, все плыл. Каждый раз, когда волны перекатывались через него, казалось, что он уже больше не выдержит. Время вдохнуло в нас новую энергию. Мы упрямо боролись с водой. Не смея надеяться, мы вычерпывали: больше ничего не оставалось делать. «Кэтлин» не тонула.
Несколько дней спустя, пристав к берегу, мы поняли причину злополучного происшествия и нашего спасения. То, что бот держался тогда на воде, было просто чудом. Во время работы до нас постепенно дошло, что все-таки удастся приостановить поступление воды. Странно: когда наконец уже не оставалось сомнений, что победа за нами, мы равнодушно встретили жизнь.
Было уже два часа пополудни. Вода в каюте все еще доходила до колен, и, чтобы удержать ее на этом уровне, приходилось вычерпывать не переставая. Вокруг нас плавали безнадежно испорченные припасы. Наше прекрасное суденышко, такое подтянутое и красивое четыре часа назад, было разорено. Время шло, море и ветер успокаивались. Воды оставалось уже так мало, что с каждой минутой работы было видно, как уровень ее все понижается. И вот она плещется у щиколоток. Мы подняли грот, легли на другой галс и начали долгое путешествие против ветра к берегу, расположенному в нескольких милях.
К вечеру день становился все прекраснее и спокойнее, и, когда мы уверились, что находимся вне опасности, в наших душах, словно утреннее солнце, взошла глубокая радость. Жизнь так бесконечно мила и прекрасна, что рядом
с этим ничто не имеет значения, кроме одного: мы живем.
Спустился вечер, береговые тени пересекли море и накрыли нас. Холодно. На последнем вздохе умирающего ветра мы достигаем места стоянки.
Как здесь спокойно! Во мраке громадный прибрежный поселок почти невидим. Расплывчатые очертания складов и домов парят над темной землей. В одном доме горит лампа. По безмолвной улице человек гонит скот. На небольшой равнине, окруженной голыми песчаными холмами, расположена колония; за холмами горы, вершины которых покрыты снегом. Мы уже давно молчим. Спускаемся вниз. Слабый огонь почти не греет. Мы смертельно устали. Завернувшись в промокшие одеяла, ложимся спать.
ГЛАВА IV
В ТЮРЬМЕ БЫТЬ?

В ТУ ПЕРВУЮ длинную, тяжелую ночь часы казались годами. Западный ветер пригнал из открытого моря мертвую зыбь, на ней качалось наше утлое суденышко, стоявшее на якоре. Мы дрожали и вертелись от холода в мокрых постелях и, сморенные бесконечной усталостью, ненадолго забылись сном. Проснулись совсем окоченевшие. Мы растирали ноги, чтобы согреться, хлопали себя по бокам. Но вот взошло солнце, и его улыбка рассеяла все наши несчастья. Тишина юного рассвета и чистый, свежий утренний воздух вливали в нас бодрость. И мы пили ее большими глотками.
И снова вдали за голубыми мирными водами пролива засверкали снежные горы дикого края, властно манившие к себе. Поднимать якорь, мореплаватели! Пошел шпиль! Выбираю! Вытащили мокрый якорь на палубу. Ласковый западный ветер наполнил парус. Судно накренилось, волна забилась о борт. Мы опять отплыли на юг. Да, на юг, но с опаской. С зарифленным гротом мы шли вдоль берега, с тревогой наблюдая за поступлением воды, как следят за лихорадочным пульсом, отсчитывая удары. Бот протекал, но очень незначительно, и, так как ветер дул умеренный, к нам вернулась вера в свои силы. Мы расстались с берегом и проложили курс через пролив на мыс Валентин, северную оконечность острова Досон.
Все это время один из нас пытался навести хоть приблизительный порядок в каюте. Иногда видимость красноречивее и сильнее впечатляет разум, нежели действительность; убирая с глаз долой следы страдания, мы изрядно облегчаем себе душу. Мы спрятали наше промокшее и испорченное имущество, выжали мокрое платье и одеяла, сложили их в мешки, поставили в нос. В тот день решили не обращать внимания на ущерб, нанесенный большей части наших припасов в обоих хранилищах — в носу и в корме. Но прошло немного времени, и зловоние гниющей пищи заставило нас навести тщательный порядок.
Мы отчистили заржавевшую печку, надраили ее до блеска и разожгли веселый огонь. Приготовили вкусную еду, наелись и почувствовали полное удовлетворение. Хотя ветер усиливался, вода в боте прибавлялась, и нам опять приходилось ее вычерпывать, непосредственная опасность не угрожала. Это позволяло легкомысленно относиться к возможной гибели и придавало некоторую пикантность нашему благодушному состоянию.
Только путешественник остро ощущает прелесть жизни, потому что он один познает ее контрасты. Он испытывает безмерное, неистовое борение духа, рвущегося в безграничные просторы, и сосредоточенное, щемящее чувство возвращения. Он познает две бесконечности — вселенную и самого себя.
Только путешественник делает открытия и в открытии существует. Ибо лишь эту часть своей собственной вселенной он познает и, познавая, созидает. Так по своему образу и подобию человек создал бога.
Пустыня оживает под взглядом человека. Он — ее сознание, его приход — начало дня. Страсть первооткрывателя, несомненно, таит в себе тепло и ласку первого восхода солнца над хаосом мироздания.

МЫС ВАЛЕНТИН
И вот подобно солнцу мы с высоты морской волны, трепеща от волнения, смотрим, как открываются новые земли. Перед нами длинное побережье острова Досон — скалистые пустынные отмели, мрачные под затянутым тучами небом и открытые всем ветрам. Темное море набегает на берег сверкающим прибоем. Мы благополучно пересекаем пролив и приближаемся к берегу, однако угрюмый его вид несколько умеряет нашу радость.
Мыс Валентин выдается в море острыми рифами с мелями и целыми плантациями гигантских водорослей. Мы старательно обогнули эти опасные места и, миновав их, вошли в спокойные воды подветренной стороны. И почти в то же самое мгновение солнце прорвало тучи, оно приободрило и согрело нас. Его золотистый свет преобразил окрестности и сообщил им новое очарование. Тени, ложащиеся при низко стоящем солнце, придали рельефность причудливо изрезанным прибрежным скалам, а разноцветные купы кустарников, темные и блестящие, выделялись на желтом фоне песка и болот, как драгоценные каменья.
Через расселины в скалах можно было видеть равнины и леса побережья с высокими, покрытыми зеленой листвой деревьями. К востоку простирались бескрайние воды залива Инутиль. А прямо перед нами, далеко на юге, возвышалась цепь гор с покрытыми снегом вершинами.
Когда мы находились в нескольких милях от берега, спустился мрак, и землю можно было отличить на фоне темного неба лишь по ее еще более темным очертаниям. Поднялся сильный восточный ветер, и казалось, что именно чары этой ночи и дикое завывание ветра и моря заставляют мчаться наш бот с неуемной скоростью.
На острове Оффинг, расположенном у входа в бухту Уиллис, горел маяк, на который мы держали курс, хотя его ослепительное пламя лишь усугубляло царившую вокруг тьму. Со своего наблюдательного пункта на носу помощник различил наконец чернеющий мыс земли, к которому мы должны повернуть. Приблизились к берегу. Он был в нескольких румбах справа по носу. Стали его огибать.
Что затем произошло с помощником, я не понял. Он вдруг закричал:
— Ворочай в море!
Я повиновался. Мы пулей промчались сквозь бурун мимо рифа, от которого нас отделяло расстояние длиной в шлюпку. В заливе стояла непроглядная тьма, черной тенью отражался в спокойных водах берег. Непрестанно измеряя лотом глубину, стали обследовать берег в поисках узкого входа в укромную бухточку, о которой были наслышаны, но обманчивые очертания леса спрятали ее от нас. Очутившись наконец у мыса, в мелководье среди рифов и мелей, отдали якорь на глубине две морские сажени.
Пока помощник убирался на палубе, я обследовал на тузике места вокруг нашей якорной стоянки. Повсюду были мели, на которые мы могли бы сесть, не будь судьба к нам столь благосклонной. Ночью, чувствуя себя вне опасности в этом безлюдном краю, освободившись от бремени забот, мы уснули мирным младенческим сном. А проснулись в спокойном, залитом солнцем, объятом глубоким молчанием новом мире, окруженные роскошной, почти тропической растительностью. Над нами высился лес; кроны высоких вечнозеленых деревьев образовали шатер, под которым на увлажненной дождями почве буйно разрослись цветущие кусты, лианы и лишайники. В спокойной воде залива, как в зеркале, отражалось безоблачное небо. В это тихое, без малейшего дуновения ветерка весеннее утро солнце грело по-летнему.

ПРОХОДИМ ОСТРОВ ДОУСОН
Мы бросили якорь всего лишь в нескольких ярдах от узкого входа в бухточку, которую искали прошлой ночью. Обогнув ее на тузике и убедившись, что она отлично подходила для длительной стоянки и для осмотра и починки бота, подняли якорь и начали буксировать «Кэтлин» через узкий пролив. Но поднялся западный ветер, и, прежде чем мы успели войти в бухту, он задул с такой силой, что пришлось остановиться. Несмотря на все наши старания отбуксировать бот тузиком и при помощи длинного кормового весла, нас все же медленно вынесло к входу в пролив. Здесь, на ветру, посередине течения, мы отдали якорь, определенно ухудшив свое положение из-за стремления его улучшить.
Вся наша одежда была волглой, и нам предстояло немедленно приняться за работу. Вскоре одеяла, свитеры, плащи, носки, рубашки и кальсоны развевались на ветру, словно праздничные флаги. После тщательного осмотра наших запасов выяснилось, сколь велики потери и причиненный нам ущерб, но мы по крайней мере получили некоторое удовлетворение, выбрасывая испорченный груз за борт. Самой непоправимой была потеря маленького «кодака»: от соленой воды заржавел спусковой механизм затвора, так что починить его не было никакой возможности. В течение всего путешествия мне пришлось всюду таскать с собой громоздкий и тяжелый «графлекс».
У нас было приподнятое настроение, и мы устроили себе послеобеденный отдых. В маленькой каюте было тепло и уютно, а мурлыканье чайника и гортанное бормотание приливной волны, бьющейся о тонкие борта, вторили голосу довольства, звучавшему в наших сердцах. Мы долго хранили молчание.
— Помощник, — изрек я наконец, — это наш первый день в диком краю, и, я думаю, нам обоим понятно, какой покой таит в себе одиночество. Будучи здесь единственными человеческими существами, мы познали возвышенное чувство превосходства. Это больше, чем свобода. В известном смысле мы владыки мира.
В это самое мгновение что-то ударило о борт бота. На палубе послышались шаги. Вскочив, чтобы посмотреть в иллюминатор, мы увидели в нем глазеющего на нас солдата с неприятным тупым лицом.
— Вы арестованы, — проворчал он.
Мы стали пленниками.
ГЛАВА V
ЗАДЕРЖКА В ПУТИ

ПОРТ ХАРРИС на острове Досон — единственное поселение на архипелаге, расположенном к западу от Тьерра-дель-Фуэго. Его история начинается сорок или больше лет назад и относится к тому времени, когда в связи с колонизацией белыми степных районов Патагонии велась жестокая истребительная война против аборигенов. Во внутренних областях Тьерра-дель-Фуэго жили индейцы. Эти прекрасные люди — коренное население материка. Их воинственные обычаи были причиной неизбежного столкновения с белыми завоевателями. Индейцы угоняли стада овец, и это повлекло за собой ответное жестокое возмездие. Наконец недоразумения между двумя враждебными народами, которые дипломатия могла бы превратить в дружеские отношения, привели к кровавому конфликту. Для охраны ферм были посланы солдаты и назначен фунт награды за голову убитого индейца; это послужило приманкой для бездельничающих негодяев, предложивших свои услуги. Война превратилась в отвратительную резню.
До глубины сердца пораженные этой возмутительной кровавой бойней, члены местной епархии Силецийского ордена организовали в порту Харрис миссию для преследуемых дикарей и начали с самыми искренними христианскими намерениями приобщать их к благам цивилизации, учить трудиться и направлять свои помыслы к богу. По этой причине солдаты сгоняли, как овец, сотни недоумевающих индейцев, грузили их на пароходы, утрамбовывали в трюмы, как бараньи туши, и препровождали на остров Досон.
Об этой злосчастной миссионерской затее рассказывают как о самом отвратительном насилии и преступлении. Из-за чудовищности подобных действий эти рассказы кажутся невероятными. Как нечто достоверное передают, что монахи, замыслившие зло, первую партию прибывших приняли с иудиной доброжелательностью. Индейцев провели в зал, где был накрыт обильный пиршественный стол, и накормили отравленной едой. Они пировали и умирали.
Как ни невероятна рассказываемая история в целом, некоторые детали этой ужасной легенды, по словам беспристрастного свидетеля, соответствуют тому, что случилось в действительности. По прибытии судна настоятель ордена, чувствуя великое воодушевление своей католической миссией, приняв на себя всю полноту ответственности за поведение дикарей, приказал их развязать и предоставить им свободу. Затем их усадили за пиршественные столы, специально для них накрытые. Оголодавшие до полусмерти во время недавнего плена и непривычные к такому изобилию, индейцы набили животы сверх меры. Многие погибли от несварения желудка.
От тех, кто вмешивается в чужую жизнь, нельзя ожидать сочувствия. Даже самые ужасные последствия не могли отвратить христиан от жестокого навязывания своих благодеяний. Они кормили своих подопечных, одевали и обучали их, а когда по истечении ряда лет, несмотря на постоянное пополнение здоровых «дикарей» из пустынь Тьерра-дель-Фуэго, человеческий материал почти весь повымер, с миссией произошло то, что бывает со всеми обанкротившимися фирмами: она прекратила существование, а ее помещение было продано.
Порт Харрис стал центром коммерческой деятельности. Первой акцией нового управляющего было установление награды — бочонок пива человеку, который сумеет забросить лассо на крест церкви. Под громкое «ура!» толпы крест стащили вниз. Построили лесопильный завод и верфи. Впоследствии на острове Досон была спущена на воду знаменитая неудачница «Сара» — самый большой корабль, когда-либо построенный в Чили.
Было уже темно, когда под конвоем солдат мы вошли на буксире в залив Харрис. Сквозь паруса судов, стоящих у набережной, просвечивали и зыбко отражались в черной воде электрические огни небольшого городка. Иллюзия нашего одиночества была разрушена внезапным появлением воинственно настроенных людей; нас арестовали, ошибочно приняв за пиратов. Но теперь, после того как развеялись подозрения, мы наслаждались благами гостеприимства. «Кэтлин», сказали нам, по всем правилам поставят в док и приведут в порядок.
Заводской свисток возвестил рассвет, и, когда отзвучало эхо, воздух наполнили шум и визг пилы, грохот небольшой паровой машины, стук падающих досок, окрики мастеров, неистовые проклятья погонщиков волов, — одним словом, начал работать лесопильный завод.

ПОРТ ХАРРИС
Мы поставили «Кэтлин» на якорную стоянку около слипа и ждали прилива, чтобы вытащить ее на берег. Яркая краска на бортах, лакированные перекладины, надраенная медь приборов — все это так и сверкало на солнце. А на мачте развевался звездно-полосатый флаг. Неважно, что в плавании «Кэтлин» чуть не развалилась. Она была так нарядна и красива, а флаг развевался с таким сознанием собственного могущества, что, по нашему мнению, все, кто видел его, должны были проникнуться почтением и восторгом.
Я работал в каюте. Вдруг помощник, который был на берегу, влетел ко мне красный, как рак.
— Здесь карабинеры! — кричит он. — Они велели спустить флаг. Я послал их к черту. Они хотят проверять документы.
Я уже слишком старый американец, мой патриотизм несколько поизносился в путешествиях и ослабел под воздействием размышлений, и, признаться, я бы сто раз спустил свой флаг перед другими, символизирующими неамериканские добродетели. Но американизм моего норвежского помощника был сверхстопроцентный. Он стоял рядом со мной, и его разъяренная лояльность полыхала таким жгучим пламенем, что мне стало даже страшно. Итак, положив в карман рубашки паспорт и судовой билет, я предусмотрительно сошел на берег, оставив на борту помощника с его неукротимым гневом.
На берегу стояли два карабинера в великолепных мундирах. Собиралась толпа. Лица солдат были типичными для людей, составляющих тот деятельный род войск, чья задача подавлять и управлять. Они были глупы и угрюмы. Специально для столь важного момента они напустили на себя смехотворное выражение свирепого достоинства, рассчитанного на то, чтобы устрашать подчиненных.
— Что вам надо? — спросил я у сержанта.
Он что-то возбужденно проговорил по-испански, я ничего не понял. Догадываясь, что он спросил паспорт, я протянул ему этот документ. Развернув паспорт во всю ширину, как карту, повертев его так и сяк, изучив на расстоянии и не поняв ни слова, он небрежно сложил его и вернул.
— Ваш судовой билет.
Я дал ему судовой билет. Не знаю, умел ли он читать. Он долго рассматривал его и наконец, по-видимому весьма удовлетворенный, вернул мне. А затем, рассвирепев, проревел на хорошо понятном мне кастильском наречии:
— Чтобы через пять минут флаг был спущен!
Бесполезно спорить с тем, кто не способен тебя понять. Улыбаясь, я ответил, что флаг спущен не будет, протиснулся сквозь толпу на борт и сошел вниз.

«КЭТЛИН», ПОРТ ПРИПИСКИ НЬЮ-ЙОРК
Наводящих ужас карабинеров мы видели тогда в последний раз, если не считать, что спустя несколько дней после первой встречи они гурьбой, словно дети, пришли умолять сфотографировать их.
В торговом порту Харрис мало что, кроме кладбища, напоминало о его славном христианском прошлом. В деревянных церковных зданиях разместились конторы, склад, игорный дом. Хижины-кельи были надстроены и превращены в жилые дома; число их все умножалось. Они усеяли полурасчищенные окрестности в хаотическом беспорядке, типичном для делового пограничного города. Там, где над благотворительностью торжествовал эгоизм, уживались рядом нищета и достаток.
В нескольких милях к востоку от города расположен высокий безлесный, похожий на муравейник холм. Он прикрывает вход в бухту. На его вершине, резко выделяясь на фоне неба, стоит небольшая часовня. Однажды мы пешком отправились осмотреть ее.
Наш путь лежал через величественные рощи южных вечнозеленых деревьев по овечьим тропам, бороздившим пастбища на склонах холмов, где между низкими зарослями тернистого кустарника бесцельно бродили овцы. Овцы были повсюду. При виде нас маленькие ягнята блеяли и обращались в поспешное бегство. Холм на несколько сот футов круто поднимался над окружающей равниной. Стоя на вершине, мы смотрели на расстилающийся внизу мир.
Был спокойный солнечный день, и длинные послеобеденные тени пересекали землю. Сверкающий на солнце город, шахматные квадраты садов и лугов, пристань и суда выглядели сверху игрушечным городком, который построили дети. К северу и западу расстилались плоские равнины острова Досон, у них был приветливый, обжитой вид. За пустынными болотами и лесистыми предгорьями поднимались горы, одетые в зимний наряд.
На голой, открытой всем ветрам вершине холма стояла часовня — маленькое деревянное строение, поседевшее от инея, полуразрушенное и забытое. На коньке крыши, однако, все еще высился топорной работы крест, слабо мерцавший в пурпурном небе. Внутри — стены, пол, потолок, жиденькая решетка и грубый алтарь, сделанный из наскоро сбитых досок.
На стенах этой заброшенной церквушки, которая была воздвигнута, чтобы отнять у индейцев их нецивилизованные радости, извечная дикость христиан, словно по иронии судьбы, начертала нечто вроде эпитафии. Любовники запечатлели свои имена в память о счастье, которое они вкусили за решеткой алтаря, а одинокие излили на стенах свои желания, чтобы другие читали о них и радовались.
Приход помощника прервал мое занятие — чтение надписей.
— Отвратительно, — сказал я и, пробравшись сквозь груды засорявших пол осколков от разбитых после «причащения» винных бутылок, вышел вон.
Золотая красота и молчание этого дня стали лишь свидетельством мощи и абсолютного бессердечия бога, а человек казался созданным для того, чтобы ощущать лишь боль одиночества. Но он не приспособлен к этому. Его дух жаждет слияния с духом другого, что само по себе уже насмешка над одиночеством.
Овечьими фермами острова Досон управлял шотландец Кеннет Моррисон. У него была усадьба «Эстансия Валентайн» в двадцати милях к северу от порта Харрис. У меня остались самые приятные воспоминания от поездки к нему.
Моррисон приехал верхом в порт, чтобы встретить нас. Это был невысокий сильный человек лет сорока пяти, довольно неразговорчивый. Курильщики трубки склонны подолгу молчать, однако неуловимое обаяние его угловатой повадки и доброта, таившаяся в голубых глазах, объясняли ту горячую симпатию, с которой все отзывались о нем. Он с серьезным видом шутил, и приглашение «приехать повидать людоедов в Валентайне» было характерным для его манеры заинтриговывать слушателей.
В двенадцать часов прозрачным сереньким деньком мы верхом отправились к Моррисону. Несколько миль дорога шла лесом, и мы думали, что едем в глубь острова, пока не увидели, как блеснул залив, — это было то место, где мы простояли ночь на якоре. Мы выехали на берег и продолжали путь по широкой отмели. Лошади с трудом подвигались вперед, увязая в глубоком песке, осторожно ступая по острой гальке, а мы с интересом слушали фантастические рассказы Моррисона или, когда он умолкал, увлеченно наблюдали за дикой птицей. Она в изобилии водилась на берегу.
Стаи жирных диких гусей при нашем приближении наперегонки помчались к морю, бешено работая крыльями, словно заведенный мотор. Летавшие попарно маленькие золотисто-коричневые ястребы безбоязненно садились на ветки так близко, что до них можно было дотронуться, и внимательно следили за нами.
По всему берегу были сложены штабелями огромные распиленные бревна, которые потом свозили на фабрику. Мы повстречали людей с волами. Они тянули бревна на берег, там их сцепляли в плоты и сплавляли во время прилива. Было слышно за милю, как с ревом и проклятиями работает эта воловья бригада. Казалось, что, вооруженные длинными баграми, люди борются с громадными упрямыми животными, бьют и колют их, чтобы согнать в стадо. Бурная энергия и сила живых существ гармонировали с застывшим величием пейзажа.
Несколько часов мы ехали берегом, затем, вскарабкавшись по крутому склону барранкоса
[12] на возвышенность, опять ехали через леса и болотистые равнины.
— Здесь мы как раз на полпути к моему дому, — не улыбаясь сказал Моррисон, когда мы поднимались на холм.
И пока он заботливо спрашивал, в силах ли мы продолжать путь, мы достигли вершины и увидели внизу среди аккуратно возделанных полей окрашенное в яркую краску здание его фермы.
Мы наперегонки помчались вниз с холма по лугам и, окруженные сворой прыгающих и лающих шотландских овчарок, доехали до дома. Навстречу вышла такая милая и приветливая хозяйка, что нам показалось, будто мы возвратились в родной дом. Сама ферма — оазис цивилизации в граничащей с морем прерии. Дом, окруженный цветущими садами с аккуратно подстриженными изгородями и дорожками, посыпанными гравием, был олицетворением тихого счастья. Атмосфера надежности и приязни, продуманный комфорт, самодельные предметы роскоши внутри дома подтверждали это впечатление, свидетельствуя о том, какое умиротворение можно обрести в безграничном одиночестве.
Постоянные шутки Моррисона были не последним источником развлечения для супругов. Эти шутки не вредили ему в глазах жены, так как доброта была главной чертой его характера.
За обедом Моррисон вытащил склянку с гвоздичным маслом.
— Это что такое, Кеннет? — спросила жена.
— Это, — ответил он, — какой-то омолаживающий состав.
И мы стали дружно обсуждать чудодейственные свойства «высококонцентрированной гормонной вытяжки из неочищенного керосина» — настоящего эликсира жизни, как мы утверждали.
— Одна доза содержимого этого пузырька, госпожа Моррисон, — говорил я, — способна сделать мужчину, скажем лет сорока пяти, шестнадцатилетним юнцом.
С минуту госпожа Моррисон недоверчиво смотрела на наши бесстрастные лица. И вдруг, поверив, схватила мужа за руку, в которой он держал склянку, и воскликнула в испуге:
— Кеннет! Не принимай слишком много!
В тот вечер, сидя у камина рядом с добрыми людьми, беседуя об их делах, их спокойной повседневной жизни, целиком заполненной размеренным трудом, я думал, что в этом отдаленном, затерянном краю действительно жило счастье.
И однако, какого утешения ищет она, читая книги о «Новой мысли», и что скрывается за шутками Моррисона? Печаль раздумий порождается даже среди высшего блаженства, даруемого душевным покоем.
Один из самых чудесных дней уже вечерел, когда с сожалением покинули мы этот дом и пустились в обратный путь. Мы очень подружились, и Моррисон опять отправился с нами. Залив был спокоен, как горное озеро, а на юге за его бирюзовой гладью сияли багрянцем на фоне желто-лимонного неба снежные цепи гор. Еще горели пламенем высокие пики, а уже поднялась над ними полная золотистая луна, и темнота так и не наступила, вечер казался смягченным отблеском дня. Никогда не было ночи прекраснее.
Мы расстались с Моррисоном за день до отплытия. Он вскочил на лошадь, крикнул: «Не попадитесь людоедам на обед!», засмеялся и галопом поскакал прочь. Я быстро направился было в другую сторону, но, внезапно остановившись, посмотрел назад. В то же самое мгновение Моррисон, далеко уже отъехавший, осадил коня и оглянулся. Движимый единым порывом, каждый поднял руку. Прощай!
Тем временем ремонт «Кэтлин», проводившийся умелыми руками, успешно близился к концу. Дополнительное повреждение, полученное при вытаскивании бота на слип, позволило обнаружить его главное уязвимое место. Блоки, на которых вытаскивали судно, были неудачно сконструированы: всем своим весом оно опиралось на две точки. Под этой непомерной тяжестью его тонкие борта и шпангоуты прогнулись на четыре дюйма. Лишь по счастливой случайности бот не был продавлен. Но благодаря этому мы распознали, что конструкция корпуса была слишком слаба и судно не могло выдержать нагрузку собственного веса и силы давления ветра на паруса. Осмотр показал, что именно из-за этого в день отплытия мы потерпели неудачу: в нескольких местах с обоих бортов обшивка лопнула и напоминала решето. Думаю, что ни разу за время всех наших приключений мы не испытывали такого уныния и не были столь обескуражены, как при виде прогнувшихся бортов несчастной «Кэтлин». Ее тащили на берег, а из каждой ее щели хлестала вода. Окружавшие тоже были обескуражены, потому что за последний ущерб целиком несли ответственность рабочие верфи.
Вечером нас посетил всегда возбужденный начальник порта Харрис сеньор Марку. Шел проливной дождь, и мы сидели в своей маленькой каюте, которая, после того как бот вытащили на берег, приобрела неудобный наклон в тридцать градусов. Сеньор Марку — полный, жизнерадостный француз с румяным лицом и блестящими глазами, экспансивный, добрый, раздражительный и — это он нам доказал — щедрый и веселый хозяин. «Можете рассчитывать на Марку», — могли бы предупредить нас в Пунта-Аренасе, но ничего не сказали.
В тот мрачный вечер, впервые явившись засвидетельствовать свое почтение, Марку был не слишком оживлен: его весьма угнетало сознание некоторой ответственности за состояние нашего бота. Он сразу же спросил:
— Чем могу быть полезен?
Наши просьбы были очень скромны, и он обещал сделать все.
— Мы так отремонтируем ваш бот, что он дойдет до самого мыса Горн, — сказал он на прощание.
— Но я не смогу оплатить расходы! — воскликнул я.
— Неважно, — ответил он, посмеиваясь, — а сейчас пойдемте ко мне обедать.
И получилось так, что две недели мы были гостями этого доброго человека. Мы ежедневно завтракали и обедали у него дома и регулярно два раза в неделю посещали кино. Мы сидели наверху в холодной директорской ложе и смотрели поблекшие от времени мерцающие киноленты о любовниках, живших еще до испанской войны и носивших платья с буфами на плечах.
Я мало чем мог отплатить за такое гостеприимство, но однажды представился и мне случай сослужить службу. Величайшим достижением досоновских судостроительных верфей была постройка чилийского конкурента «Грейт Истерна»
[13] — вспомогательного корабля, гибрида «Сары». Достославный спуск «Сары» со стапелей знаменовал осуществление самых дерзновенных мечтаний, был подвигом создавших его корабельных инженеров. Безвременная гибель корабля от пожара положила конец их честолюбивым надеждам. Досон жил воспоминаниями о «Саре», и, чтобы время никогда не затуманило памяти о ее прошлой славе, я предложил ее нарисовать.
В мое распоряжение была предоставлена свободная фотостудия, и я приступил к работе. Я мог располагать также конструкторскими чертежами, фотографиями, советоваться со всеми, кто строил или видел «Сару». Я изобразил ее в волнах темно-зеленого моря, на фоне сверкающих белизной горных вершин и мрачного предгрозового неба. Она плыла на всех парусах, раздуваемых попутным ветром, а на переднем плане, презрев анахронизм, я изобразил малютку «Кэтлин». Добившись
соответствия общего облика корабля с тем, как он выглядел в действительности, я принялся за самую тщательную, насколько позволяли непогрешимость чертежей и любовная, хранящая все подробности память, отделку деталей — до самого последнего шкива и фала, мельчайшего винтика в электрической лебедке, капитанского мундира и профиля кока. Все, все я изобразил так, как мне описали.
— Браво, браво! — кричал Марку, каждые пятнадцать минут прибегая посмотреть, как подвигается моя работа.
Вскоре слух о том, что я рисую несравненную «Сару», распространился повсюду, и меня то и дело отвлекали от работы толпы любопытных восторженных зевак. Но так как я не понимал по-испански ни слова, то спустя некоторое время почти перестал замечать их присутствие и упорно работал в самой гуще шумной и назойливой толпы.
И лишь присутствие друзей-карабинеров было для меня невыносимо. Они заявлялись ежедневно и громко требовали отснятые фотокарточки. Их просьбы не укладывались ни в какие рамки, мне просто невозможно было удовлетворить их, учитывая небольшие запасы фотоматериалов. Но напрасно пытался я объяснить свое положение с помощью жестов. Я добился лишь того, что они стали изъясняться более пространно, упрямо игнорируя мое полное непонимание испанского. Есть что-то особенно неприятное, даже унизительное, когда к тебе настойчиво обращаются на непонятном языке. Появляется ощущение неполноценности, чувствуешь себя безнадежным и недостойным глупцом.
После долгого размышления над создавшейся ситуацией меня вдруг осенило: пусть побывают в моей шкуре. И я обрушил на моих преследователей шквал английской речи. Было очень любопытно, что из этого получится. Однако карабинеры все равно приходили.
Наконец однажды, примерно в то время, когда они должны были нагрянуть, я заперся. Они пришли, стучали, просили. Они заглядывали в щелки и тихо переговаривались между собой, затем опять забарабанили с удвоенной энергией. Видеть, что происходит в комнате, им было трудно, потому что в окна до половины были вставлены матовые стекла, но выше, на всем протяжении стены, стекла были прозрачные. Вскоре я услышал стук и грохот: они катили бочки. Поставив их рядком, карабинеры взгромоздились на них, и я узрел пять тупых, безобразных физиономий. Я и не подозревал прежде, что способен так глубоко сосредоточиться. Ни единым взглядом я не показал, что знаю об их присутствии, и спокойно продолжал рисовать сорок восемь маленьких звездочек американского флага на ноке гафеля «Кэтлин», желая в душе, чтобы солдаты были способны оценить всю иронию происходящего. В то время как в гавани рабочие крепили, клепали, стягивали болтами, конопатили и красили «Кэтлин», я восстанавливал «Сару».
И в тот самый день, когда я торжественно доставил ее, украшенную развевающимися флагами, к Марку, «Кэтлин» соскользнула с полозьев и снова очутилась в своей родной стихии.
ГЛАВА VI
БУХТА УБИЙСТВА

В МОРЕ мы выходили теперь все реже. Самые драматические события ожидали нас впереди. Возбуждение, вызванное нашими бурными страхами и надеждами, само по себе уже превращало отплытие в торжественный момент, даже если наши друзья не проявили бы участия, сдобренного прощальными словами и здравицами, что придавало всему происходящему праздничный характер.
Три недели промелькнули как одна, и, хотя гостеприимство Досона оставалось неизменным, хотя его простые обычаи и развлечения могли скорее стать для нас привычным образом жизни еще на три месяца, чем надоесть, наш бот был готов. Говорили, что он способен выдержать до мыса Горн: это имело над нами большую власть, чем заманчивость легких удач, словно добраться до мыса Горн было нашим самым заветным желанием.
Какие силы заставляют человека добровольно искать лишений и опасностей? Может быть, это древние, но глубоко укоренившиеся привычки народа, испытывавшего величайшую радость от приключения как самоцели, и теперь они дают себя знать наперекор самому искреннему, душевному стремлению к покою и ясному пониманию, к чему эти привычки могут привести? Может быть, дальновидная жизненная сила таким образом укрепляет себя вопреки расслабляющим обольщениям легкой жизни, или это бурное проявление подсознательной воли, знающей слабости данного индивидуума, или самоутверждение вопреки комплексу неполноценности? Может, отвага лишь маскирует трусость?
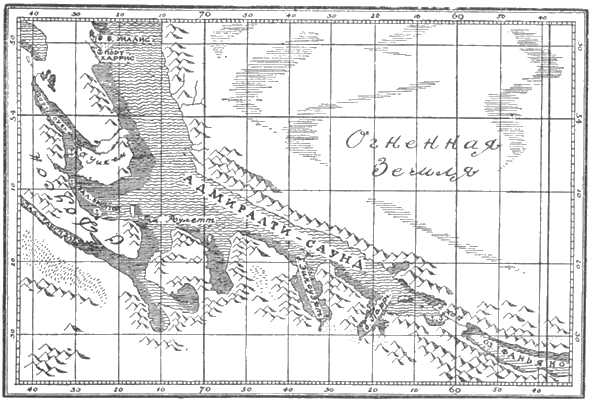
Чрезмерно любя общество людей и избегая одиночества, мы ищем его. Боясь своей собственной неполноценности, мы обречены всегда испытывать ее наедине с собой, потому что больше всего на свете мы хотим лениво валяться в постели, хотя в то же время у пас всегда достаточно энергии, чтобы встать еще до рассвета. Но от людей этого никто не требует, бог с ними, пусть наслаждаются счастьем, к которому стремятся их души.
Итак, охваченные энтузиазмом этой всеобъемлющей обманчивой радости, сопровождаемые искренними дружескими напутствиями, здравицами и благословениями, нагруженные подарками, мы отплываем. Шхуны, стоящие в гавани, поднимают в нашу честь флаги, пронзительно свистит сирена лесопильного завода. Мы отправляемся в путь. И вот порт Харрис уже только берег, с которого нам машут руками. Вот он уже воспоминание.
С траверза дул сильный восточный ветер, море волновалось, угрюмое небо было обложено низко нависшими тучами. По мере того как мы удалялись от берега, над нами все выше поднималась гора Три-Блаф — бурый огромный купол, возвышавшийся над бескрайней равниной лесов. Юг побережья казался еще более диким и гористым. Снеговые вершины упирались в свинцовое небо, их склоны покрывали темно-зеленые и пурпурные леса.
Пять часов мы плыли по бурному морю и наконец вошли в защищенные от ветра воды пролива Мескем. Надвинулись гористые берега, круто вздыбились над нами, и внезапно наступила такая тишина, словно в мире отзвучали все звуки и прекратилось всякое движение. Слышно было лишь серебристое журчание волн по бортам, легкий ветерок уносил нас вперед. А потом появились живые существа, чтобы приветствовать нас. Послышался быстрый мягкий всплеск воды, другой, третий, и нас окружили кувыркающиеся, словно щенята, дельфины. Они выскакивали из воды, шныряли взад и вперед перед носом нашего бота, плыли сбоку, ныряли под киль, показывали белое брюхо, сверкавшее изумрудом сквозь толщу чистой воды.
А мы, сопровождаемые столь пышным эскортом, все плыли и плыли себе не спеша туда, где на изломе сужавшегося пролива нас ждала тишайшая маленькая полукруглая бухта с чистым песком, окруженная лесом, совсем уединенная и спокойная. На последнем вздохе ветра мы вошли в бухту и стали на якорь.
Мы задержались здесь на несколько дней: не хотелось покидать места, где можно было провести всю жизнь. А кроме того, стояло полное безветрие. Поздно вечером начался дождь. Всю ночь и утро следующего дня дождь лил как из ведра, холодный, унылый, пришедший с севера, дождь, от которого мы совсем закоченели. Вот когда мы оценили по достоинству уютный сухой мирок нашей каюты.

БУХТА ИНДИАН-КОВ
А потом небо прояснилось. И так прекрасно было выглянувшее теплое солнышко, что ветер, словно очарованный красотой природы, утих. Мы погрузились в тузик и проплыли несколько миль. Вода была совершенно спокойной, горы отражались в ней во всем своем великолепии. На заходе солнца нам предстала чудесная страна скал, потоков и рощ, видневшихся на дальнем берегу, страна настолько прелестная, что нас охватило желание завладеть ею и сделать обитаемой. Мы думали о том, как на берегу вырастут усадьбы и от них можно будет переходить на маленькие островки по мостикам из грубо вытесанного камня, около домов расположатся пристани, возделанные поля, луга, сады — ведь мысленно так легко создать рай из отдаленной пустыни!
Вот каков был этот дальний берег. Но позади был точно такой же, и мы трезво могли судить об этой узкой прибрежной полоске. Она заросла густым, непроходимым лесом, вязкая, болотистая почва загромождена стволами поваленных деревьев, буйно поросла тернистым кустарником. Только при самой жестокой необходимости человек мог когда-либо рискнуть заявить свои права на эти джунгли. Все кажется привлекательным издалека. Именно эта вечно присущая человеку настойчивая детская вера в реальность иллюзии сделала его столь победоносно беспокойным существом.
Самые далекие вершины всегда кажутся самыми прекрасными, и если мы опять снялись с якоря и позволили легкому ветру надуть наш парус, то лишь потому, что уже виденное великолепие поддерживало веру в невообразимые красоты, которые нам еще предстояло узреть.
В утро отплытия над проливом дул легчайший ветерок. Он увлекал судно вперед. Выглянуло ненадолго солнце, потом на светло-голубой простор неба высыпало столько маленьких кудрявых облачков, похожих на овец, пасущихся на девственном пастбище, что наконец их стада словно затянули небесный свод пушистым занавесом и спрятали солнце. Стало пасмурно, и на мир опустилась беззвучная тишина.
Мы добрались до западной оконечности острова Уикем, где пролив Мескем встречается с проливом Брентон и образует большой залив, известный под названием Порт-Оуэн, в самой середине прорезающий остров Досон почти до его западного берега. Перед нами расстилалась нетронутая гладь этого залива. На горизонте его замыкала горная цепь с вершинами, покрытыми снегом. В одном этом фиорде было столько достопримечательностей дикого горного пейзажа, что их хватило бы для исследования на целые недели. Однако ветер изменил нам, и мы отдались на волю сильной отливной волны. Она медленно несла наш шлюп через архипелаг маленьких островков, теснившихся вокруг грандиозного острова Уикем. Мы плыли сквозь этот лабиринт при полном отсутствии ветра. Казалось, мы совсем неподвижно стоим на спокойной глади воды, а земля проплывает мимо нас, чтобы явиться во всей своей красе.
Было далеко за полдень, когда наконец, вырвавшись из этого лабиринта в просторные воды пролива Брентон, мы нашли казавшуюся удобной стоянку, расположенную за рифом. Подтянули «Кэтлин» к местечку, укрытому купой деревьев, бросили якорь, пришвартовались к берегу. И снова, отдыхая в этой уединенной и тихой обители, чувствуя себя как дома в нашей удобной каюте, мы испытывали глубокое чувство безопасности и покоя.
Казалось, что это ощущение, вызываемое местом и временем, было свойственно не только людям. Недалеко от нас бесстрашно плавала водяная курочка, совершенно не ведавшая, что такое человек, вокруг бота кружила изрядно влюбленная парочка уток, восхитительная в своем брачном счастье. Мы долго с большим удовольствием наблюдали за ними, пока из некоей таинственной отвратительной глубины наших существ — а может, то была извращенная игра ума — не возникло желание убить их. Улучив момент, когда они приникли друг к другу, помощник одним выстрелом убил обеих уток. Мы ощипали их блестящее оперение и выбросили перья за борт. Течение было слабое, перья и замутненная кровью вода плескались за бортом почти до темноты, словно пытаясь заставить нас понять, какое святотатство мы совершили. В человеке, несомненно, живет страсть к убийству и вместе с тем и отвращение к нему, проистекающее из свойственной человеку доброты и чуткости ко всему прекрасному.
К вечеру вдруг спустилась необычная мгла. На горы надвинулись низкие черные тучи, они принесли ураганный ветер. В десять минут спокойная поверхность пролива стала бурлящим, белым от пены водоворотом. Тысячи брызг окатывали нас, словно проливным дождем. Укрывшись в тесной каюте, мы слушали, как свистят ванты и хлопают фалы, как злобно бьются о борта бота поднятые ветром волны.
Яростный шторм свирепствовал целый час, затем все стихло. Вечером сквозь рваные облака проглянули звезды и ярко засияли на чистом небе. Ночью совсем прояснилось, и рассвет следующего дня был безоблачный.
На восходе солнца, пока готовился завтрак, мы воспользовались поднявшимся слабым бризом, снялись с якоря и вышли в море. Покидая эту стоянку и помня, что произошло накануне вечером, мы окрестили ее бухтой Убийства.
ГЛАВА VII
ЛЮДОЕДЫ

КАК УЖЕ говорилось, из нескольких тысяч индейцев, некогда обитавших на острове Досон, осталось только пятьсот, принадлежащих к племени алакалуфов; они изредка встречаются на островах пролива или, точнее, на берегах проливов, расположенных к самому югу от основной территории Чили. Эти пятьсот индейцев, пребывая в состоянии первобытного варварства и безысходной, вопиющей нищеты, по собственной воле переселились впоследствии на берега проливов, чтобы охотой добывать себе здесь пропитание. И они выжили. Где, в каком отдаленном заливе или бухточках обширного острова Досон и соседствующего с ним материка можно встретить это дикое племя, нам никто не говорил, и долгое время мы никого не видели. Однако все, что мы читали или слышали о «вероломном и кровожадном характере индейцев», живущих на берегах пролива, раздразнило наше смелое воображение, и с безрассудным любопытством мы спешили познакомиться с ними. Обуреваемые этой пылкой надеждой, мы отклонились от прямого курса нашего путешествия, чтобы исследовать воды в окрестностях острова Уикем.
Безоблачным утром мы снова пустились в путь. Солнце излучало благодатное тепло, как это бывает ясным весенним днем, — октябрь в южном полушарии соответствует нашему апрелю. За горами, расположенными в южной части острова Досон, показалось далекое, покрытое льдом и снегом плато, столь величественное и обширное, что ближние вершины, еще вчера казавшиеся на фоне облачного неба безмерно высокими, теперь превратились в карликов. Это был район ледников к югу от пролива Габриель.
Еще раньше до нас доходили неопределенные слухи о существовании почти неизведанного прохода, который будто бы пересекает остров Досон от пролива Брентон до пролива Габриель, образуя два острова, показанные на карте как один. Не было ничего невероятного в том, что на картах найдутся ошибки: в этой отдаленной юго-западной области значительные пространства суши и моря изучены еще очень поверхностно. Безусловно, при дальнейших исследованиях обнаружится большая путаница в ее сложной географии.
Мы пересекли голубой пролив по направлению к глубоководной бухте, видневшейся на его южном побережье. По тому, как горы располагались вокруг бухты, можно было предположить существование таинственного прохода, который мы надеялись отыскать. Как только вошли в бухту, ветер совсем стих, и мы стали на якорь. Было совершенно очевидно, что горы стеной окружают берег, но помощник глазам не поверил. Он пересел в тузик и отправился мили за две на юго-восток, где начиналась долина, ведущая в глубь страны. Несколько часов помощника не было, и я блаженствовал, растянувшись на палубе.
Здесь, в краю, о котором далеко разнеслась дурная слава, стояла ранняя весна. Я наслаждался чудесным солнцем, такими великолепными альпийскими и тихоокеанскими видами гор с заснеженными вершинами, картинами зеленых лесов, синего моря, какие только может представить человеческое воображение.
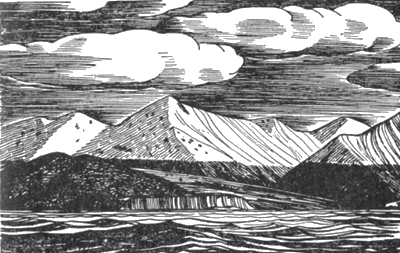
ОСТРОВ УИКЕМ
Возвратившись, помощник сообщил, что в глубине залива он обнаружил отмели и низкий берег, где впадала река. Ему удалось немного подняться на тузике вверх по течению. На берегу около устья реки он увидел остовы индейских вигвамов
[14]. Наши надежды ожили вновь.
Мы направили судно против течения и, пройдя несколько миль к востоку, бросили якорь в почти замкнутой бухте уже после наступления темноты.
На следующий день в полумгле туманного рассвета вышли в открытое море и при слабом противном ветре медленно двигались через пролив.
Близился полдень. Установился серый и скучный день. Время от времени моросил дождь, и тут же наступало затишье, словно слабому ветру не хватало силы пробить завесу падающих капель. Монотонный шепот дождя, поглощавший многообразные и еще более тихие звуки, стал воплощением бесконечной тишины мертвого мира.
Внезапно из леса, что темнел на горе над водой, сквозь пелену дождя донесся собачий лай — одинокий ясный звук, прорезавший тишину.
Одиночества как не бывало: собачий лай возвещал, что в этом пустынном краю есть человек. В одно мгновение наше воображение населило темные чащи леса затаившимися в засаде индейцами. Их темные глаза украдкой следят за нами сквозь ветви. И вновь наступившая тишина стала зловещей: она скрывала в себе предательство.
Дождь перестал. Поднялся ветер. Воды стали темнеть. С опушки леса на северной стороне берега к небу поднялся столб дыма. Мы направились туда.
В бинокль были видны на берегу две перевернутые лодки, а над ними в тени деревьев — две хижины. Вскоре, когда мы подплыли ближе, из черных проемов дверей выглянули два лица, отсвечивающие в темноте, круглые и неподвижные, словно луна. Из дома вышел человек и направился к лодкам.
Поворот на другой галс — это заняло продолжительное время, — и мы в нескольких ярдах от селения с подветренной стороны. Здесь отдали якорь. Пока приводили в порядок палубу, человек, внимательно наблюдавший за нами с берега, подошел почти вплотную к лодке, остановился у кромки воды, продолжая изучать нас. На наше приветствие он не ответил.
Мы были чрезвычайно довольны, что посчастливилось встретиться с людоедами. Складывающаяся ситуация не предвещала никакого иного развития событий, кроме того, что предписывает естественное гостеприимство, когда люди случайно знакомятся в пустыне. Итак, положив в карманы несколько самых отменных плиток юлеровского шоколада из нашего неприкосновенного запаса, я в сопровождении помощника высадился на берег.
Там нас поджидало молчаливое создание, протянувшее руку помощи, когда мы приставали к берегу и потребовалось вытащить тузик в недоступное волнам место.
Это был человек приблизительно лет шестидесяти, насколько можно судить о возрасте незнакомцев чужой расы, среднего роста, мощного сложения, с большим животом, одетый в грязные залатанные лохмотья — разношерстные остатки одежды белых. Кожа у него смуглая, лицо широкое, нос плоский, глаза маленькие, широко расставленные. Зубы мелкие, крепкие, щербатые. Вообще в выражении его лица, хотя и не сиявшего доброжелательством, не было ничего зловещего. Держался он скромно, непринужденно, без излишнего любопытства и абсолютно дружелюбно. Здороваясь, мы пожали его загрубевшую темную руку.
— Очень плохая погода, — сказал он на ужасном диалекте, который впоследствии называл кастильским.
Так совсем обыденно начался наш разговор. Когда мы шли по берегу, наш спутник стал клянчить подачки — табак, муку и сахар.
Мы приблизились к поселку, из дома вышел другой человек, помоложе, и прислонился к лодке, кивнув нам. Второй был хром, правая рука его была изувечена. Он показал мне ее. Рука так ужасно воспалилась и распухла от пальцев до локтя, что определить причину воспаления было невозможно.
Пока мы разговаривали, стоя на гальке, устилавшей землю возле хижин, из темноты жилищ на нас смотрели два круглых, как луна, невозмутимых лица. Это были скромно одетые женщины. Каждая сидела на своем пороге на корточках в позе стоического терпения и безучастной созерцательности, характерных для древних пророков Уильяма Блейка
[15]. Хижины, или, лучше сказать, вигвамы, стояли бок о бок в траве, окаймлявшей гальку. Над ними, защищая их от ветра и дождя, низко нависли ветви деревьев, совсем лишая хижины солнечного тепла. Они были похожи одна на другую, как два птичьих гнезда, и напоминали их примитивным и вместе с тем по-настоящему надежным способом постройки.
Невысокие, вырезанные из молодых деревьев жерди были воткнуты в землю. Они образовали круг десять футов шириной. Их верхушки согнули и связали все вместе травами. В этот каркас по диагонали были вплетены другие жерди. Их скрепили на пересечениях, чтобы придать этому сооружению прочность. Сверху оно было покрыто шкурами, кусками брезента и густолиственными ветвями дерева коиуэ
[16]. Оставалось лишь входное отверстие на стороне, обращенной к морю, и еще одно вверху для выхода дыма. По бокам вигвам утеплен дерном и сеном на высоту в фут.
Одна из хранительниц порога казалась совсем старой: морщинистое лицо, редкие и седые волосы. Она говорила не на кастильском диалекте, а на туземном звучном гортанном языке. Другой женщине было около сорока. У нее тоже низкий звучный голос с монотонной скорбной интонацией, запоминающееся лицо, печальное и доброе. Женщина помоложе встала, чтобы дать нам пройти. Она была высокая, гибкая и держалась с большим достоинством.
Истинное достоинство — милость божья, не знающая ограничений возраста, расы, происхождения и возможностей. Она даруется вездесущей любовью и щедростью бога как отличительная черта той благородной категории созданий, которые, уважая себя и почитая неведомое, достигли духовной зрелости.
Посредине вигвама горел костер из чурбачков. У стен виднелись постели из звериных шкур с уютными, похожими на гнезда вмятинами, сделанными человеческими телами за долгие дни и ночи. На полу подле огня лежал кусок полувысушенного мяса морского льва, нога гуанако
[17] и скелет огромной огнеземельской крысы коати
[18]. Искусно сделанная соломенная корзина и винчестер — единственные предметы утвари и охотничьих принадлежностей. В вигваме было тепло и сухо. В таком пристанище с меньшей затратой топлива и труда даже в самые жестокие зимние холода, несомненно, чувствуешь себя уютнее, чем в любом временном жилище белого.
Лежавшие на берегу лодки пришли в негодность и были, можно сказать, недостойны моря. Одна представляла собой бросовую плоскодонную лодку западного образца, другая — топорное ее подобие, сколоченное из широких досок плавникового леса, прибитого к берегу. Однако коати и останки гуанако свидетельствовали о том, что эти люди недавно пересекли если не сам широкий и коварный пролив у Тьерра-дель-Фуэго, то по крайней мере значительные водные пространства в южной части залива Альмирантасго.
Я одарил присутствующих шоколадом. Моя щедрость не произвела на индейцев никакого впечатления: они не полюбопытствовали узнать, что содержится в серебряной обертке, и, поблагодарив, положили плитки в карман или возле себя. Женщина помоложе попросила у меня мыла.

БУХТА ИИДИАН-КОВ
В сопровождении старика мы вернулись на «Кэтлин». Пока мы собирали для него разные припасы, он сидел на палубе и ждал. На фоне аккуратно прибранного бота вид у него был в высшей степени несчастный и неопрятный. Мы наградили его изрядным количеством табака, муки, сахара, мыльного порошка, бобов, спичек и хлеба. Он спокойно нас поблагодарил, сказав: «Не много, но все очень хорошее».
Когда я наконец проводил индейца на берег и с минуту постоял с ним на прощание, мне показалось, что пропасть веков, лежащая между нами, не так уж очевидна. Отчаянно нуждаясь в самом необходимом, не привыкший следить за собой, он был типичным представителем своего народа. Однако и среди просвещенных наций, населяющих землю, есть отдельные личности и даже целые классы, которых обстоятельства или собственный нрав низвели до того же положения. Есть и такие, кто, не поддаваясь цивилизации, ее тяготам и накладываемым ею обязательствам, предпочитают свободу бродяжничества. Каким же тонким должен быть налет культуры у человечества, если его представители, покоряясь желанию или обстоятельствам, могут с такой легкостью вернуться вспять на десять тысяч лет!
Мы помахали на прощание, но ответа не получили. Из темных хижин, притаившихся в лесной глуши, вновь выглянули две луны, словно они никогда и не покидали своего места. Если они нас увидели, то лишь потому, что наш путь пересекал линию их неподвижного и дальнозоркого взгляда, обращенного к морю. Так мало мы значили для них! Будь мы богами, нам была бы известна мера этого безразличия, но и только.
К вечеру, незадолго до темноты, мы вошли в бухту Индиан-Ков, расположенную на южном берегу залива Брентон, и отдали якорь. Пробыли здесь день и две ночи. Было совершенно тихо, моросил невесомый, словно туман, дождь. Он тихо шелестел на ровной, зеркальной глади воды. Из леса доносились сладкозвучные птичьи трели. Стаи диких уток и гусей кормились на пологом берегу или плавали вокруг нас. Зимородки бурно ухаживали за своими подругами: был брачный сезон, в самой тишине чувствовалось дыхание любви.
Какая-то речушка с широким и мелководным устьем несла свои воды в бухту. Она низвергалась водопадами с горных высот, бурлила в порогах глубокого ущелья, бежала через лесную мглу под сводом ветвей. С большим трудом я пробирался вдоль берега реки. Буйно разросшиеся растения-паразиты глушили лес. Мхи и кустарники густо оплетали внизу стволы живых деревьев, чьи корни вырывались из заболоченной земли, словно боясь, что она их удушит. Однако, не выдерживая несоразмерной тяжести своей собственной роскошной листвы и бремени лиан и лишайников, деревья падают — их поглощает всепожирающая растительность.

ПО ВОЛЕ ВОЛН
Земля в лесу повсюду загромождена, на повалившихся стволах деревьев крестообразно лежат другие стволы. Эти сырые, гниющие завалы поросли зеленью, прогалины между стволами заполнены тернистым подлеском.
Я недалеко ушел по реке и стал продираться вверх по отлогим склонам ущелья к голой вершине холма, где, как я надеялся, будет удобнее идти. Но даже там, под прошлогодним слежавшимся травяным покровом, была трясина, столь же вязкая, как и болотистые лесные ложбины.
На берегах Индиан-Ков виднелись следы нескольких стоянок, подобных той, что мы посетили. Заросшие высокой травой углубления, оставшиеся от вигвамов, напоминали похожие друг на друга гнезда неведомой огромной птицы. Остовы двух хижин еще сохранились. Они стояли в зеленой-зеленой живописной рощице возле бурливого ручья и, как те, первые, были обращены фасадом к воде.
Представить только, что можно здесь жить, обретаясь в покое — воплощении самых заветных желаний, и из уютной теплоты хижины долгими часами на протяжении многих дней и лет созерцать этот совершенный, застывший и вечный мир — море, горные вершины и звезды, созерцать до тех пор, пока глубоко не осознаешь всей этой красоты!
«И тогда спросил я Иезекиила, — пишет Блейк о своей беседе с пророком, — почему он ест навоз и так долго лежит то на правом, то на левом боку. Отвечал он: желание поднять других людей до понимания бесконечного в обычае у североамериканских племен, и можно ли назвать честным того, кто сопротивляется своему гению и совести из-за минутного покоя или удовольствий?»
Мы, одержимые борьбой за материальные блага, хвастливо назвали свой путь прогрессом. Однако нашу борьбу точно так же можно рассматривать как свидетельство вырождения, ослабления воли к свободе, вызванное бременем материальных тягот. Это ослабление воли — наш проигрыш, который мы из самолюбия называем жизненной целью. Жизненную цель, которая и есть отрицание свободы, мы зовем цивилизацией. И вот наконец без остатка и безвозвратно оказавшись вовлеченными в водоворот материализма, развратив человеческую душу беспокойством, мы сделали роскошь доблестью, а свободу предоставили лишь детям своей расы.
На вторую ночь нашего пребывания в Индиан-Кове погода прояснилась. С верхушек гор порывами налетал свирепый ветер. Он завывал в снастях и кренил судно. Волны сердито плескались у бортов бота. Ветер переменился.
ГЛАВА VIII
«КАТИТЕСЬ, ВОЛНЫ»

МЫ ОТПРАВИЛИСЬ в путь рано, в зловещий час, предшествующий рассвету. Звезды освещали безоблачное небо над черной гористой землей. Утро было ясное и тихое, без малейшего дуновения ветерка. Незаметно пришел рассвет, по небу разлились золотые лучи восходящего солнца, они зажгли горные вершины и затопили мир. Поднялся легкий ветер, тихо уносивший нас вперед. О свежий, чистый попутный западный ветер! В тот день мы благословляли тебя, на следующий — тоже, а затем проклинали твое упорство в течение пяти бесконечных недель, когда из попутного ты превратился в противный.
С попутным свежеющим ветром, гнавшим по небу облака, мы покинули пролив Брентон и пересекли проход к югу от островов Таккерс. Перед нами, точно по компасу, на востоке лежали зелено-голубые воды залива Альмирантасго, покрытые белыми барашками, осененные пурпурными тенями. Ослепительно сверкали на солнце снежные пики гор, блестели скалистые склоны; в ярком солнечном свете четко выделялись все детали ландшафта: обнаженные золотистые холмы, затененные таинственные лесные чащи, мрачные ущелья, в которых бурлили серебряные потоки. День был так роскошно прекрасен, что само обилие ветра и солнца уже опьяняло.
К востоку от мыса Роулетт страна становилась все более гористой. Обширные склоны гор усыпаны валунами и галькой, кое-где поросли карликовыми, изнуренными ветром лесами и кустарником. На обнаженных местах виднелись изрезанные морщинами трещин скалы или оскудевшие глетчеры. Внизу простирались широкие заболоченные равнины, а наверху лежал снег. Сквозь ущелья, рассекавшие горы, были видны величественные вершины и одетые снегом хребты, уходящие к югу. Из закованных льдом горных долин спускались глетчеры.
Проходя мимо мыса, за которым была расположена бухта Эйнсуэрт, мы увидели ледник — грандиозный, словно замерзшая Миссисипи. Широкая поверхность этой реки, изборожденная водоворотами ледяных глыб, казалась бурным потоком. Он обрывался у края воды нагромождением утесов полупрозрачного бирюзового цвета.
Мы плыли целый день с попутным ветром. Временами ветер переходил в штормовой. Волны, как горы возвышавшиеся над нашим суденышком, устремлялись за нами вслед, словно желая сокрушить бот. Они догоняли нас, вздымались вверх и, пенясь, убегали прочь. На этом обрывистом берегу немного гаваней, а между ними на протяжении миль почти нет отмелей или укромного местечка, где можно пристать. Так как до вечера было далеко и дул сильный ветер, мы решили не заходить в бухту Эйнсуэрт, рассчитывая, что за два с лишним часа хорошего хода достигнем следующей стоянки — бухты Парри. Мы не сомневались, что с таким неизменным попутным ветром придем туда еще засветло. Но люди разумные не полагаются на ветер.
Целых два часа царило полнейшее спокойствие, все замерло. Был отлив. Покачиваясь на мертвой зыби, мы беспомощно дрейфовали в двух милях от мыса, за которым начиналась бухта. В таком беспомощном положении пробыли весь день. Тени далеких западных гор погасили наконец самые высокие пламенеющие вершины. Наступила холодная ненастная ночь, и вот тогда поднялся ветер.
Когда обогнули мыс, ветер стал налетать свирепыми шквалами. Не было видно ни зги. Мы шли в темноту, доверившись карте, на которой едва заметным контуром обозначался берег. Несколько минут плыли прямо на юг; затем, предполагая, что находимся перед бухтой Стэнли, стали лавировать короткими галсами против ветра прямо на черный, как ночь, гористый берег. Рассказывая об этой стоянке, нас кто-то предупреждал, что придется пройти между двумя скалами. Напряженно всматриваясь, мы увидели, что они прямо перед нами. Держась круто к ветру, подошли ближе, рассчитывая, что хотя и с трудом, но пройдем между скалами. Свирепо завывавший порывистый сильный ветер внезапно переменил направление. На какой-то миг встали носом против ветра, дрейфуя на подветренную скалу. Затем помощник, быстро сориентировавшись, резко переложил румпель на ветер. Потравили шкот и отплыли назад, тем самым избежав опасности. На этот раз мы были от гибели на расстоянии морской сажени.
Беспрестанно промеряя глубину лотом, благополучно вошли в темную бухту и наконец, нащупав дно, отдали якорь на глубине пяти морских саженей.
Пока помощник приводил палубу в порядок, я спустил тузик и уплыл во мрак, чтобы отыскать и обследовать берег. Пришлось обшарить скалы на расстоянии приблизительно четверть мили, прежде чем я нашел пригодное для высадки место. Вытащил тузик на галечный берег и очутился наконец на мрачной Тьерра-дель-Фуэго. Ради этого я прошел почти семь тысяч миль!
Я стоял на каменистом берегу, покрытом глубокими мхами, по краю которых росли папоротники. На фоне звездного неба темнели мятущиеся силуэты изуродованных ветром деревьев. Надо мной возвышалась огромная черная гора с пятнами снега на склонах. Было холодно, ветер завывал в верхушках деревьев.
Душу мою волновали величие и волшебство этого неизведанного края, страх перед таинственными силами ночи, любопытство перед миром, скрытым во мраке, гордость от мысли, что я таки добрался сюда, и острое чувство униженности: так чуждо этому миру было мое я, такое ничтожное, незаметное и маленькое в безграничном, освещаемом звездами одиночестве.

ОСТРОВ КОРКХИЛЛ
На следующее утро с сильным попутным ветром мы отправились к вершине залива Альмирантасго. День был мрачен и угрюм. Волны темного моря, набегая на хмурый берег, разбивались в облако сверкающей пены. Северный склон состоял из отвесных скал в тысячу футов высотой. Меж их остроконечными вершинами с еще более возвышенных, покрытых снегом плато, лежащих за цепью прибрежных гор, текли реки и ледники. Это бездушный, холодный берег. А в тот день перед надвигавшейся бурей он выглядел трагически.
В самом конце залива Альмирантасго на восток тянутся две долины. Сам залив — продолжение этой глубокой расселины. Между долинами выступает в залив, образуя две бухты, гора Маунт-Хоуп. Это западная оконечность десятимильного горного хребта, который обрывается в том месте, где долины, понижаясь, сливаются и образуют ложе большого, расположенного внутри страны озера Фаньяно. Со стороны залива гора Маунт-Хоуп кажется одиноким куполом, стоящим вдали от остальных здешних гор.
К югу от Маунт-Хоуп залив отдан на милость яростного западного ветра и морских бурь. Единственное место для стоянки находится у пустынного островка, что в двух милях от Маунт-Хоуп и недалеко от побережья.

МЫС ХЕЙКОК
Хотя дул крепкий ветер, мы, чтобы не маневрировать, медлили заходить за островок. И вот тогда-то из-за своей неуклюжести в обращении со сложным переплетением румпеля и гика-шкота на тесной корме нашего бота я чуть не положил безвременный и бесславный конец своим приключениям. Свободный конец гика хлестнул с такой силой, что меня отшвырнуло в сторону и я перелетел через снасти. Я вцепился бог знает во что и повис наполовину в воде, скорее пристыженный, чем напуганный, и еще менее пострадавший.
Однако мы продолжали свой путь и, пройдя немного этим галсом, повернули на ветер и отдали якорь у подветренного берега острова.
На берегу залива, в полумиле от нашей стоянки, находились строения и загоны овечьей фермы. Пристав к берегу, мы отправились туда пешком. Это была маленькая усадьба: дом, один-два ветхих сарая, обнесенный забором кораль и купальня для овец.
Окружающая равнина была покрыта обгоревшими пнями — все, что осталось от леса. Уничтожение его отдало усадьбу во власть ничем не умеряемой ярости западных бурь, и это свидетельствовало о непредусмотрительности жителей здешних мест. Около дома на ощипанной овцами лужайке свалены в кучу отбросы, кости и гниющие полуобглоданные скелеты. Когда мы приблизились, два кондора оторвались от падали и, взмахнув огромными крыльями, поднялись к горным вершинам и улетели прочь.
Холодный ветер свистел в ушах, засыпая глаза песком, а мы все кружили вокруг дома, тщетно пытаясь уловить какие-нибудь признаки жизни внутри него. Потеряв всякую надежду на гостеприимство и обещанную себе чашку кофе, мы быстро направились к заливу.
Долина, в которой мы очутились, кончается у залива широкой плоской песчаной равниной. Благодаря овцам она превратилась из поросшего мхом пустыря в выщипанное пастбище. Песчаная дюна отгораживает ее от берега и немного защищает от постоянно дующих здесь ветров. Между северной границей долины и хребтом Маунт-Хоуп течет глубокая быстрая речка, настолько широкая в устье, что боту тех же размеров, что наш, обеспечена удобная и просторная стоянка. Мы решили привести сюда «Кэтлин» и отправились на разведку.
Когда добрались до берега реки, прилив достиг высшей точки, и море заполнило низовья реки, слившись с ее течением. Река стала глубже и шире, и перед нами оказалась гостеприимная, почти со всех сторон окруженная землей небольшая гавань.

БУХТА СТЭНЛИ
«Чудесно, замечательно!» — вскричали мы и поспешили к устью, чтобы исследовать вход в бухту. Он оказался не таким уж хорошим. В том месте, где река впадала в море, устье резко сужалось и проход был не шире тридцати футов. На одном его берегу была скала, другой представлял собой пологую, покрытую песком отмель. По одну сторону устья морской берег кончался рифами, по другую лежала извилистая линия залива с бушующим у ее черты морем. В этот час прилива при ветре, бороздящем поверхность воды, море около устья казалось достаточно глубоким, чтобы ввести сюда бот без всяких предосторожностей. Следовало пойти на риск, чтобы не оставаться на нашей открытой ветру стоянке.
Возвратившись, мы застали хозяина фермы дома. А теперь, чтобы эти страницы не сгорели в слишком жарком пламени неразборчивой любви к человечеству, я позволю себе удовольствие изобразить этого сладкоречивого лицемера таким мерзким негодяем, каким он и был на самом деле.
Существует много разновидностей негодяев. Есть индивидуалисты, которые, нарушая законы, делаются богачами, попадают за решетку или на виселицу — и дело с концом. Есть негодяи демократического толка, утверждающие, что все люди одинаково хороши. Эти грешат против бога, чтить которого — «значит воздавать должное его дарам в других, каждому в меру его гения, и больше всех любить самых великих людей: те, кто им завидуют или клевещут на них, ненавидят бога». Непочтительность — величайший грех. Но самый бесчеловечный из всех грехов — негостеприимность.
Если бы Гомес был человеком слабого здоровья, страдающим от несварения желудка и прочих немочей, и это несчастье отравило бы источник добра в его душе, этого было бы достаточно, чтобы ударами судьбы, выпавшими ему на долю, оправдать его безудержную злобу ко всему в мире. Но он не был слабым или больным. Наоборот, это человек сильный, плотный, загорелый, с бородой, какие встречаются у разбойников в сказках и романах. Глаза-не злые и не бегающие, их немигающий взгляд скорее напоминает спокойные глаза вола. Как мы постепенно удостоверились, Гомес жил в мире с богом и самим собой и соблюдал свою причастность к христианству молитвенным скаканием, криками, хлопаньем, стенаниями, катанием по полу, «козленьем» и завываниями, как и подобает пустоголовому представителю секты прыгунов.
— Входите, — сказал Гомес с кривой улыбкой, долженствующей выражать гостеприимство, когда я вручил ему теплое рекомендательное письмо его хозяина сеньора Марку. В письме тот просил оказывать нам всяческое внимание и помощь. — Мы бы охотно разделили с вами трапезу, но у нас почти нечего предложить. — И, заискивающе потирая руки, Гомес начал рассказывать, что воздерживается от винопития и курения табака, а также от грешного мяса гуанако, что он получает четыреста песо месячного жалованья, бесплатное довольствие и одежду. Пока он говорил, сквозь тонкую перегородку из соседней комнаты до нас доносилось беспрестанное монотонное бормотание: кто-то громко читал молитву. Вот оно прекратилось. Послышался звук двигающегося тела, и массивная фигура молельщицы заполнила дверной проем.
— Моя дорогая жена, — представил ее Гомес.
Лицо этой святой женщины напоминало физиономию гориллы. Маленькие, близко поставленные глаза, плоский нос, кости лица вытянуты в сторону огромного бесформенного жерла, называемого ртом, который открывался и закрывался, как западня.

У МЫСА ХЕЙКОК
В доме было не прибрано, грязно, мебель почти отсутствовала. На кухонной двери висели два текста из Библии в рамках, а в комнате, одновременно служившей и молельней, и спальней, громоздилось широкое, длинное, мягкое сладострастное ложе, покрытое овчинами, одеялами, покрывалами и пушистыми шкурами грешных диких гуанако.
— До чего погода скверная! — заметил Гомес. — Очень скверная страна, очень скверное пастбище, очень тяжелый год для овец, кругом живут очень плохие люди. Очень плохой человек Мюлах с озера Фаньяно: всегда пьян. (Muy mal pombre; siempre horracho!)
Мы спросили его мнение о стоянке на реке, сказав, что хотим перегнать туда свой бот. Он засмеялся, многозначительно и таинственно передернул плечами и уклонился от прямого ответа.
— Завтра, — сказал он, подчиняясь приказу, содержащемуся во врученном мной письме, — я поведу вас на озеро.
Мы думали не сразу войти в устье реки, подождать, пока не начнется прилив. Тогда бы уровень воды в реке поднялся и мы бы не сели на мель. Однако день выдался такой пасмурный, что в пять вечера под угрозой надвигающейся темноты мы снялись с якоря. Сильный ветер с быстротой, показавшейся нам невероятной, погнал нас к земле. Длинный отлогий берег тянулся сплошной линией, и устье реки нельзя было заметить, если бы не возвышавшийся утес. Когда мы обследовали подход к устью с моря, прилив достигал большой высоты и глубина казалась всюду одинаковой и достаточной. Однако теперь, приблизившись к земле, мы могли видеть в полумиле от берега буруны. Тем не менее, помня, что нам рассказывали о реке, а главным образом полагаясь на то, что Гомес ничего не говорил об опасностях, сочли благоразумным продолжать путь. Мы держали курс прямо в узкое речное устье, а по правому борту белели гребешки волн; впереди были рифы, налево — приближающийся скалистый берег. Внезапно вода под нами стала бледно-зеленой. Помощник кинулся вперед, чтобы измерить глубину, но было уже поздно. Большая волна перекатилась через нос
бота. Повернуть было некуда и некогда. Мы наскочили на риф.
Пенящиеся волны неслись мимо, и судно скрипело под их напором. Вот нахлынула еще одна волна, подняла нас и бросила вперед. Мы были свободны. Ветер придал нам скорости, и мы перемахнули через бурун.
Потом опять наскочили на риф; нас сняла еще большая волна, пронесла на своем гребне две сажени и коварно бросила вниз, да так, что бот застонал. Корма описала круг, мы прочно сели на мель, и на нас яростно обрушились ветер и море.

ОСТРОВ МЭСИ
Налетевший порыв ветра швырнул меня и помощника на бимсы. Море и ветер бесновались; мы спустили парус, бросили якорь.
До берега было с четверть мили. Почти стемнело. Вскоре прилив стал убывать, и мы очутились лицом к лицу с утихающим морем.
Для того чтобы достать запасной якорь и скрепить его грубо сделанные части, потребовалось всего несколько минут. В этих чрезвычайных обстоятельствах помощник опять проявил чудеса энергии, силы и молниеносной исполнительности. Вспененные волны захлестывали борта тузика, когда помощник с увесистым якорем, отягощенным громоздкой цепью, кинулся к борту с наветренной стороны. Там мы опустили якорь, размотав цепь во всю длину. Затем каждый раз, как большая волна поднимала бот, мы напрягали все силы, чтобы повернуть его нос по ветру. Снова и снова вытаскивали якорь из вязкого песчаного дна на борт, укладывали в тузик, помощник опять пускался с ним в море, но безуспешно: нос застрял прочно. Наконец через час изнурительной работы нам удалось повернуть корму по ветру. Два якоря, спущенные в воду с наветренной стороны во всю длину цепи и троса, удерживали судно в этом положении. Мы сошли вниз и стали ждать прилива или конца.

ГОРА СЕЙМУР
Чтобы защитить себя от ветра и сильных волн, время от времени захлестывавших корму, задраили двери в рубку, разожгли огонь, который успел погаснуть, пока возились с якорем. С тяжелым сердцем вкусили мы печальный отдых, единственно возможный при данных обстоятельствах.
Помощник по молодости лет, обладая большим опытом по части злоключений, смотрел на жизнь оптимистичнее, нежели я, но на этот раз он был удручен гораздо больше. Настроения наши образуют круг, его центр — причина, а радиус — мера несчастья. Пока помощник сидел, подавленный мыслью о повреждениях, нанесенных боту, я, смотревший на вещи более безнадежно, уже мысленно представил наше суденышко выброшенным на берег в виде груды обломков. Я считал это неизбежным, а следовательно, и пройденным этапом, и уже представлял себе, как мы потерпели кораблекрушение и потеряли бот, но сами остались живы и невредимы. Я намечал, что нужно спасти. В какой-то миг воображение нарисовало мне картину нашего триумфального похода на юг. Из самой законченности всеуничтожающего несчастья вставало солнце светлого нового мира. Мне смешно было видеть мучительные переживания и уныние моего помощника.
— Кати свои волны, глубокий синий океан, кати свои волны! — декламировал я с трагической дрожью в голосе.
И затем тихо и медленно, с интонацией, в которой слышались отзвуки мерной поступи судьбы, я прочел следующие строки:
Он тонет,
И его берет твоя утроба
Без плача, без креста,
Без имени, без гроба.
Полновесная горькая чаша, из которой пил мой помощник, вскипела весельем — он рассмеялся. Природа, думалось нам., переиграла свою драму.
Вспоминаю, как много лет назад, когда мои старшие дети были еще очень маленькими и все мы жили в крошечном однокомнатном заброшенном школьном здании на Среднем Западе, они впервые в жизни услышали гром. Раскаты его были так сильны, что, казалось, будто над нашей маленькой хибарой сотрясалась вся вселенная. Дети испугались. Тогда мы дали каждому из них оловянную кастрюлю и тяжелую кухонную ложку.
— Возьмите, — сказали мы, — и, когда опять грянет гром, колотите по кастрюлям изо всей силы, может быть, грохот будет сильнее грома. Это игра такая.
Они действительно стучали громче, и им это понравилось. С тех пор навсегда исчез и страх перед громом.
Но ни один звук в природе не мог быть более мрачным и мучительным, чем беспрестанное трение, скрежет, грохот, скрип, стенания нашего несчастного, швыряемого волнами суденышка. Тогда я достал свою прекрасную серебряную дорогую мне флейту и заиграл на ней. Если прежде она, пожалуй, никогда не навевала умиротворения ни единой человеческой душе, то в этот день флейта даровала покой самим несоответствием своего жалобного тона звукам, сопутствующим крушению.
А затем о-ля-ля! Силы разрушения словно смутились нашей трогательной беспечностью, и судьба вновь вернула нам благосклонность: вместо того чтобы только вздыматься на гребнях волн, мы обрели свободу и поплыли, проваливаясь в водяные ямы.
С новыми силами и энергией старались мы облегчить свое положение. Через час, то отдавая, то поднимая якорь, достигли достаточно глубокого места для стоянки. Она оказалась в высшей степени ненадежной и неудобной, но в кромешной ночной темноте не могло быть и речи о том, чтобы поднять паруса и искать другую. Измученные до крайности, мы легли спать.
ГЛАВА IX
ПОЖАР И РАЗРУШЕНИЕ
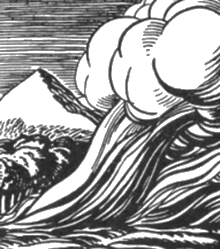
НА РАССВЕТЕ ветер и море утихли. Опять наступил отлив, и в более спокойных водах можно было разглядеть извилистые очертания залива. Было решено, что, пока я буду ездить с Гомесом на озеро Фаньяно, помощник отведет бот в устье реки, отдаст там якорь и на следующий день отправится ко мне на озеро.
В шесть часов на берегу появился Гомес верхом на лошади, ведя другую на поводу. «Великолепно, — подумал я, — на этой поеду я». Но на лошади было вьючное седло, которое владелец не собирался снимать. Приветствовав меня самой дружеской улыбкой, Гомес рысью пустился вверх по долине, а я трусил за ним, болтаясь на лошади где-то возле хвоста. О чем говорить людям, которые едва могут обменяться десятью словами, — так мало между ними общего. Однакю, находясь под впечатлением опасности, грозившей нам прошлой ночью, я все-таки сказал Гомесу, что он должен был предупредить нас.
— Да, очень скверно, — ответил он и злорадно рассмеялся. — У вас нет ружья, — заметил он, удивленный тем, что я безоружен. — У вас должно быть ружье. Вокруг много очень дурных людей и диких животных. Это тоже очень плохо. — У него на плече висел винчестер, а на боку — обычный массивный кухонный нож.
Путь шел по правому берегу реки сначала через широкое ровное зеленое пастбище, а затем вверх по долине. Поверхность была бугристая и трудная для подъема. Небольшие речки и обширные болота мешали продвижению и наконец заставили моего проводника спешиться. Теперь лошади стали обузой: они шли с трудом, иногда проваливаясь по брюхо в болото. Идти было почти невозможно: мы увязали в трясине. Она походила на влажную губку, глотавшую шаги, выматывала силы; ноги наши промокли насквозь. И все-таки мы продвигались довольно быстро.
До трех часов поднялись на несколько сот футов. Отсюда залив выглядел словно нарисованным на карте. Его маленькие, опоясанные дымчато-белыми полосками острова и белые гребешки волн казались крошечными цветочками на темно-синем лугу. Эта волшебная даль, прекрасный светлый день делали нереальным воспоминание о недавнем ужасе, пережитом в море. Нет ничего удивительного: перед величием бога все кажется незначительным.
Мы добрались до сухого места, укрылись в роще и расположились на отдых. Развели костер, погрелись у огня, подкрепились шоколадом, который я захватил с собой, и, оставив лошадей, пошли через лес.
Иногда сквозь деревья проглядывало расположенное внизу озеро. Это воодушевляло нас. Сухая почва и ровные, протоптанные какими-то живыми существами тропинки превращали ходьбу в истинное удовольствие.
Вдруг со стороны озера прозвучал выстрел. Прямо перед нами через освещенную солнцем просеку в стремительном броске промелькнуло что-то бело-золотое, какие-то движущиеся тела. Мы вышли на опушку. Мгновение помедлив, унеслась прочь стая грациознейших, похожих на оленей существ с бледно-кремовой лоснящейся шкурой. Это были прекрасные гуанако. Изогнув лебединые шеи, перемахивая через поваленные деревья, они устремились в сторону гор. Вот один из них остановился и, обернувшись, взглянул на нас с застенчивым любопытством. Внезапно его обуял страх, и он скрылся из виду.

ПАСТБИЩЕ ГУАНАКО
И там, где только что были эти красивые создания, снова воцарилась угрюмая пустота. С озера доносились грубые голоса людей, да Гомес, напрасно растрачивая патроны, стрелял по склону горы.
Среди гор Тьерра-дель-Фуэго спряталось озеро Фаньяно. Горная гряда защищает его от холодных южных ветров и оскверняющего, разрушительного вмешательства предпринимателей. Вряд ли найдется сотня людей, видевших это озеро.
Я стоял на небольшой, поросшей травой горушке. У моих ног далеко на восток до самого горизонта распростерлась гладь озера. Дальний берег его окаймляли пики гор, высившихся над горизонтом в шестидесяти милях от меня. Был полдень, теплое солнышко сияло на безоблачной северной стороне неба. Если не считать еле слышного далекого дуновения западного ветра, доносившегося с лесистых гор, тишина и спокойствие царили в этот час. Серебряные волны катились по траве. Серебром и золотом отливали топкие низины и блистающий берег, озеро было синее, распускающиеся деревья наверху нежно-зеленые. На фоне глубокой синевы неба снежные вершины гор слепили белизной. В ощущении красоты есть полные восторга мгновения, превосходящие по силе воспоминание или грезы счастья. В своей ни с чем не сравнимой драгоценности они столь же совершенны, как и вечно сущие звезды.
Тишину прорезал крик. Я обернулся и увидел, что ко мне пробирается опоясанный патронташем высокий парень с винтовкой.
— Где они? Куда они пропали? — орал парень. — Господи, да посмотрите же туда!
И, встав на колено, он тщательно прицелился в какую-то точку высоко на горе и выстрелил. По открытой возвышенности бежали три или четыре гуанако.
Охотник стрелял с лихорадочным упоением, затем, крикнув, что одного подстрелил, стремглав помчался по склону горы. Люди кричали, стреляли, собаки лаяли; сумасшедший гомон охотничьего карнавала доносился все слабее, уходя все дальше. Вот людей и собак уже не слышно и не видно: они скрылись в извилистых ущельях диких гор. А когда охотники после долгого отсутствия вернулись наконец обратно, высоко в горах, недалеко от покрытых снегом вершин, те же самые живые и невредимые гуанако изящно продолжали свой путь. Шумная охота была окончена. Охотник подошел поздороваться и пожал мне руку.
Это был здоровенный, добродушный, краснолицый, громогласный немец, по имени Мюлах. Щедрый и отзывчивый, он по-детски радовался встрече с незнакомцем, которому мог оказать гостеприимство. Только встреча в диком краю может дать истинное представление о дружелюбии и доброте людей. Итак, расставшись со своим святошей-проводником, я отправился с проклятым богом Мюлахом и его слугой чилийцем Хуаном на противоположный берег озера, где стояла усадьба немца Эстансиа Исабель.

ГОРА У ОЗЕРА ФАНЬЯНО
Мы погрузились в хлипкую плоскодонку и, пользуясь тем, что дул свежий ветер, поставили квадратный парус из клочка парусины. Через час, пройдя несколько миль, пристали к северному берегу озера. Лодку втащили в маленькую речушку и направились к дому, полускрытому кущей деревьев. Навстречу отцу, сияя от радости, выбежал хорошенький, краснощекий, голубоглазый мальчик с тонким голоском. На пороге дома стояла жена, радостно приветствовавшая нас. Я вошел в теплую кухню с таким чувством, словно и вправду возвратился домой. Вскоре мы насыщали наши изголодавшиеся желудки чудесным хлебом с коринкой, запивая чаем.
— Здесь, — проговорил хозяин с набитым ртом, — вам будет спокойно и удобно. Чувствуйте себя как дома и живите сколько хотите.
И мы действительно загостились. Случайная встреча задержала нас здесь на дни и недели. Наконец пользоваться добротой хозяев, благами их беззаботной и спокойной жизни, которые они нам предоставили, стало уже просто стыдно.
Эстансиа Исабель — единственное населенное место на озере Фаньяно, за исключением разве Силецианского и Индейского поселений на самой западной части побережья. Усадьба занимает приблизительно десять квадратных миль плоской луговины и лесного массива, окаймляющих северо-западный берег озера. Однако усердие встретило здесь помехи, настолько превосходящие действенность небольшого капитала и изобретательность пионера, что первобытный облик этой местности, казалось, вряд ли хоть немного изменился.
Жилой дом был главным строением фермы. Здание барачного типа, построенное из крепежного леса, состояло из четырех комнат, выходивших на крытую веранду. Кроме дома здесь были свинарник, курятник, один-два полуразвалившихся сарая, кораль, купальня для овец, захламленный сырой задний двор, усеянный невыкорчеванными пеньками, и огороженный сад — все это среди необъятного моря полусгоревшего леса. Над кладбищем поваленных стволов высились огромные уцелевшие деревья. Обнесенное забором пространство в несколько миль, так называемый лагерь, было покрыто лесами и болотами, и лишь изредка попадался небольшой кусок расчищенного, осушенного пастбища. А за «лагерем» стояли девственные леса, покрывавшие склоны гор.
На Эстансии Исабель жили Мюлах с женой и ребенком и два чилийца. А кроме них — три свиньи, несколько кур, шесть лошадей и столько же коров. Была весна. Немец лишь недавно приехал сюда, сменив управляющего чилийца.
В начинаниях и свершениях Мюлаха проявилась та замечательная способность к освоению новых земель, которая сделала немецких поселенцев Чили самой действенной силой в развитии страны. Свойство его натуры было таково, что сама обстановка хаоса и неустроенности, в которой он оказался, разжигала в нем неистовую жажду деятельности. Обилие неиспользованных ресурсов этого дикого края рисовало в его воображении картины благоустройства, процветания, и Мюлах с утроенной энергией обрушивался на препятствия, которые природа ставила на его пути. Вместо дремучего леса ему чудились обширные, хорошо возделанные поля, которые в теплой, солнечной, защищенной от ветров долине дадут богатый урожай зерна. Он видел стада жирных овец и коров, пасущихся на роскошных лугах, представлял себе, как сила горных речек превратится в энергию, лес даст бревна, из них построят сараи и дома. В мыслях своих он видел этот край многолюдным и процветающим благодаря трудам населения, чья оторванность от остального мира увенчается расцветом свободы.
И Мюлах не только мечтал об этом. Он окунулся в работу по разрушению дикой природы с энергией сумасшедшего, врезаясь, врываясь, врубаясь в джунгли, сгребая в груды ветви и поджигая их. Постепенно хаос, первоначально сопутствовавший разрушению, уступал место порядку, привносимому цивилизацией.
Как-то уже при нас Мюлах поджег большую груду мусора, лежавшую на границе леса и расчищенной площади. Дул сильный ветер. Через десять минут полыхал целый акр земли. Огонь перекинулся на самые высокие деревья, и они стали выбрасывать в небо такие языки пламени, словно это горели цистерны с нефтью. Вся местность, поросшая древними лесами, загроможденная буреломом и легко воспламеняющимся кустарником, с торфяными болотами, лугами с высокой травой была хорошим горючим для приближавшегося пожара. Скоту, овцам, мосту, изгородям на пастбищах — всему, что было на земле, угрожало разрушение, и никто не знал, как далеко на восток зайдут его границы. Ощущение неминуемой беды, адский жар, рев огня, его зловещие блики в наступающей темноте вселили в нас ужас. Мюлах, словно дьявол, носился в диком возбуждении вокруг пламени.
— Горит, а? Горит вся эта чертовщина! — кричал он. Мы кружили по лесу. Тьму освещал лишь пожар, бросавший мертвенные отсветы на далекие мрачные просеки. Вокруг занимались островки пламени.
— Ничего не поделаешь, — безнадежно сказал Мюлах. И вдруг с сентиментальностью, присущей только немцам, несмотря на близость огня и невыносимую жару, стал рвать ветки покрытой оранжевыми цветами калифаты
[19], чтобы сделать букет. «Пока они не сгорели», — пояснил он.

ОЗЕРО ФАНЬЯНО
Оставив на произвол судьбы ферму и все остальное, мы пошли ужинать и ели, сохраняя почти полную невозмутимость.
Три часа бушевал пожар. Он уничтожил валежник на ближайших просеках, часть деревянного забора, проник на некоторое расстояние в строевой лес, но здесь, не осилив сырости почвы, чудесным образом сник.
Было решено, что помощник приедет на озеро на следующий день после меня и оповестит о своем прибытии, разложив костер на противоположном берегу. Поэтому, совмещая утреннюю гимнастику с переправой через озеро, я, Мюлах и Хуан погрузились после завтрака в лодку и пересекли озеро в направлении широкой равнины, расположенной на его южном берегу на несколько миль ниже от места нашей встречи. Эта равнина казалась Мюлаху не только местом, где должны водиться гуанако, но и землей, обетованной для обширных фермерских пастбищ.
День был ясный, а неизбежный западный ветер в этот час был слишком слаб и не мешал грести. Мы находились еще далеко от места, к которому направлялись, но на диких лугах, окаймляющих берег, уже можно было разглядеть гуанако. Когда мы приблизились, некоторые животные спустились на песчаный берег и с любопытством разглядывали нас. Наконец мы подошли так близко, что спугнули всех, кроме одного. Гуанако медлил, с жадным вниманием наблюдая за нами, пока лодка не врезалась в берег. Тут он вдруг испугался, молниеносно прыгнул в рощу и исчез. Охотники бросились за ним, и в течение часа я был предоставлен самому себе.
Гуляя, я забрел на пятачок твердой сухой почвы, лежавшей между озером и обширным болотом. Здесь была настоящая глушь, куда не ступала нога человека. Но это чудное место напоминало парк, созданный самой природой: тонкоствольные деревья, лужайки, покрытые низкорослой травой, гладко утоптанные тропинки. Здесь было укромно, тепло и так тихо, что с берега вполне явственно доносился плеск волн. Это местечко принадлежало диким животным, а их и след простыл — печальное следствие вторжения незнакомцев.
Между тем охота продолжалась, и моя францисканская задумчивость была нарушена звуками выстрелов, свидетельствовавших об успехах охотников. Наконец вернулся чилиец. С гордым видом победителя он повел меня посмотреть на убитое животное.
Наш путь лежал через рощу высоких южных вечнозеленых деревьев коиуэ и так называемых буков, или робле
[20]. Вверху их густые ветки образовывали свод, под которым было темно и прохладно. Мягкий ковер травы и мха покрывал чистую сухую почву. Повсюду виднелись запутанные тропинки гуанако. Это был гуаначий рай. Ничем не нарушаемое существование в течение многих веков способствовало тому, что эти благородные животные наложили на саму пустыню отпечаток спокойствия, свойственного их натуре.
Мы подошли к широкой, быстрой, сверкающей на солнце реке. Сквозь прозрачную воду, как драгоценные каменья, блестела коричневая галька. Калифата хронила цветущие ветви в поток.
— Здесь, — сказал чилиец.
В мелкой воде около противоположного берега реки скорчившись лежал раненый гуанако. Он спокойно смотрел на нас, вытянув длинную шею. Чилиец бросил камень и попал ему в бок. Животное попыталось взобраться на берег, но свалилось опять, снова устремив на нас спокойный взгляд. Я приказал парню застрелить животное. Пуля угодила ему в ухо. Гуанако подпрыгнул и упал, его длинная лебединая шея медленно выгнулась в сторону воды; припав к воде, он пытался пить, но голова его бессильно поникла, и широкая струя алой крови хлынула изо рта; вода в реке покраснела.
Появился немец. Он застрелил еще одного гуанако в двух милях вверх по реке. В течение нескольких часов пустыню оглашали крики, плеск воды и грохот, пока мы переправляли туши через отмели и стремнины реки и преодолевали коварное течение в озере. Уходя, мы поджигали покрытые высохшей травой луговины, и скоро дым большого пожара окутал все вокруг. Таким образом, наше отступление среди пламени и трупов чем-то напоминало победоносный военный поход.
Запачканные кровью туши вытащили на берег озера. Я увековечил фотоаппаратом охотничью группу упоенных победой героев и трупы животных на фоне мирных далеких гор и неба.
Но день еще не кончился. Сколько мы ни смотрели, сигнального огня помощника не было видно. Погрузив гуанако в лодку, усердно заработали веслами, направляясь к условленному месту встречи. Лодка осела под тяжестью груза. Дул сильный ветер. Солнце уже клонилось к закату, когда, подойдя к назначенному месту с подветренной стороны, мы пристали к берегу, чтобы отдохнуть. Уселись на склоне холма. Теплое солнце пригревало нам спины. Внизу в тени холма на ровном, изогнутом полумесяцем берегу виднелась наша лодка. Заходящее солнце позолотило горы, на синее озеро опустилась вечерняя тишина. Очарованные этой совершенной безмятежностью, мы долго сидели молча, а потом я тихо прочел Мюлаху сонет, в котором чувствовалось дыхание такого же космического покоя:
Идя к себе домой, внимал он с наслажденьем,
Как звонкий соловей в тиши вечерней пел,
Следил за облаков медлительным движеньем.
Скорбел о том, что день столь быстро пролетел.
Так ангела слеза сверкнет одно мгновенье —
И нет ее. И всех такой же ждет удел…
Вдруг неподалеку от нас, в чаще, раздался треск ломаемых сучьев. Оба охотника схватили ружья и бросились на шум. Через час почти одновременно грянули два выстрела, раздались крики, треск сучьев. Я не мог воспротивиться отвратительному влечению и последовал за охотниками. Внизу, на дне темной лощины, густо заросшей красивыми деревьями канело
[21], среди обомшелых корней и поваленных стволов лежал раненый гуанако. На нем верхом сидел чилиец, крепко держа животное за шею. Оно билось из последних сил, пытаясь подняться на ноги. Охотники накинули на заднюю ногу лассо; гуанако, не чувствуя больше тяжести человеческого тела, вскочил, прыгнул и свалился опять.
Пуля раздробила ему переднюю ногу. Животное снова и снова бросалось вперед в безумной попытке обрести свободу. Это ему удалось бы, если б не тянувшее назад лассо. Отчаянно барахтавшегося гуанако вытащили на берег к самой лодке. Ослепленное ясным холодным дневным светом, обессилевшее, животное упало. Не сгибая длинной шеи, оно украдкой посматривало вокруг темными круглыми, как будто спокойными глазами.
Чилиец сел на него верхом, прижался щекой к морде животного и в то же мгновение, аккуратно приставив кончик ножа к горлу, вонзил его по рукоятку.
Мы свалили добычу в лодку, подожгли траву на холме и около зеленой рощи канело, уселись как могли поверх еще теплых туш и осторожно отправились в путь.
В сгущающихся сумерках плыли через озеро. Но еще долго после того, как тени окутали подножия гор и низины, с горящих лугов и деревьев золотистым столбом поднимался дым.
ГЛАВА X
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОМОЩНИКА

НА СЛЕДУЮЩИЙ день после охоты я, устрашенный неумолимой энергией и неотвязной добротой моего хозяина, заковылял в укромную лесную чащу в надежде дать отдых ногам, отвыкшим в море от ходьбы. Но не тут-то было: меня нашли и потащили на утомительную экскурсию по непроходимым болотам и джунглям на территории лагеря. Целый день мы напрасно ожидали увидеть дым сигнального огня, а когда наступил вечер, я начал беспокоиться, не случилось ли с помощником беды.
Рано утром, насколько позволяла медлительность чилийцев, я в сопровождении Хуана, более подходящего для меня человека из этой темпераментной пары, поехал верхом на пастбище за свежими лошадьми, чтобы завтра мы смогли отправиться в гавань. Пастбище представляло собой неогороженную прерию, и, чтобы согнать скот в одно место, надо было затратить час, день, а то и неделю в зависимости от того, как повезет.
Сначала мы ехали берегом. День был солнечный и ветреный. Бил прибой о прибрежную гальку, и его ледяные брызги окатывали нас с головой. Одежда промокла, холод прохватывал до костей. В непрерывных поисках свежих отпечатков копыт мы пересекли границу Чили и вторглись далеко в пределы Аргентины.
Наконец мы нашли следы. Они вели через болота, в которые наши лошади проваливались по брюхо, шли через заросли куманики и беспорядочно разбросанные рощицы чахлых низкорослых деревцев, пересекали дороги в величественных лесах, устремляясь по ровным тропинкам, протоптанным гуанако. Лошадей нашли на зеленой прогалине в лесной глуши. С помощью лассо Хуан трех поймал. Мы повели лошадей на озеро, а оттуда бешено поскакали домой; пойманные лошади бежали впереди.
Было пять вечера. Миссис Мюлах, некрасивая миниатюрная англичанка, неутомимая, опрятная, раздражительная, добрая и великодушная, готовила ужин. Быстро постукивали ее башмаки по деревянному полу, пока она бегала по узкому кругу своей судьбы: печка — стол — погреб — сусек.
Тянуло знакомым запахом бараньего супа.
— Ужинать! — заорал Мюлах, подходя к двери.
Гавань, в которой расположена Эстансиа Исабель, находится в северной из двух бухт, в конце залива Аль-мирантасго. Она называется бухтой Джексон. В долине к северу от хребта Маунт-Хоуп проложена плохая дорога в двенадцать миль, по которой осуществляются все сношения Эстансии с внешним миром.
На следующее утро я с Хуаном в качестве проводника отправился в гавань, ведя на поводу лошадь для моего помощника. Дорога была отвратительная. Иногда встречались бревенчатые мостки, или очень ветхие, или же к ним невозможно было подойти из-за трясины, — уж лучше совсем ими не пользоваться. Переправляясь через болото, нужно почти всегда предоставлять лошади выбор дороги. Непогрешимый инстинкт подсказывает этим маленьким туземным лошадкам, где можно безопасно пройти. Они часто останавливаются и отказываются ступить на гиблые места, которые человеческому глазу кажутся совершенно сухими и твердыми. Столь же уверенно лошади ведут себя и в лесу. С какой бы скоростью они ни бежали через лабиринт молодых зарослей, они никогда не ошибутся, где можно прыгнуть, а где обойти вокруг или пойти прямо. В то же время они абсолютно не считаются с ростом всадника, и ему иногда грозит участь Авессалома
[22].

ЗАЛИВ АДМИРАЛТИ-САУНД. ВИД С ГОРЫ
Мы проехали три четверти пути, прежде чем увидели гавань и залив Альмирантасго. Несколько миль дорога лепилась вверх по горе, а долина оставалась справа, постепенно уходя вниз. Прямо перед нами на фоне неба резко вырисовывалась вершина пологого холма, и казалось, за ним уже ничего нет. Дорога вела через вершину. Там нас встретил дикий пронизывающий ветер и внезапно открывшаяся широкая панорама залива.
День был облачный. Неспокойные воды сверкали, как жидкий металл, между уходящими вдаль темными, словно железо, стенами гор. На западе в прозрачной дымке виднелись вершины острова Досон. Пренебрегая опасностью, мы рысью спустились по каменистой тропинке с холма в низину, где была гавань. На этой безлесной и безводной равнине ветер дул с обновленной яростью, словно пытаясь преодолеть сопротивление стоящих на пути гор. На ровном песчаном берегу залива, там, куда чуть ли не доходил прилив, стояла неказистая хижина, служившая местом ночлега для людей с Эстансии Исабель во время их случайных наездов в гавань. Хижина так пострадала от морских брызг и песчаных заносов, что сама казалась выброшенным морем обломком.
Недалеко от хижины на лугу стоял деревянный крест над могилой неизвестного, который, видимо, не вынес тоскливого одиночества и покончил самоубийством. Вечный шум прибоя, набегавшего на берег, широкие отмели залива еще больше усугубляли ощущение одиночества, вызываемого этой картиной.
Подкрепившись горячим кофе и хлебом, мы начали долгий, медленный обход горы Маунт-Хоуп спереди, чтобы достичь южной бухты. Взбираясь вверх с одной лесистой кручи на другую, мы достигли сравнительно плоской вершины горы. Здесь между широкими уступами скал тоже было болото; карликовые деревья почти лежали на земле — свидетельство торжествующей силы западных ветров.
Уже на следующий день после прибытия на озеро, я пытался заглушить в себе беспокойство о судьбе «Кэтлин». Сохранять философское спокойствие помогала лишь моя вынужденная пассивность. Однако теперь, когда за каждой возвышенностью, на которую мы поднимались, за каждым уступом, который огибали, можно было увидеть другой залив и узнать, что за несчастье приключилось с моим ботом и что помешало помощнику встретиться со мной, я оказался во власти самой черной тревоги. Я уже собирал все свое мужество, чтобы не дрогнуть, увидев берег, усеянный обломками судна: мое воображение очень живо рисовало эту картину. Но мы шли дальше и дальше, убыстряя шаг, а на нашем пути вырастали все новые препятствия. И вот уже я не мог идти быстрее: я устал. Утомление и напряженное ожидание заставили меня поверить в мрачные предчувствия.
И вдруг за изгибом мыса, по которому петляла наша тропинка, показался залив. Но не весь! Сначала мы увидели дальний южный конец длинного берега, покрытый ровным, чистым, без единого пятнышка, песком, у границы которого разбивались высокие темные волны. По мере продвижения вперед однообразная картина приобретала ясный возвышенный драматизм истинного искусства. И чем ближе был берег, тем все громче становился рев волн.
Наконец море зазвучало во всю мощь, разбиваясь о сотню рифов и островков, расположенных прямо над нами. Мы окинули взглядом развернувшуюся картину. Перед нами лежал залив. На длинном пустынном берегу не было ни кустика. Устье реки прорезало берег; ее чистые воды не встречали на своем пути ни малейшей преграды. И там, в защищенной от моря бухточке, где за дюнами река разливалась всего шире, качалась на волнах надежно бросившая якорь малютка «Кэтлин». Никогда еще взгляду не представлялось более радостного зрелища!
Нет необходимости рассказывать, с какой быстротой пробежали мы полмили, отделявшие нас от бота, как громогласно звали помощника и просили перевезти нас на бот. И вот мы сидим в теплой каюте за чаем, а помощник рассказывает о своих приключениях.
В день моего отъезда на озеро помощник, дождавшись прилива, поднял якорь и, не втаскивая его на палубу, направил бот в русло реки. Добравшись до устья, он попал в сильное течение, но с помощью благоприятного ветра благополучно преодолел течение и отдал якорь в лагуне, расположенной на некотором расстоянии ниже моста.
На рассвете следующего утра помощника разбудили удары судна о дно. Оказалось, что сильным течением якорь протащило по зыбкому галечному грунту. Помощник вытащил якорь на мыс, расположенный ниже по реке, зарыл его на три фута в песок и завел на мост два кормовых конца. Но под воздействием приливов течение было так сильно и изменчиво, что он отложил поход на озеро еще на день.
Однако назавтра поднялся ветер — новый угрожающий фактор для «Кэтлин» и ее нестойкого якоря. Несмотря на шквал, якорь выдержал, и день прошел без каких-либо неблагоприятных происшествий. Однако беспокойство не оставляло помощника, и он лег спать не раздеваясь. Ветер превратился в шторм. В час ночи прилив достиг места стоянки «Кэтлин» и, преодолев противоборствующую силу течения, отдал бот на милость ветра. Якорь сорвало, помощник проснулся от грохота: судно билось о мост.

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ АСОПАРДО
До четырех часов, пока прилив не пошел на убыль, помощник, словно привязанный, сидел на мосту и отталкивал от него «Кэтлин». Ему удалось сделать то, чего не смог якорь, — этот случай показывает, как силен и вынослив был мой помощник.
Однако неприятностям подобного рода настал конец. С носа «Кэтлин» мы завели два якоря и прикрепили их к корням деревьев, росшим ниже по течению, а нормой накрепко пришвартовали ее к мосту.
Хуан тем же вечером вернулся в гавань. На следующее утро, тяжело нагруженные различными деликатесами («любимыми пикулями» миссис Мюлах), мы догнали его и пустились в обратный, ничем не примечательный путь на ферму.
Мюлах приветствовал нас от всего сердца. Словно празднуя наше возвращение, он поджег огромную кучу хвороста. Мы сидели в темноте вокруг костра и смотрели, как искры летели ввысь и гасли там, где-то около звезд. Такая абсолютная восхитительная тишина стояла на земле, что у меня возникло чувство, будто все здесь мое, что я никуда не уезжал из дома. Словно по мановению волшебной палочки, это минутное настроение сделало нереальным тот факт, что между мной и домом пролегли семь тысяч миль и месяцы путешествия. Настоящие место и время стали иллюзией, а иллюзия превратилась в действительность.
Жаркие драконьи языки пламени жадно лизали ночь. Мы могли целыми часами лежать и зачарованно смотреть на огонь. Он символизировал дух, пожирающий нагромождение отбросов материального мира. И наконец сама возвышенность покоя помогала нам постичь сокровенные красоты всемирного духа. Такое состояние недолговечно. Необузданной энергии Мюлаха мечтательность была противопоказана. Он вскочил, стал вырывать кусты с корнем и, словно дьявол, все подкидывал сучья в огонь.
Хотя неутомимость Мюлаха почти совсем измотала меня, главное испытание для нашей выносливости было еще впереди. Наш хозяин целыми днями толковал об экспедиции (я расскажу об этом в особой главе) — такое огромное значение мы ей придавали и столько вызвала она предварительных обсуждений.
ГЛАВА XI
ВЕЛИКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

НАМ ПРЕДСТОЯЛО проложить дорогу через высокие горы, расположенные севернее Эстансии Исабель, к обжитой местности, которая простиралась к северу от гор до Магелланова пролива и к востоку до реки Рио-Гранде. По многим причинам было важно иметь здесь средство сообщения. Мюлаху казалось, что нужно отправиться в экспедицию сейчас, пока мы гостили у него. Нам тоже это начинание казалось привлекательным, и в то же время оно немного пугало нас из-за неутомимой энергии нашего проводника.
В тот памятный день мы с Вилли
[23] поднялись почти вместе с солнцем и стали одеваться. Пришлось ждать несколько часов, прежде чем проснулись остальные обитатели дома. После завтрака мы начали собираться в дорогу. Решили идти пешком, а продовольствие навьючить на лошадь. Мы должны были провести в походе по крайней мере ночь.
— Что мне брать с собой? — спросил я начальника экспедиции.
— Ничего! Увидите, как мы здесь устраиваемся. Разожжем большой костер. Ляжем около него. И ничего больше не надо. Одеяла? Нет, и одеяла не берите. Палатку? Обойдемся без вашей палатки. Моя достаточно велика. Если начнется дождь, места хватит всем.
У меня были некоторые удобные в походе вещи, которые я робко предложил захватить с собой, но услышал в ответ, что незачем размениваться на такие пустяки. Однако мой большой металлический чайник был милостиво принят. Я ухитрился затолкнуть в него несколько пачек супового концентрата и четыре чашки, хотя Мюлах сказал, что для четырех людей достаточно и одной. Мы обменялись с Вилли понимающим взглядом и решили не противоречить. Так или иначе, когда лошадь навьючили, на ней оказалось много тюков и свертков.
Мы отправились в дорогу. Миновали последние угодья фермы и вошли в лес, где еще не ступала нога человека. Легко одолели подъем к горному ущелью, через которое должны были пройти. У меня был компас, и я шел впереди, выбирая дорогу, понемногу расчищая ее от бурелома. За мной следовали Мюлах с большим мясницким ножом и Хуан с мачете. Срезая сучья и молодые деревца, которые мешали идти, они прокладывали путь для Вилли и лошади, замыкавших шествие. Некоторое время мы шли по ровной тропинке гуанако, которую мне посчастливилось найти. Отбросив сухие сучья и ветки, я настолько улучшил тропинку, что, пораженные ее шириной и красотой, мои спутники в один голос нарекли ее Камина Кент
[24]. Под этим названием она и останется в моей памяти независимо от того, какое имя ей сочтет нужным дать потомство.
Лес был сухой, негустой. Благодаря усердной рубке, которой занимались наши пионеры, мы успели много пройти и вскоре после полудня оказались на склоне горы, в ущелье. Перед нами открылся новый склон, возвышавшийся по другую сторону реки. Мы сделали привал, чтобы поесть. Хуан отправился на безуспешные поиски гуанако, Мюлах жарил на деревянном вертеле баранину, я готовил чай.
Дальше идти стало труднее. Крутой гклон горы весь порос кустарником; согбенные, изуродованные ветром карликовые деревья преграждали путь. Кое-где лежал снег, и лошади нелегко было продвигаться вперед. Пятна снежников все увеличивались, превращаясь в сплошные снежные поля, местами мы проваливались в снег до пояса. Внизу между крутыми лесистыми берегами бежал стремительный поток. Выше, над нами, не более как в трехстах ярдах, виднелась еще более крутая тропинка, но она была уже за пределами зарослей.
Я пошел вперед, чтобы испробовать этот путь. Мне пришлось продираться вверх через такой густой настил карликовых деревьев, ползти по их верхушкам, проваливаться в щели между корнями и стволами, что я только диву давался, как вообще сможет пройти здесь лошадь. И все-таки она прошла. Мы достигли свободного от леса пространства и направились через черные мхи и низкорослый кустарник, скользя по камням или проваливаясь в ямы, занесенные снегом. Над нами возвышались крутые горы. Их зубчатые, кое-где заснеженные вершины вырисовывались в высоком небе. Далеко внизу, в долине, над зелеными верхушками леса синело озеро. За ним высились покрытые снегом горы, их южный склон спускался к морю.
И вот мы достигли высоты, откуда проглядывалось все ущелье, которое предстояло пройти. Выход из него был закрыт горой, такой же высокой, как и те, что поднимались с обеих сторон. На восток путь лежал только в обход. За долиной, по которой бурлил поток, начиналось возвышенное ровное пространство, покрытое травой и окруженное холмами. Здесь была зима. Холодные голубые тени наступающего вечера окутали окрестности. Лишь между вершинами гор летели сверкающие стрелы лучей, посылаемые заходящим солнцем; они освещали и верхнюю кромку ущелья.
По скользкому склону, а затем по глубокому снегу мы свели лошадь на речной луг и там оставили ее пастись. Освобожденный от своей обязанности коновода, Вилли устремился вперед. Пока мы с Мюлахом тащились по снегу туда, где ожидали найти проход, его крошечная и темная на фоне широкого, покрытого снегом пространства фигурка уже поднималась к отвесным скалам, загораживавшим тропинку.

У ГРАНИЦЫ ЛЕСА
Благодаря усиленной тренировке предыдущих дней и возбуждающему великолепию этой горной страны я чувствовал себя сильным и свежим, словно день только начинался. В любом новом открытии есть своя поддерживающая силы радость. Ее питает присущая человеку вера в то, что за каждой преодоленной высотой скрывается сказочная страна.
И я предложил Мюлаху:
— Давайте пойдем вперед. Хуана вместе с лошадью отошлем обратно домой и проверим, действительно ли здесь нельзя пройти.
К моему удивлению, Мюлах отказался.
— Дайте мне ружье, — настаивал я, — или остатки баранины. Больше ничего. Мы с помощником сами найдем проход. А потом осмотрим окрестности и вернемся другим путем.
— Нет, нет, — повторял он упрямо. — Мы должны держаться все вместе.
Тем не менее мы взобрались на самую высокую точку ущелья — закругленную площадку, покрытую снегом неведомой глубины. С этой высоты мы заглянули в другое необъятное ущелье — долину, которая вела на юг, к озеру, и на север, в горы, где она терялась из виду. Огромные, монолитные стены гор окружали долину со всех сторон. Угрюмый лес покрывал их крутые склоны до самого подножия, где они сходились, образуя узкое ущелье. Золотистый вечерний свет, освещая вершину, западал в долину с северной стороны, и казалось, мы видим дальние поселения, окруженные зелеными лугами и пастбищами.
— Шевелись! — крикнул я отстававшему Мюлаху. — Будем идти до темноты, а проход найдем!
Мне удалось его воодушевить, хотя и ненадолго. Мы начали вместе спускаться по снежному склону, проваливаясь до колен. Прошли приблизительно сотню ярдов, и Мюлах остановился.
— Нет, давайте вернемся, — раздраженно сказал он.
И вдруг я понял, что он устал. Но если бы и я сам умирал от усталости, то не сказал бы ему об этом. Так сладко было отомстить за все те мили, которые я, несчастный, обливающийся потом, тащился за Мюлахом по трясине, болотам, речному дну с его мертвым гуанако. Когда он повернул вспять, к дому, я шел следом и красноречиво понуждал его карабкаться вверх. От этого его решимость попасть домой или хотя бы устроить привал еще более окрепла. Он на лошади вернется к тому месту, где мы завтракали, предложил Мюлах, и все там приготовит для ночлега.
Мы расстались. Я взобрался на гребень горы, разделявший две долины. На северном склоне, где я остановился, снега не было. Там, где оползни не покрывали или не увлекли с собой верхний слой земли, росли густые зеленые мхи и красновато-коричневый вереск. Подъем был нетрудный, только на самом гребне у вершины я встретил препятствие в виде крутой, остроконечной скалы. Взобравшись, как мне казалось, на самую высокую точку, я увидел прямо перед собой верхушки гор примерно такой же высоты. Было уже поздно, и дальше идти я не решился.
Над западной цепью гор светило солнце, было тепло. Я уселся на мягкое ложе мха, закурил трубку и, переводя дух, с глубоким удовлетворением оглядел окрестности. Вдали виднелось огромное синее озеро. В нем отражались тени пурпурных облаков, гонимых западным ветром. Склоны гор и низины, поросшие густым лесом, были светло-зеленые от распускавшейся листвы. Их
освещало клонившееся к закату солнце. На расстоянии тридцать миль к югу в голубой дымке возвышались над летним пейзажем долины зубчатые пики гор Дарвина, покрытые снегами вечной зимы. Прямо внизу подо мной виднелись три маленькие фигурки: помощник, Мюлах и лошадь пробирались вниз по речной долине. Хуан в одиночестве шел на север, взбираясь на покрытую снегом гору.
Горные породы и скудная растительность на моей скале по густоте и яркости красок напоминали переливы цветов в каменистой заводи у моря, образованной приливом; мох на вид и на ощупь был похож на богатую вышивку церковного облачения.
Пока я сидел в своем высокогорном уединении, мне пришла в голову мысль: ведь я первый, кто поднялся на эту вершину. И так как гора, не представляя собой ничего особенного и выдающегося, никогда не имела названия, я окрестил ее в знак самых нежных чувств горой Барбары
[25].
Однако становилось поздно и холодно. Все мои спутники давно скрылись из виду. Я поспешил вниз, скользя по глинистым склонам, прыгая по мшистым кочкам, низвергая за собой пласты снега. Радостно шел я вдоль речной долины, распевая «Тело Джона Брауна». Когда я вступил в лес, уже смеркалось, и вскоре тени еще больше сгустились. «Вот хорошо, — время от времени думал я, — приду на стоянку, отдохну, обсушусь у большого костра, в котором пылают целые деревья. Может, и ужин готов. Господи! До чего вкусно будет!» И, подгоняемый разыгравшимся аппетитом, пустился бежать.
Добежал до условленного места — там было пусто. Вокруг — никаких следов присутствия моих спутников. Я снова отправился в путь, все время окликая их. Ответа не было. Сумерки в этих краях длинные. Еще можно было продолжать путешествие, но все же я, опасаясь надвигавшейся темноты, ускорил шаг. Я шел и кричал во все горло — мне отвечало лишь эхо. Прошел еще одну милю. Терпение мое лопалось, от негодования и ярости я уже собирался расположиться в одиночестве на ночлег, как вдруг далеко-далеко раздался ответный крик.
Я встретил помощника с лошадью и Мюлаха в самой чащобе, далеко в стороне от дороги. Лагеря не было и в помине, никто меня не ждал. Они вслепую продирались сквозь джунгли, объятые мраком. Немец, как безумный, рубил сучья, влезал на деревья, бежал, падал, поднимался и снова тащился вперед. Бедная лошадь спотыкалась в темноте о стволы деревьев, оступалась. Казалось, они спасаются бегством.
— Что случилось? — заорал я, налетев на них.
Мюлах остановился.
— Где Хуан? — спросил он запальчиво.
Я готов был убить его.
Казалось, Мюлах совсем сошел с ума. Страшась ли темноты или обезумев от усталости, он летел вперед в дикой надежде попасть этой же ночью домой. Он и не подумал о том, что оставляет нас с Хуаном без еды, что путь далек, ночь темна и лес непроходим, что лошадь не сможет в темноте пробраться через чащу.
— Что делать? — тревожно вопрошал он.
Я сказал, что надо устроить привал. Но для этого нужно было достать воды.
Мы вновь устремились вниз по склону. Мюлах прокладывал путь и дико кричал — звал Хуана. В темной болотистой прогалине сверкнуло озеро, и мы разбили лагерь в близлежащем лесу.

РАСЧИЩЕННЫЙ ЛЕС
Вилли был возмущен до крайности. Мы принялись с ним за работу, и скоро лагерь был готов. Разожгли большой костер — для тепла и маленький — вскипятить чайник. Принесли воды, нарезали ветвей для постели и сделали шалаш, чтобы укрыться от ветра. Мюлах! Не знаю, чем он занимался в это время. Увидев, как он пытается раскинуть палатку на бревнах и кустарнике, я сжалился над ним и выбрал для палатки более подходящее место. Пришел Хуан. Нет слов, чтобы описать пространный и праздный разговор, начавшийся между хозяином и его работником.
— Прежде всего, — сказал Мюлах, — переоденем носки.
Что они и сделали, рассевшись перед большим костром, который я для них разложил. Они были как дети, не способные рассчитывать заранее, не приученные к порядку.
— Сейчас вы увидите, — возгласил Мюлах, — разницу между южноамериканским и североамериканским способами приготовления пищи. Вам нужен горшок, а нам он ни к чему.
Тем временем закипел наш суп. Когда я налил им, мясо еще даже не было нарезано.
— Мясо вечером будем есть или оставим на завтрак? — беспечно спросил Мюлах. — Это баранья нога.
— Вечером, — ответил я.
После супа наступило долгое ожидание. Мюлах и Хуан сказали, что нм не хочется есть, и убрали почти весь наш небольшой запас хлеба. Пришлось варить кофе. И может быть, лишь полчаса спустя баранину по-южноамерикански сняли с огня и воткнули длинный вертел в землю между нами. Мясо было превосходное!
Стали укладываться спать. С лошади сняли тюки. Из них достали два пончо
[26]: парусиновый и из плотной домотканой шерсти, а также большое покрывало из шкур гуанако.
Все это вместе с овчинами, взятыми из-под седла, Хуан унес в палатку и сделал из них постель. Онемев от изумления, мы смотрели во все глаза. Но когда Мюлах, юркнув в палатку, жизнерадостно сказал: «Спокойной ночи! Здесь есть еще одно место, если хотите, располагайтесь», нам стало трудно дышать от невысказанных слов. Через несколько минут, улегшись на земле возле костра, мы услышали хорошо знакомый мелодичный храп нашего хозяина.
Одну неприятную ночь перенести нетрудно. Мы не взяли пальто, покрыться было нечем, а холод стоял леденящий. Мы немного посмеялись над нелепостью создавшегося положения. Помощник урывками спал. Я поддерживал огонь, радуясь, что для этого нужно было рыскать окрест в поисках топлива — на ходу хоть не замерзнешь, — разжигал яркий огонь и при его свете ходил по лесу, подтаскивая к костру поваленные деревья и вырванные корневища. Перед самым рассветом и я немного поспал.
Было совсем светло, когда я проснулся и поставил на огонь чайник. Из палатки вышел Хуан, стал мне помогать. Вилли спал сном младенца, он почти скатился в огонь. Когда завтрак был готов, мы позвали Мюлаха. Он вышел из палатки пошатываясь, еще полусонный, зажмурившись от света и протирая глаза.
— О, какая ночь, — простонал он. — Я глаз не мог сомкнуть.
Уж тут мы взяли реванш. Похваляясь необыкновенной выносливостью американцев, которые всегда спят на привале, ничем не укрываясь, мы сказали, что нам было чересчур тепло и даже пришлось ночью снять кое-что из одежды.
— Иногда, — разливался я, — если много снега и дует сильный ветер, мы делаем заслон изо льда. Но одеяла? Они нам ни к чему!
Мы опять вышли на вчерашний путь и поспешили домой. Дорогой поджигали дикие пастбища. Утреннее солнце зловеще просвечивало сквозь густое облако дыма. Вернувшись домой, Мюлах сразу же лег в постель.
Из гордости я не последовал его примеру и еще громче стал похваляться отвагой североамериканцев. За одни сутки я высоко поднялся в глазах моих хозяев и уже больше не сдавал своих позиций.
Так или иначе, а после этого эпизода Мюлах понравился нам еще больше. С «великой экспедицией» было покончено. Мы вернулись, не выполнив ничего, что с такой решительностью было задумано сделать; узнали, что безудержная энергия нашего проводника, как и его моральная выдержка, имеет свои границы. В конце концов мы познали человека. Пользуясь своим превосходством, я проницательно и участливо заглянул за скучные рубежи мужественности и отваги Там я увидел нетронутую целину наивности. То, что Мюлах захватил себе все покрывала, свидетельствовало лишь о безразличии уставшего человека. Он был добродушен и послушен, а это главное. По счастью, жена в него верила, даже обожала— и правильно делала. Если кому-то в холодную ночь нужно было одеяло, Мюлах, лишь попроси, отдал бы все, вплоть до последней шкурки гуанако.
— Но как же так получилось, — спросили мы у Хуана, — что все эти вещи оказались с тобой?
— Я их захватил, — ответил он, смеясь, — я-то его знаю!
ГЛАВА XII
ЗАДЕРЖИВАЕТ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ВЕТЕР
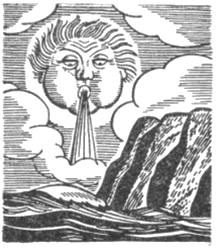
ВСЕ ЭТО время мы пользовались гостеприимством хозяев фермы по вине неблагоприятного ветра, из-за которого бессмысленно было пытаться покинуть залив Альмирантасго или хотя бы перевести бот из реки на более подходящую стоянку. Каждое утро мы первым делом бежали на берег и пристально оглядывали море и небо; каждый вечер, ложась спать, мы с той же тревожной надеждой смотрели вверх, раздумывая, переменится ли ветер на рассвете или нет. За исключением одного часа в сумерки, когда было спокойно, ветер все время дул
с запада. Мы возложили надежды на новолуние и стали ждать.
Наконец новолуние приблизилось, и мы стали готовиться к возвращению в гавань. На этот раз за лошадьми ездил с Хуаном помощник. Они вернулись обратно, когда уже темнело. К седлу помощника был приторочен молоденький гуанако. Безжалостно изувеченное поймавшей его собакой, животное еще дышало. Мы заперли его на ночь в сарай. Весь следующий день он там и пролежал, все еще живой, но не в силах подняться на ноги. Шея гуанако была гордо поднята, а кроткое кроличье выражение мордочки, к моему удивлению, никак не отражало испытываемых страданий. Я приставил дуло револьвера к основанию его черепа и выстрелил. Головка конвульсивно дернулась и бессильно упала. Я убил своего первого гуанако.
Когда все население мира сводится для тебя к двум-трем людям, расставаться с ними горько. Мы сказали нашей хозяйке много грустных прощальных слов и затем, нагруженные дарами — маслом, хлебом, бараниной и шкурами выехали в сопровождении Мюлаха и Хуана в лес.
Не считая того, что, как и прежде, лошади увязали в трясине, наше путешествие было ничем не примечательно. Правда, однажды моя лошадь, застряв на глинистом спуске, потеряла равновесие и покатилась вниз. При этом угрожала серьезная опасность, но не мне, а моему фотоаппарату и корзинке с яйцами, привязанными к седлу. С минуту лошадь беспомощно барахталась, болтая передними ногами в воздухе: она не могла подняться из-за мешавшего ей груза и наклонного спуска. Но мы тянули ее изо всей мочи, и после недолгих усилий она встала.
Мюлах восхищался элегантностью «Кэтлин», и мы безмерно этим гордились. Он остался до утра, наш первый ночной гость. Мы пичкали его деликатесами, тепло укутали на ночь.
— Когда-нибудь, — сказал я за завтраком, — вы приедете в Северную Америку навестить нас. Тогда вы узнаете, что такое настоящий американский кемпинг
[27].
И я рассказал, как однажды мне пришлось спать на льду почти голым.
А потом, не раз попрощавшись и выразив пожелание встретиться когда-нибудь еще, мы расстались с этим добрым, непосредственным, великодушным человеком.
Настало новолуние. В том, что это означает перемену ветра, согласны между собой все бюро прогнозов, календари, старые моряки, искушенные в капризах погоды проводники и охотники. Этого требуют рассудок, приличия и всеобщий закон перемены. Наша вера в это была порождена глубоким и жгучим желанием.

НАД БУХТОЙ ДЖЕКСОН-БЕЙ
Итак, вечером, когда на все сущее сошел долгожданный мрак, мы привели бот в порядок и улеглись спать пораньше, чтобы отплыть на рассвете.
А на рассвете не было ни малейшего ветерка. Однако в самом этом безветрии мы увидели предзнаменование перемены. Мы сошли на берег и вытащили якоря, спрятанные между корнями деревьев, ослабили кормовые концы, потом спустились в каюту, позавтракали и стали ждать. И вот поднялся еле заметный ветерок. Он был слаб, но порывист и чуть-чуть взволновал поверхность моря. Это был западный ветер. К десяти часам тучи затянули небо и все тот же западный ветер завыл, словно законы природы и наши надежды лишь подстегивали его ярость.
И опять потянулись дни ожидания. Ветер забавлялся стоящей на якоре «Кэтлин», как игрушкой. Прилив и речное течение образовали воронку вокруг бота. Даже в этом защищенном со всех сторон месте нас сильно качала мертвая зыбь. Мы не могли сниматься.
Снаружи было сыро и ветрено, да и в каюте вряд ли уютнее и теплее. Правда, иногда на час или четверть часа становилось так тепло и хорошо, что, казалось, будто опять наступило лето. Тогда овцы покидали свои лесные загоны и уводили маленьких ягнят порезвиться на широкие равнинные пастбища. Но немного спустя небо опять хмурилось, солнце скрывалось, со штормовым ветром вновь прилетала зима и укрывала снегом горы и долы.
В дни невольного заключения на нашей стоянке на реке Асопардо, когда границами мира были стены каюты, а самыми яркими событиями — выпечка хлеба и мытье посуды, дневник мой рассказывал не столько о действиях, сколько о жизни душевной.
«Сегодня третье ноября, — читаю я, — почти полнолуние, начинается прилив. Барометр показывает двадцать девять
[28]. Западный ветер все с той же необузданной силой, со свистом и воем свирепствует на стоянке. Поднимающаяся вода зловеще булькает, просачиваясь в трюм; волны с силой ударяют о борта бота и яростно обдают нас брызгами. Скрипит трос. Судно сильно качает, оно все содрогается, когда налетает шквальный ветер. Мне уже нет охоты предаваться грезам. Я ложусь в постель».
Но нелегко уснуть в ночь, подобную той, которую я запечатлел в своем дневнике. Я опять вспоминаю о ней уже по истечении известного времени. Вот я лежу в постели, прислушиваясь к бесчисленным звукам ночи. Непосредственная близость к тонкому борту суденышка позволяет мне всем существом почувствовать, как оно дрожит под неистовым напором моря и ветра. Казалось, о сне и думать не приходится, и вдруг я уснул. Сон перенес меня в воображаемый мир, трагический и полный опасностей, более страшный и столь же во всех отношениях реальный, как и ужасная действительность. Во сне я совсем не помнил о событиях дня, но проснулся с гнетущим воспоминанием о таких страшных испытаниях, с таким ощущением неисполнившихся желаний, что весь день находился под впечатлением ночных страхов. У человека есть две жизни — дневная и ночная. Последняя имеет над ним большую власть.

БУХТА ДЖЕКСОН-БЕЙ
Если бы я жил во времена раннего христианства, то богобоязненно считал бы эти ночные страхи дьявольским наваждением. Но, будучи жаждущим счастья язычником, я решил, что это душа предупреждает человека: хочешь жить в мире с самим собой, не предавай дружбы, любви и надежды.
Наконец настал пасмурный тихий день. Он предвещал перемену погоды. И вот около полудня тишина разрешилась — мы не верили своему счастью — легким восточным ветром. Поспешно подняв якоря и отдавшись быстрому речному течению, вышли через узкий канал в залив. На мгновение мы вспомнили об оставляемых на суше друзьях. «Прощайте, — кричали наши сердца. — Мы плывем на запад!»
Прошел час. Волнение стихло. Залив стал гладок, как зеркало. В нем отражались горы. Воздух был недвижен. Паруса повисли, как тряпки. Так продолжалось несколько часов. Мы дрейфовали, не в силах превозмочь прилив. Наконец подул ветер. Там, где он пролетал, далеко на запад побежала по воде темная дорожка. Начинался шторм. Небо почернело, когда мы достигли бухты Джексон и стали на якорь у ее северного берега.
И снова почти нестихавший штормовой ветер держал нас на якоре несколько дней. Как-то раз, усмотрев во временном затишье признак перемены погоды, мы подняли парус и вышли из бухты. Свинцовое небо, бледно-желтое. на западе, низко нависло над головой. Барометр упал. Стало темно, почти как ночью. Нас охватило внезапное предчувствие беды, и мы опять направились в бухту. Неистовый шквал гнался за нами по пятам, но мы уже отдавали якорь.
Хотя большую часть нашего вынужденного досуга мы провели в походах по окрестностям, любуясь величием высоких гор и зеленым сумраком рощ, бездействие раздражало. Горы уже не казались нам величественными, а пустынный край потерял свое очарование. Нас бесил неутихающий ветер. Он дул со все нарастающей силой на всем протяжении залива Альмирантасго, тянувшегося длинным коридором между стенами гор и скал. И если вверху ветер менял направление, то в фиорде, встречая сопротивление гор, он как бы устремлялся по одному руслу. Дул он порывами: мгновения почти полного затишья сменялись шквалами удесятеренной силы
[29].

НАША ЯКОРНАЯ СТОЯНКА В БУХТЕ ДЖЕКСОН-БЕЙ
К тому же у нашего судна обнаружились кое-какие недостатки. Его сильно сносило под ветер, и оно было неповоротливо. Мы нередко с разочарованием видели, что по время задержек теряли то, чего достигали за полчаса плавания. Приливы были стремительными. Они не могли существенно помочь нам, когда дул сильный ветер, а когда было тихо, мешали плыть.
Мой дневник хранит впечатления тех дней, которые мы провели в ожидании.
«Седьмое ноября. Начал писать поздно ночью. Уже два часа мы сидим в темной каюте. Сквозь решетку поблескивает огонь, распространяя по каюте слабое тепло. Завывая и креня судно на бок, налетает шквальный ветер, затем на несколько минут совершенно стихает. Бот тихо покачивается, волны ласково журчат за бортом, громко тикают часы. Больше не слышно ни единого звука. Затем опять где-то далеко-далеко начинают шуметь леса на склоне горы, шум приближается, становится все громче. Внезапно журчание воды и тиканье часов, звучавшие так громко, тонут в диком реве налетающего ветра».
Каждый вечер мы молча сумерничаем. Я часто играю на флейте, закрыв глаза, чтобы тьма казалась еще чернее. Мой спутник сидит, подперев голову руками. В эти тихие часы на нас нисходит мудрое познание самых глубоких человеческих потребностей.
Усталость уничтожает очарование путешествия. Мы ощущаем одиночество, у нас такое чувство, словно мы лишились всего, что придает жизни смысл. Движимые мучительной спецификой наших желаний, мы так далеко заехали, столько утратили, что начинаем понимать, какой из многочисленных и обильных даров жизни лучше всех. Но мы молчим об этом — так интимно и сокровенно это желание. И когда наконец внезапно в ночной темноте я спрашиваю своего спутника, чего он хочет больше всего на свете, он от неожиданности вздрагивает и, словно возвращаясь издалека, уклончиво отвечает:
— Попутного ветра, пройти через пролив Габриель.
Однако всему наступает конец.
— Помощник, — сказал я однажды тоскливым вечером, когда мы спустились в каюту. — Я хочу начать новую главу. Отплываем завтра во что бы то ни стало.
ГЛАВА XIII
«НОВАЯ ГЛАВА»

УТРО было хмурое. Дул легкий изменчивый западный ветер. Барометр показывал нормальное давление — около 29.07. Однако я считал, что эти спокойные симптомы еще ни о чем не говорят в условиях, когда погода постепенно меняется.
— Пожалуй, надо взять рифы, — предложил я нерешительно.
— Ни за что! — вскричал помощник. — Возьмем, когда нужно будет.
Так с незарифленным парусом мы и продолжали идти, потому что с самого начала положили слушаться наименее осторожного.
Помощник был храбрее, но это слепая храбрость. Я никогда не встречал человека более беспечного, безрассудного и упрямого. Он обладал просто каким-то даром упрямства, от которого его не могли излечить никакие испытания.
Он забывал, что было вчера. Его нисколько не трогало, что будет завтра. Воображение его спало. Он никогда не сомневался в истинности и непреложности усвоенных им практических навыков. А то, что его познания в искусстве мореплавания были приобретены во время службы на больших судах, в открытом море, заставляло его недооценивать характер ограниченных вод и небольших судов, а также советы людей, умеющих с ними обращаться. И на море, и в жизни он руководствовался правилом, которое на старом морском жаргоне звучало как «жми». И если когда-нибудь, мчась на всех парусах в море или на суше, он не пойдет ко дну, значит, безрассудство пользуется особым покровительством провидения.
Однажды, уже давно, я сказал ему: главное не в том, чтобы поднять парус, а чтобы дойти.
Пришлось махнуть рукой и отступиться: в конце концов мы ведь пустились на поиски приключений.
Целый час мы пытались выйти из бухты. Выход был узкий, и, кроме того, мешало скопление мелких островков. За это время бриз утих и небо зловеще омрачилось. Затем ветер опять посвежел, море от его прикосновения потемнело. В одну минуту взыграли волны, показались барашки, брызги обдавали нас с ног до головы. Барометр упал до 28.80.
Северное побережье залива Альмирантасго представляет собой грандиозную цепь скал. Меж их высокими, похожими на башни вершинами повисли ледники. Тающие снега обрушиваются с высоты тысяча футов каскадами и потоками воды. Наше суденышко казалось ничтожной скорлупкой у подножия этих великанов.
Ветер крепчал, и мы устремились под защиту острова Трес-Моготес, лежавшего в нескольких милях дальше, с наветренной стороны. Все паруса, кроме кливера, были по-прежнему подняты, и шквальный ветер заставлял соблюдать особую осторожность и зорко следить за ходом судна.
Мы прошли мимо острова длинным галсом на юг. Следующий галс должен был вывести нас к подветренной стороне острова. Небо с противоположного края почернело от бесформенных, низко нависших туч. Порывы ветра становились все сильнее, бот то и дело зарывался носом в волны. После того как мы в последний раз изменили курс, я оставил румпель и пошел вниз готовить ужин.

ЗАЛИВ АДМИРАЛТИ-САУНД
В следующий момент что-то произошло. Мне показалось, что ветер с ревом и воем обрушился всей своей мощью на бот. Нас сбило с ног. Я отлетел в угол, а все, что было в каюте, — стол, табуретки, консервные банки, часы, дымящийся ужин, — обрушилось на меня. Каким-то образом из этого низвергающегося хаоса вещей я успел выхватить то, что грозило самым большим беспорядком, — миску с кислым тестом и держал ее перед собой. Слава богу! Тесто не вылилось. Казалось, «Кэтлин» целую вечность лежит, сильно накренившись на один борт. Затем постепенно она приняла обычное положение.
Под завывание ветра мы спустили грот, взяли на нем два рифа и поползли к берегу. Волны смыли с палубы все, что не было привязано.
— Хороший бот, — сказал помощник, — иначе бы ему пришел конец.

ЗАЛИВ АДМИРАЛТИ-САУНД
Немного позже, когда мы стали на якорь у острова, я спросил помощника с притворной наивностью:
— Что надо делать, если ты на руле и налетает шквал?
— Спускаться по ветру, — ответил помощник.
Когда вот теперь я, здравый и невредимый, сижу на суше в безопасности среди холмов Вермонта и записываю ответ помощника, я твердо убежден, что дураков охраняет провидение.
Как только мы стали на якорь, я отправился на берег и порадовался, чувствуя под ногами твердую почву.
Пройдя по гладкой гальке, я вступил в рощу, окаймлявшую берег. Здесь росли огромные деревья канело. Кора их розоватого цвета, гладкая, как у березы. Листья напоминают лавровые, только еще глянцевитее и ярче. На ветвях канело порхали похожие на малиновок жирные птицы; грудки у них светло-оливкового цвета, спинки серо-зеленые, а лапки и клювы ярко-оранжевые.
У меня было в обычае на каждой стоянке сходить на берег с красками и холстом и, насколько позволяли время и погода, делать беглые зарисовки. Ветер и внезапные ливни часто заставляли прятаться в наскоро сооруженное убежище, где я либо пережидал непогоду, либо оставлял свои рисовальные принадлежности до следующего раза. На другой день после прибытия на остров Трес-Моготес я, захватив краски и большой кусок холста, пошел в северо-западном направлении. Над заливом возвышалась величественная громада северного берега. День был серый, промозглый. На черном фоне гор серебром сверкали каскады воды, низвергавшейся с покрытых ледниками круч. Я растянул холст, укрепив его обломками дерева, но едва принялся за работу, как хлынул проливной дождь. Пришлось мчаться с холстом под уступ скалы. Быстро соорудил из картины крышу и, скорчившись, лег на камни. Дождь стучал по холсту, словно бил в литавры. Было сыро и холодно, но, устроившись поудобнее, я заснул.
Долго ли спал, не знаю; меня разбудила тишина. Я вылез из своего темного убежища на солнечный свет. Буря утихла, наступило полнейшее безветрие. На солнце блестели мокрые скалы, кустарник был усыпан алмазами. Но горы! Кое-где освещенные солнцем, а кое-где закрытые тающей дымкой тумана, в которой радужно отражались воды вздувшихся бурных потоков, горы символизировали быстротечность этой мирной и тихой красоты.
В течение трех дней, что мы находились на острове, визиты западного ветра сменялись полным затишьем. Мы бы с удовольствием остались здесь на три недели и на три месяца: пейзажи острова очень разнообразны. Тут были очаровательные рощи, зеленые луга, прихотливо изрезанный берег. Остров лежал примерно на середине залива, и вид на окружающие горы был неповторимый. Однако мы столько раз задерживались, что испытывали неотступное желание снова отправиться в путь. Это, кстати, было необходимо, если мы хотели попасть на мыс Горн. Поэтому на исходе третьих суток твердо решили сниматься на следующий день независимо от того, будет ветер или нет и, если будет, то все равно какой — попутный или противный. И мы снова пустились в путь.

К СЕВЕРУ ОТ ОСТРОВА ТРЕС-МОГОТЕС
Когда поднялись на палубу, солнце уже встало, ночные туманы таяли на востоке и небо становилось ясным и голубым. Конечно, дул западный ветер. Он очистил небо и поднял волны. Несколько часов мы пытались выйти в море и взять на юг, но всякий раз возвращались почти к самому берегу, с разочарованием отмечая, как мало преуспели. В десять часов, дойдя лишь до бухты Парри и зная, что в этот день, сколько бы ни старались, нам не удастся достигнуть другой, мы вошли в эту бухту. Утихающий ветер постепенно донес нас до бухты Стэнли, где двумя неделями раньше уже стояли на якоре.
В спокойный день она выглядела совсем иначе. За эти две недели весна вступила в свои права, и на фоне темной хвои нежно зеленела распускающаяся листва. Кое-где на лугах и по берегу пробилась молодая травка. Около журчавшего ручья мы нашли каркасы двух индейских вигвамов, похожих на те, что встречались на острове Досон. Не знаю, какие причины заставляли индейцев выбирать то или иное место для своего жилья, но их представление о прекрасном соответствовало нашему идеалу задумчивой красоты. Очень может быть, что эстетика — проявление необходимости.
День был по-прежнему тих и ясен. После полудня поднялся легкий ветер, и мы направили свой бот к Баия-Бланке — юго-восточной части бухты Парри. Мы тащили на буксире тузик, а две овчины, которые нуждались в стирке, привязали к длинной веревке и волочили за собой по воде.
Где-то на побережье Баия-Бланки находилась маленькая лесопилка. Туда мы и направились: нам нужен был табак. Посмотрим это место, думали мы, достанем табачку и вечером вернемся в бухту Стэнли. Спокойно плыли мы по тихому заливу. Светило солнце, и кругом была такая красота, что мы почувствовали, как судьба становится к нам добрее. Мы были уверены, что отныне нашему путешествию будут благоприятствовать погода и ветер.
Тем временем незаметно для нас на западе появились тучи и внезапно закрыли солнце; стало пасмурно, и наше веселое настроение исчезло. Ветер усилился, мы гордо неслись по темным волнам, а белые барашки стремительно бежали вдогонку. Впереди во всю свою длину развернулся берег Баия-Бланки. Над ним подымались высокие снежные горы, с которых сползали к заливу ледники.
— Смотри! — закричал кто-то из нас. — Что там за дым клубится над водой около ледника?
Облака дыма тянулись над водой не только внизу над ледником, но уже окутали гористый западный берег. Через четверть часа мы узнали, какую бурю предвещает этот курящийся над морем дым.
Ветер стал штормовым. Мы взяли рифы у грота, но все равно на судне было еще слишком много парусов. Тузик за кормой все время нырял, его жестоко швыряло из стороны в сторону, и каждую минуту он мог опрокинуться. Туго натянутая веревка с овчинами еще более усугубляла рискованность этой безумной скачки. Мы пытались подтянуть тузик к боту, чтобы потом поднять его на борт, но с ним уже нельзя было справиться: так много в него набралось воды.

ПОКИДАЕМ БУХТУ СТЭНЛИ
Несмотря на поднявшийся в этой суматохе ветер, мы не успели взять еще один риф, поэтому сейчас старались спустить грот. Нок гафеля опустился, парус раздуло, как воздушный шар, — и дальше ни с места. В одно мгновение помощник влез на мачту и наступил на гафель. Парус упал, полотнище отчаянно забилось на ветру. Мы вытащили на борт упавший в воду гик и закрепили его.
Между тем за маленьким лесистым островком на западном берегу показались строения. Мы изменили наш курс на несколько румбов ближе к ветру, идя под стакселем, — этого было достаточно. Приблизившись к берегу, поняли, что означает дым над морем: с гор налетел яростный шквальный ветер и поднял фонтан мелких брызг, оседавших на нас облаками водяной пыли.
Земля близко. Однако на неудобном для стоянки берегу не видно ни одной подходящей бухты. С наветренной стороны на мертвых якорях качаются две лодки. Окутанные брызгами, мы мчимся к берегу над струящимися водорослями. Хлопает парус, бот плавно скользит. Звон якорной цепи, бросаемой в воду, ее вибрирующее трение, затем тишина — мы стали на якорь. Смотрим друг на друга и смеемся. А лес над нами кивает верхушками и шумит.
Убираем паруса, приводим в порядок палубу и смотрим, как в заливе бушует шторм. Через несколько минут там кружит бешеный водоворот.
ГЛАВА XIV
ДВА ДЖЕНТЛЬМЕНА

СТОЯЛИ МЫ приблизительно в пятидесяти ярдах от берега. Непосредственно над границей прилива расположилось длинное, похожее на сарай здание лесопильни. Напротив нее — маленькое строение, где, как мы потом узнали, находились контора и квартира управляющего. На заднем плане, представляя нечто вроде третьей стороны открытого, смотрящего на залив квадрата, тянулось длинное низкое здание, в котором жили рабочие. Из-под навеса у лесопильни выглядывал человек. Хотя мы приветствовали его со всей вежливостью, на которую были способны, он и головой в ответ не кивнул, а продолжал флегматично наблюдать за нами. Не очень-то это приятно, когда на тебя глазеют, да еще флегматично. Мы пробормотали нечто себе под нос по адресу этого нелюбезного парня.
Но представьте себе наш восторг, когда, подойдя на тузике к берегу, мы увидели, что парень стоит у самой кромки воды и в высшей степени доброжелательно улыбается. Он вошел в полосу прибоя, ухватился за тузик и помог нам вытащить его на берег.
— Добро пожаловать, — сказал он, пожимая нам руки и приглашая войти в дом обогреться. Здесь, в барачной кухне, где сразу же появился еще один человек, мы вкусили гостеприимство, которым пользовались затем несколько недель. Здесь началась незабываемая дружба.
Эти два пильщика чилийца — дон Антонио и Кудрявчик (его настоящего имени мы так и не узнали) — доказали нам, что джентльмены в романтическом смысле слова, то есть «те, кто обладает хорошими манерами, добрым сердцем, истинной добродетелью и чувством чести», водятся и вне пределов просвещения и традиций культуры. Они мало что знали о широком мире, они были невежественны, неграмотны и суеверны. Но даже их религиозные предрассудки отличались терпимостью.
— Однажды темным вечером, — рассказывал мне дон Антонио, — когда поднялся сильнейший ветер, пришел дьявол, завел лесопилку и распилил несколько бревен. Утром мы нашли свежераспиленные доски.
— Аккуратно распилил? — поинтересовался я.
— Отменно поработал, — ответил дон Антонио. Он не был ханжой.
Больше всего, пожалуй, меня трогало их уважение к моему ремеслу. Они деликатно покидали меня, хотя никто не внушал им, что я имею право на уединение. Только художник может понять, какую благодарность я испытывал по отношению к ним: они предоставляли меня самому себе.
Нельзя сказать, что мы поселились на лесопильне. Жили мы на судне и пребывали в постоянной готовности мгновенно сняться, если ветер станет попутным. Однако днем барак был нашим генеральным штабом. Мы и чилийцы, единственные обитатели этого места, постоянно обменивались любезностями, но при этом наши отношения имели некоторый оттенок официальной вежливости.
Единственным предметом роскоши, которым владел помощник, был дешевый портативный патефон со сломанной пружиной и тремя треснувшими пластинками. Починить их было нельзя, но я склепал концы пружины и, так как у нас с собой не было патефонных иголок, а только две швейные, сделал иглы из гвоздей. Теперь патефон был способен издавать приятное, отрывистое, но, честно говоря, ужасное подобие музыки. Мы часто носили на берег и мою серебряную флейту.

НАША ЯКОРНАЯ СТОЯНКА В БАИЯ-БЛАНКЕ
По вечерам я немного играл на флейте, а все вокруг сидели, вежливо слушая. Я играл задумчивые сонаты Бетховена, «Сурок» и другие избранные классические произведения, которые могли осилить мои потерявшие гибкость пальцы.
Когда концерт кончался, слушатели начинали откашливаться и говорили: «Lindo, muy lindo», что значило «очень хорошо».
Затем на патефоне мы проигрывали неповрежденную вторую часть пластинки «Что за славный дружок Мэри», и они опять говорили: «Lindo».
Все были очень довольны. После этого мы с аппетитом приступали к жареной баранине. Потом опять была музыка, недолгая беседа, и, многократно обменявшись приветствиями, мы направлялись в сопровождении наших хозяев на берег.
Ныне мир стал слишком тесен, поэтому некоторые привычки и обычаи цивилизованного мира проникли в самые отдаленные и дикие края. Наши друзья в Баия-Бланке ничего не знали о североамериканском политическом устройстве, почти незнакомы были с нашими коммерческими и научными достижениями, но до них дошло и произвело известное впечатление наше искусство. Кудрявчик не стригся уже целый год. Он этого немного стыдился. Действительно, вряд ли кто еще видел такую пышную курчавую шевелюру.
Узнав, что я некогда был парикмахером, он стал умолять подстричь его. Мне болезненно хотелось обкарнать его покороче, но он не дался.
— Подстригите меня по-североамерикански, — попросил он и подробно объяснил, что имеет в виду.
Строго следуя его инструкциям, я обстриг его локоны так, что над ушами белела полоска кожи и сквозь короткий жесткий ежик голубовато просвечивал череп. Впереди же я оставил черный кудрявый чуб, напоминавший хризантему. С профессиональным изяществом я сдернул с шеи моего клиента полотенце и поднес ему зеркало.
— Lindo! — вскричал он.
— Lindo! — вторил ему пришедший взглянуть дон Антонио.
С довольной и горделивой улыбкой Кудрявчик поблагодарил меня и сказал, что лучше североамериканцев никто не умеет стричь. Вот что на берегах Тьерра-дель-Фуэго знают об Америке!
Так в смене работы и досуга бежали дни. Иногда дул бешеный ветер, иногда умеренный, а порой наступало полнейшее безветрие, и тогда в гладких, как зеркало, зеленых, как нефрит, водах залива, опрокинувшись, отражались горы. Иногда наш наблюдательный взор усматривал, что облака изменили направление. В страшном возбуждении мы прощались с друзьями, выбирали якорь и отплывали. Но какие бы течения ни возникали в воздушном океане, внизу, в узкой щели залива, господствовал только западный ветер. Мы с трудом выходили из бухты, дрейфуя проходили милю-две и затем, обескураженные напрасной тратой времени, поджав хвост, смиренно возвращались обратно.

ДЕРЕВЬЯ, ИЗУРОДОВАННЫЕ ВЕТРОМ
В глубине бухты Баия-Бланка к берегу подходит большая ледниковая морена, она тянется в глубь побережья к зеленовато-голубому леднику. Этот ледниковый поток стекает к морю из глубины страны и символизирует запустение и одиночество, присущие антарктической зиме. На востоке ледник загораживает огромный плоский купол горы, покрытый льдом и чистейшим снегом. Между ней и более близкой горой на северо-восточном берегу Баия-Бланки простирается на юго-восток широкая долина. Так как на ее горизонте нет горного барьера, она кажется большой дорогой, ведущей на юг.
На краю морены стоял невысокий холм. С его вершины мне впервые открылся этот вид, и тогда и еще много раз потом, когда я созерцал его, сидя на защищенном от ветра склоне холма, меня целиком захватывала красота места. Я много размышлял о ее неотступной и в то же время обманчивой власти над моей душой.
Случайность ли это, что картины природы могут символизировать для человека настроения, склонности и желания его души? Девственные дороги пустыни напоминают о трудном и одиноком пути, который должны превозмочь алчущие души. Сверкающая непорочная белизна высокогорных снегов, — нетронутых и, может быть, недостижимых; красота гор, затянутых туманной дымкой, из-за которой не различишь, земля это или облако; далекие ясные бесстрастные горы — все это символизирует высочайшие устремления духа. Может, это пылкое воображение человека наделяет горы ореолом символики? Скорее же всего, реальные горы и долы, море и бездонные небеса, всегда и неизменно господствующие над человеком, баюкают его в ту раннюю пору, когда он только просыпается к сознательной жизни; вечно улыбающиеся, тоскующие и грозящие ему, они отразились в его натуре и создали его таким, какой он есть.
И даже если человек живет в окружении себе подобных, в его сны вторгаются образы неизведанного края, в городе вечером шелестят деревья, а людям кажется, что они слышат шум и плеск морских волн. Они видят, как луна освещает серебряные пики гор. Вселенная является им во всей своей славе и величии. Людей охватывает беспокойство, в них просыпается свойственная предкам мужественная тяга к приключениям, и они уходят.
Вовсе не сознательный выбор заставляет людей менять удобства и безопасность на рискованные приключения или невзгоды одиночества. Скорее всего, это действует импульс более глубокий и сильный, чем сознание и разум. Его можно сравнить разве с волей, укрепляющей себя для достижения высокой цели. Человек ищет невзгод и опасностей, напоминающих о трудных путях, по которым устремляется душа в поисках добродетели, — в этом скрывается та истина, что природа — праматерь нашей морали.
Итак, я сидел однажды в полдень на холме и глядел на окружающие меня красоты, затянутые мелкой сеткой дождя. Я видел равнину, пересеченную беловатыми, как молоко, ледниковыми реками, островки рощ и пятна лугов, леса, темную зелень, одевающую горные склоны, горы пониже и высокие горы, красные от распускающегося вереска, сверкающие снегом вершины и долину, которая постоянно казалась мне прямой дорогой в землю обетованную. И вот, когда я смотрел туда, где зеленое, слегка подымающееся русло долины исчезало в таинственной дымке, произошло нечто странное. Зеленый туман дождя перемешался с золотым светом, и в широкой прогалине, к которой был прикован мой взгляд, замерцала бледная радуга. Это длилось одно мгновение. Затем туман рассеялся, и солнечный свет затопил все вокруг. Был ноябрь, день двадцать четвертый.
Под этой датой в моем дневнике записано: «После долго тянувшихся сумерек наконец совсем стемнело, огни в бараке и на «Кэтлин» погасли. Я сижу в пустой комнате с бревенчатыми стенами, расположенной в одном из флигелей лесопилки, у окна, выходящего в море. По стеклу барабанит дождь. Над заливом бушует шквальный ветер, у берега ревет прибой. Через щели переплета поддувает ветерок, он колеблет пламя свечи. Ветер неизменно дует с северо-запада. Мы простились с надеждой отплыть на запад или юг. Мы ни за что не сможем пройти через залив Альмирантасго и пролив Габриель. С этим трудно смириться.
И все-таки мы отправимся на юг — пешком, послезавтра, через долину, выходящую к Баия-Бланке».
В дорожных сборах на загородный пикник или в многомесячное путешествие есть что-то чарующее. В этот раз некоторые трудности нашего предприятия, так же как и вопрос о продолжительности экспедиции, заставляли довольно-таки напряженно думать — и это тоже было приятно, — как сделать ношу легкой и в то же время содержащей все необходимое. Эта проблема усугублялась к тому же нашей бедностью. Мы должны были идти в город Ушуаю, где, безусловно, можно достать еду и купить припасы. Но у нас не было на это денег. И хотя мы надеялись, что кто-нибудь по дружбе на несколько дней возьмет нас на содержание, нечего было и думать занять денег в долг. Но мы должны добраться до мыса Горн и все это время, не говоря уже о дальнейшем, как-то просуществовать.

Громоздкие принадлежности моей неудобной в путешествиях профессии, включая фотоаппараты, были гораздо более тяжким грузом, чем даже съестные припасы. Достаточно было бы одного «кодака», но мне не удалось как следует починить поврежденный затвор, и аппарат хорошо действовал только при коротких выдержках. Поэтому я должен был взять увесистый «графлекс». А была еще флейта. Право, не знаю, почему я возил ее с собой, ведь я не притрагивался к флейте иногда по нескольку дней. Но рано или поздно приходил час, когда флейта становилась более необходимой, чем все полезные вещи на свете.
После долгих и упорных размышлений я начал собирать снаряжение. Вещи вытаскивали на палубу, я их вычеркивал из списка, помощник складывал в ящик и сносил на берег в любезно предоставленную нам комнату в доме управляющего. После этого я сошел на берег и все проверил по списку. Вот тогда и случилось одно плачевное происшествие, о котором даже теперь мне стыдно вспоминать.
— А где револьвер? — спросил я помощника, тщательно осмотрев снаряжение.
— Я его положил на стол, — отвечал помощник.
Вдвоем еще раз осмотрели вещи — револьвера не было. Хотя мы оба помнили, что отнесли его на берег, я снова поднялся на борт и стал искать револьвер. Мы обыскали тропинку на берегу, тузик — и все напрасно.
А помощник все твердил, что положил его на стол. Сомневаться не приходилось. С гнусным подозрением я направился к дону Антонио и рассказал о случившемся. Он мне не поверил до тех пор, пока собственноручно не осмотрел все наши пожитки.
— Он
очень честный человек, — сказал дон Антонио о Кудрявчике и в крайнем недоумении пошел с ним поговорить.
Кудрявчик с обидой, но совершенно спокойно отрицал обвинение в краже. Это, как я понял позже, яснее всего свидетельствовало, что ему неведомо воровство. Мое раскаяние было тем мучительнее. А Кудрявчик перестал отрицать свою вину, лишь когда я отступился. Оружие пропало, и точка.
Через час зоркие глаза дона Антонио усмотрели револьвер на берегу в полосе убывающего прилива.
Теперь все готово. В два рюкзака мы должны были вложить:
Соль
Сахар
Яйца
Молоко
Концентраты супа
Чай
Шоколад
Корнфлекс
Сковородку
Чашки
Ложки
Котелки
Бекон
Судки
Зубную щетку
Зубной порошок
Гвозди
Фотоаппараты
Пленку
Бумагу
Табак
Трубки
Свечи
Фонарь
Бандаж
Удостоверения личности
Рисовальные принадлежности
Кисти
Растворители
Краски
Холст
Носилки
Револьвер
Одежду
Одеяла
Соду
Муку
Бритвы
Кисточку для бритья
Носки
Ботинки
Иголку с ниткой
Флейту
Палатку
Барометр
Подстилку
Компас
Лассо
Проволоку
Сухари
Точило
Топор
ГЛАВА XV
ТРОПОЮ РАДУГИ
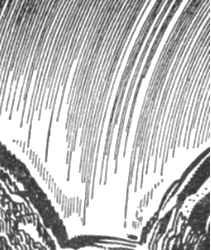
В ТОТ памятный день, двадцать четвертого ноября, мы были полностью готовы задолго до рассвета. Решив оставить бот в этом месте, мы покончили с вынужденным бездельем, силы забили в нас ключом. Мы горели желанием, не мешкая, отправиться в путь. Пока помощник готовил завтрак, я сошел на берег и разбудил наших друзей; через полчаса мы привели все на борту в порядок и покинули «Кэтлин». Как потом оказалось, мне больше не суждено было ступить на ее палубу.
Все снаряжение для нашей экспедиции уместилось в двух рюкзаках по шестьдесят фунтов каждый. На лесопильном заводе нам предоставили две маленькие лодки. Мы погрузили в них свою поклажу, разместились сами вместе с двумя чилийцами, которые предложили нам свои услуги в качестве проводников на первом, хорошо им знакомом отрезке пути, и стали грести наискосок через залив по направлению к бухточке у северо-восточной его оконечности. День был сумрачный. Последние сомнения в том, разумен ли наш шаг, рассеялись: ветер снова дул
с запада.
Был отлив, и нам пришлось карабкаться по скользким прибрежным камням. Около четверти мили преодолели с большим риском для себя:
с тяжелым грузом за плечами нетрудно было сломать ноги и шею в самом начале путешествия.
До конца бухты прошли берегом. Здесь начинались топкие болота, окаймлявшие морену. Мы двинулись по ним вперед, все больше удаляясь от берега. И если что-то и могло заставить нас повернуть назад, то как раз этот первый утомительный отрезок пути. Скоро, однако, мы снова ступили на твердую землю и, сбросив ношу, сели отдохнуть в прохладной тени под сводами леса. В нашем убежище царила тишина. То тут, то там солнечные лучи пробивались через кружево листвы, как через витражи, в бесконечные темные приделы, образованные рядами деревьев, и повсюду зеленый бархат лесного ковра был усеян звездочками желтых фиалок. В своей всеобъемлющей и торжественной святости этот лес казался храмом.
Величественная тишина в лесу была как органная музыка: все так и манило укрыться под его сенью, обещая сладостное уединение. Мы возносили лесу бессознательную молитву, молитва эта незаметно освободила наши души от смутной тревоги: здесь, в глухой чаще, нам открылся истинный покой.
Мы очень много слышали и читали о неприступных горных массивах Тьерра-дель-Фуэго. В наших коротких экскурсиях туда встречалось немало трудностей, с которыми вообще сталкиваешься, путешествуя в этих краях; поэтому мы ясно представляли себе, что переход через девственные заросли полуострова Брекнок потребует от нас бесконечной выносливости. Хотя к проливу Бигл с севера через горы ведут две проторенные дороги, обе они ближе к восточному берегу озера Фаньяно, где горные вершины не так высоки и неприступны.
Самый западный перевал был открыт путешественником-священником отцом Агостини, когда он в сопровождении одного итальянского альпиниста с великими опасностями и трудностями перебрался через этот горный хребет у выхода из озера Фаньяно. Что касается той части полуострова Брекнок, которая лежала к юго-западу от залива Альмирантасго, то до сих пор не было известно, чтобы кто-нибудь пересек ее из края в край. И действительно, неприступные горы Дарвина и Сьерра-Вальдивьесо служат препятствием, которое может легко заставить отказаться от попытки его преодолеть. Однако какой-нибудь доступный путь через полуостров значительно сократил бы расстояние от Пунта-Аренаса до Ушуаи.
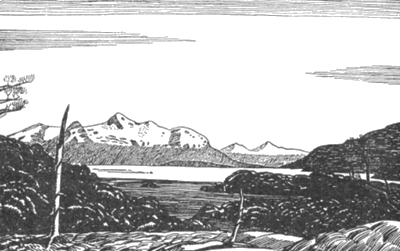
ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА БУХТУ ПАРРИ
Чилийцам, хоть они и привыкли к непроходимым зарослям, наша затея казалась безумной авантюрой. Мы же думали только о конечной цели и решили ее достичь во что бы то ни стало. Это рождало в нас уверенность и воодушевление, а предстоящие трудности — мы знали, что их будет много на пути, — будили в нас истинную страсть. Нам не терпелось отправиться на поиски приключений. И хотя поначалу с непривычки нагрузка казалась тяжеловатой, на сердце было легко, и мы беспечно отмахивались от мысли о невзгодах, какие, быть может, ждут нас в этих странствиях.
Передохнув в лесу, снова взвалили на плечи поклажу и продолжали путь. Вскоре вышли на открытую местность, где перед нами вставали гряда за грядой невысокие холмы. Мы преодолели это препятствие, задержавшись на последней вершине, чтобы отдохнуть и полюбоваться на расстилающийся внизу необычной красоты пейзаж. Позади виднелась бухта, откуда мы начали путь, и далекие горы над заливом, а впереди вставали бирюзовые утесы ледника — казалось, совсем рядом, у наших ног — так они были огромны. Ледник наклонно уходил ввысь и терялся в облаках, скрывавших горные вершины, где он берет начало; было похоже, что за грядой облаков уже ничего нет и ледник своим краем касается небес.

ПЕРВЫЙ ПОЛДЕНЬ В ПУТИ
В долине пасся гуанако. Завидев нас, он в испуге бросился бежать. Над самыми нашими головами, распластав крылья, парил кондор; он медленно описывал круги, спускаясь так низко, что можно было пересчитать у него на крыльях все перья. Когда он поворачивал, гладкое черное оперение блестело на солнце.
Мы вновь спустились в долину, переправились через глубокую реку и по ее берегу пришли в лес. Идти сквозь этот лес было бы нелегко, но нам все время попадались ровные тропинки, по которым гуанако ходят на водопой. Шагали мы очень быстро, почти бежали, поднимались на холмы и снова спускались вниз: теперь река текла по узкому ущелью и идти берегом было нельзя. Все ближе и ближе становилась поросшая лесом гора — от бухты она казалась самой отдаленной. Крутой, тяжелый подъем — и вот мы на вершине.
Внизу лежала широкая плоская равнина, в густой траве текла извилистая речка. На севере и на юге круто вставали горы, а далеко впереди, за грядой невысоких холмов, снова открывалась наша долина. Спустившись на равнину, мы прошли болотистым берегом к реке и там, в тени утеса, — он поднимался не меньше чем на тысячу футов — сделали привал.
С присущей им трогательной заботливостью наши спутники еле прикоснулись к скромной трапезе — это был чай с хлебом, — которую мы им предложили разделить с нами; они все твердили, что нам нужно беречь продукты, а то их не хватит на дорогу. Внимание наших добрых друзей, их забота ярче всего запечатлелись в моей памяти, ибо тут мы и расстались с ними. Они сердечно нас обняли, пожелали нам удачи и скорого возвращения, и мы разошлись в разные стороны.
Пройдя долину, мы стали преодолевать один за другим высокие холмы; тропинок гуанако нам больше не попадалось, и заросли на склонах оказались досадным препятствием. Мы пробирались сквозь чащу карликовых деревьев, колючий кустарник, карабкались через поваленные стволы, пересекли узкую речушку, взбирались вверх по крутым берегам и склонам холмов. И каждый холм, который нам казался последним, был лишь преддверием следующего.
Поднявшись на тысячу триста футов, мы оказались на самой вершине. Зона лесов здесь уже кончалась. С голой вершины нам были видны широкая долина, которую мы пересекли, и лесистая гряда холмов, откуда мы в долину спустились; вдалеке синел горный хребет Баия-Бланка. Горы, наступая на долину, окружили нас плотным кольцом, и снега северной гряды нависали над нами, необозримые и грозные. И тут же, совсем неподалеку, взгляду открывалась мирная лужайка, где вился ручей и поблескивало озерко, на котором плавали дикие гуси, а у истока ручья на темпом фоне скал и кустарника сверкал, как драгоценный камень, небольшой глетчер. Сюда уже пришла весна, и снег, что зимой все покрывает здесь сплошным ковром, давно стаял, белея лишь кое-где глубоко в расщелинах скал.
Сбросив ношу на землю, мы расположились на отдых у подножия горы. И в этих мирных краях пробудилось к жизни эхо и вторило нежным и грустным звукам серебряной флейты. Оно, думалось мне, пробудилось в первый и последний раз, чтобы снова умолкнуть навеки. Но я заблуждался: здесь появился человек, и дробь, убившая дикого гуся, была еще одним и более верным признаком того, что покой этих мест нарушен.
Мы наслаждались отдыхом. Два кондора парили в небе неподалеку; потом мы увидели гуанако. Он поднялся на гребень скалы и снова исчез.
Снова начали мы взбираться по каменистым холмам и, поднявшись на тысячу четыреста футов, остановились на водоразделе. Теперь наконец подтвердилось, что мы не ошиблись, избрав путь, которым шли: впереди между крутыми склонами открылась широкая долина. Она тянулась вдаль миль на двадцать, на ее холмистой поверхности повсюду виднелись рощицы, лужайки и ручьи; казалось, что там живут люди, что все это создано их руками. Ближе к нам равнина была усеяна валунами, но пересечь ее не составляло особого труда.
На равнине, куда ни глянь, паслись гуанако; мы их насчитали около сотни. Некоторые животные подбежали и с любопытством уставились на нас. На близком расстоянии они становились довольно осторожными, замирали на месте, снова делали несколько робких шагов вперед, бросались в неожиданном страхе вспять, чтобы потом снова вернуться и взглянуть на непонятные для них существа. Один гуанако, посмелее других, убегая, каждый раз возвращался все ближе и ближе. Наконец он уверенно направился к нам, приблизился почти вплотную и, остановившись у небольшого бугорка, принялся нас разглядывать. Мы стояли неподвижно, боясь его спугнуть. Удовлетворив свое любопытство, он улегся на землю. Гуанако нисколько не испугался, когда мы снова пошли вперед, и покинул свой наблюдательный пост лишь затем, чтобы бешеным галопом помчаться мимо нас дальше. Сбежав с бугорка, он пронесся через валуны по равнине, грациозно перепрыгнул через ручей и исчез среди деревьев.

ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ПЕШКОМ
По мере того как мы шли вперед, дорога становилась труднее. Идти по правому берегу реки мешали то болота, то заросли, то овраги, то отвесные склоны холмов. И, как всегда, противоположный берег казался гораздо удобнее. Но река стала теперь настолько глубокой, что пересечь ее, не промокнув насквозь, было делом не из легких. Наконец в узком порожистом месте между высокими скалами мы сумели перебраться на другую сторону. Там, конечно, началось то же самое.
Мы подошли к лесу, где река разбегалась на множество рукавов, текущих по широкому, усеянному галькой ложу. Опустились сумерки, накрапывал дождь, и здесь, на берегу, мы раскинули свой лагерь.
Понадобилось всего лишь несколько минут, чтобы поставить маленькую палатку. Пока помощник ощипывал гуся, я разжег костер и повесил над ним котелок с водой. Скоро гусь отлично изжарился на вертеле, и мы пировали с величайшим наслаждением у яркого огня, не обращая никакого внимания на дождь.
Наверное, я слишком устал и не мог поэтому заснуть; казалось, холодная сырость проникает сквозь одеяла, а земля слишком твердая. Спутник мой крепко спал. Он лежал совсем близко, и, хотя все тело у меня затекло, я, боясь разбудить его, не мог позволить себе устроиться поудобнее. Рассвет я встретил с облегчением.
В семь часов мы уже были в пути. Идти стало совсем трудно. Дорога вела круто в гору, мешали спутанные заросли кустарника. Время от времени притоки реки преграждали нам путь, и, хотя ни один из них не был настолько глубок, чтобы его невозможно было перейти вброд, мы не испытывали желания шагать потом дальше в мокрой одежде. В долине было куда больше пригорков и оврагов, чем мы ожидали, а лужайки оказались на поверку топкими болотами. Больше часа мы продирались через густые заросли, чтобы подняться на гору, откуда виднелась долина. День был сумрачный, но яснее, чем накануне. За бесчисленными холмами затянутой синей дымкой дали лежала широкая равнина, казалось со всех сторон окруженная горами. Однако там был, несомненно, какой-то выход к морю: об этом красноречиво говорили ручьи и речушки.

ЛЕДНИК В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ
Река снова преградила нам дорогу, и мы, вместо того чтобы идти по ее берегу к северу, где она спускалась в глубокое ущелье, решили ее пересечь. Река оказалась глубокой и быстрой, и понадобился целый час на то, чтобы перебросить через нее длинный ствол дерева. Справившись с этой задачей, мы перенесли свою поклажу на другой берег и пошли дальше в сухой обуви.
Часто случалось так: какой бы путь после долгих обсуждений мы ни выбрали, он оказывался не тем, что надо. Если мы шли правым берегом, левый маняще улыбался нам; если же совсем уходили от реки, теша себя надеждой, что там идти легче, вставали новые препятствия как упрек нашей неосмотрительности. И вскоре после того, как мы с торжеством перебрались через реку, не замочив ног, нам встретилась новая преграда — обрывистый утес, на который взобраться было куда труднее, чем пройти целых пять миль по обычной дороге.

МЕСТО ПЕРЕПРАВЫ
Когда идешь с тяжелой ношей, утомляет не расстояние, а неожиданные преграды. Ноги скоро привыкают к тому, что на плечах груз, и, не жалуясь, несут тебя вперед. Но стоит появиться на пути какой-нибудь преграде, как сразу начинаешь испытывать усталость. И если к концу дня измученному, тяжело нагруженному путешественнику встречается поваленное дерево, лежащее над землей слишком высоко, чтобы через него перелезть, или слишком низко, чтобы проползти под ним с поклажей на спине, тогда падаешь духом и с тоской мечтаешь о скором конце пути.
И все-таки наше путешествие было не из самых трудных, и, если бы не беда, приключившаяся с помощником, нам ни разу бы не изменило бодрое настроение. Мы вышли на ровное место и быстро шагали по долине, когда он в первый раз пожаловался на боль в правой ступне и признался, что боль его мучит уже в течение нескольких часов. Внимательно осмотрели его ногу, не нашли никаких повреждений и решили, что просто дает себя знать усталость. Однако впоследствии нога его беспокоила все больше и больше, и в конце концов ему пришлось слечь на целую неделю.
Было уже далеко за полдень, когда, выйдя из густого леса, росшего на невысоком плоскогорье, мы снова увидели реку; широким потоком она струилась по плоским камням у самых наших ног. Тут остановились, разложили костер, отдохнули и попили чаю с хлебом; мы к этому времени изрядно устали и проголодались.
Пришлось снова переходить реку, и переходить ее вброд: иного выбора не оставалось. Мы разулись, перешли на другой берег — вода была совсем ледяная — и, к великой своей радости, увидели ровную тропинку, утоптанную гуанако. Мы прошли по ней некоторое расстояние то лугом, то лесом, а когда начались болота, она вывела нас на сухую землю у склона горы и потом потянулась дальше в нужном нам направлении. Здесь, в первозданном лесу, нас встретили те же величие и благостная тишина, что и в лесу Баия-Бланки, и здесь желтые фиалки мерцали звездочками на зеленом ковре леса.
Мы сидели у огромного поваленного дерева, преградившего тропинку, и слушали, как внизу, в долине, неподалеку от нас, в зарослях, звали друг друга гуанако. Они издают странные звуки, напоминающие ржание и вместе с тем дребезжащее кряканье. Я крикнул, подражая им, и, к радости своей, услышал, что они отозвались сразу из нескольких мест. Крики животных раздавались ближе и ближе, а я тоже все звал их и звал. Наконец послышался треск сучьев, и два гуанако вышли из зарослей совсем недалеко от нас. Кого они надеялись встретить — не знаю, но уж, конечно, не людей. Увидев нас, они остановились как вкопанные и через мгновение в страхе умчались.
Я вспомнил, что в том месте, где мы перед этим отдыхали, оставил шапку, и пошел за ней. Уж я корил себя, корил за ненужную потерю сил и времени, но меня ждала награда — два полуразвалившихся индейских жилища. Потом я узнал в Ушуае, что много лет назад, когда здесь действовала англиканская миссия, в этих краях иногда появлялись индейцы из племени алакалуфов, приходивших никому не известным трудным путем через горы с севера. Несомненно, это были их следы.
Мы шли до наступления темноты и, когда лес снова вывел нас к берегу реки, раскинули лагерь. Вокруг водилось великое множество дичи, но мы удовольствовались остатками жареного гуся. Настроение было отличным, все шло прекрасно; тем счастливцам, кто несет на спине свое добро и кров, выпадает особая удача: где бы они ни остановились, пусть в самой дикой глуши, там у них и дом.
В семь часов утра мы снова были в дороге. В тот день с первых же минут путь оказался таким трудным, что редкие места, где идти было легко, встают в моей памяти как райские уголки. Несколько часов мы карабкались вверх по крутому склону горы сквозь кустарник и через поваленные деревья. Выйдя на пастбище, поросшее невысокой травой, и шагая по ровной земле, мы испытали такое облегчение, словно у нас свалилась ноша с плеч. День к тому же стоял ясный, и мы в первый раз увидели долину в веселом солнечном свете.
Мы подходили к той равнине, что накануне утром виднелась вдали, затянутая синей дымкой. Она была совсем гладкая, как морская поверхность, только кое-где островками вставали зеленые рощи; западный ветер гнал по траве золотистую волну. Но скоро твердая земля кончилась. Держа путь к самому центру долины, мы вышли на заболоченные места. Пробираться по ним оказалось настоящим мучением, но они были необычайно живописны, и в надежде, что скоро идти станет легче, мы упорно двигались вперед. Болота превратились в топи. Эти предательские топи, покрытые мхом, расстилались вокруг, как бархатный ковер: ни кустика на них не было, ни бугорка. Красоты природы заглушали голос благоразумия, и мы продолжали путь.
Первую четверть мили шли по зыбкой почве, проваливаясь по щиколотку и набрав полные башмаки холодной воды. Вторая четверть мили — земля стала еще податливее: теперь мы проваливались чуть не по колено, по шага при этом старались не сбавлять. Третья четверть мили (а мы, глупцы, все плетемся вперед, надеясь выйти на твердую почву) — и мы совсем завязли. Устали очень. Сняв со спины рюкзаки, уселись на них. А потом в страхе, как бы эта предательская трясина совсем пас не поглотила, повернули назад и стали выбираться на безопасное место.
Нам ничего не оставалось, как вернуться на горный склон, на твердую почву. К несчастью, путь лежал вдоль полуостровка, образованного участком прерии. Чтобы добраться до ближайших гор, к северу от нас, следовало либо пройти несколько миль назад, либо пересечь болото. Выбрали болото: когда насквозь промокнешь, то уже все равно. Мы прыгали по огромным кочкам, выступавшим из воды, словно ульи. Попав на кочку, удерживали равновесие, иногда же срывались в воду. Когда почти все наши вещи намокли, мы, махнув рукой, пошли напролом. Подойдя наконец к горе, бросили ношу на землю, развели гигантский костер, сняли намокшую одежду и развесили ее над огнем, а сами растянулись у костра.
Ступня помощника болела нестерпимо. Оказалось, он растянул ногу в подъеме. Я срезал лубок и прибинтовал к ступне липким пластырем, — это на время облегчило боль. К сожалению, у нас почти не было обуви. Мой спутник шел в изношенных мокасинах, которые я ему дал; еще у него имелись с собой легкие остроносые туфли. В моей обуви — удобных полуботинках с широкими носами, совсем старых (на них уже три раза ставили подметки), но еще вполне пригодных для носки, идти было легче, но в них постоянно хлюпала вода. Была у меня с собой и другая пара — она радовала глаз, но терзала ноги — высокие крепкие мокасины, как раз то, что надо для подобной экспедиции. Однако на них появились морщинки, которые непрерывно и мучительно давили на пятку, причем никакое приспособление — ни лубки, ни повязки — не помогало. Не от невежества, а из-за бедности своей отправились мы в путешествие с таким плохим снаряжением.

ДОЛИНА РАДУГИ
Тот день готовил нам новые, самые удивительные неожиданности. Нельзя забывать, что мы пробирались незнакомыми местами к далекой Ушуае, которая, насколько мы знали, — самое западное из всех поселений на южном побережье Тьерра-дель-Фуэго. О скорости своего продвижения мы не могли судить. Шли приблизительно по двенадцать часов в день, но путь был нелегким, и повсюду нам встречались препятствия, которые порядком задерживали. Одно мы знали, и знали твердо: идем на юго-восток. Через два часа после того, как выбрались из _ болота, мы вновь поддались манящему зову долины и покинули лесистый горный склон.
На этот раз нас привлекла поросшая лесом равнина. Быстро шагая по ровным тропинкам, мы вскоре подошли к бурному потоку, который бежал по заваленному хворостом и обломками деревьев руслу. Соорудили мост, перешли по нему на другую сторону и опять были готовы углубиться в лес, и вдруг нас охватило волнение, как некогда Робинзона, увидавшего след человека: мы заметили на ровной бурой земле отпечатки лошадиных копыт. Мы уставились на них в радостном изумлении и не успели еще толком сообразить, сколь много это нам обещает, как появились четыре лошади, галопом мчавшиеся нам навстречу.
Как и откуда они взялись — об этом мы задумались позднее, первой мыслью было поймать хоть одну из них. Мы тихонько подкрались к ним с лассо в руках, протянули им соль и хлеб, но их не соблазнили эти приманки, и они исчезли в лесу.
Однако теперь мы знали: неподалеку есть какое-то селение, и, приободрившись при мысли, что хоть немного приблизились к цели своего путешествия, двинулись дальше. Но в тот день нам предстояло еще много миль утомительного пути и прискорбное разочарование: глубокие реки и непроходимые топи отделяли нас от гор — конечной цели нашего путешествия.
День уже был на исходе, а мы все пробирались по заросшим горным склонам. Внизу текла какая-то глубокая река, за ней простиралась равнина с болотами и топями. Было жарко, вокруг надоедливо жужжали комары; при нашей усталости их укусы превратились в истинную пытку. Солнце низко стояло по другую сторону долины над зелеными пастбищами, где ползали крошечные белые точки; уже целый час, еще задолго до того, как их стало видно, мы слышали откуда-то издалека мычание коров и блеяние овец. Но пройти туда не могли.
Наступила ночь. В полном унынии от того, что недосягаемое совсем рядом, слишком усталые, чтобы радоваться близкому концу пути, мы расположились на ночлег в углублении на крутом склоне горы. Сидя в дыму у костра, с жадностью поглощали ужин. Потом забрались в свою маленькую палатку, завесили вход сеткой от комаров и уснули крепким сном.
ГЛАВА XVI
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

С РАССВЕТОМ мы уже были полны сил и энергии. Вчерашней усталости как не бывало. Меньше чем в миле от нас — долина здесь значительно суживалась — лежали горные пастбища, к ним мы и направились. Реки и топи, которые накануне сочли серьезной преградой, казались теперь просто пустяками. Мы срубили дерево, стоявшее на берегу; когда оно упало, почти достигнув вершиной другого берега, перешли реку, не замочив ног, и бесстрашно двинулись по болоту. Шли не друг за другом, а рядом и шутя спорили, кто провалится глубже. Брели по воде, временами проваливаясь довольно глубоко. Раз я окунулся чуть ли не по грудь — пришлось снять рюкзак и с его помощью вылезать из трясины. Так мы перебрались через болото.
Теперь река стала глубже и шире — перекинуть через нее мост было невозможно. Но мы не падали духом, хотя и промокли насквозь. Выбрав самое широкое место, вошли в реку. Вода сначала доходила до колен, потом до бедер, до пояса, Еще немного, — и быстрое течение свалило бы нас с ног, но становилось мельче, и, когда вода была нам снова по щиколотку, мы пустились бегом по галечным отмелям и выбрались на сухую землю.
На небольшом лугу, обнесенном оградой из жердей, — как обрадовал нас этот сделанный руками человека забор! — разожгли костер, стянули с себя одежду и развесили ее сушиться.
Жилья вокруг не было видно, и мы решили идти долиной, зная, что в конце концов она выведет нас к морю, а там или где-нибудь по дороге будет селение, чьи пастбища лежат вокруг. Хотя мы несколько ошибались в своем предположении, мы все равно так быстрее добрались бы до Ушуаи, чем путем, который в силу обстоятельств нам пришлось избрать. Снова взвалив на спину рюкзаки, весело зашагали по утоптанным скотом тропинкам. На севере высился лесистый горный хребет, вдоль подножия которого мы пробирались с такими трудностями. Весна была в разгаре: все вокруг ярко зеленело. Река петляла по долине, показываясь иногда среди прибрежных рощиц. И вдруг мы увидели силуэт всадника, мчащегося по берегу.
Я громко окликнул его. Он остановился, удивленно оглянулся и, заметив нас на склоне холма, повернул коня и поскакал навстречу. В крайнем недоумении он подъехал к нам, поздоровался. А когда мы ему сказали, откуда пришли, у него на лице выразилось такое восхищенное изумление, словно перед ним были ангелы, слетевшие с неба. Он сказал, что мы находимся на землях имения Эстансиа Аустрал, у бухты Йендегая, в проливе Бигл, совсем недалеко от залива Лапатая, и добавил, что мы первые пришли в эти края с севера, перевалив через горы
[30].

ДЕВСТВЕННЫЙ ЛЕС
Сознание, что мы первооткрыватели этого пути, наполнило наши сердца несказанным восторгом.
Он был добрый, щедрый человек, этот чилийский пастух, по имени Франсиско, — высокий, сильный, оборванный, грязный, добродушный и беспечный парень. Дом у него был как собачья конура — жалкая лачуга из двух каморок: грязной с земляным полом кухни, если можно было ее назвать кухней, и неприбранной спальни. Но он предоставил свой дом — а это было все, что он имел, — в полное наше распоряжение. Восхищенный нашим подвигом, он заставлял нас рассказывать о нем снова и снова. Для него этот путь был короткой и дешевой дорогой в Пунта-Аренас: этим путем было легко сбежать от хозяев, чья мелочная скупость, как мы потом узнали, превращает труд на них в истинный позор.
Франсиско уговорил нас поехать в хозяйское имение и на следующее утро был готов отправиться в дорогу. По-видимому, он с гордостью предвкушал, как будет нас там показывать, и все говорил о глубоком восхищении, которое вызовет наше открытие у его хозяев. Тем временем наступил полдень; попив горячего молока с кислым хлебом, мы вскочили на лошадей — кобылу и мерина — и отправились в путь.

ДИКОЕ ПАСТБИЩЕ В ДОЛИНЕ РАДУГИ
Только мы выехали из огороженного пастбища в открытые луга, как за нами погнались два жеребца. В течение двух часов, что мы находились в дороге, эти два исполненных похоти ревнивца служили нам нескончаемым развлечением, а под конец, встав на дыбы и сомкнувшись в тесном объятии на голой вершине холма, они затеяли бой, сопровождаемый громовым топотом копыт, гневным ржанием, криками боли. В этом неуемном бешенстве, в этой силе была бесподобная красота.

ВИД ИЗ ЛАГЕРЯ ФРАНСИСКО
По прибытии в лагерь мы нашли там еще одного гостя — рабочего из бригады дорожных строителей, которые трудились в лесу в нескольких милях отсюда; нас угостили на славу жарким из баранины. Мы блаженствовали. Тихий безоблачный золотой вечер как бы вторил нашему блаженному состоянию, предвещая — так мы надеялись — хорошую погоду на завтра, когда состоится встреча с Эстансиа Аустрал.
Начнем с того, что лошадей было много, а седло лишь одно, и, разумеется, его взял себе Франсиско. Он выглядел очень нарядным в своем пончо и в моих высоких неудобных мокасинах (я их ему подарил). На одну лошадь мы нагрузили свою поклажу, а на двух других поехали сами; вместо седел каждый из нас получил по овечьей шкуре. Отправились в путь около десяти часов утра. Некоторое время ехали по хорошей дороге, она вела через пастбища и леса и изредка пересекала широкие поляны. Франсиско нашел себе забаву — проверял, что мы за наездники: где только представлялась возможность, он пускал свою лошадь вскачь и несся через канавы и ручьи, все время оглядываясь на нас с дьявольской ухмылкой. Помощник не знал лошадиных повадок, но его выручали необыкновенно сильные ноги. Зажав ими, словно гигантскими клещами, круп скакуна, он как бы сливался с ним воедино, и, хотя зрелище представлял собой весьма любопытное — вытянутая шея, торчащие локти, развевающиеся полы пиджака, — только заядлый педант мог бы подвергнуть сомнению его способности лихого наездника.
Когда мы примерно через два часа подъехали к каким-то воротам, проводник приказал нам спешиться. Он снял с лошадей поводья и овечьи шкуры и спрятал их в кустах. Затем попридержал лошадей, чтобы они не проникли внутрь, а мы проскользнули в ограду и закрыли за собой ворота. Франсиско велел мне ехать на его лошади, а сам пошел рядом.
— А то хозяин узнает, что мы его лошадей брали, — сказал он с мрачной усмешкой.
Когда мы увидели его хозяина, то поняли, что подобная предосторожность вполне оправданна.
Вокруг нас лежала процветающая усадьба — расчищенная земля, изгороди, хорошие дороги и прочные мосты. Посредине большого участка неподалеку от бухты Иендегая стояли сараи и амбары. Там работали два человека.
— Старый хозяин, — сказал Франциско, издалиузнав одного из них.
ГЛАВА XVII
СУМАСШЕДШИЙ
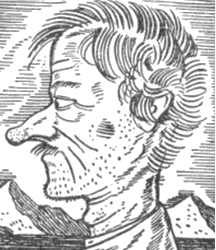
ЭТИ ДВОЕ — «два дьявола, старые и сварливые», записано у меня в дневнике — внимательно следили, как мы подходим ближе. Одного из них я совсем не запомнил, разве только его смешной нос — длинный, красный и распухший. Другой — это и был хозяин — высокого роста сильный человек лет шестидесяти, довольно красивый, правда, лицо у него нездорового, желтого цвета, улыбка злобная и хитрая, и в глазах коварство. Он привык ни с кем не советоваться, никому не доверять и ничего не выпускать из рук. Безмалинович, так его звали, был родом, кажется, из Хорватии или Далмации — выходцев из тех краев в Южной Америке довольно много. Подлостью — в бесчестных сделках ее называют сметкой— и мелочной скупостью при расчетах с работниками он нажил кое-какое состояние, и теперь ему принадлежала ферма, на которой мы по неразумному совету Франсиско искали гостеприимства.
Не знаю, что подумал о нас этот человек, быть может, он принял нас за беглых каторжников из Ушуаи, разбойников и головорезов или просто бродяг. Наш рассказ о том, как мы сюда попали, он выслушал с циничной усмешкой, и не успели мы закончить, как он, пожав плечами, отошел в сторону.
Ничего не оставалось, как подойти к нему снова. Мы сказали, что пришли сюда по просьбе его пастуха, который полагал, что наши сведения заинтересуют его, и что теперь мы направляемся в Ушуаю. Он только рассмеялся в ответ.
— Пешком вы не дойдете, — сказал он. — Туда восемь часов езды верхом, и к тому же вам не перейти через реку.
Тогда мы попросили дать нам лошадей. Он снова пожал плечами и ответил, что на ферме всего три лошади и вообще это не его дело.
— Просите у хозяина, — сказал он.
Дон Антонио, молодой хозяин, к которому нас послал старший, не замедлил появиться. Это был кроткий молодой человек, очень, видимо, порядочный в душе, но настолько подпавший под влияние старшего, что. ничего уже не мог делать по своей воле. И рукопожатие у него было какое-то вялое. Он повторил все сказанное старшим о лошадях, но добавил, однако, что мы можем пройти в дом, где нам дадут поесть.
У Франсиско вытянулось лицо, когда мы вернулись к нему и описали оказанный нам прием. В молчаливом негодовании мы все трое направились к хозяйскому дому.
Если б нас встретили не столь враждебно, мы бы, возможно, здесь не задержались. А уж если бы нас обидели, и никто не проявил участия, мы не смогли бы пробыть здесь и часа. Непонятно, что же вызвало грубость со стороны хозяев, но постепенно она стала нас просто смешить. Их выходки, конечно, озадачивали, но спасало нас чувство юмора: благодаря ему мы не испытывали унижения. Решив ни на что не обращать внимания, мы держались стойко. Эта смехотворная грубость забавляла нас и стала предметом веселых шуток.
Кроме двух стариков и дона Антонио там были другие представители этого народа — повар и двое молодых хозяйских помощников. Все они, кроме повара, составляли в противоположность чилийцам, которых было четверо, аристократию: жилье и еда у них были лучше и они имели особую привилегию во всякое время заходить в теплую кухню.
Итак, мы остались. Подошло время ужина, и никто не прогнал нас от стола, когда мы уселись вместе с работниками и принялись за баранину с хлебом. Затем наступила ночь, и никто не запретил нам устроиться на полу в комнате, где спали работники. Несколько раз, будто сговорившись, хорватские владыки приходили и расспрашивали нас о подробностях путешествия. Они неизменно поглядывали друг на друга с хитрой усмешкой и не верили ни единому нашему слову. Они не пожелали нам ни спокойной ночи, ни доброго утра, правда, один раз дон Антонио, неожиданно возвратившись, остался с нами наедине и завел столь дружелюбную беседу, что она выглядела как извинение.
Самой интересной личностью был повар. Хуану Ромпуэла (если мне удалось правильно прочесть корявую и неразборчивую подпись под его портретом, который я набросал в дневнике) было шестьдесят пять лет. Запомнился он мне главным образом проявлениями редкостной доброты. Эта доброта совсем не вязалась с царившей вокруг злобностью, но потом стало ясно, что повар не в своем уме: он, должно быть, не мало здесь претерпел всяческих мучений, которые и привели к болезни.
Я всего лишь несколько раз мельком видел этого странного человека, пока не вымыли после ужина посуду и не прибрали в кухне; тогда он пришел, сел с нами у стола и принял участие в общем разговоре.
Мой рюкзак, из которого я доставал кое-какие вещи, лежал в углу, и на глаза компании попалась флейта. Меня попросили сыграть. Основное правило путешествия, вроде нашего, состоит в том, чтобы охотно выполнять любую просьбу, когда нужно развлечь общество. И вот, смущаясь, как школьник на утреннике, я достал флейту, провел языком по обветрившимся губам и приступил к своему незатейливому репертуару. Не могу сказать, хотя такое и показалось бы весьма трогательным, что жалобные мелодии флейты проникли моим слушателям в самое сердце, вызвав у них слезы на глазах; я даже не могу утверждать, что музыка вообще их хоть как-то волновала. Когда первый интерес прошел, они стали вполголоса разговаривать. А повар подсел поближе, наклонился вперед и, не сводя с меня глаз, словно завороженный, слушал с искренним и глубоким вниманием, которое меня очень растрогало. Лицо у него было необычное: изможденное, испещренное морщинами; они говорили скорее о душевных переживаниях, чем о складе характера. Нависший лоб и длинный подбородок составляли одну линию, резко выступал вперед красный, словно приклеенный, нос оперного комика. Длинные нечесаные космы, дикий вид. Но по-настоящему выдавал его безумие взгляд маленьких выпуклых глаз — напряженный, выражавший полное бессилие.

УШУАЯ
При первых же звуках флейты появился старый хозяин. У него вошло в привычку, когда он бывал в настроении, посидеть с работниками — посудачить или сыграть в карты; но стоило ему появиться, и веселье сменяла какая-то скованность. Когда он, хлопая кого-нибудь из собравшихся по спине и сардонически усмехаясь, отпускал шутку, ее встречали с такой унылой миной, словно это была шутка палача. Он услышал флейту и вошел. Постоял с минуту, уставившись на меня со своей неизменной злобной ухмылкой, потом сел напротив за стол и начал напевать другую мелодию: он явно хотел меня обидеть.
— Не обращайте на него внимания, — прошептал сумасшедший повар по-немецки, придвигаясь поближе. — Он невежда и не понимает музыки.
Скоро хозяин удалился; вино и карты появились снова. Сумерки долго не уступали надвигавшейся темноте. За стеклами веранды — там сидела вся компания — виднелись холодные безлесные горы и залив; вся жизнь, казалось, сосредоточилась в доме в азартной и бурной карточной игре. Мои размышления о символичности гор и свечей на столе, моря и страстей людских, о том, что происходит, «когда человек повстречался с горами», — эти мои размышления были прерваны. Веселье приняло новый оборот: стали изводить насмешками повара, но совсем доконало меня то, что красочные испанские карты, как оказалось, были сделаны в Кливленде, штат Огайо.
Игра прекратилась. Несчастный повар, надрываясь в крике, обвинял партнеров в истинном или мнимом жульничестве, жертвой которого он стал. Наконец, бормоча гневные проклятия, он отправился спать. Вскоре за ним последовали и остальные.
Когда я вошел в спальню, повар снимал покрывало со своей аккуратно застланной постели, на которой в отличие от других были простыни и подушка в наволочке.
— Ложитесь тут, сеньор, — сказал он.
— А где же вы будете спать? — спросил я.
— Э, где-нибудь, — ответил повар, указывая на пол.
Все кровати были заняты, и спать ему в самом деле оставалось только на полу; поэтому, несмотря на мольбы старика, я не принял его жертву.
В комнате стояло зловоние: в ней спали семеро грязных людей, а дверь и окна были заперты; но я устал и скоро забылся сном.
Что это? Я очнулся от блаженного забытья. В полудреме мне слышались нежные, как колокольчики, звуки музыки. Ничем не связанное воображение ткало из этих волшебных мелодических нитей мир вечной, бесплотной красоты. Медленно я пробуждался, пытаясь осознать и яснее определить узор сладостной иллюзии. И скоро, все еще лежа с закрытыми глазами и слушая, как снова и снова повторяется волшебная песня колокольчиков, я вдруг узнал эту мелодию: то была старинная немецкая песенка
[31].
Она повторялась и повторялась в своей очаровательной бессмысленности. Где я?

Я отбросил одеяло, которое во сне натянул на голову, и сел. Холодный серый рассвет проникал в грязную комнату, стали видны закутанные в одеяла тела спящих. Мой помощник лежал рядом, лицо его приняло во сне злобное выражение. На столике возле койки повара стоял маленький будильник, и старик, которому он своей песенкой возвещал, что пора подниматься, лежал в постели, устремив на меня странный, безумный взгляд.
Хотя все уверяли, что реку Лапатая вброд не перейти, нас это теперь совсем не беспокоило: добряк Франсиско, чуждый условностей, позаботится о лошадях независимо от того, разрешат хозяева их взять или нет. Мы поедем верхом, — эту хитрость мы уже тщательно продумали со своим другом Франсиско, все подготовили и обо всем договорились. Теперь мы ни от кого не зависели, и наша уверенность повлияла на недоброжелательных хозяев. Быть может, не последнюю роль тут сыграло красноречие помощника, который не скупился на хвалы моей персоне; как бы то ни было, хозяева дрогнули и стали несколько любезнее.
На следующий день после приезда я сидел с видом полного безразличия, а помощник рассказывал хозяевам:
— Сеньор — большой человек, сеньор доводится родственником президенту Соединенных Штатов, который очень ему доверяет. К тому же он близкий друг президента Чили.
Так он болтал и болтал, пока наконец хозяева, предварительно удалившись, чтобы посоветоваться, не объявили, что нам дадут лошадей для переправы через реку, а там мы сможем продолжить свой путь в Ушуаю.
— Прекрасно, — сказали мы и, как было условлено, на следующее утро, третьего декабря, отправились дальше.
— Прощай, Франсиско, прощай, бедняга безумный повар, прощайте, молодой дон Антонио! Пусть цветет ваша доброта, несмотря на злобное окружение.
Мы перебрались через сверкающие отмели залива. Пригревало яркое солнце, дул западный ветер и, казалось, очищал наши души от налета двухдневных воспоминаний. Господи, как славно, что мы снова свободны и снова в пути!
Обогнув залив близ его устья, несколько часов поднимались по проторенной дороге в лес, а около полудня добрались до реки. Посмеялись, вспомнив, как нам предсказывали, что ее невозможно перейти вброд: вода не доходила нам и до пояса. Река текла по широкому галечному руслу между надежными берегами.
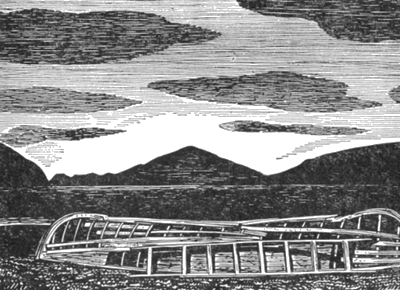
БУХТА ЙЕНДЕГАЯ
Неподалеку от брода, в излучине, стояла заброшенная лесопилка. Здесь мы остановились, чтобы позавтракать. Досыта наевшись, мы распрощались со своим чилийским другом и проводником.
В Ушуаю вела удобная тропа — идти было легко. (' рюкзаками за спиной мы весело шагали вперед. Судя по карте, нам предстояло пройти десять миль. Был час дня. Мы рассчитывали, что, прибавив еще две мили (тропа очень извилиста), доберемся до места к пяти часам.
Шли мы по нескончаемому лесу. За деревьями ничего нельзя было рассмотреть, кроме далеких горных вершин и поросших лесом склонов. Наконец, когда, казалось, этого однообразия уже ничто не сможет нарушить, мы вышли, к своему изумлению, на железную дорогу и, спустившись вдоль нее по крутому склону, оказались на берегу пролива Бигл.
Здесь, на изумрудном
лугу, — такого я не видел с тех пор, как мы оставили Северную Америку, — стояла маленькая ярко-красная хижина. Мне не верилось, что наконец я па том побережье, которое под впечатлением книг Дарвина представлялось мне недосягаемым диким краем. За этим зеленым уголком цивилизации на другом берегу пролива перед нами открылись величественные горы острова Осте и его берега, такие же, как девяносто лет назад, когда экипаж «Бигля» занимался их исследованием
[32].
В хижине никто не жил, и, поскольку мы решили, что это указывает на близость Ушуаи — наверное, она тут, рядом, за горой, — я снял свою истрепанную одежду, достал из рюкзака довольно-таки поношенный «праздничный костюм», принарядился и даже повязал галстук на фланелевую рубашку.
Когда стремишься к цели всей душой, а желанная цель оказывается дальше, чем ты предполагал, — какое это разочарование! Вряд ли кто-нибудь еще так жаждал добраться до цели, как мы до Ушуаи в тот день, в тот последний томительный день нашего путешествия пешком.
Не одну гору, а двадцать мы обошли, пока вдали показался город. Мы упрямо шагали вперед много часов подряд в надежде, что каждый встречный холм или попорот — последний, а перед нами снова и снова открывались бесконечные пастбища. Уныние давило нам на плечи, словно тяжкое бремя.
Не одна, а тысячи исхоженных овечьими стадами тропок беспорядочно переплетались среди зарослей ка-лифаты. А сколько миль к нашему пути добавляли еще береговые изгибы! Об этом красноречиво говорили бесчисленные дорожные столбы, которыми отмечалась наша непомерная усталость.
Мы уже отчаялись достигнуть порта к вечеру, но, взобравшись еще на один, «последний» пригорок, вдруг увидели далеко впереди вытянутый полуостров Ушуая. Безлесный золотистый песчаный выступ берега, казалось, лежал на голубой поверхности бухты. С новой решимостью мы поспешили вперед: предстояло немало еще пройти, а приближалась ночь. От этого отрезка пути в памяти остались все растущая усталость и бесконечные привалы. Мы стерли себе ноги. Мой помощник, во время двухдневного отдыха подлечивший было ногу, снова захромал и едва шел от нестерпимой боли.
Взбираемся еще на десяток-другой холмов, переходим через глубокую реку, и нам открываются наконец поблескивающие кровли и башни города. Длинные тени горных вершин еще не успели скрыть от глаз его великолепие.
К западу от Ушуаи лежит широкая равнина; там, в миле от города, некогда была англиканская миссия. Пока мы проходили через эти места, начало темнеть. Помощник изнемогал от усталости и боли.
— Отдохнем немного, — взмолился он, когда мы достигли городской окраины. — Ведь в город надо войти в приличном виде.
Через несколько минут он мог уже идти. Гордо вскинув головы, размахивая руками и распевая «Тело Джона Брауна» — наш походный марш, мы вступили на первую улицу.
Собаки возвестили о нашем появлении, и люди высыпали к дверям, чтобы взглянуть на нас.
— Вы откуда? — спрашивает один.
— С Альмирантасго.
— Господи! А куда держите путь?
— К мысу Горн.
ГЛАВА XVIII
УШУАЯ

НА БЕРЕГУ живописной бухты, которая выходит в пролив Бигл и отгорожена от всего света неприступными горами, стоит городок Ушуая с населением в несколько сот или от силы в тысячу человек — самый южный город в мире. Бросая мрачную тень на город, над ним встают толстые стены из бетона и камня — стены огромной тюрьмы. Пусть ее тень не заслоняет дневного света, но она нависает над всем городом — так велико значение этого исправительного заведения в жизни Ушуаи. Из-за решеток тюрьмы тысячи людей месяцами, годами, а подчас и всю жизнь смотрят на волю, на серые, холодные волны, по которым гуляет ветер, на стену гор, еще более неумолимую, чем тюремные стены. Но суровый мир вокруг не омрачает существования обитателей тюрьмы и жителей городка. Стены тюрьмы и уютные дома кажутся благословенной защитой от всеобъемлющего и безжалостного одиночества, какое царит в этих краях. Именно потому, что кругом так пустынно и одиноко, Ушуая по-настоящему радостное и гостеприимное местечко. Горожане живут простой жизнью, в ней не меньше веселья, чем в любой столице, и, если уж говорить откровенно, также мало настоящего счастья. Арестанты преспокойно расхаживают по улицам, их почти не охраняют.
В этот город мы и вошли, оборванные, грязные и усталые. Все наше добро было у нас за плечами, а в карманах— ни гроша. И если бы все те, кто с улыбкой разглядывали нас, решили запереть нас в сумасшедший дом, мы бы удивились меньше, нежели тому, как они сумели за нашей безумной затеей угадать толкавшую нас вперед страсть к путешествиям. И когда на расспросы, куда держим путь, мы отвечали: «К мысу Горн», нам говорили: «С ума сошли! Но молодцы!»
Нежданно-негаданно мы были приглашены и приняты с распростертыми объятиями в доме Мартина Лоуренса. Средн горожан он был самый богатый, самый почитаемый, и почитаемый заслуженно. Мартин Лоуренс первый пригласил нас к себе, показав тем самым, что мы достойны всяческого уважения, и ему мы обязаны дружеским вниманием и широким кредитом, которые так помогли нам в достижении цели.
А мыс Горн все оставался не только целью, к которой нас влекла сокровенная мечта и от которой не давали отказаться хвастливые речи, но и задачей, столь трудной, что она вытеснила у нас из головы все остальное. Нужно сказать читателям, что эта ultima thule
[33] моряков вовсе не самая южная оконечность континента Южная Америка или Тьерра-дель-Фуэго, ни даже какого-нибудь крупного из прилегающих островов. Мыс Горн — это южная оконечность небольшого скалистого островка из отдаленной группы необитаемых островов Вулластон, расположенного приблизительно в семидесяти пяти милях к юго-востоку от Ушуаи.
Коль скоро мы забрались так далеко, то стоять на берегу и смотреть вдаль, хоть это и легче всего, не собирались. Мы расхаживали по берегу, разглядывали всевозможные суда, стоявшие на якоре в гавани, и обсуждали, какое бы нам больше всего подошло.
Там стояла шхуна американской постройки с высокими мачтами, у нее был величественный вид, который отличает суда самого высокого класса среди им подобных. Для нас эта шхуна была слишком велика, и о том, чтобы ее зафрахтовать, не приходилось и мечтать. Была еще небольшая шхуна, неладно скроенная, но крепко сшитая; она готовилась отплыть под парусами, и на нее уже грузили провиант. Там же находился и большой бот Лоуренса «Гарибальди», но он все время был занят береговыми перевозками. Мы заприметили и другой бот — небольшой, водоизмещением около десяти тонн, как раз таких размеров, какой нам нужен; он стоял без дела. И решили добиться его любым путем. При нашей бедности мы с таким же успехом могли рассчитывать на яхту какого-нибудь императора, но нам это и в голову не приходило — в своем безрассудном нетерпении мы потеряли всякую способность мыслить здраво.
Владельцем столь полюбившегося нам судна был некто Фортунато Бебан — хорват, богатый и предприимчивый, по местным представлениям, торговец из здешних краев. Мартин Лоуренс отвел меня к нему. Это был высокий худощавый человек лет шестидесяти пяти с запоминающейся внешностью. Лицо у него было загорелое и обветренное, голубые глаза светились смекалкой, достойной жителя Новой Англии. Бебан выслушал меня и задумался. Что ж, он даст нам свое судно в аренду; об условиях же ему еще нужно подумать. И хотя наша беседа шла в дружеских тонах, у меня упало сердце.
Придется ждать. Отсрочка явилась предлогом, оправдывающим мое дальнейшее наслаждение благами цивилизации, такими, как чистые простыни, удобные стулья, вкусная еда, а самое главное — общество семьи Лоуренса.
Как славно живется в Ушуае! Вечерами мы с нашим хозяином прогуливались по горбатым улочкам, выходили к окраине и в тишине смотрели через бухту и пролив па холмы острова Наварино и белые горы острова Осте. Потом, в сумерках, когда тяжелые облака нависали, пламенея, над темно-синими вершинами гор, мы заглядывали куда-нибудь в уютный кабачок и сидели там, беседуя час-другой. Лоуренс вспоминал прошлое, рассказывал мне кое-что о своем детстве, об Ушуае тех лет, когда город еще не был построен и флаг Англии развевался над маленьким домом миссии. Его родители были миссионеры, сам он — второй по счету белый ребенок, родившийся в Тьерра-дель-Фуэго. Лоуренс знал тяжкие лишения в жизни миссионеров той поры и понимал ее убогую нелепость. Он рассказал мне и о том, что когда-то на этом побережье жили тысячи индейцев, а сейчас главным образом из-за пагубного воздействия христианского милосердия оно превратилось в пустынные края и, видно, останется таким навеки
[34].
В эти дни вынужденного безделья, пока мы ждали окончательного ответа хитреца Бебана, я завязал несколько знакомств, которые всегда буду помнить. Дом дона Хулио, парикмахера, — я разыскал его в первый же день — был одним из самых очаровательных и самых претенциозных в городе. Он стоял на невысоком холме над бухтой. Я поднялся по внушительной лестнице к парадной двери и позвонил. Маленький человечек лет пятидесяти с бледным выразительным лицом и большими печальными глазами открыл дверь, — это был дон Хулио. Он поздоровался со мной вежливо и очень приветливо— говорил он по-французски — и объяснил, что работал в саду, когда раздался звонок. Дом его, где он жил в полном одиночестве, сверкал чистотой. По всему — и по хитроумным хозяйственным приспособлениям, которые были делом рук самого владельца, и по безвкусным картинам и сувенирам, любовно развешанным и расставленным повсюду, — чувствовалось, что дон Хулио глубоко привязан к этому месту, и от этого само уродство дома становилось привлекательным.
Спальня была одним из величайших чудес света. Вычурная широкая кровать, редкостное творение из полированной латуни, стояла посредине. На кровати старинное желтое шелковое покрывало с золотым узором из переплетенных вьюнков. На подушках в наволочках, обшитых кружевами, были вышитые атласные накидки, и, осеняя это великолепие, с позолоченного балдахина спускались бархатные занавеси. На стенах, оклеенных цветастыми обоями, были развешаны с наклоном вперед картины в золоченых рамах, изображавшие сцены любви и ненависти из итальянских опер. Всевозможные диковины из фарфора и раскрашенных морских раковин соперничали в великолепии с тумбами и вычурными полочками, на которых они были расставлены. На полу лежал темно-красный в цветах ковер; темно-красные с золотой каймой портьеры смягчали слишком яркий свет, пробивавшийся через затянутые кружевными гардинами окна.
— Изумительно! — прошептал я и, подойдя к окну, отодвинул кружевную занавеску.
Стоял чудесный день, ясный и свежий; над немногочисленными жестяными крышами поднимались толстые стены тюрьмы, а дальше над всем этим высоко в небо уходили острые зубцы горного хребта.
Спальня дона Хулио! Я заглянул в крошечную каморку, скорее даже чулан, возле кухни. Там стояла аккуратно заправленная железная койка, деревянный стул, на котором сиротливо висели брюки и рубашка. Здесь он и спал.
Дон Хулио повязал мне на шею салфетку, завел граммофон, поставил пластинку — баркароллу из «Сказок Гофмана» и подстриг меня, надо отдать ему справедливость, превосходно. Потом он налил рюмку бенедиктина мне, капельку себе, чтобы поддержать компанию, и предложил тост: «На мыс Горн — и обратно!» Мы выпили.
— Прошу вас, подождите минутку, — сказал он, когда мы стали прощаться, и исчез в саду.
Он принес мне букетик незабудок. С незабудками в руках — преглупый вид! — я вышел из дому и попал на улицу иного, вполне реального мира.
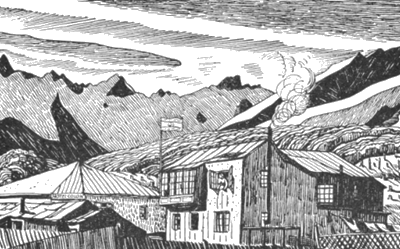
ГРАНИТ И ЖЕЛЕЗО
Город — это жилище людей, и как следует понять его можно, лишь узнав тех, кто в нем живет. Ушуая — пристанище беспокойного бродяги дона Хулио. Его дом — сокровищница его воспоминаний о великом мире, откуда он пришел, о любви и об искусстве, о гордости, надежде, неудачах. Парадная спальня для него — символ роскоши, о которой он грезил и которой ему не дано владеть. Дон Хулио благоговейно смахивает там пыль, закрывает дверь и отправляется проливать слезы на свою одинокую постель.
Ушуая — это Фортунато Бебан, упорный и хитрый, он наживает деньги, чтобы было что тратить его детям. Это Мартин Лоуренс — образованный, умный и осторожный. Это старый мистер Фик, что пришел сюда сорок лет назад и основал город.
Старик этот — худой и бессильный; лицо у него безмятежное— ведь страсти и дела житейские уже позади. Он всегда сидит в глубоком мягком кресле с высокой спинкой. В его огромной комнате негде повернуться из-за большой ореховой двуспальной кровати, громоздкой мебели, немытой посуды, ночных горшков, статуэток святых и литографий с изображением распятого Христа. Тихо и медленно старик разговаривает по-английски, совсем без акцента; голос его временами так слаб, что приходится напрягать слух. В его манере держаться и во внешности сквозит прекрасное и трогательное достоинство, а в речах — глубокая и печальная мудрость.
У меня были с собой документы, которые я хотел ему показать.
— Мне их не нужно, — сказал он, и я почувствовал себя пристыженным.
Мистер Фик любит свой край, Тьерра-дель-Фуэго, и верит в его будущее. Он оглядывается на прошлое — и те дни молодым предпринимателям все здесь так легко давалось — как на хорошо прожитую жизнь, послужившую на благо общему делу.
Мы пили кофе с коньяком.
— Бебан… — он покачал головой. — Лундберг из Харбертона, — посоветовал он. — Вот с кем вам нужно отправиться к мысу Горн, а если с ним ничего не выйдет, договаривайтесь с индейцами — пойдете на каноэ. Если уж вам так не терпится, можно туда добраться на каноэ.
Мистер Фик считал, что неплохо бы мне нанести визит губернатору территории, и я отправился к нему на следующее утро в сопровождении сына мистера Фика. Заметил ли молодой человек мой поношенный костюм, или же просто его охватил естественный трепет от того, что нам предстоит увидеть важную персону, но, когда мы миновали часовых у входа и были уже в вестибюле, он с беспокойством спросил у меня, захватил ли я с собой документы. Услышав, что у меня их с собой нет, мистер Фик-младший выказал неожиданное смятение, и мне показалось, будто он просто хочет сбежать. Но чтобы не задерживаться, я потащил его за собой. Через мгновение мы уже находились в зале, который, по-моему, называется залом для аудиенций, — огромной комнате, устланной темно-красным ковром, с тяжелыми портьерами на высоких окнах.
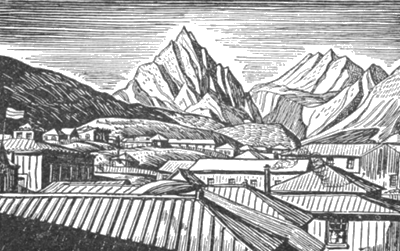
ГОРА ОЛИВИЯ
Губернатор оказался молодым человеком с привлекательной манерой держаться: он слегка подчеркивал (и это ему шло) неизбежную значительность своей сановной персоны. Его секретарь, к счастью, был немец, он великолепно переводил, и благодаря этому наша беседа протекала свободно.
Искусство беседы между людьми неравного общественного положения — дело нетрудное. И чем значительнее разница в положении, тем более свободен ее тон. По сути дела это не серьезная беседа, а непринужденный разговор.
После обмена любезностями я сразу же перешел к делу, которое мне нужно было изложить. Я кратко обрисовал те выгоды, которые ждут Республику Аргентину, когда я опубликую свои заметки об исключительно мягком и ровном климате Тьерра-дель-Фуэго, намекнул, что американский капитал, отбросив вечный страх перед этим коварным краем, немедленно ринется сюда. Я высказал предположение, что, может быть, — и упаси господи, ведь это и вправду не исключено! — среди альпийского великолепия этих гор когда-нибудь поднимутся здания летних туристских отелей.
— Я хотел бы просить вас, — сказал я под конец, — предоставить в мое распоряжение любое военное судно, крейсер или транспорт, который несет здесь службу.
Губернатор ответил — и, по-моему, совершенно искренне, такова безграничная любезность латиноамериканцев, — что, будь в настоящий момент в здешних водах какое-нибудь судно, принадлежащее государству, это судно, безусловно, предоставили бы в мое распоряжение; и, хотя он сейчас бессилен мне помочь, я могу рассчитывать, что он сделает все возможное, дабы содействовать моей благородной цели.
— Но, — добавил он, — правительство иногда совсем забывает о нашем существовании.
Это высказывание позволяет судить, как оторвана от всей страны Ушуая.
— Вот пример, — продолжал он. — Прошлой зимой у нас семь месяцев не было никакой связи с севером. Все кто время государственным служащим не выплачивалось жалованье; в тюрьме и в городе кончились съестные припасы и табак, и самое страшное — ведь это грозило безопасности населения — многие заключенные, чей срок истекал в эти месяцы, были по необходимости отправлены в город без денег и без средств к существованию.
Так закончилась моя аудиенция, ко всеобщему удовольствию и к превеликой радости и гордости юного мистера Фика, на которого она произвела глубокое впечатление.
Бебан тем временем «обдумывал», а я ждал. Мой помощник лежал на спине; ступня у него так распухла, что он едва мог стоять, и тем не менее его заботила единственная мысль — где раздобыть судно. Лундберг из Харбертона был в пятидесяти милях отсюда в проливе Бигл. Мы начинали приходить в отчаяние. Один старожил, который обшарил здесь берега всех островов в поисках золота, сказал однажды:
— Я вас свезу к Горну на плоскодонке.
— Прекрасно! — воскликнул я с внезапной надеждой.
Он рассмеялся:
— Да разве это мыслимо?!
Отчаявшись получить ответ от Бебана, я уже наметил было день, когда в маленькой лодчонке Фиков съезжу на Наварино, чтобы договориться с тамошними индейцами. Казалось, ничего больше нам не остается, и вдруг в тишине раннего утра послышалось тарахтение мотора в заливе. Подошел небольшой катер и пришвартовался у мола. И был это — Лундберг!
ГЛАВА XIX
«КЭТЛИН II»

ЛУНДБЕРГ шел вдоль улицы по направлению к нам. Он был высок, худощав, с резкими, порывистыми движениями. Каким-то образом еще издали я понял, что это он, и поспешил ему навстречу. Лундберг был швед лет сорока, загорелый, с ввалившимися щеками. Его внимательные голубые глаза говорили об энергичном и деятельном уме. Он свободно владел английским языком, но употреблял необычные, редкие слова. Произносил он слова так, как они пишутся, — видно, язык выучил самоучкой. Мы увидели пионера новых земель, первооткрывателя. Лундберг был старатель, лесоруб, предприниматель, организатор, человек практического склада и богатого воображения. Он знал Соединенные Штаты от Миннесоты до Калифорнии и Аляски, отдал многие годы предприятию на кооперативных началах в джунглях Парагвая. Ничего особенного он в жизни не добился, и теперь, уже не первой молодости, остановился здесь, у последней границы обитаемого мира. Было у него только небольшое суденышко водоизмещением пять тонн, лесная концессия, преданная жена и четверо белокурых детишек, кредит повсюду и уважение со стороны всех, кто только его знал.
Мы зашли в кабачок и там потолковали за стаканом вина.
— Ну что ж, — сказал он после долгого молчания, выслушав мою страстную мольбу. — Даст Бебан свое судно — выходите, а я вам открою кредит. Не даст — я сам отправлюсь с вами.
Тут как раз по странной случайности подошел Лоуренс, который разыскивал меня.
— Бебан дал ответ, — сказал он с усмешкой. — Пятьсот американских долларов за первую неделю, а потом пятьдесят долларов в день.
— Этим все решено, — сказал Лундберг.
— А если мы потеряем ваше судно, — тотчас же вставил я, — я отдам свое, которое сейчас в заливе Альмирантасго.
— Если мы потеряем мое, — мрачно ответил Лундберг, — никому из нас другое уже не понадобится.
Единственный недостаток нашего успешного решения задачи — как добраться до мыса Горн — заключался в том, что Лундберг не мог сразу же отправиться с нами в путь: ему необходимо было задержаться на несколько дней. Это было тем досаднее, что время моего пребывания в Южной Америке подходило к концу. А знай мы тогда, что дни эти то по одной, то по другой причине превратятся в недели, мы, разумеется, сразу же отклонили бы его любезное и щедрое предложение. Но мы этого не предполагали. Я вернулся вне себя от радости к моему прикованному к постели другу и рассказал о нашей удаче.
Он тоже воспрянул духом и тут же поднялся на ноги. Счастливое настроение погнало его, как корабль на всех парусах, по улицам города. Не чуя под собой ног от радости, мчась вперед «тем же курсом», он попал в кабачок, где наконец остановился и «бросил якорь» за сосновым столом. Все это делало честь его неуемной бесшабашности, но едва не обесчестило нас в глазах респектабельного уголка, где нас так гостеприимно приютили.
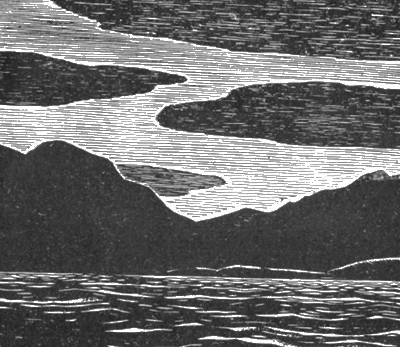
РЕМОЛИНО
Вполне естественно, что после поездки к заливу Лапатая Лундберг стремился в Харбертон повидать семью и попрощаться, прежде чем идти с нами в «самоубийственное» путешествие на юг. Мы решили ехать с Лундбергом в Харбертон, чтобы посмотреть на эти места, а также избавить гостеприимных Лоуренсов от нашего обременительного присутствия, тем более что помощник своим поведением бросал тень на всю семью. Больше всего мы стремились быть вместе со шкипером, от настроения которого мы сейчас полностью зависели.
В команде катера был финн, которого звали Иохансон. О нем — он погиб через некоторое время по моей вине — я буду еще говорить. Кроме Иохансона Лундберг взял с собой в плавание аргентинского лесоруба — человека с несносным нравом, который, как поговаривали, будто бы даже сидел в тюрьме за убийство. Оба они явились мертвецки пьяными и не могли принимать никакого участия в погрузке. Перед отплытием мы помогли им подняться на борт. Иохансона затолкали в каюту, аргентинца же усадили на палубу спиной к мачте, чтобы его протрезвил свежий воздух; там он и оставался почти всю поездку, не проронив ни слова и сохраняя на лице выражение тоскливой и угрюмой подавленности.
Иохансон в пьяном виде оказался куда забавнее. Он псе время кричал, размахивал руками и взволнованно бормотал что-то на исковерканном немецком языке. «Ja, ja, ja!»
[35] —завопил он наконец, потеряв терпение и передразнивая единственный ответ, который я мог дать на его несвязные речи. «Warum sags’t du immer ja?»
[36] Это показалось ему очень забавным, и он веселился так несколько часов.
Время от времени Иохансона, сидевшего у трапа в каюту, приходилось угощать каньей (неочищенный белый аргентинский коньяк) и яйцами чаек, которыми мы лакомились в дороге. Но что кроме этого он периодически наведывался к фляге с вином, когда уползал со своего места, мы обнаружили только на следующий день. И все-таки он сохранял отличное настроение, развлекаясь либо болтовней, либо тем, что пытался вдруг остановить мотор или взбирался на палубу и затевал борьбу с рулевым, кто бы из нас это ни был, стараясь захватить румпель. Но каждый раз мы его быстро сталкивали вниз, к чему он относился с полнейшим благодушием.
Я достал флейту и, стоя неподалеку от трапа, начал играть. Тут Иохансон подошел, придвинул ко мне свое широкое добродушное лицо и уставился на меня со странной торжественностью.
— Многие из нас, — сказал он, послушав музыку, — понимают красоту и хотят на чем-нибудь играть, но у них ничего не выходит. Я бы все на свете отдал, только бы уметь играть на флейте.
О катере Лундберга я еще многое расскажу, когда буду описывать более значительные события. Достаточно заметить, что в тот непогожий день суденышко еле справлялось с бурным морем и на его палубе набралось столько воды, сколько «Кэтлин» не набирала за неделю. Но мотор был достаточно мощным: отплыв из Ушуаи около полудня, с наступлением сумерек мы вошли в узкий залив к северу от острова Гейбл.
До этого места берег пролива Бигл гористый, лишь около Ремолино лежит сравнительно плоский участок земли. А остров Гейбл и земли, начинавшиеся за ним, представляли собой открытые холмистые пастбища, которые у моря заканчивались песчаной отмелью. Здесь паслись овцы Бриджесов, а само хозяйство их было в Харбертоне, куда мы и направлялись.
Приближалась полночь, а мы еще не прошли и полпути в узком извилистом проливе. Лундберг предложил — и мы все на это согласились — переночевать в лагере на острове Гейбл, где в это время находилась жена управляющего Харбертоном миссис Нильсен с детьми. Бросив якорь в маленькой бухте, мы оставили катер на двух пьяниц и господа бога и в лодке подплыли к берегу, где на фоне неба вырисовывались темные силуэты нескольких зданий.
Выйдя на берег, направились к самому дальнему строению — небольшому домику на вершине холма. Гут нас окликнул из темноты дверного проема радостный мальчишеский голос, словно возвещавший, что гости, хотя и поздние, все равно ко времени. Через минуту я уже был в доме у входа в тесную комнату, и Лундберг представил меня невидимой хозяйке. Нежный, совсем молодой голос приветствовал меня из темноты и остался в памяти окруженный ореолом таинственности юного счастья, что так скрашивало нашу жизнь все недели, пока мы гостили в Харбертоне.
ГЛАВА XX
АРКАДИЯ

В ЯСНЫЙ, почти весенний счастливый солнечный день мы отплыли в Харбертон со всеми, кто был на острове Гейбл. Веселье, как на пикнике, сопровождало нашу поездку по спокойному синему морю. Мы остановились у маленького холмистого островка и вышли на берег поискать в траве яйца чаек, затеяли веселое соревнование, кто больше соберет, и со смехом бегали по всему островку. С полными ведрами вернулись на катер. Скоро мы уже входили в гавань, скоро показался и дом. Ах, как радостно было приплыть к этому берегу! Если бы судьба снова привела меня в этот уголок, насколько глубже, насколько сильнее были бы сейчас мои чувства — словно при возвращении в самый милый сердцу дом!
Ведь в Харбертоне мы провели несколько таких счастливых недель — Одиссей, без сомнения, задержался бы здесь дольше чем на десять лет. А на первый взгляд в этих непритязательных домиках и садах мало что, кроме, пожалуй, роскошного цветника, обещало глазу удобства и радости, которые нас там встретили. Дома-коробки, окрашенные в чересчур яркий красный и желтый цвет, откровенно безобразны; правда, они великолепно отвечали своему назначению. Луга и пастбища вокруг были хороши неброской красотой возделанной земли. Такой пейзаж отличается спокойствием и безмятежностью; эти свойства близки красоте, но они приносят душе еще большее удовлетворение. Однако Харбертон, хотя он почти со всех сторон окружен синим морем и за ним встают величественные горы, никак нельзя сравнить с местами, где царит великолепие, присущее южным краям. Но была у него одна черта, которая наряду с бесконечной добротой и сердечностью обитателей придавала ему своеобразие, — это его собственные традиции.
Харбертон был первым истинно практическим результатом деятельности английских миссионеров среди индейцев племени яган. Дарованный в собственность Томасу Бриджесу, первому и последнему управляющему миссии в Ушуае, он стал для него ступенью от благочестия к богатству. И, несмотря на то что предприимчивые сыновья Бриджеса скоро пробили себе путь через горы к более плодородным прериям севера, расположение комнат и обстановка в доме отличаются викторианским буржуазным комфортом, который прославил золотые времена той эпохи.
За время пребывания в Харбертоне я внимательно изучил многочисленные реликвии прошлого на одинокой, любовно оберегаемой могиле в соседней рощице, разгадал трагедию, запечатленную без слов, и составил себе некоторое представление о жизнях, которые здесь прожиты, о горестном одиночестве, свойственном такому уединенному уголку.
Но казалось, эти горести ушли в прошлое. Одиночество и тоску можно было заметить, лишь разглядывая старинные выцветшие фотографии. Со снимков глядели на вас мужественные сыны границ; у них натруженные руки, не вязавшиеся с франтоватыми костюмами, привезенными с далекой родины. С застывшими лицами они были сфотографированы на этой чужой земле; рядом стояли женщины с грустными глазами, женщины, которые никак не могли привыкнуть к чужбине — она губила в них все, кроме затаенных мечтаний. Трагедия, о которой говорили их жалкие потуги выглядеть людьми благородного происхождения, казалась теперь несчастьем совсем другого мира и была в сущности несчастьем другого поколения. Сегодня в Харбертоне ликовала молодая жизнь. Наблюдая ее, приноравливаясь к ней, вкушая ее радости, вы чувствовали, что здесь царит покой, что поистине в этом доме поселилось счастье.

САД В ХАРБЕРТОНЕ
Недели в Харбертоне в моих воспоминаниях сохранились как цепь погожих дней — свежих, ясных, прохладных, безоблачных дней, когда, усевшись на солнечном склоне холма, испытываешь то же ощущение покоя, что у камина, и вечеров, когда в уютной тесноте четырех стен яркий огонь камина и наши собственные тела-планеты превращались в своеобразную вселенную, более близкую и дружелюбную и не менее необъятную, чем холодные просторы за дверьми.
Я вспоминаю, как проводил в седле целые дни, совершая многомильные поездки по открытым холмистым пастбищам и берегу моря, где на каждом шагу встречались поросшие травой кучки раковин — следы бесчисленных стойбищ почти вымершего племени яган. А сколько миль пройдено по тропинкам высоких темных лесов, через широкие ручьи и фиорды, по глубоким гремящим ущельям с отдыхом у какого-нибудь спокойного пруда или озера под сенью густых деревьев! Так день за днем мы изъездили весь этот рай вдоль и поперек. Иногда устраивали в лесу пикник: выбирали солнечную поляну, защищенную от ветра, зажаривали на костре баранью тушу и кормили всю нашу ораву довольных ребятишек, ели сами, а потом подолгу играли в разные детские игры.
Дни пробегали как часы. Пользуясь теми или иными предлогами, Лундберг надолго оттянул нашу поездку к мысу Горн: мы отправились туда лишь после рождества. Чтобы запастись провизией и купить подарки к празднику, мы съездили в Ушуаю — мой помощник и я с Лундбергом и Иохансоном. Выехали в полдень, к ужину были в Ремолино, где по приглашению хозяев остались ночевать.
Пастбища Ремолино не идут ни в какое сравнение с харбертонскими, и, несмотря на то что усадьба в Ремолино была создана почти так же давно, как в Харбертоне, она не может претендовать на такую же значительность, хотя, безусловно, дает хорошую прибыль. Земля принадлежит Мартину Лоуренсу, а управляют всем его братья, чьей щедрости мы стольким обязаны. Настоящим удовольствием оказалось знакомство со старым мистером Лоуренсом, который вместе с преподобным Томасом Бриджесом был одним из основателей англиканской миссии в Ушуае в 1869 году. Неудачная деятельность миссии хотя и открыла этому милому старику глаза на никчемность подобного метода обращения в христианство, все же не сумела погасить в нем простую веру христианина. Негодование, которое испытываешь при мысли о смертоносной доброте миссионерских начинаний, в присутствии старого мистера Лоуренса уступало место глубокому уважению к мужеству и человеколюбию, отличавшим некоторых из этих ослепленных спасителей человечества.

ДОМ В ХАРБЕРТОНЕ
В Ремолино можно было наблюдать влияние «цивилизации» на индейцев. К дому пристроили ряд хижин, где жили несколько яганских семей, работавших на ферме. Жилища белого человека, в которых их поселили, не оказали особого влияния на жизненный уклад индейцев. Он остался тем же, что некогда в вигвамах. И даже если они вступали в брак с белыми и поднимались до их общественного положения, казалось, что их просто безжалостно вырывают с корнем из родной земли, которая одна могла давать им счастье. Мы, слышавшие ранним утром песню лесного дрозда на горных склонах, знаем, что в песнях звучит голос души. В Ремолино, встав поутру, я долгое время слушал у двери на кухню низкие прекрасные голоса яганских женщин, которые разговаривали и смеялись за работой.
Мы возвратились в то же утро в Ушуаю и сразу отправились каждый по своим делам. Я, например, пользуясь кредитом Лундберга, сделал все необходимые покупки. К полудню мы были готовы в путь, но Иохансон, получив жалованье, исчез, и его невозможно было разыскать. Мы отлично себе представляли, в каком он окажется виде, если все-таки удастся его обнаружить, и потому, когда потратили полчаса на безуспешные поиски, я в нетерпении стал просить Лундберга не ждать финна и ехать без него. Лундберг неохотно согласился. Мы собрали вещи Иохансона и оставили их в лавке у Лоуренса. Больше Иохансона нам не суждено было увидеть.
Вот как закончилась его история: он зверски напился, истратив на это все свои деньги, и отправился пешком в Харбертон, чтобы встретить там Лундберга. В Ремолино он приплелся в ужасном состоянии, еле живой. На следующее утро, все еще сильно под хмельком, он пошел дальше. Об этом мы узнали только несколько дней спустя от одного человека из Ремолино, проходившего мимо Харбертона. А Иохансон так и не появился, и больше о нем никто не слыхал.
Бесследное исчезновение человека никого особенно не огорчило. Парень был никудышный, исчез — и дело с концом. Мой помощник целый день скакал верхом по горам, по опасным тропам над пропастями, пытаясь его разыскать, но поиски оказались тщетными.

О ВЕСЕЛОЕ, СЧАСТЛИВОЕ РОЖДЕСТВО, ПРИНОСЯЩЕЕ ПОДАРКИ
А рождество между тем приближалось, и мы были заняты приготовлениями к тому, чтобы как следует его отпраздновать. В плотницкой, заперев дверь, двое из нас трудились не покладая рук над аляповатыми чудесами для елки: золотили орехи, завертывали в фольгу из-под сигарет печенье и конфеты, делали канитель из стружек листового свинца и в довершение всего смастерили огромную вифлеемскую звезду с лучами из медной проволоки. Помощник взялся изготовлять сальные свечи и развешивал их сохнуть. Дети собирали ромашки на лугах, рвали розы в саду, цветущие ветви и омелу; они разукрасили дом, как на майские праздники. В последний день ребячья ватага притащила из лесу елку — на самом деле это было деревце канело с блестящими листьями, первое из этой породы деревьев, которому предстояло покрыть себя славой рождественского мученичества в огнях свечей.
Наступил сочельник. В доме Нильсенов полно народу. Кроме Нильсенов и Лундбергов и их одиннадцати детей здесь еще Берто Лоуренс с двумя детьми, приехавший из Ремолино. Всего собралось восемь взрослых и тринадцать ребятишек. Все ждут. Двери большой парадной столовой, которой редко пользуются, заперты. За ними скрыта тайна — окна плотно затянуты занавесями, чтобы в столовую не проникали последние лучи солнца и нетерпеливо-любопытные ребячьи взгляды. Все ждут, шепчутся, гадают у дверей и вдруг затихают: из запертой комнаты раздаются звуки музыки, вначале далекие и еле слышные, но небесно-сладостные… Оркестр играет «Тихую ночь».
Высокие двери медленно распахиваются, музыка гремит вовсю. Сколько света! Ослепительное, блистающее чудо-дерево встает перед глазами, которые никогда еще не видели рождественской елки. А те, кто видели, проникаются радостью, которую испытывают сейчас дети. Громкая музыка взлетает до небывалых высот, она как бы становится воплощением безмолвного и пылкого ребячьего восторга. И что за оркестр! Двое мальчиков со скрипками, граммофон и флейта — ансамбль под стать самодельной мишуре и свечам из бечевки и сала. Но и музыка, как и остальные самодельные чудеса, иногда достигает совершенства.
За едой и питьем, за танцами, играми и весельем проходит вечер; малыши засыпают, утомленные счастливыми впечатлениями. Полуночный мрак переходит в рассвет, и мы, взрослые, захмелев от вина (а сна от счастья— ни в одном глазу), умиротворенно беседуем до рассвета. Поет петух, и красное солнце встает из тумана. Мы выходим в сад и со свежим воздухом раннего утра вдыхаем аромат роз.
Лундберг без конца находил причины, задерживающие нас на месте; на наши вопросы он давал весьма уклончивые, но правдоподобные ответы. Теперь, оказывается, отъезд зависел от прибытия аргентинского транспорта «Рио-Негро», на котором Лундберг отправлял лес в Буэнос-Айрес. Прибытие транспорта откладывалось на недели, и мы себе не находили места. Однако, ругая про себя судьбу, мы отлично встретили Новый год и отдали должное пуншу «Кингпин» — я приготовил его с поучительной изобретательностью человека, который давно не был дома; пунш поднял престиж Америки, а помощник мой приобрел из-за него дурную славу.
ПУНШ «КИНГПИН» (РЕЦЕПТ)
В пятигаллонную жестянку из-под керосина, хорошо, конечно, вычищенную, положите весь изюм, чернослив, коринку, винные ягоды и тому подобное, что найдется в доме; добавьте чуть-чуть хмеля — самую малость, примерно десять фунтов сахару и немного закваски или дрожжей. Залейте горячей водой и разомните. Добавьте теплой воды и поставьте за печью. Через два дня пунш начнет потихоньку бормотать, через четыре — рычать. Постарайтесь его не пробовать в течение десяти дней, то есть до кануна Нового года. А тогда спускайте его с цепи прямо в стаканы.
Наутро я обнаружил, что помощник не ночевал в своей постели, а спустившись вниз, увидел все семейство в великом смятении из-за одного ночного происшествия, о котором я ничего не знал. Пока мой друг все еще спал там, куда в гневе его швырнул Нильсен, над ним вершили суд. Решение зависело от того, было ли его бессознательное состояние, в каком его нашли, когда он валялся под дверью чужой комнаты, притворным или нет. Я слишком хорошо знал своего помощника и выгораживал его как мог, говорил, что он напился до бесчувствия, сам того не желая; но объяснений ждали от него самого. Я пошел к нему, разбудил и, когда он начал приходить в себя, излил ему все свое негодование.
— Ты законченный дурак, черт тебя подери! Ступай вниз и поговори с мистером Нильсеном: или вымоли себе прощение, или же убирайся из дома и живи на боте!
Примирение состоялось благодаря главным образом участливой доброте миссис Нильсен, и, хотя отношение к помощнику несколько ухудшилось, он остался под этим гостеприимным кровом.
Чтобы восстановить перед читателем доброе имя провинившегося друга, я поведаю о более веселом случае, который произошел в один из последних дней в Харбертоне и который заставит отдать дань восторга даже зверской внешности моего помощника. Уже несколько недель ходили слухи, что из Буэнос-Айреса вышел огромный пароход с туристами, которые хотят взглянуть на проливы Тьерра-дель-Фуэго. И в один прекрасный день — о чудо, дивитесь! — этот пароход прибыл не куда-нибудь, а в Харбертон и бросил якорь в проливе. Нас охватило неистовое волнение. Мистера Нильсена и Лундберга не было, и меня попросили исполнять роль хозяина перед несметными полчищами пассажиров. Их были толпы: тучные вдовы и подагрические аргентинские аристократы; хорошенькие девушки и веселые молодые кавалеры; жизнерадостные юноши и скучающие бездельники; маникюрши и парикмахеры, отправившиеся сюда в погоне за заработком; дамы легкого поведения, извлекающие из путешествия и удовольствие, и прибыль, и один американский ученый, который поглядывал с высокомерным презрением на всех остальных. И действительно, все они представляли собой нелепое зрелище — эти дамы в белых нарядах и изящной обуви и игрушечные денди, явившиеся сюда, чтобы побродить среди дикой природы и своим чуждым великолепием превратить богатство здешних жителей в нищету, их покой в жажду чего-то иного.
Пока миссис Нильсен и миссис Лундберг готовили дом к приему гостей, я повел всю толпу через лужайки к вершине холма в надежде, что они останутся довольны мирным пейзажем, холмистыми пастбищами и морем, которые откроются перед ними. Но я никак не мог придумать, каким бы «чудом» удовлетворить их неуемное любопытство.
— А где индейцы? — закричал кто-то.
— Да, покажите нам индейцев! — стала вторить толпа. И они начали теребить меня, требуя индейцев.
А я уже чувствовал на себе ответственность гида и не хотел разочаровывать своих зрителей; мне казалось, что я обманул их ожидания. В какой-то смутной надежде я вел и вел их вперед; колючий кустарник вставал у нас на пути, и изгороди преграждали дорогу. Игриво визжа, хихикая, протестуя, они прошли за мной следом около мили, и к этому времени у меня возник отличный план. Я скрылся от них, пробрался через заросли кустарника и со всех ног помчался к дому самым коротким путем. Возле дома отыскал своего помощника, занятого оживленной беседой с какой-то блондиночкой. Едва извинившись, я поспешно утащил его в дом.

ВОДОПАД БЛИЗ ХАРБЕРТОНА
В кузнице стоял бочонок с длинным конским волосом, мои масляные краски оказались под рукой, в кладовой нашлись кошачьи шкуры, тряпки и старая одежда. А самое главное, что кроме всех этих искусственных атрибутов дикарского наряда у моего друга было свое собственное уродливое, изрезанное шрамами лицо, рот почти без единого зуба, необычайной ширины грудь и небывало сильные руки.
Четверть часа спустя кошмарное создание выбралось украдкой через заднюю дверь и побрело через прилегающий к дому луг. В эту минуту авангард возвращающихся туристов показался на гребне холма. Со смехом и шутками они начали спускаться по склону, и вдруг кто-то остановился и указал вперед. Все глаза устремились туда, в толпе поднялось волнение.
— Смотрите, смотрите! — закричали они мне, когда я подошел. — Индеец!
— Вам повезло, — ответил я, как будто тоже впервые увидел его. — По счастливому совпадению вы видите наводящего ужас яганского вождя Ококко, самого кровожадного из всего племени.

Представьте себе на минуту, как я подводил трепещущую толпу все ближе и ближе к предмету их любопытства и страха, как матери призывали дочерей к осторожности, как галантные кавалеры успокаивали своих дрожащих дам, как самые смелые остановились в десяти шагах, а остальные толпились у них за спиной, образовав кольцо вокруг невиданного страшилища. Дикарь своим обликом наводил ужас: голый по пояс,
только звериные шкуры кое-как прикрывают его темную грудь и спину; из-под копны жестких черных волос, свисающих на плечи, выглядывает смуглое лицо, исполненное такой низменной и мрачной злобы, что трудно вообразить, — в ней видна вся разнузданная жестокость этой дикой натуры.
— Отменный негодяй, — сообщил я толпе. — Известно, что он убил и съел четырех белых — трех мужчин и женщину.
— А почему у него на руках татуировка? — спросила пожилая женщина, глядя на страшилище через лорнет.
— Татуировку ему сделал матрос, бежавший со своего корабля, — отвечал я, призвав на помощь воображение. — Матрос этот связался с дикарями, а они потом предательски его убили.
— Смотрите, у него голубые глаза! — воскликнула одна прехорошенькая девица.
— Это очень интересная история, — ответил я. И тут же сочинил басню о беглом каторжнике из Ушуаи, который связался с яганской женщиной и благодаря своим дикарским талантам стал вождем племени, положив начало династии вождей. Так как помощнику уже до смерти надоело бесконечное разглядывание, я поспешно обошел толпу с шапкой, в которую полетели деньги и сигареты, а после этого сообщил туристам, что дикарь проявляет признаки нарастающего гнева, — и всех как ветром сдуло.
— Только американец может такое придумать! — говорили потом аргентинцы, смеясь над разыгранной с ними шуткой; по этому можно судить, какая о нас, американцах, идет по миру слава.
Но шутка пришлась по вкусу. Связав помощнику руки толстой веревкой, мы потащили его на борт парохода, чтобы ужаснуть и привести в восторг сотни туристов, которые на берег не сходили.
Подошло восьмое января. С часу на час мы ждали «Рио-Негро», и вдруг стало известно, что пароход снова задерживается. На этот раз точно сообщили день прибытия: не позднее шестнадцатого он будет в Харбертоне, чтобы принять груз. Откладывать нашу поездку к мысу Горн позднее этого числа стало невозможно: я должен был вовремя вернуться в Пунта-Аренас; выезжать раньше Лундберг отказался, а без механика мы не могли управлять судном. И вдруг я понял то, что и по сей день мне кажется истинной причиной: Лундберг просто не отваживается на это путешествие. Положение создалось отчаянное.
Тогда возник новый план: добраться морем до острова Наварино, пересечь его пешком до Рио-Дугласа на юго-западном берегу, а затем, взяв в проводники индейца, на каноэ, как советовал мистер Фик, пробраться к островам Вулластон. Лундберг охотно согласился перевезти нас через пролив, и отъезд мы назначили на следующий день.
Этот день наступил, прекрасный в яркой синеве и золотом блеске; все было готово для нашей безумной затеи, и вдруг на дороге к дому показался всадник. Все тотчас же узнали его — Кристоферсон!
Я должен оправдаться за то, что на предыдущих страницах этой книги ни разу не назвал имени этого замечательного человека, хотя его постоянно вспоминал Лундберг. Еще в Ушуае нам говорили о Кристоферсоне как о замечательном охотнике на тюленей и выдр, как о моряке, которому известен каждый камень, каждая бухта в этих водах до самых островов Вулластон — а до них совсем не близко, — как о человеке, который лучше всех сумеет помочь нам добраться до мыса Горн. Но мы знали, что он сейчас охотится на острове Статен
[37], в ста милях к востоку отсюда, и поэтому на него нельзя рассчитывать. И — о чудо! — он явился, как ангел, посланный провидением.
Кристоферсон — высокий и спокойный швед. Он говорит на ломаном английском языке, лениво растягивая слова; голос у него негромкий. Движется он медленно, тяжело — воплощение скрытой энергии и силы. Он хорошо знал катер Лундберга, знал, как им управлять, и Лундберг ему полностью доверял. На мое предложение сразу же отправиться с нами к мысу Горн и Кристоферсон, и Лундберг тотчас согласились с условием, что катер вернется до шестнадцатого, так как будет нужен для погрузки леса на «Рио-Негро».
Итак, утром мы отплывали и наше пребывание в Харбертоне подошло к концу. Многие недели развлечений и отдыха среди двух дружных семейств оставили во мне глубокую убежденность, что им на долю выпало большое счастье, которое я разделял, пока был среди них. Узнав как следует Харбертон, его спокойные окрестности и безмятежные воды, я научился ценить эту неприметную красоту как настоящий источник душевного покоя. Я сидел на кухне в тот последний вечер и говорил миссис Нильсен, как много значит для меня Харбертон и что никогда в моей богатой опытом и путешествиями жизни не видел я такой счастливой семьи, как у них, что их счастье нерушимо, все связывающее их прочно в самой своей основе.
Миссис Нильсен все время что-то делала, но вдруг на несколько минут застыла без движения. Наступившая тишина заставила меня взглянуть на хозяйку. Она плакала.
— О, если бы вы знали, — всхлипывала она, — если бы вы только знали, что говорите! Вы здесь пробыли так долго, а поняли так мало.
ГЛАВА XXI
ВСЕ НА БОРТ

СУДЕНЫШКО Лундберга с вооружением шлюпа имело большую осадку, ход у него был отвратительный; старый двадцатисильный мотор от «даймлера»
[38] — единственная надежда. Мотор долгие годы пролежал под водой, проржавел и растрескался, кое-где его подвязали проволокой и залепили замазкой и мылом.
— С этим мотором туда ни за что не добраться: не выдержит, — сказал Лундберг.
Произнес он это с мрачной убежденностью.
Мы погрузили балласт, взяли с собой запасной якорь, новую цепь и отплыли. И слова прощания звучали так торжественно, словно мы расставались на всю жизнь.
Был поздний вечер, и не успели мы пройти несколько миль, как наступила темнота. Два часа простояли на якоре и, когда занялась заря, снова пустились в путь.
В Ушуаю мы пришли с приливом, когда город только просыпался. Стояла тихая погода. Не тратя времени, я сошел на берег, чтобы закупить провизию и покончить с необходимыми формальностями в порту; нам не терпелось отправиться дальше.
— Купи шесть канистр бензина и привези их на катер, — сказал я помощнику перед уходом.
Мне не приходило в голову, что такое простое дело может обернуться недоразумением, и я тут же забыл о своем приказе.
В Ушуае ни у кого нет особых дел, поэтому люди поздно залеживаются в постели. И хотя солнце уже стояло высоко, все еще сидели за утренним кофе и лавки были закрыты.
Прошло почти два часа, пока я сделал все покупки и получил пропуск у субпрефекта
[39].
После этого я крикнул помощнику, чтобы он снова отвез меня на катер.
— Да, насчет бензина, — сказал помощник, когда я забрался в ялик. — Мне дали только пять канистр.
— Но они уже на борту?
— Нет еще. Мы подумали, надо сперва посоветоваться с вами.
И вот эта глупость, заставившая нас потерять еще полчаса, посеяла семя, горький плод которого — трагическое разочарование — ожидал нас впереди.
Было все еще тихо, когда мы подняли якорь и вышли в бухту. У оконечности полуострова Ушуая нас встретил слабый западный ветерок, который слегка наморщил зеркальную воду. Ветер усиливался. Через полчаса мы были на середине пролива. Неистовый порыв ветра — и море кинулось на нас. Мы не могли двинуться с места. Сделав поворот, нашли убежище около группы островков у берега и стали на якорь с подветренной стороны.

Ветер усилился и бушевал весь день и весь вечер. Ночь мы простояли на якоре, и потерянные полчаса превратились в двенадцать.
В два часа ночи мы проснулись. Было темно и тихо, небо затянуло облаками. Проклятый мотор целый час не заводился. Потом в сером рассвете мы пересекли пролив по направлению к подветренному берегу Наварино, пошли вдоль берега между бесчисленными островками и, войдя в пролив Маррей, взяли курс на юг. Начался дождь.

ОСТРОВ ПАКСАДА
Проход между Наварино и островами Осте в некоторых местах очень узок; берега крутые, со множеством мысов, покрыты густыми лесами. В то раннее утро под дождем все вокруг было угрюмо и темно. Следы неудач, постигших в свое время миссионеров, встречались один за другим и тонули во мраке, таком же беспросветном, как горестные отчеты о миссионерской деятельности
[40].
Пройдя юго-восточную оконечность полуострова Дюма, мы стали пересекать пролив Понсонби. Был полный штиль. Снежные вершины гор вставали, как острова, над грядой облаков, отражаясь в сером зеркале моря. Через час мы пересекли пролив и вошли в длинный извилистый проход, который отделяет от полуострова Пастёр небольшой островок. Берега были низкие, кое-где поросшие кривыми, изуродованными деревьями. В высокой траве на небольшой поляне находилось селение индейцев — три-четыре полуразвалившиеся хижины и два вигвама. Мы не заметили там никаких признаков жизни и прошли мимо.

ПОЛУОСТРОВ ПАСТЕР
Скоро мы круто повернули в очень узкий пролив — его не было на карте, но Кристоферсон его знал — и, пройдя несколько миль, как по реке, оказались неожиданно в бухте Курсель, возле южного окончания полуострова. Здесь поднимались утесы цвета слоновой кости и необычного строения, обрамленные кустиками травы, словно бакенбардами. У подножия их были глубокие фиорды и пещеры, где кишмя кишели тюлени.
Опыт научил нас не слишком доверять хорошей погоде. Мечтая достичь цели нашего путешествия, мы, когда входили в открытые воды, беспокоились, как бы не поднялся ветер, не задержал нас или не заставил бы в поисках убежища повернуть назад.

ЯКОРНАЯ СТОЯНКА У ОСТРОВА БЕЙЛИ
Но погода все время держалась тихая. Царило то неестественное зловещее спокойствие, когда природа собирает силы для неистовой бури. Мы пересекли бухту Текеника и прошли между островом Паксадл и полуостровом Харди. Пока нависшие облака не сулили ничего опасного, кроме дождя, и мы направились через залив Нассау к северной оконечности острова Греви.

ХИЖИНА БРАКОНЬЕРОВ НА ОСТРОВЕ БЕЙЛИ
Были видны низкие берега островов Вулластон, тех, что находились поблизости от нас. Случайные просветы в облаках позволили мельком взглянуть на горные хребты отдаленного острова. Когда же приблизились к острову Греви, пошел дождь, закрыв все, кроме самого берега, вдоль которого мы шли. Поэтому нас встретили не скалы и горы, как нам думалось, а острова, довольно унылые с виду, с безлесными равнинами, поросшими желтой травой, — лишь у самого берега виднелась зеленая кайма. Но по мере того как мы плыли все дальше по бухте Греттон, сквозь завесу облаков показались горы, открывшие нам величие этого края.
ГЛАВА XXII
ПОПОЙКА И КРЕСТИНЫ

ОСТРОВА Вулластон — последняя группа островов у юго-западной оконечности Южной Америки, последние вздымающиеся над поверхностью океана вершины Кордильер. Западные ветры наталкиваются здесь на горные хребты и сворачивают к северу, потом, набравшись сил, в неистовстве проносятся вокруг островов Вулластон и превращают их в область постоянных штормов. Горные вершины задерживают облака, чтобы не упустить ни горстки снега, приносимого на эти унылые берега безжалостными бурями и снегопадами.
Острова необитаемы. Поэтому мы были поражены, когда, войдя в пролив Виктории, где намеревались остановиться на ночь, увидели дымок над заброшенным, как мы полагали, лагерем на острове Бейли, что много лет назад построил здесь Кристоферсон. Длинная низкая хижина, сколоченная из досок и крытая жестью, стояла на берегу, а позади нее начиналась великолепная густая и сочная зелень кустарников. Метрах в десяти оттуда, в рощице, почти скрытый от глаз деревьями канело, находился индейский вигвам.
Когда мы подошли ближе, грубо сколоченный тузик с двумя гребцами направился от берега к нам навстречу. Пока отдавали якорь, лодчонка остановилась неподалеку от нас, но так, что между нами было достаточное расстояние, и гребцы принялись нас разглядывать с явным любопытством и недоверием. Какие бы у них ни возникли опасения на наш счет, их внешность тоже нельзя было назвать особенно располагающей. Эти двое — белый и индеец — были грязны и неряшливы. Белый — молодой, с распутным и красивым, несмотря на свалявшиеся космы шелковистых бакенбард, лицом, но с глазами злобными и безжалостными. Такие глаза часто встречаются у слащавых женоподобных красавчиков. Оглядев нас и сделав свои выводы, он поздоровался и пригласил на берег.
Мы захватили с собой две бутылки огненной каньи, четверть бараньей туши, высадились на берег и направились к дому. Внутри было темно и грязно. Когда глаза привыкли к темноте, мы увидели длинную и узкую комнату, ящик против двери и на нем маленькую ржавую плиту, табуретку и две-три жестянки из-под керосина. Стола не было, стоял сундук, несколько мешков с продуктами, и лежали два матраса в темных углах Со стропил свисали наполовину обглоданные тушки диких гусей, с них капала кровь. У стены высилась гора раковин, вокруг нее в липкой грязи барахтался выводок гусят. Здесь, в этой мерзкой грязи, жили два семейства. Нам их представили:
Васкес, тот, который пригласил нас, — убийца, отбывший свой срок в Ушуае;
Женевьева, хорошенькая, смуглая, темноглазая, неряшливая, молодая fille de joie
[41], аргентинка, — его жена;
Гарсиа — мужчина лет пятидесяти. В нем не замечалось никакого уродства, и все же трудно себе представить внешность более отталкивающую. Низкого роста, с брюшком, он стоял вывернув толстенные икры, словно неуклюжий танцмейстер в первой позиции. Покатый и высокий лоб, над лбом вьющаяся прядь, как плюмаж на шлеме Гектора. Большие светло-серые глаза на выкате, желтые белки, набрякшие веки. Он так вращал глазами, будто не желал нарушать покой огромной и тяжеловесной головы. Пышные драгунские усы наполовину закрывали грубо чувственный рот, пряча в своей тени жалкий срезанный подбородок. Это существо стояло босиком в грязи, заложив по-наполеоновски за спину руки, упершись подбородком в морщинистую кожу шеи, вперив взор в пространство с яростным достоинством полоумного. Таков был Гарсиа, бывший тюремный надзиратель из Ушуаи;
Маргарита, его жена, — индеанка из племени яган, лет двадцати, трогательно кроткая, милая и раболепная, и ее ребенок месяцев трех, не больше,
и Берте — индеец из племени яган; на вид ему было лет сорок, но он говорил, что ему шестьдесят, доказывая это тем, что двенадцать лет прожил в англиканской миссии. Индейцы этого племени не блещут красотой. Вот как их описал один наблюдательный путешественник в 1884 году: лица «плоские, широкие, круглые и полные; выступающие скулы; лоб низкий и широкий, нос плоский, глаза очень маленькие и без ресниц, губы распухшие и отвислые, сильные челюсти и хорошие зубы. Очень маленькие ступни и кисти рук, худые руки, кривые ноги». Берте был коренаст и казался силачом. Он жил один в своем вигваме, очень чистом и опрятном.

НА ЮГО-ЗАПАД ОТ ВЕРШИНЫ ОСТРОВА БЕЙЛИ
Эти люди — аргентинские подданные — охотились в Чили на выдр; они были браконьеры и жили в страхе, что их обнаружат и заставят ответить перед законом.
И вот мы стоим в этой темной и грязной берлоге в одном из самых отдаленных и безрадостных уголков Земли, а перед нами такие разбойные молодцы, что хоть отправляй их с пиратами за сокровищем. Мы безоружны. Спускается ночь.
Убийца наливает канью, подходит ко мне с двумя кружками и одну протягивает мне.
— Сеньор, — говорит он, — я узнал, что вы художник. Я считаю художников, писателей и музыкантов величайшими людьми на свете. Я пью за ваше процветание!
С самой искренней, очаровательной улыбкой он чокается со мной, и мы пьем.
— Виктор Гюго и Толстой! — продолжает он. — Это мои любимые писатели. Какое величие! Какое великолепие идей!
Мы начинаем разговор о европейской литературе, с которой он хорошо знаком, а Женевьева, наша любезная хозяйка, наливает еще каньи: «Salud, salud!»
В этот вечер берлога — праздничный зал: горят свечи, не смолкает буйное веселье, слышатся дружеские возгласы. «О Женевьева, милая Женевьева», — пою я. Она в восторге, Васкес очарован, Маргарита с улыбкой кормит своего малыша, инспектор выкатывает на меня глаза и строго кивает.
Васкес сбрасывает куртку и пускается в пляс — неистовый, отвратительный, прекрасный мускулистой красотой гибкого тела. Маргарита смеется, а Женевьева взвизгивает в безудержном веселье. Они притворно содрогаются, когда Васкес с длинным и острым хлебным ножом в руке изображает перед нами сцену убийства, им совершенного.

НА ЗАПАД ОТ ВЕРШИНЫ
А Берте, захмелев, танцует какой-то еще не совсем забытый военный танец своего племени и потом снова погружается в мрачное оцепенение, из которого мы его вывели веселым шумом. Он долго сидит так, молча опустив голову на грудь, и вдруг неожиданно вскидывает голову и выкрикивает во все горло дикую непристойность. Женщины отворачиваются, заткнув уши, а в глазах у них смех.
Маргарита не произносит ни слова; среди общего пьяного галдежа молодая мать остается спокойной и молчаливой.
— Ты счастлива здесь? — спрашиваю я, садясь с нею рядом. Она немного говорит по-английски и отвечает почти шепотом, тихим и приятным голосом.
— Нет, не счастлива, — произносит она, стыдливо прикрывая грудь, которую сосет ребенок.
— А тебе нравится в Ушуае?
— Да.
Я перевожу взгляд с ее круглого, как заходящая луна, невозмутимого, как у изваяний Будды, печального и нежного лица на физиономию мрачного животного, ее сожителя.
— Ты любишь его? — спрашиваю я.
Она прячет от меня лицо и наконец отвечает очень спокойно:
— Да, я его люблю.

НАДЗИРАТЕЛЬ
На вопрос, как зовут ее ребенка, Маргарита горестно отвечает, что младенца не крестили и у него нет имени. Это девочка. Не знаю, что на меня тогда нашло, но вовсе не по легкомыслию, хотя я не верю в бога, я сказал юной матери, что совершу обряд крещения и дам ребенку имя своей жены. Спросили у отца, и, когда я заверил его, что имею право выполнять эту церемонию, он проявил непритворный интерес к нашей затее. Мой помощник повел себя с неожиданным достоинством: объяснил по-испански всем присутствующим, в чем состоит обряд, и по его указаниям берлога была превращена в часовню. Кое-как убрали мусор с пола, посредине поставили жестянку из-под керосина — подставку для купели. Женевьева вычистила единственный таз, великолепный сосуд, покрытый розовой эмалью, и, наполнив его дождевой водой, поставила на жестянку, Я с младенцем на руках занял свое место у купели, а родители — рядом со мной с обеих сторон; остальные все встали немного поодаль. Я сделал знак рукой, и все благоговейно смолкли.
— Боже милосердный, — начал я молитву, — да пребудет это дитя во здравии и благополучии, и да сменятся невзгоды, выпавшие ей при рождении, истинным счастьем. С этой молитвой именем бога нарекаю ее Кэтлин Кент Гарсиа.
И я помочил ребенку лоб водой и поцеловал его.
— Это какой церкви обряд? — спросил Гарсиа, когда я закончил церемонию.
— Бог един, — ответил я.
— El mismo Dios, — повторили они растроганно.
Меня попросили написать свидетельство о крещении. Я составил его и дал Гарсиа с письмом к старому мистеру Лоуренсу, в котором умолял его не объявлять мой поступок незаконным.
Как мы вернулись на катер в ту ночь, никто не помнил. Проснулись, когда было уже совсем светло. Дул штормовой ветер, и даже в нашем сравнительно надежном укрытии трудно было подойти на лодке к берегу. Из-за ветра мы провели день на берегу и, чтобы развлечь Кристоферсона, отправились на прогулку с Васкесом, который нас всех очень забавлял. Он находился в отличном расположении духа и хвастливо заявил мне, что церемония предыдущего вечера была ему особенно приятна: ведь на самом-то деле крестили его ребенка. «Тем лучше для маленькой Кэтлин», — подумал я.
В этот день унылые болота острова Бейли золотились под лучами солнца, а бесчисленные озера, разбросанные по равнине, отражали яркую синеву небосвода
[42]. Чахлые деревья, росшие только в низких местах, говорили о том, какие здесь дуют неистовые ветры.

ОСТРОВ ГОРН
Из-за ветра мы и на следующий день вынуждены были задержаться на острове и отправились с помощником к самой высокой горной вершине — тысяча сто футов над уровнем моря. Путь лежал через заболоченные равнины и топи, по каменистым горным склонам, сквозь густые заросли кустарника и согнутых ветром деревьев. Над нами то сияло солнце, то начинал лить дождь. Вымокнув до костей под холодным ливнем, мы стали осторожнее и, когда приближался шквал, искали убежища в расщелинах скал или укрывались под деревом с низко нависающими ветвями, на которые мы кидали большие охапки сучьев. В этих убежищах, согнувшись в три погибели и дрожа от холода, мы пережидали, пока дождь и ветер не промчатся мимо.
Преодолеваем еще несколько сот футов — и вот последний крутой подъем позади. Мы на вершине и, прильнув к камням, чтобы не снесло порывами бури, обозреваем необъятные просторы удивительной земли, где лежит мыс Горн. Сквозь завесу бегущих облаков проглядывают горные вершины, море, блистающее у подножия гор, голые острова, то укрытые черной тенью грозовых туч, то залитые солнцем, отсвечивающим на забрызганных пеной склонах, то окутанные пеленой дождя. Пока так стоим, на нас вдруг опускается полуночная тьма и скрывает все, кроме остроконечной вершины скалы, где мы укрылись от бури.
Налетает шквал. Его свирепый вой заставляет усомниться в надежности гранитной скалы. Проносятся косые белые полосы града, закрывая все вокруг. Теперь для нас весь мир сосредоточился в этом обломке метеора, заброшенном сюда из вселенной неведомой силой, в этой скале, к которой мы приникли.
И вдруг так же неожиданно, как налетел, шквал уносится дальше. Мы все на той же вершине горы, но успела наступить зима: солнце сияет на только что выпавшем снегу.
Устремляем взгляды на юг. Зубчатые горы острова Эрмите скрыты грозовыми тучами. Остров Холл почти не виден за густой завесой тумана, поднимающегося с юга.
— Смотри! — кричим мы друг другу.
Пелена тумана разрывается, и за темными, мрачными очертаниями островов Вулластон возникает раздвоенная вершина утеса, еле заметная, далекая. У ее подножия блестит белая пена — это остров Горн!
Мы видели его! И туман смыкается вновь.
ГЛАВА XXIII
КОНЕЦ РАДУГИ

БЕРТЕ в тяжелом похмелье лежал у себя в вигваме. Когда мы его навестили и спросили о том, какая будет, по его мнению, погода, оракул не задумываясь ответил: очень плохая. Так оно и оказалось. Было четырнадцатое января, канун последнего дня, когда мы могли пользоваться катером. Безумствовал ветер, лил дождь. Вокруг царило невообразимое уныние. Через решетчатый настил на палубе дождь проникал куда только можно. Мы решили искать убежища у новых знакомцев, и нам пришлось мириться с отвратительной обстановкой пьянства и подспудной вражды в этом доме. Поистине, хуже места нельзя было придумать. Если в тех краях, где мы путешествовали, владение какой-то собственностью, какие-то возможности и удобства порождают в людях естественное стремление жить еще лучше, то здесь, где ничего этого не было в помине, даже сама гниль дышала ненасытной алчностью.

ХИЖИНА БЕРТЕ
Я стоял в дверях лачуги, глядя на то, что делалось снаружи, и заметил, как погода стала меняться к лучшему. Дождь уже перестал. Я вышел на самый край берега. Близился закат, от нависших туч было почти совсем темно. Но вот золотой луч пробился сквозь облака, и скоро там, на северо-востоке, куда я глядел, над морем засияла еле заметная радуга. Мне вспомнилась легенда о зарытой у конца радуги кубышке золота, и я подумал о той радуге, которая открыла нам путь на юг четыре месяца назад. Она словно повела нас вперед через горы, а теперь, все такая же недосягаемая, манила на север. У радуги нет конца, подумал я, глядя на нее. Она выступала на небе все ярче и четче, и ее края, пройдя горизонт, сходились в нижнем полукружии. Вот они уже на поверхности бухты и неуклонно движутся сквозь водяную пыль, поднятую ветром, — как судьба, идущая навстречу своему завершению. Пылающий круг смыкается… Господи! И я стою там, где сошлись два конца радуги.
Когда я стоял у самого вигвама, Берте, пошатываясь, вышел ко мне из своего вигвама. На мой тревожный вопрос, какая завтра будет погода, — от этого зависело, увидим ли мы мыс Горн, или рухнет наша последняя надежда, — Берте ответил с еще большей, чем обычно, небрежностью. Он не задумался ни на мгновение, ему раздумывать не приходилось: он все знал наперед.
— Завтра, — сказал он. — Не так плохо.
Мы отплыли, как только наступил рассвет. Берте и неустрашимый Васкес неожиданно появились на своей лодке и попросили нас провести их через пролив Вашингтон. Мы взяли их на борт, а лодку повели на буксире. В этом тесном проливе между островами Вулластон и островом Бейли море было спокойно. Здесь царила тишина, ее нарушал лишь мотор, да эхо, рождаемое его тарахтением, изо всех своих ничтожных сил старалось хоть на миг потревожить глубокий сон двух великанов.
С горных склонов у южного конца пролива на нас свирепо набросился пробудившийся ветер. Было заметно, что берег стал выше — значит, впереди близко открытое море. В проливе Франклин земля отступила далеко назад, и мы оказались опять в полной власти моря и ветра.
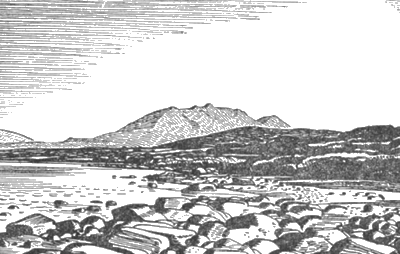
ПОБЕРЕЖЬЕ ОСТРОВА БЕЙЛИ
Неподалеку от берега в маленькой бухте островов Вулластон мы остановились, чтобы высадить своих пассажиров. Здесь можно было без особого риска пройти в залив: ветер дул попутный. Но мужество изменило нашим пассажирам: они просто тряслись от страха.
— Ну же! — нетерпеливо кричали мы. — Слезайте!
Кое-как они забрались в лодку. У нас на борту оставались их ружья. Васкесу протянули ружье, и он вроде бы крепко схватил его дрожащими руками.
— Держишь? — спросили мы. — Все в порядке!
Ружье выскользнуло у него из рук и исчезло в морской пучине. Второе ружье мы бросили им прямо в лодку, велели отвязать веревку и пошли вперед, а они принялись судорожно грести к берегу.
А теперь — к мысу Горн!
Землю окутывал предрассветный сумрак — унылый сумрак, когда ни один малиновый луч солнца еще не пробивается через темный облачный покров. Высокие, как горы, черные, как ночь, вздымались вокруг волны; подымал их не ветер, а какая-то иная сила, таившаяся в них самих; от этого они казались еще более грозными. Наше суденышко плохо слушалось руля: неуклюжее и неповоротливое, оно не в силах было взбегать на гребни волн и покорно подставляло им свою палубу — вода захлестывала ее.

ОСТРОВ БЕЙЛИ ТАМ, ГДЕ БЫЛА МИССИЯ
Троим в каюте было очень тесно. Я спустился вниз и пополз на четвереньках в сырой, дымной, удушливой темноте трюма к переднему люку. Если он заперт, соображал я, то мне уже не выбраться на воздух. Люк не был заперт. Я слегка нажал на него снизу — образовалась совсем узкая щель; теперь можно было дышать, но через мгновение морс ринулось на нас и целый поток воды прорвался в трюм.
Мы были уже почти посредине пролива Франклин. Неистовый ветер добавлял силы бушующему морю; нас безжалостно швыряло из стороны в сторону, и мы почти не продвигались. Помощник, держа румпель, с таким мучительным напряжением следил за морем, что на лице у него появилось выражение боли. Кристоферсон был невозмутим, как всегда, но уже не улыбался. Если мое лицо и выражало что-то, кроме притворного безразличия, то это была вера — вера не в бога, а в Кристоферсона и Оле Иттерока, помощника. Долгое время был слышен только бешеный рев мотора, моря и ветра, мы же не произнесли ни слова. Потом Кристоферсон заговорил с помощником по-шведски, и тот что-то ему ответил, не сводя глаз с моря. Кристоферсон обернулся ко мне.
— Я думаю, — сказал он спокойно, — нужно поворачивать обратно.
— Разве мы не доберемся до цели? — спросил я.
Взглянув на меня, помощник отрицательно покачал головой.
ГЛАВА XXIV
VIVA VALEQUE[43]

ТЕПЕРЬ, вспоминая, как в проливе Франклин мы достигли «самой южной точки» своего путешествия, я почему-то забываю, как мы мерзли, как нам было одиноко и тоскливо, с каким безнадежным отчаянием наша малочисленная команда вела утлое суденышко по угрюмому бескрайнему морю. Сейчас я преуменьшаю тогдашние опасности и терзаю себя упреками, что послушался остальных, легко отказавшись от последней попытки достичь цели, ради которой я прошел такой долгий путь. Но судьба в точно рассчитанный момент уготовила нам событие, которое должно было внушить мне с предельной ясностью, что продолжать путешествие, не обращая внимания на советы Кристоферсона, значило обречь себя на верную неудачу, а может быть, и гибель. Только мы успели вернуться под защиту островов в пролив Вашингтон, как у нас отказал мотор; мы бились с ним около пяти часов, пока он не заработал вновь. (Недавно я узнал из письма, что через два дня после нашего возвращения в Харбертон мотор умолк навсегда.)
Нужно было срочно возвратить катер Лундбергу, а мне вернуться в Пунта-Аренас. Я должен отправиться домой на пароходе «Толума». Билет уже куплен, пароход прибывал в Пунта-Аренас в конце января, и, так как перед отъездом предстояло многое сделать, мне хотелось там быть как можно раньше. На обратном пути я пытался обогнать время.
Починив мотор, мы направились в Харбертон — не тем безопасным путем, которым пришли, а морем, между островом Наварино и Ленокс. Нам повезло: за островами Вулластон нас встретила хорошая погода, и весь день мы неслись вперед, подгоняемые попутным ветром. Но даже под ясным небом эти унылые острова не захотели расставаться со своим одеянием из грозовых туч.
Пришли мы в Харбертон в тот же вечер. Как бы в награду за то, что мы отказались от попытки достичь мыса Горн, «Рио-Негро» прибыл на следующee же утро — наша жертва была принесена не зря.
Мы не совсем, как это может показаться, забыли, что нам принадлежит бот «Кэтлин» (водоизмещение пять тонн, порт приписки Нью-Йорк), который дожидался нас на якоре в далеких водах Альмирантасго. Теперь бот приобрел у меня мистер Нильсен на условиях
фоб[44] до Пунта-Аренаса, и мой помощник вернулся к месту стоянки «Кэтлин». Мне довелось встретиться с помощником лишь полгода спустя в Вермонте, и я постараюсь вкратце рассказать, как закончилось его путешествие.
Добравшись верхом до хижины Франсиско в долине Лапатая, — на это у него ушло четыре дня, — помощник направился затем к Баия-Бланке. Обратный путь через долину налегке занял всего два дня. Аесопильный завод выглядел плачевно. Ураган, налетевший с юго-востока, полностью разрушил главное здание. Все лодки у причала выбросило на берег. «Кэтлин», по счастью, осталась в целости и сохранности.

ВИГВАМ ИНДЕЙЦЕВ ÓНА
Пока помощник ждал, когда бот отбуксируют в Пунта-Аренас, — об этом, кстати, должен был позаботиться я сам, — он привел его в порядок. Через две недели «Кэтлин» появилась в Пунта-Аренасе совсем как новая, не хуже, чем была в тот день, который ознаменовал начало нашего путешествия.
Здесь помощник отказался от обещания вернуться в Харбертон и поступить на работу к Лундбергу. Он был совсем без денег и с. присущим ему легкомыслием принял вызов местного героя ринга — тот бросал вызов каждому вновь прибывшему. После того как помощника долго тренировали и готовили к бою — все белые жители Пунта-Аренаса, в основном иностранцы, делали на него ставку, — он в ореоле славы вступил на ринг. В конце третьего раунда его ожидал бесславный нокаут. Так закончились похождения моего помощника в Южной Америке.

НА ОБРАТНОМ ПУТИ ИЗ ХАРБЕРТОНА
И здесь мы его покинем. Без сомнения, у него еще многое впереди, но если то, что впереди, будет ему всегда сходить с рук, значит, ему невероятно везет и судьба закрывает глаза на его безрассудство.
По тому, с какой любовью я писал о Харбертоне, можно судить, сколь горько мне было расставаться с друзьями, и, вероятно, навсегда. Я уезжал ясным солнечным утром. Утро будто нарочно выдалось такое, чтобы я никогда его не забыл, и я все оборачивался назад, и мне долго махали белыми платками. Прощай, милый Харбертон!
Мой путь пролегал через горы к озеру Фаньяно, оттуда к восточному берегу до имения Виа-Монте у Рио-Фуэго, затем на север до Сан-Себастьяна и оттуда на запад к заливу Инутиль. Я намеревался добраться до Порвенира, пересечь там Магелланов пролив, чтобы попасть в Пунта-Аренас: между этими портами ходит пароход, но судьба, как будет видно дальше, сократила мой путь по суше.

ПАСТБИЩЕ ВИА-МОНТЕ
Одного из харбертонских работников послали проводить меня до озера, и для второго дня моего долгого пути к Рио-Фуэго у нас была запасная лошадь. Путь выдался нелегкий: нужно было проехать многие мили лесом и бескрайними топями, кое-где через них были настланы полусгнившие бревна, на которые особенно полагаться нельзя. Мы ехали по высокогорным тропам над зоной лесов, а затем по головокружительной крутизне спустились к озеру. Тропа, огибавшая озеро с севера, вела через болото — здесь продвигаться вперед было особенно трудно, да еще попался на глаза труп лошади с аргентинским клеймом.
Наступили сумерки, пошел дождь, а мы все еще находились за много миль от селения индейцев она, где рассчитывали заночевать. Наконец, усталые и промокшие, добрались до поселка: над озером на высоком берегу была вырубка, а на ней разбросаны немногочисленные хижины. Нас радушно встретил самый состоятельный из всех жителей поселка и пригласил к себе в хижину. Там возле очага на полу сидели две женщины, одна из них, пожилая, — его жена, а другая — видимо, дочь. Кажется, еще никогда в жизни не испытывал я такого смущения, как в первые полчаса в их обществе. Они смотрели на меня не отрываясь, с насмешливым любопытством и при каждой моей попытке начать разговор заходились от смеха. Я спас положение тем, что достал свою флейту: насмешки тут же сменились восторженным изумлением.
Индейцы этого племени держатся с большим достоинством. Можно было лишь догадываться, как величаво они выглядят в своей национальной одежде, если даже нелепое современное платье, давно к тому же превратившееся в лохмотья, не смогло изуродовать стройную, гибкую фигуру и свободные движения высокой, статной женщины.
На следующий день выяснилось, что индеец, по имени Нана, собирается к Рио-Фуэго, и я попросил его взять меня с собой. Туда было свыше шестидесяти миль, и нам следовало бы выехать пораньше. Нана, однако, задержался почти до полудня, а затем вдруг вскочил на коня и ускакал прочь, даже не вспомнив обо мне. И все-таки я скоро его нагнал, хотя моему коню, тяжело нагруженному и все еще усталому со вчерашнего дня, нелегко было поспевать за его скакуном. В течение двух часов Нана бешено мчался вперед, не удостаивая меня ни словом, ни разу не обернувшись, чтобы взглянуть, не отстал ли я от него. Но потом он оттаял и милостиво принял от меня сигареты и еду.

ОЗЕРО ФАНЬЯНО
Весь день и весь вечер мы скакали по холмистым пастбищам. Близилась полночь, густой туман окутал землю, и я потерял всякое представление о том, где мы находились. Уже в течение часа издалека доносился какой-то рев. Мы стали взбираться по склону холма. И когда я достиг вершины, шум превратился в неумолкаемый мощный гул. Взглянув вниз, я увидел, как светясь в ночной тьме, длинные белые гребни волн неистово бросаются на берег. Через час мы добрались до имения Виа-Монте, где, оставив свои вещи одному индейцу, я устроился на ночлег.
— Расскажите мне какую-нибудь небылицу об этом индейце, о Нана, — попросил я кого-то на ферме на другое утро. — Мне нужен материал для книги.
— Об этом парне ничего не надо выдумывать, — последовал ответ. — Он самый сильный и самый отчаянный из всех, только его никак не удается схватить с поличным. Все знают, что он конокрад, да его не поймаешь. В прошлом году Нана женился на женщине
с дочерью, и дочь исчезла. Все уверены: он ее убил, а доказать не могут.
И вот я снова полон решимости взвалить свою поклажу на плечи и шагать через заросли к Порвениру, но неожиданно выясняется, что Виа-Монте стоит на самом пороге цивилизации. Здесь благодаря любезности англичан — владельцев ранчо, которых я встречал по дороге, хорошему шоссе и Генри Форду настал конец моим странствиям пешком. Через шесть дней мне посчастливилось попасть на пароход в заливе Инутиль, и я прибыл без опоздания в Пунта-Аренас.
А теперь, закончив свое путешествие, я хочу, как на богослужении, обратиться с моей немногочисленной паствой к этой земле, над которой сияет радуга, и снова вознести благодарность за ее гостеприимство.
«Магеллан Таймс»
21 января 1923 года
С первого же дня моего пребывания в Пунта-Аренасе, в Тьерра-дель-Фуэго и повсюду, где мне доводилось общаться с людьми, я встречал столь дружеское ко мне расположение, что испытываю потребность выразить публично свою глубокую благодарность щедрому гостеприимству этой земли.
Тьерра-дель-Фуэго! С трудом вырываешься из судорожных объятий рыдающей жены и детей и, пройдя
морем более семи тысяч миль, попадаешь в эти края, чтобы доказать всему миру свое мужество и отвагу, свое бесстрашие в борьбе со стихиями, с морозами и льдами, с кровожадными дикарями. Какие нелепые, шалые мечты! В этих диких местах вместо храбрости ты должен призывать на помощь всю свою вежливость и воспитанность, чтобы достойно ответить на любезность и доброту даже таких закоренелых браконьеров и головорезов, какие принимали нас на островах Вулластон.
Чего мы только не насмотрелись за свое путешествие! Мы претерпели самые большие трудности, какие можно встретить в этих диких просторах, прошли много миль через такие места, куда не ступала нога белого человека, и поняли, что даме самые большие трудности в путешествии приносят радость тем, кто любит с
рюкзаком за спиной бродить в нехоженых краях.
И даже гибель, грозившая нам чуть ли не в самые первые ми нуты отплытия, оказалась милостью, давшей нам возможность насладиться гостеприимством острова Досон, семейств Марку и Моррисонов.
Мы увидели и много прекрасного: побывали у озера Фаньяно с Робертом Мюлахом, у Баия-Бланки с доном Антонио и Кудрявчиком, в Ушуае и Ремолино у Лоуренсов; прожили несколько недель в раю, что зовется Харбертоном, где цветут розы, огромные, как цветы подсолнечника, а у овец чистая и гладкая шерсть. И если мне суждено дожить до ста пятидесяти лет — а в этом я не сомневаюсь, — рождество, которое мы там праздновали, окруженные ликующими детьми Нильсенов и Лундбергов, никогда не изгладится из моей памяти.
Я прошел через горы из Харбертона к озеру Фаньяно и видел девушек из племени она, девушек столь пленительной красоты, что можно только удивляться, как нашел в себе силы не остаться с ними. Целый день и полночи я ехал верхом по зеленым лугам королевства Виа-Монте, но так и не проехал его из конца в коней. Я было направился пешком с рюкзаком за плечами от Рио-Фуэго к заливу Инутиль, но Гудоллы, Джексоны, Манро и Россы, Дoнальдсоны и Томпсоны так меня принимали, так по-царски угощали, укладывали спать в роскошных спальнях, что можно, пожалуй, похвастаться: я прошел через весь остров, ступая не по земле, а по облакам.
Пампасы производят неизгладимое впечатление своей однообразной беспредельностью; горы и великолепны, и грозны — застывшее воплощение непреодолимой силы. Леса сверкают там яркой зеленью, стройные деревья возносятся над темным ковром, усеянным звездочками фиалок, и живут в них самые смирные из всех диких зверей. Эти неизведанные края дышат дружелюбием и покоем, там не бывает ни жары, ни мороза. И повсюду путешественник встречает у местных жителей, богаты они или бедны, больше теплоты, гостеприимства, доверия и щедрости, чем где бы то ни было на Земле.
СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ
Бимсы — поперечные крепления, служат основанием для палубного настила.
Бот — небольшое парусное, парусно-моторное или моторное судно, имеющее много разновидностей.
Брашпиль — лебедка для подъема якоря.
Ванта — снасть, поддерживающая мачту сбоку и несколько сзади.
Галс — курс относительно ветра. Когда ветер дует справа — правый галс, слева — левый. Лечь на другой галс — повернуть судно так, чтобы ветер стал дуть с другого борта.
Гафель — тонкое рангоутное дерево (бревно), устанавливаемое под углом к мачте в вертикальной плоскости. С его помощью поднимается косой четырехугольный трапециевидный парус, пришнуровываемый к гафелю своей верхней шкаториной (кромкой).
Гик — тонкое горизонтальное рангоутное дерево (бревно), к которому пришнуровывается нижняя кромка паруса.
Гика-шкот — снасть, с помощью которой гик поворачивается и устанавливается
в определенное положение относительно направления ветра.
Грот — самый большой четырехугольный парус на шлюпе. Поднимается с помощью гафеля, управляется гика-шкотом.
Кливер — второй от мачты передний треугольный парус, поднимаемый на штаге.
Клинкер — обшивка судна, у которой нижние кромки верхних досок ложатся на верхние кромки нижних досок.
Клотик — толстый деревянный кружок, насаживаемый на топ (верхушку) мачты.
Кница — деревянный или металлический угольник, с помощью которого скрепляют части судна между собой.
Нок — наружный конец
горизонтального или наклонного рангоутного дерева.
Рангоут — деревья (бревна), предназначенные для несения парусов — мачты, гафели, гики, реи.
Рей — круглое горизонтальное дерево, к которому своей верхней шкаториной (кромкой) пришнуровывается прямой (четырехугольный) парус.
Рифы—1) подводные скалы; 2) тонкие штерты (веревки), пришиваемые к парусу.
Беря рифы (привязывая часть паруса штертами к гику или рею), уменьшают площадь паруса.
Румб — единица угловой меры, равная 1/32 части окружности, т. е. 11 1/4°.
Слип — наклонная площадка на берегу, на которую вытаскивают суда для ремонта.
Стаксель — первый от мачты передний треугольный парус, поднимаемый на штаге.
Твиндек — междупалубное пространство.
Траверз — направление, перпендикулярное борту судна.
Фал — снасть для подъема флага или паруса.
Фальшборт — продолжение борта судна выше верхней, главной палубы, служащее перилами. Сверху на него прикрепляется планширь.
Форштевень — вертикальный или наклонный брус, прикрепленный к килю в передней, носовой части судна. К нему крепят концы досок обшивки.
Шлюп — одномачтовое судно с палубой, имеющее паруса, грот, стаксель и кливер.
Шлюпблок — деревянная подставка с вырезом по обводам шлюпки.
Шпангоут — основная поперечная связь судна, его «ребро». К шпангоутам крепится обшивка судна.
Шпиль — лебедка для выбирания тросов с вертикальным валом.
Штаг — снасть, удерживающая мачту спереди.
Штаговый огонь — белый огонь, поднимаемый на штаге судна ночью во время стоянки судна на якоре.
INFO
КЕНТ, РОКУЭЛЛ
ПЛАВАНИЕ К ЮГУ ОТ МАГЕЛЛАНОВА ПРОЛИВА. Пер. с англ. М. П. Тугушевой и Н. Я. Явно. Ред. и прим. Н. Я. Болотникова. М., «Мысль», 1966.
247 с. с илл. и карт. (Путешествия. Приключения. Фантастика).
91 (И7)
Редактор Е. И. Белев
Младший редактор З. В. Кирьянова
Художественный редактор С. С. Верховский
Технический редактор Э. Н. Виленская
Корректоры Ч. А. Савельева, С. С. Новицкая
Сдано в набор 3/IX 1965 г. Подписано в печать 8/XII 1965 г. Формат бумаги 60x84 1/16. Бумажных листов 7,75. Печатных листов 14,415. Учетно-издательских листов 11,631. Тираж 80 000 экз. Цена 82 коп.
Заказ № 2970.
Темплан 1966 г. № 261
Издательство «Мысль». Москва, В-71, Ленинский проспект, 15
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР. Москва, Ж-54, Валовая, 28.
Примечания
1
«В диком краю. Дневник мирных приключений на Аляске»— первая книга Рокуэлла Кента. На русском языке выпущена в 1965 году издательством «Мысль».
(обратно)
2
Китс, Джон (1795–1821) — английский поэт-романтик. Автор цитирует поэму Дж. Китса.
(обратно)
3
Августин (354–430) — один из первых христианских теологов, фанатичный воинствующий проповедник религиозного мракобесия, прозванный католическими богословами Блаженным.
(обратно)
4
Письмо Рокуэлла Кента адресовано Н. Я. Болотникову.
(обратно)
5
Пунта-Аренас — чилийский порт в Магеллановом проливе.
(обратно)
6
Тьерра-дель-Фуэго (исп.) — Огненная Земля. В переводе на русский язык названия — Фамин-Рич, Дезюлешн-бей и Ласт-Хоуп-Инлет (англ.) звучат весьма устрашающе: Голодный плёс, залив Одиночества, бухта Последней Надежды.
(обратно)
7
Хук — бухта Санди-Хук в районе Нью-Йорка.
(обратно)
8
Новая Шотландия — провинция в восточной части Канады.
(обратно)
9
Гуаякиль— порт в Эквадоре.
(обратно)
10
Кальяо — порт в Перу.
(обратно)
11
Сармьенто — гора на юге Чили, на полуострове Брекнок.
(обратно)
12
Барранкос — глубокий овраг (исп.).
(обратно)
13
«Грейт-Истерн» — знаменитый в середине прошлого столетия грузо-пассажирский пароход, считавшийся чудом техники и корабельной архитектуры.
(обратно)
14
Вигвам — жилище североамериканских лесных индейцев алгонкинов (делаваров, могикан и др.). Вошло в литературу как название индейской хижины куполообразной формы.
(обратно)
15
Блейк, Уильям (1757–1827) — английский поэт и худож ник, представитель раннего романтизма.
(обратно)
16
Коиуэ, койгва — мелколистный вечнозеленый бук.
(обратно)
17
Гуанако — млекопитающее из рода лам, семейство верблюдовых.
(обратно)
18
Коати (носуха) — млекопитающее из семейства енотовых; голова и нос напоминают крысиные.
(обратно)
19
Калифата — видимо, речь идет о декоративном кустарнике calicanto (исп.).
(обратно)
20
Робле, оак — вид бука с мелкой листвой и прочной древесиной.
(обратно)
21
Канело — дерево из семейства магнолиевых.
(обратно)
22
Авессалом — персонаж одного из библейских преданий. Спасаясь от настигающих врагов, он зацепился своими длинными волосами за ветви деревьев, что и послужило причиной его гибели.
(обратно)
23
Вилли — так автор называет на немецкий лад своего помощника.
(обратно)
24
«Камина Кент» — дорога Кента. От исп. саminа — дорога.
(обратно)
25
Барбара — имя дочери Рокуэлла Кента.
(обратно)
26
Пончо — плащ из одного полотнища без рукавов с от верстием для головы (индейск.).
(обратно)
27
Кемпинг — лагерь для туристов (англ.).
(обратно)
28
Показания барометра даны в дюймах; соответствует 736,6 мм.
(обратно)
29
Вот что писал 2 июля 1883 года Уиллис, капитан миссионерской шхуны «Аллен Гардинер», о плавании из Ушуаи до Пунта-Аренаса (протяженность — двести восемьдесят миль), длившемся сто десять дней:
«30-го задул с юга штормовой ветер, перешедший потом на северный. Мы стали на якорь при слабеющем и вплоть до темноты менявшем направление ветре, а утром подняли паруса. Теперь совсем заштилело, и мы беспомощно дрейфуем снова назад…».
Беру на себя смелость сказать, что такое безветрие, обрекавшее нас почти на полную неподвижность, нередко сопутствует судну на всем переходе до мыса Санди-Пойнт и заставляет становиться на якорь каждую ночь. Обычно после затишья погода настолько портится, что сняться с якоря почти невозможно и опасно, а о том, чтобы двинуться в путь ночью, нечего и говорить. Теперь, на двадцать шестой день плавания, мы находимся в ста десяти милях от Ушуаи.
Если бы шторм застал нас ночью, мы определенно погибли бы, так как стояла кромешная тьма и очень мало можно было нести парусов, часто спуская их на пять — десять минут.
Компас, лот и лаг в узкостях бесполезны. Если судно в таких местах начнет дрейфовать, весьма вероятно, что оно может разбиться, ударившись о берег, либо его снесет к подветренному берегу. Моряки всех стран знают это место как одно из самых опасных на Земле. —
Прим. авт.
(обратно)
30
В одном старинном донесении из Ушуаи, составленном миссионером, говорится, что алакалуфы (индейское племя) появлялись иногда на территории миссии, перебравшись через залив Альмирантасго. Они рассказывали о трудностях этого пути — глубоких реках, горах и ущельях. Возможно, эти индейцы, непривычные к путешествиям по суше, преувеличивали трудности. Развалины индейских жилищ, которые мы видели, говорят о том, что алакалуфы шли тем же путем, что и мы. Наши последующие расспросы подтвердили, что мы были первыми белыми путешественниками, открывшими этот путь. —
Прим. авт.
(обратно)
31
Мой домик треугольный, в нем только три угла.
А будь их в нем не столько, то был бы дом не мой (нем.).
Прим. перев.
(обратно)
32
Речь идет об исследованиях знаменитом кругосветной экспедиции Чарлза Дарвина на корабле «Бигль», работавшей в районе Магелланова пролива в 1833–1834 годах.
(обратно)
33
Ultima thule — конечная цель (лат.).
(обратно)
34
Данные переписи индейцев Тьерра-дель-Фуэго, которую провел в 1883 году преподобный Томас Бриджес — через пятнадцать лет после того, как он прибыл в Ушуаю в качестве первого миссионера, следующие: племя яган — двести семьдесят три мужчины, триста четырнадцать женщин, триста пятьдесят восемь детей; племя она — не более пятисот человек; племя алакалуфов — не более тысячи пятисот; всего — около трех тысяч. За десять лет до этого, по мнению Томаса Бриджеса, индейцев было в два раза больше. Часть миссионерской программы состояла в том, чтобы отделить от племени яган маленьких девочек и поместить их в так называемые сиротские приюты. Сиротский приют в Ушуае помещался в тесной хижине. Детей селили по восемь в одной комнате; окна не открывались, печей не было. Каждый день питомцев выводили под надзором на прогулку. Из сообщения мистера Бриджеса от 1883 года, где он отчитывался за три с половиной года, явствует, что за это время в приюте побывало тридцать восемь детей. Из них восемнадцать, как свидетельствуют документы, умерли от туберкулеза, о пятнадцати ничего не говорится и пять живы. Миссионер отмечает в своем сообщении, что он испытал некоторые затруднения, уговаривая матерей расставаться с детьми, так как они боялись, что больше своих детей не увидят. Прошло сорок лет. Мистер Мартин Лоуренс, житель Ремолино, полагает, что оставшихся в живых индейцев племени яган не более шестидесяти. А мистер Уилям Бриджес считает, что в племени она осталось пятьдесят шесть мужчин и мальчиков, пятьдесят семь женщин и девочек, пятьдесят маленьких детей, шестнадцать метисов. —
Прим. авт.
(обратно)
35
Да, да, да (нем.). — Прим. перев.
(обратно)
36
Почему ты все время повторяешь «да, да»? (нем.). — Прим. перев.
(обратно)
37
Остров Статен — остров Эстадос.
(обратно)
38
«Даймлер» — марка американского автомобиля.
(обратно)
39
Список личного состава команды национального судна «Эллен», значащегося под № 25309 (регистровый тоннаж — 5,70 с якорем и балластом; место назначения мыс Горн):
Владелец — Эрнесто Кристоферсон — швед
Матрос — Оле Иттерок — североамериканец
Наниматель — Рокуэлл Кент — североамериканец
Ушуая, январь 11, 1923
Молино, помощник. —
Прим. авт.
(обратно)
40
В 1851 году Англия была поражена сообщением из Тьерра-дель-Фуэго о голодной смерти капитана Аллена Гардинера, его небольшого миссионерского отряда и команды. Рассказ об ужасах и страданиях, которые им пришлось пережить, сохранился в поразительном дневнике капитана, чудом уцелевшем и найденном рядом с останками несчастного. Читая этот дневник, не знаешь, восхищаться ли преданностью капитана своей религии, преданностью более горячей, чем у самого Иова, или же возмущаться его слюнявой глупостью. Однако в память о мученическом конце Гардинера, «мореплавателя и святого», как его наивно величают в мемуарах, была построена Южноамериканская миссия. И можно сказать, смерть капитана была полностью отомщена: с благоволения миссии истребили почти все племя яган.
Остров Кеппел, один из западных Фолклендских островов, превратили в пункт, откуда на шхуне — она называлась «Аллен Гардинер»— миссионеры могли сообщаться с Тьерра-дель-Фуэго и куда индейцев привозили для обучения. Сначала сближению с индейцами помогло то, что вновь отыскали Джемми Баттона, которого, если помнят читавшие «Путешествие на «Бигле»» Дарвина, ребенком взяли в Англию, дали ему там образование, представили королеве и вернули домой, к своему племени. Джемми Баттон, ныне пожилой человек, сохранил еще в памяти искры знания английского языка, из которых истовые порывы миссионерского пыла смогли раздуть спасительное пламя для его народа.
Итак, мальчиков с Фуэго отвозили на Кеппел, и если большинство детей умирало за годы учения, то по крайней мере было утешение, что умирали они спасенными. Бедный малыш Питер Дункан, которого когда-то звали Малтглиунджер! Ему было всего одиннадцать лет, когда смерть унесла его. «Я любил маленького Питера Дункана, — писал домой миссионер. — Он был добр и послушен. Я буду скучать о нем; когда я взгляну на класс, то уже не встречу его веселой улыбки, не увижу чудесных глаз. Бедный маленький Питер! Он любил повторять: «Я хочу быть таким же, как Иисус»».
Однажды «Аллен Гардинер» вез домой на Наварино двух маленьких индейцев, приятелей Питера. Надо сказать, что уважение к собственности не было традицией этого народа, просто иногда им нравились какие-то вещи. Ребятишки увидели на борту катера всякие мелочи, которые им приглянулись, и за долгую поездку у них была возможность кое-что взять. Они и взяли. Вещей хватились, мальчиков обыскали, и все нашли. Капитан, суровый и честный человек, как и следовало, побранил детей, назвав их всякими оскорбительными словами, отвратительный и позорный смысл которых маленькие христиане, несомненно, давно уже знали.
В воскресенье «Аллен Гардинер» бросил якорь в Уоллиа. Мальчиков — они были жестоко обижены — обступили на берегу родные, а капитан в сопровождении всей команды, за исключением повара, который на камбузе готовил пудинг с изюмом, пришел к одному из вигвамов, где начал торжественное богослужение.
В это воскресное утро индейцы проявили необычный интерес к службе, они толпой окружили христиан. И когда прозвучало благословение, они схватили дубинки и камни и перебили всех белых до одного. Повар, услышав шум и разобрав, в чем дело, прыгнул за борт и поплыл к берегу. Он убежал в лес и добрался до южного берега Наварино, где попал в руки другого туземного племени. Убивать повара им не было никакого смысла, поэтому они относились к нему хорошо. Через некоторые время его подобрал какой-то корабль, и он возвратился к себе на родину. —
Прим. авт.
(обратно)
41
Fille de joie — девица легкого поведения (франц.).
(обратно)
42
На острове Бейли в 1877 году была основана миссия с мистером Б. во главе. Через несколько лет ее перевели в Текенику. В своих отчетах, забавных непринужденностью изложения, Б. горько сетует на «распущенные туземные нравы», которые позволяют восьмилетним девочкам выходить замуж за женатых мужчин. «Я заставлю их вести достойную жизнь», — писал он. Он забрал этих девочек в сиротский дом и принялся их воспитывать с таким рвением, что вскорости разразился настоящий скандал. Слухи о проделках Б. дошли до миссис Б. и крайне ее огорчили; они достигли ушей епископа на другом краю Фолклендских островов. Б. позволял себе слишком много. Решили официально призвать его к ответственности, но вдруг весьма кстати мистер Б. упал за борт лодки и утонул. В Англии миссионерский журнал изобразил этот эпизод в самом трогательном свете: «Однажды по причине, которая осталась невыясненной, перевернулась лодка, где находился мистер Б., и он утонул, к великому горю супруги и детей. На берегу печальное событие заметили слишком поздно, однако туземки выказали необычайную преданность и отвагу: они бросились в океан и поплыли к месту гибели в надежде спасти своего друга, но был прилив, и волны снова и снова швыряли их назад. И хотя мистера Б. нет больше среди тех, кому, жертвуя собой, он отдавал все свои силы, его труд сейчас приносит свои плоды». К этому можно добавить эпилог: некоторое время спустя на берегу подобрали череп и опознали как череп мистера Б. Его тщательно упаковали в специальный ящичек и поставили в часовню, чтобы потом переправить на Фолклендские острова. Мальчик индеец, по имени Сирил Матеен, был среди тех, кого послали за ящиком. Он вынул из ящика череп мистера Б. и, держа его в руках, с широкой улыбкой обратился к нему так: «О ты, бледнолицый! Ты много любить наши женщины!» —
Прим. авт.
(обратно)
43
Да здравствует то, что достойно усилий! —
Прим. перев.
(обратно)
44
Фоб — морской термин, сочетание начальных букв английского выражения «free on board», то есть «свободно на борту». Этот термин обусловливает определенные отношения продавца и покупателя. В данном случае Рокуэлл Кент применяет термин фоб, чтобы показать, что покупатель — мистер Нильсен — приобрел бот с условием доставки его продавцом — Рокуэллом Кентом — в Пунта- Аренас.
(обратно)
Оглавление
Примечания
ПИСЬМО АВТОРА РЕДАКТОРУ
ВСТУПЛЕНИЕ
Бэйярд Бойезен
О НАЧАЛЕ НАЧАЛ
ГЛАВА I
ПОЧЕМУ И ГДЕ
ГЛАВА II
ПЛЫТЬ ИЛИ В ТЮРЬМЕ БЫТЬ?
ГЛАВА III
ПЛЫТЬ
ГЛАВА IV
В ТЮРЬМЕ БЫТЬ?
ГЛАВА V
ЗАДЕРЖКА В ПУТИ
ГЛАВА VI
БУХТА УБИЙСТВА
ГЛАВА VII
ЛЮДОЕДЫ
ГЛАВА VIII
«КАТИТЕСЬ, ВОЛНЫ»
ГЛАВА IX
ПОЖАР И РАЗРУШЕНИЕ
ГЛАВА X
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОМОЩНИКА
ГЛАВА XI
ВЕЛИКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ГЛАВА XII
ЗАДЕРЖИВАЕТ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ВЕТЕР
ГЛАВА XIII
«НОВАЯ ГЛАВА»
ГЛАВА XIV
ДВА ДЖЕНТЛЬМЕНА
ГЛАВА XV
ТРОПОЮ РАДУГИ
ГЛАВА XVI
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
ГЛАВА XVII
СУМАСШЕДШИЙ
ГЛАВА XVIII
УШУАЯ
ГЛАВА XIX
«КЭТЛИН II»
ГЛАВА XX
АРКАДИЯ
ГЛАВА XXI
ВСЕ НА БОРТ
ГЛАВА XXII
ПОПОЙКА И КРЕСТИНЫ
ГЛАВА XXIII
КОНЕЦ РАДУГИ
ГЛАВА XXIV
VIVA VALEQUE[43]
СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ
INFO
*** Примечания ***



 ПЛАВАНИЕ К ЮГУ
ОТ МАГЕЛЛАНОВА ПРОЛИВА
ПЛАВАНИЕ К ЮГУ
ОТ МАГЕЛЛАНОВА ПРОЛИВА