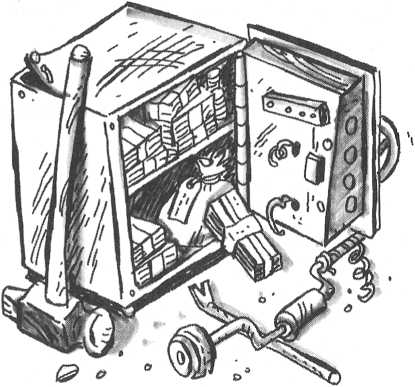Александр Сидоров
По тундре, по железной дороге

И вновь звучат блатные песни!
«По тундре, по железной дороге»,
«Таганка» («Централка»),
«Медвежонок» («Ограбление Азовского банка»),
«Алёша, ша!»,
«Я милого узнаю по походке»
Москва / ПРОЗАиК 2015
Дизайн Петра Бема
Иллюстрации Александра Егорова
© Сидоров А. А., 2015
© Егоров А. Л., иллюстрации, 2015
© Оформление. ЗАО «ПРОЗАиК», 2015
«Я твой бессменный арестант…»
Уверен, что эту строку известного тюремного танго знает подавляющее большинство россиян — независимо от того, любят они так называемые блатные песни или «русский шансон». «Таганка, все ночи, полные огня…» Читатель может решить, что краткое предисловие к своей новой книге очерков об истории уголовно-арестантского песенного фольклора я озаглавил потому, что один из очерков как раз и посвящён знаменитой «Таганке». Однако это не совсем так. Вернее, совсем не так. Какая именно песня занимает центральное место в очередном томе моего исследования, ясно уже по названию самой книги — «По тундре, по железной дороге». А вот насчёт бессменного арестанта…
Конечно, это, так сказать, фигуральное выражение. Но оно не случайно. Я действительно оказался вечным «арестантом» одной, но безграничной темы — темы русской криминальной субкультуры, фольклора, языка, истории отечественных преступников и сидельцев, мира «отверженных» — мизераблей (это французское словечко снова активно используется в обиходе), маргиналов… Более четверти века занимаюсь я этой удивительной, интереснейшей областью нашей истории — истории народа, его творчества, его духовного и душевного брожения, его страданий, метаний во мраке, на «чёрной» стороне действительности.
Как ни странно кому-то покажется, но мир этот не только страшный и отталкивающий, но одновременно влекущий к себе, яркий, богатый, потрясающий в своём разнообразии, где смешано низкое и высокое, чудовищное и забавное, истерика и весёлый смех… К сожалению, до сих пор многие филологи, историки, социологи относились к этой области народной культуры довольно брезгливо, в лучшем случае — как к некоей неприличной, но забавной безделушке. То есть мы стоим лишь в самом начале, на пороге величайших исследований и открытий, без которых общая картина окружающей действительности ущербна, неполна и даже предстаёт в искажённом виде.
Моя задача как писателя, литературоведа и отчасти историка — увлечь читателя, удивить, возможно, даже ошеломить рассказами из той странной жизни, которую он, возможно, доселе считал «низкой», «гнусной» и недостойной внимания вообще. И кое-что в этом смысле получается. Свидетельством тому — уникальный проект, который издательству «ПРОЗАиК» удалось осуществить за несколько лет. Я имею в виду многотомник занимательных историко-филологических очерков об истории уголовно-арестантских, босяцких, уличных песен нашей страны. Всего таких томов теперь четыре: «Песнь о моей Мурке», «На Молдаванке музыка играет», «Я помню тот Ванинский порт» и вот новый — «По тундре, по железной дороге». Каждая книга самоценна, но все вместе они составляют единое целое.
Поначалу ни автор исследований, ни издательство не задумывали столь широко размахнуться. Планировалось выпустить песенный сборник блатного фольклора, где каждому произведению сопутствовал бы небольшой ёмкий комментарий — от трёх до пяти страниц. Нечто похожее я уже издавал, хотя пояснения к песням занимали несколько абзацев, от силы — страницы полторы.
Однако в ходе развития нового проекта оказалось, что, изучая тексты, музыку, различные варианты той или иной песни, вскрывая пласты отечественной истории, которую песня отражает, быт, судьбы её героев или их прототипов, невозможно всё это вместить в несколько страниц! Речь шла об увлекательнейшем детективном расследовании с потрясающими открытиями — как историческими, так и литературоведческими, лингвистическими, музыкальными, этнографическими…
Так небольшая книжка на деле превратилась в несколько томов. И они оказались крайне востребованы широкой читательской публикой! Публика эта давно ждала подобного исследования, на протяжении десятилетий сама искала ответа на многие вопросы, связанные и с песенным «блатом», и с тёмными страницами криминальной истории России, без прояснения которых многие «низовые» произведения фольклора оказывались не до конца доступными пониманию слушателя.
К сожалению, наш проект пока охватил далеко не все песни указанной тематики. Мы попытались подобрать прежде всего те произведения, которые тесно связаны с историей страны, с её культурой, политикой, бытом народов, её населяющих. Многое ещё осталось за бортом, в том числе довольно известные песни — такие, как «Течёт речка по песочку», «Парень в кепке и зуб золотой», «Канает мент, по бану лавируя», «Девушка в синем берете», «Горит свеча печальным светом», «Я родился на Волге, в семье рыбака», «На Арсенальной улице», «Молодой Кучеренко» и прочие. Я не говорю уже о дореволюционных («Ланцов в поход собрался», «Александровский централ», «Зачем ты ходишь пред тюрьмою», «Три гудочка» и т. д.), «одесских («Как-то по прошпекту с Манькой я гулял», «Как на Дерибасовской, угол Ришельевской», «Жора, подержи мой макинтош»), «Мальчики-налётчики», «Голуби летят над нашей зоной» и др. Далеко не все они тянут на полноценные историко-филологические очерки, хотя практически о каждой можно рассказать немало интересного.
Возможно, для рассказов о многих из них потребуется несколько иной подход, другая форма подачи. Будем стремиться к тому, чтобы книги нашей серии оставались познавательными, увлекательными и уникальными. Во всяком случае, пока это удаётся. Я как автор получаю немало добрых откликов не только от российских, но и от зарубежных читателей.
Хочу верить, что и новая книга вас не разочарует. В ней не так много очерков, но зато центральный из них — о песне «По тундре» — фактически можно назвать энциклопедией побегов из сталинских лагерей. Именно потому он занимает значительную часть книги. Вообще-то я намеревался включить этот очерк в предыдущую книгу, посвящённую песенному фольклору ГУЛАГа. Однако оказалось, что только ей следовало бы отвести отдельный том. Отчасти так и вышло, хотя, разумеется, не менее интересны очерки о песнях «Алёша, ша», «Медвежонок», а тем более «Таганка». И всё же по охвату материала баллада о воркутинском побеге не имеет себе равных. Ни один из песенных очерков не потребовал от меня такого напряжения сил, как «По тундре».
По большому счёту, я всё же надеюсь, что наш проект не завершится очерками о «песенном блате». История отечественного криминального и каторжанского фольклора безгранична и удивительна: уголовные пословицы и поговорки, очерки о происхождении жаргонных слов и выражений с потрясающими историко-лингвистическими открытиями, бурная история становления «воровского братства», исследование русской уголовной татуировки (оно давно уже вышло на английском языке, но вот в России пока не появилось)… Мне хочется верить, что все эти книги также когда-нибудь выйдут в свет и вызовут интерес читающей публики.
Однако это — совершенно другие истории. А сейчас мы отправимся в далёкое и отчаянное путешествие по тундре, по стальной магистрали, где мчится поезд Воркута — Ленинград…
Александр Сидоров
Как побег двух воркутинских зэков превратился в блатной эпос
«По тундре, по железной дороге»



Это было весною, зеленеющим маем,
Когда тундра проснулась, развернулась ковром;
Мы бежали с тобою, замочив вертухая,
Мы бежали из зоны — покати нас шаром!
По тундре, по железной дороге,
Где мчится скорый Воркута — Ленинград,
Мы бежали с тобою, опасаясь погони,
Чтобы нас не догнал автоматный заряд!
Лебединые стаи нам навстречу летели,
Нам на юг, им на север — каждый хочет в свой дом…
Эта тундра без края, эти редкие ели,
Этот день бесконечный, ног не чуя, бредём.
Дождик капал на рыла и на дула наганов,
Лай овчарок всё ближе, автоматы стучат;
Я тебя не увижу, моя родная мама —
Вохра нас окружила, «Руки в гору!» кричат.
В дохлом северном небе ворон кружит и карчет,
Не бывать нам на воле, жизнь прожита зазря;
Мать-старушка узнает и тихонько заплачет:
У всех дети как дети, а её — в лагерях!
Поздно ночью затихнет наш барак после шмона,
Мирно спит у параши доходяга-марксист;
Предо мной, как икона, запретная зона,
А на вышке маячит очумелый чекист.
«Мальчик пишет блатняк»: Григорий Шурмак как «формальный автор»
Песня «По тундре» относится к числу самых популярных произведений в лагерном фольклоре. С этой популярностью, наверное, не сравнится ни знаменитый «Ванинский порт», ни «Идут на Север этапы новые», ни «Спецэтап»… «По тундре» давно уже вышла за границы жанра и стала народной. Впрочем, немало так называемых блатных песен советские люди узнавали ещё в раннем детстве или отрочестве, особенно в пионерских лагерях. Как в популярном анекдоте времён СССР, передающем диалог в электричке октябрёнка и бывшего зэка:
— Куда едешь, пацан?
— Домой.
— И я домой. А откуда?
— Из лагеря.
— И я из лагеря! А к кому?
— К бабе…
— И я к бабе! А к чьей?
— К своей…
— А я — к чужой…
Конечно, не все знакомились с блатным музыкальным творчеством в пионерском возрасте. Скажем, песню «По тундре» я узнал в начале 1970-х, лет в 16–17. Точно помню, что любил её напевать, будучи студентом, на сельхозработах в колхозе (1973). Однако текст, который я пел, состоял лишь из двух куплетов и припева.
Здесь следует особо отметить, что по количеству вариаций «По тундре» может поспорить и с «Муркой», и с «Гопом», и с «Молдаванкой», и с любым другим образчиком блатной классики. Мы поместили в качестве основного текст из популярного музыкального альбома Андрея Макаревича и Алексея Козлова «Блатные пионерские» (1996) — лишь добавили две завершающие строки припева. Скорее всего, это — редакция Андрея Макаревича. На мой взгляд, она наиболее полная и удачная, хотя мне приходилось сталкиваться с мнениями, что этот вариант несколько «литературный», отшлифованный, а в результате этого он теряет энергетику, эмоциональную насыщенность более ранних версий. Но у читателя будет возможность познакомиться и с множеством других вариантов песни.
А можно ли из всего богатства и разнообразия этих вариантов выделить начальный источник, первооснову, корень, от которого пошли многочисленные побеги (и в прямом, и в переносном смысле слова, поскольку песня повествует именно о побеге из лагеря)? В настоящее время ответ на этот вопрос вроде бы найден. По крайней мере, его никто ещё не подвергал сомнению. Пожалуй, мы будем первыми.
Автором первоначального варианта считается писатель и поэт Григорий Михайлович Шурмак (1925–2007). Если верить Википедии: «Существует много вариаций текста, но авторские права на эту песню зарегистрированы в РАО на имя Григория Шурмака — он получает авторские вознаграждения за её издания». Правда, Википедия делает оговорку: «Автор:
формально (выделено мною. —
А. С.) Шурмак, Григорий Михайлович».
Стихотворение Шурмака «Побег» состоит из двух строф и припева:
Это было весной, одуряющим маем,
Когда тундра проснулась и оделась в ковёр.
Снег, как наши надежды на удачу, всё таял…
Это чувствовать может только загнанный вор.
Слёзы брызнут на руку иль ручку нагана,
Там вдали ждёт спасенье — золотая тайга.
Мы пробьёмся тайгою, моя бедная мама,
И тогда твоё слово — мне священный наказ!
По тундре, по железной дороге,
Где мчится курьерский «Воркута — Ленинград»,
Мы бежали с тобой, ожидая тревоги,
Ожидая погони и криков солдат.
Немного о Григории Шурмаке. Родился он в Киеве 28 мая 1925 года. Учился в средней школе № 44. Вместе с будущими поэтами Лазарем Шерешевским и Наумом Коржавиным занимался в литературной студии при газете «Киевский пионер» (некоторые источники ошибочно именуют её «Юный пионер»); студией руководила Ариадна Громова, позднее — известная московская писательница, признанный автор советской фантастики. В конце концов студию закрыли за «вольнодумство». В 1940 году Гришу Шурмака исключили из комсомола за критическое выступление на школьном собрании (по версии Шурмака — за критическое стихотворение о Сталине), а Шерешевского и Коржавина перевели в другую школу (по воспоминаниям Коржавина, из-за конфликта с директором). Позднее Лазарь и Наум не миновали сталинских мест лишения свободы, причём Шерешевский отбывал свой срок как раз в воркутинских краях, на стройке № 501 — «Пятьсот-весёлая», как её называли зэки. Здесь прокладывали железную дорогу на восток страны — часть будущей транссибирской магистрали. Не Воркута — Ленинград, но география близкая… Вот такая перекличка.
Шурмаку «повезло». В начале войны его семья эвакуировалась и оказалась в Средней Азии. Здесь-то, как утверждает Шурмак, и появилась знаменитая песня. Впрочем, обратимся прямо к его воспоминаниям:
«Хотя я ни разу не был за чертой Полярного Круга, моя судьба странным образом связана с краем, где тундра — типичный ландшафт и вечная мерзлота не в диковинку. Начну, однако, по порядку. В 1940-м мой старший брат Изя (Исаак), киевлянин, был осужден на год исправительных работ и отбывал срок наказания в Карелии на лесозаготовках. В июле 1941-го он должен был освободиться, родители уже выслали посылку с вещами, но началась Великая Отечественная война. Наша семья эвакуировалась в Среднюю Азию, где я по окончании ФЗО был направлен на работу в горы, где спешно реконструировался урановый рудник, приобретший оборонное значение. Связь со старшим братом, конечно, прервалась с начала войны. Но я понимал, что двадцатилетний брат призван на Севере в армию, и я тоже горел желанием добровольцем отправиться на фронт. Я поступил в Харьковское пехотное училище, эвакуировавшееся в Наманган, но там на различных хозяйственных работах заболел сыпняком и, поскольку был малолеток для армии, отпущен. Вот так я оказался на руднике Койташ. Трудился дробильщиком на обогатительной фабрике. Ничего не зная об Изе, я тосковал, много думал о нём. В ноябре 1942-го в общагу, где я жил, пришел солдат-инвалид Пётр Смирнов. Правая рука у него была искалечена. Выяснились, что он был взят в армию прямо из лагерей, расположенных в районе Воркуты. Как и мой брат, он был вором. Пётр любил рассказывать о лагерном быте, об отправке на фронт. Оказывается, на фронт отправляли поездом, состоящим из теплушек. Меня поразило: тундра кругом, а действует железная дорога — экзотика! Потянуло сочинить песню, посвящённую брату, который тоже прошел через северный лагерь и тоже где-то воюет. Начало песни возникло само собой: “По тундре, по железной дороге”. А о чём должна быть песня? Ясное дело: о побеге на волю, о матери, память о которой священна для каждого зека.
Весной 1943 года я был призван в армию уже, так сказать, на законных основаниях. В составе 64-й мехбригады принимал участие в боях за овладение днепровским плацдармом в районе Кременчуга, и там был ранен осенью того же года. После пребывания в госпитале воевал в составе 5-го Донского кавалерийского корпуса и в августе 1944 снова ранен. Фронтовые и госпитальные впечатления заслонили всё, что было связано с созданием моей песни. Изредка я пел её ребятам по землянке, по палате, а затем в студенческие годы — однокурсникам. И вдруг в хрущёвскую оттепель обнаружил, что “По тундре…” стала всесоюзно известной. В ту пору по амнистии освобождались десятки тысяч заключённых, осуждённых по уголовным статьям. Среди них были умельцы, обзаведшиеся самодельными радиоустановками, и в один прекрасный день я услышал на средних волнах, как баритон с типичной для воров дикцией смачно исполнял “По тундре, по железной дороге”! И я понял, что Пётр Смирнов, мой приятель по общаге, добрался благополучно до своей Астрахани. На Койташе моя песня до того ему понравилась, что он заставлял меня её петь каждый день по два раза, пока не запомнил. Свой человек в мире уголовников, он, так сказать, невольно популяризировал её. Больше было некому…
Прошли годы. Прошли десятки лет. Наступила “перестройка”. В ход пошли запрещённые стихи, романы. Но и песни. В 1989 году в Москве, где я тогда жил, в издательстве “Московский рабочий” вышел однотомник стихов и поэм бывших политзаключенных под названием “Среди других имен…”. Первый раздел состоял из песен, ставших народными: в нем был представлен Юз Алешковский, был представлен и я, Григорий Шурмак. К тому времени я был уже автором книжки стихотворений, изданной в Киеве в 1975-м, и автором романа “Нас время учило”, изданного в Москве.
Однажды в девяностые годы мне позвонил из Сыктывкара сотрудник местного “Мемориала”: оказалось, на Севере, в Воркуте, в Сыктывкаре — не представляют себе жизнь края без истории создания моей песни. Благодаря мне “Мемориал” связался с Петром Смирновым, и он был единственным из многих тысяч зеков, призванных в армию из Воркутинских лагерей (списками всех поименно “Мемориал” располагает), кто уцелел и судьба которого прояснилась. В Национальной библиотеке Сыктывкара есть стенд, посвященный песне “По тундре, по железной дороге”. Так “нечаянным образом” я оказался навечно связанным с одним из краёв Заполярного Круга».
После войны Шурмак в 1949 году окончил педагогический институт, преподавал русский язык и литературу. По некоторым источникам, в 1966-м его уволили из-за доноса. Чем занимался Григорий Михайлович до 1988 года, неясно: видимо, литературной деятельностью, однако о его публикациях этого времени ничего не известно. Известно лишь, что в 1988 году Шурмак переезжает в подмосковный город Электросталь, где руководит литературной студией. В 1989 году выходит его роман «Нас время учило», произведения писателя появляются на страницах журналов «Новый мир», «Октябрь», «Русская мысль», «Знамя». В 1996 году по рекомендации Григория Бакланова Шурмак вступает в Союз писателей Москвы, выпускает два поэтических сборника. Умер Григорий Шурмак в 2007 году.
«Это чувствовать может только загнанный вор»: Пётр Смирнов в борьбе за авторство
Всё бы ничего, если бы не одно обстоятельство: пока в нашем рассказе авторство Григория Михайловича Шурмака не подтверждено фактически ничем, кроме его собственных слов.
Читатель может возмутиться: как же так, вы не верите фронтовику, поэту! Нет, я всего лишь указываю на то, что существуют поводы для сомнений. Многолетние исследования уголовного и лагерного песенного фольклора заставили меня с предельной осторожностью относиться к утверждениям об авторстве, которые ничем не подкреплены. Нередко тот или иной автор объявляет себя сочинителем известной лагерной песни без всякого на то права. К сожалению, встречаются среди таких людей и бывшие фронтовики. Можно вспомнить хотя бы Фёдора Дёмина-Благовещенского — «липового» автора песни «Я помню тот Ванинский порт». Фронтовое прошлое — увы, не индульгенция. Бойцы и даже офицеры, вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной, нередко становились грабителями, бандитами, убийцами
[1]. Так что плагиат в этом ряду — далеко не самое страшное преступление.
Однако есть и другие свидетельства, которые касаются авторства песни «По тундре». Обратимся к публикации Анатолия Попова «Кто пустил курьерский в тундру?» («Аргументы и факты Коми» № 408 от 1 ноября 2006 года). Попов переписывался непосредственно с Шурмаком. Автор материала в «АиФ» сообщает: «В письмах Григорий Михайлович несколько раз упоминал о Смирнове, подчёркивая, что популярность песни — его заслуга: “Не забудьте Петра Смирнова… Без встречи с ним и его рассказов о том, как отправляли на фронт в 1942 году с Севера, не было бы и начальной строки песни”».
И Попов не забыл. Он разыскал того самого Петра Смирнова:
«Отослали запросы в Астрахань: Григорий Михайлович — в адресный стол, я — в совет ветеранов. Нашёлся! Из ветеранской организации получил такой ответ: “П. А. Смирнов (1918 года рождения) живёт в старом частном доме один, женат не был, детей не имеет, с родственниками не общается… Почти слепой, ведёт отшельнический образ жизни, от дома ветеранов ВОВ и благоустроенной квартиры отказывается категорически. Сам он нигде не учился, т. к. после исключения из первого класса в школу больше не ходил, но имеет природный талант к сочинению стихов и песен. В 1937 году его арестовали и увезли в лагерь, а за что, как он говорит, и сам не знает. В мае 1942 года его призвали из лагерей в армию и отправили на Ленинградский фронт. При следовании, в поезде, он познакомился с Г. М. Шурмаком, который и услыхал от Смирнова песню «По тундре, по железной дороге». По признанию, её написал сам Смирнов П. А., в чём раньше он не признавался из-за какой-то боязни. Сейчас он это подтверждает. В 1943 году он был тяжело ранен и отправлен в Среднюю Азию”.
“Вот это да! — подумал я, прочитав письмо. — Так и рождаются легенды. Если сам сочинитель не заявляет о своих авторских правах, как это произошло с Шурмаком, это обязательно сделают другие…”
Однако Пётр Смирнов не учёл одной детали. В 1942-м Шурмаку было всего 17 лет. Он в силу возраста не мог оказаться в эшелоне зэков, призванных на фронт.
Я попросил своих астраханских знакомых сходить к Смирнову домой, побеседовать о Шурмаке и песне. Но старик чужих людей в дом не пустил и общаться наотрез отказался».
Ну вот вам ещё один автор-фронтовик. Конечно, можно согласиться с аргументами Анатолия Попова. Действительно, Пётр Смирнов малограмотен, а Шурмак — человек с филологическим образованием, поэт, писатель… Да к тому же налицо явное несоответствие: в самом деле, не мог 17-летний Шурмак ехать в одном товарном вагоне с бывшим заключённым на фронт, встретились они в другом месте и при других обстоятельствах. А вот то, что Смирнов реально существует и к тому же факт такой встречи подтверждает, свидетельствует о правдивости слов Григория Михайловича. Тем более Шурмак принял активное участие в поисках Смирнова и настаивал, что без того песня не разошлась бы по Советскому Союзу.
Но не всё так просто. Зададимся вопросом: а для чего Смирнову переносить встречу в теплушку? Он мог спокойно сказать, что с Шурмаком встречался в бараке на Койташе и там напел ему песню о побеге. Тем более представители совета ветеранов должны были сообщить Смирнову эти детали. Хорошо, допустим, они напомнили Смирнову лишь о событии — общении с молодым пареньком, но не о месте этого общения (что довольно странно, поскольку речь шла о поисках конкретного человека, а не о его «разоблачении»). Вот старик и попал впросак… Тогда выходит, что места встречи с Шурмаком Смирнов в самом деле не помнил. В любом случае с памятью у Петра Смирнова — большие проблемы. Полагаться на то, что в этой памяти всплыла фамилия Шурмака или даже его имя, я бы лично поостерёгся. Самое большее — старик мог подтвердить, что распевал песню с каким-то пареньком. А где, когда — как говорится, стёрлось за давностью лет. Кстати, Смирнов утверждал, что в Среднюю Азию после ранения он попал только в 1943 году. Так что при использовании подобных свидетельств надо, что называется, «делать сноску на ветер».
Теперь об утверждении, что «Побег» мог создать лишь профессиональный поэт. Ещё во время первого прочтения меня неприятно удивило явное несоответствие между первым и вторым куплетами песни. Первый («Это было весной») — литературно выверенный, образный, яркий. Второй — чудовищно косноязычный, нелепый, невразумительный:
Слёзы брызнут на руку иль ручку нагана,
Там вдали ждёт спасенье — золотая тайга.
Мы пробьёмся тайгою, моя бедная мама,
И тогда твоё слово — мне священный наказ!
Понятно, что «ручка нагана» вместо рукоятки — безграмотность: между револьвером и кастрюлей всё же есть небольшая разница. Хотя в просторечии такое редко, но встречается. Например, в письме-исповеди бывшего коммуниста Георгия Кудрявцева на имя Сталина в 1926 году: «Иногда батька… бил терпеливо ручкой нагана по голове виновного с криком: “Стерва, в мать, в бога, позоришь революцию”». Так что на эту мелочь закроем глаза. Но вот рифмовать «тайга — наказ» — совсем ни в какие ворота даже для молодого автора: он же всё-таки учился стихосложению. А уж две последние строки — вообще абракадабра. Почему слово мамы — «священный наказ» для зэка лишь тогда, когда он «пробьётся тайгою»? А до этого? И что за таинственный «священный наказ»? О чём вообще речь? Подобные «красивости»-выкрутасы характерны как раз для жанра уличного «жестокого романса», каковые сочинялись когда-то приказчиками, парикмахерами, телеграфистами и вообще народом малограмотным, но с претензиями на «изячный стиль». Нередко элементы такого стиля встречаются и в фольклорных творениях блатных, босяцких, лагерных самодеятельных акынов.
Григорий Шурмак к моменту публикации «Побега» таковым явно не являлся. Что это — куплет, заимствованный из лагерного фольклора или более поздняя намеренная стилизация? Во всяком случае, молодой образованный парень, занимавшийся в литературной студии, в 1942 году выражаться столь косноязычно и нелепо, на мой взгляд, попросту не мог.
Ещё один любопытный штрих: упоминание «курьерского» поезда (то есть пассажирского высшей категории, следующего с высокой скоростью без остановок на небольших станциях). Какой идиот пустил бы курсировать курьерский поезд между маленьким рабочим посёлком (статус города Воркуте был присвоен в 1943 году) численностью около семи тысяч человек — и Ленинградом?! На эту несообразность сразу обратил внимание Анатолий Попов, даже вынес в заголовок — «Кто пустил курьерский в тундру?»:
«За 64 года песня обросла множеством новых, народных куплетов, но во всех её вариантах неизменными остаются первые строчки припева. Я как-то спросил у Григория Михайловича: откуда в тундре 1942 года взялся “курьерский”? Каким ветром его туда занесло?
“Мне ведь было 17 лет. Я знал, что в тундре Пётр Смирнов строил железную дорогу. А раз есть дорога, почему бы по ней не мчаться курьерскому?!”»
Для начала заметим, что первые строки припева в разных версиях песни не остаются неизменными, а как раз варьируются: «по тундре, по широкой дороге», «по тундре, по стальной магистрали», «где мчится скорый», «где мчится поезд»… Несведущий юноша вполне мог допустить вольность с курьерским поездом из Воркуты. Но ведь Шурмак утверждал, будто Петру Смирнову «песня так понравилась, что он заставлял меня петь с ним до тех пор, пока не запомнил». Продолжались такие спевки долго и по два раза на день. Как же бывший зэк, отмотавший в воркутинских лагерях пять лет, не обратил внимания на столь очевидную нелепость и не поправил парня? Это просто немыслимое, фантастическое допущение, учитывая то, что воровская братия прекрасно разбиралась в типах поездов, поскольку «бомбила» их постоянно — как пассажирские, так и товарные.
Но самое любопытное: строительство железнодорожной ветки Котлас — Воркута было завершено лишь 31 декабря 1941 года, стало быть, только в 1942-м появилась возможность добраться на поезде от Воркуты до Ленинграда. Строили дорогу заключённые Северного железнодорожного исправительно-трудового лагеря НКВД, который действовал с 1938 по 1950 год. Здесь отбывал срок и Пётр Смирнов, рассказавший Шурмаку о строительстве железной дороги, запечатлённой затем в знаменитой песне. О каком же «курьерском» поезде могла идти речь? Кто погнал бы во время войны пассажирский поезд высшей категории в блокадный Ленинград? Опытный сиделец поднял бы на смех лопоухого мальчугана, если бы тот «вклеил» в песню упоминание о «курьерском»…
Кстати, Григорий Шурмак настойчиво подчёркивает, что Смирнов был вором-рецедивистом, хотя тот говорит, будто попал в лагерь сам не знает за что. Конечно, впору вспомнить ироническую сентенцию о том, что все зэки сидят «ни за что» (как в анекдоте: «Врёшь! Ни за что червонец дают, а у тебя четвертак!»). Однако Шурмак и своего брата Изю причисляет к ворам (несмотря на то что тот был осуждён впервые и на ничтожный срок). Зачем? Возможно, чтобы объяснить, что могло побудить 17-летнего юношу к сочинению воровской баллады?
Но в мае 1942 года (когда был призван Смирнов) уголовников-рецидивистов не брали из лагерей в армию. Мобилизовали лишь тех, кто был осуждён за малозначительные преступления (как это случилось с Исааком Шурмаком). Да и сам вор, согласно «воровскому закону», не имел права брать оружие из рук власти — он сразу становился изгоем среди своих, «сукой». Перелом произошёл лишь в 1943 году, после знаковых поражений немцев под Сталинградом и на Курской дуге, когда Красная армия окончательно перешла в наступление и стало ясно, что она войдёт в Европу. Тогда у многих воров душа и дрогнула… Так что не исключено, что Пётр Смирнов в самом деле вором не был. Хотя что ему мешало немного присочинить, покрасоваться перед молодым пареньком? Но вот причислять к ворам родного брата — это уже перебор.
К слову: в справочнике «Путеводитель по шансону-2» Михаил Дюков приписывает Григорию Шурмаку авторство и другой широко известной лагерной песни — «Спецэтап» (Дюков называет её «Эшелоном»). Рассказывая о послевоенном танго «Тоска по Родине», которое обрело популярность благодаря замечательному певцу Петру Лещенко, Дюков сообщает:
«На мотив танго “Тоска по Родине” примерно же в эти годы (1945-й. —
А. С.) советский поэт Григорий Шурмак, под впечатлением рассказов своего брата, только что вернувшегося из заключения, написал другой неувядающий хит — “Эшелон”.
Чередой за вагоном вагон,
Мерным стуком по рельсовой стали,
Спецэтапом идет эшелон
Из столицы в колымские дали».
Это, разумеется, совершенная нелепость. Своего брата, попавшего в лагерь, Григорий Шурмак никогда уже более не увидел: Исаак погиб на Волховском фронте и в 1945 году не мог «только что вернуться из заключения». Песню «Спецэтап» Шурмак не писал и никогда этого не утверждал. Дюков перепутал «Спецэтап» и «По тундре», поскольку обе начинаются с упоминания железной дороги. А проверить не удосужился. Что неудивительно: несколькими абзацами выше он, например, утверждает, что «Вертинский пел… “Журавлей” одного из братьев Жемчуговых (создателей образа Козьмы Пруткова)». Слава богу, что не братьев Жемчужных вместе с Аркашей Северным. Это называется — слышал звон… Даже школьнику понятно, что речь идёт о братьях Жемчужниковых, один из которых, Алексей, действительно написал в 1871 году стихотворение «Осенние журавли», значительно позднее, после Второй мировой войны, ставшее популярной песней.
Подведём итог. Несомненно одно: факт встречи Шурмака и Смирнова. Обе стороны признают, что встречались и пели, но каждая приписывает авторство песни «По тундре» себе. Сам текст стилистически разнороден. Явных доказательств авторства ни у Шурмака, ни у Смирнова нет — равно как и косвенных. Хотя легче, конечно, поверить в авторство Шурмака. Но «легче» в данном случае не значит «правильнее». Во всяком случае, для меня этот вопрос остаётся открытым. Да и сам факт создания-исполнения в 1942 году первоначального варианта песни «По тундре» вызывает у меня большие сомнения. За читателем остаётся право — соглашаться со мною или нет. Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы подобное суждение было вынесено после прочтения очерка целиком.
«Чтобы нас не настигнул пистолета разряд»
Выше мы привели наиболее полный и самый короткий варианты песни о побеге из воркутинского лагеря. Однако всё-таки «каноническим» традиционно считается текст, который находится как бы в промежутке между этими двумя вариантами. Он существует в самых разных версиях, но, по сути, в основе своей они схожи. Во всяком случае, до 1996 года, когда вышли «Блатные пионерские» с расширенным текстом «По тундре» (и близкий к нему текст Константина Беляева), песня звучала несколько иначе. В качестве примера привожу исполнение Юрия Никулина 2001 года; близко к нему исполнение Валентина Гафта и Олега Басилашвили в фильме «Небеса обетованные» 1991 года:
Это было весною, зеленеющим маем,
Когда тундра наденет свой зелёный наряд.
Мы бежали с тобою от проклятой погони,
От проклятой погони, громких криков «Назад!».
Припев:
По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд Воркута — Ленинград,
Мы бежали с тобою от проклятой погони,
Чтобы нас не настигнул пистолета разряд.
Дождик капал на рыла и на дула наганов,
Вохра нас окружила, «Руки вверх!» — говорят.
Но они просчитались, окруженье пробито:
Кто на смерть смотрит прямо, того пулей не взять!
Я сижу в одиночке и плюю в потолочек,
Пред людьми я виновен, перед Богом я чист.
Предо мною икона и запретная зона
И на вышке маячит надоевший чекист.
Мы теперь на свободе, о которой мечтали,
О которой так много в лагерях говорят.
Перед нами раскрылись необъятные дали,
Нас теперь не настигнет пистолета разряд!
Почти каждая строка этой песни существует во множестве всевозможных версий. Даже для того, чтобы очень поверхностно сопоставить их и проанализировать, потребовалась бы книга немалого объёма. В рамках нашего очерка мы не станем погружаться в глубины текстологии, но при необходимости, конечно же, нам не раз придётся рассматривать различные варианты не только строк, но и слов.
Однако, прежде чем начать анализ текста, необходимо разобраться с тем, на какую музыку он положен: ведь песня — это симбиоз стихов и музыки.
Тут всё достаточно несложно. Как известно, многие блатные и лагерные песни создавались на уже популярные к тому времени мелодии. Не стала исключением и песня «По тундре». Она (за исключением припева) положена на мелодию популярнейшего в 1930-е годы танго «Напиши мне» — «Scrivimi (Écris-moi)» итальянского композитора Джованни Раймондо на слова Энрико Фрати. Впервые эту песню исполнил в Италии Нино Фонтана в 1930 году. Но своё триумфальное шествие по Европе это итальянское танго начало в середине 30-х. За два года (1936–1937) песня была переведена на множество языков. В 1940 году это танго прозвучало и на русском языке — музыкальная обработка Аркадия Островского, слова Иосифа Аркадьева (Эпштейна). Танго под названием «Если можешь, прости» вышло на пластинке московского Апрелевского завода, исполнительница — замечательная певица Изабелла Юрьева, которую называли «белой цыганкой». Многие из нас могут вспомнить слова этого танго — они фактически вошли в песенный фольклор:
Мне сегодня так больно,
Слёзы взор мой туманят,
Эти слёзы невольно
Я роняю в тиши.
Сердце вдруг встрепенулось,
Так тревожно забилось,
Всё былое проснулось,
Если можешь, прости.
Вполне возможно, в СССР танго Джованни Раймондо пришло через Польшу (в 1939 году часть польской территории по договору Молотова — Риббентропа досталась Советскому Союзу). «Польские танго» пользовались у советских граждан огромной популярностью, а итальянское «Напиши мне» пел известный певец Мечислав Фогг (Фогель), который прославился также исполнением «танго самоубийц» «Та ostatnia niedziela» («Последнее воскресенье»), которое превратилось на русской земле в «Утомлённое солнце».
На мотив того же итальянского танго написана и блатная песня «Дочь прокурора»:
Там, в семье прокурора, материнская стража.
Жила дочка-красотка с золотою косой,
С голубыми глазами и по имени Нина,
Как отец, горделива и красива собой.
Несколько строк из этой баллады о «красавице Нине», которая полюбила вора и получила вместе с ним срок от собственного отца-прокурора, исполнил в известном сериале «Место встречи изменить нельзя» уголовник Промокашка (актёр Иван Бортник):
А на чёрной скамье, на скамье подсудимых,
Его доченька Нина и какой-то жиган.
Это было во вторник…
Заметим, что действие «прокурорской баллады» происходит в мирное время, парочка знакомится на танцплощадке, и вся атмосфера песни далека от военной:
Но однажды на танце, не шумливый, но быстрый,
К ней прилично одетый подошёл паренёк —
Суеверный красавец из преступного мира,
Поклонился он Нине и на танец увлёк.
То есть история разворачивается либо незадолго до Великой Отечественной войны (напомним, что танго «Если можешь, прости» в исполнении Юрьевой записано и обрело популярность в 1940 году; даже если допустить, что Изабелла Даниловна уже пела «переделку с итальянского» в концертах, дату можно сдвинуть максимум на год-два ранее), либо уже после неё. Забавно отметить также некоторую перекличку между песней «По тундре» и некоторыми версиями «Дочери прокурора» — «Это было весною, зеленеющим маем» и «Это было во вторник, в день дождливый, ненастный». То есть указывается время действия и погодные условия (в песне о побеге — «Когда тундра надела свой зелёный наряд»). Вполне возможно, заимствование произвели авторы «Дочери прокурора», учитывая вариативность строки внутри баллады (например, «Но однажды во вторник…»), в то время как начало куплета песни «По тундре» во всех версиях остаётся неизменным. Но всё же допустимо и обратное влияние. Ведь, как мы помним, песня «По тундре» родилась не ранее 1942 года, когда от Воркуты до Питера была проложена железнодорожная ветка. До этой поры по тундре можно было гнать разве что на северных оленях…
Впрочем, различные версии текста «По тундре» предполагают зачастую и разную датировку, если принимать во внимание некоторые штрихи и детали. Так что по мере сил и возможностей мы попытаемся проанализировать песню подробно и дотошно.
Украинско-иудейская борьба за звание «вертухая»
Первые две строки песни «По тундре» особых комментариев не требуют. И разночтения здесь не принципиальны. Вместо «зелёного» наряда встречается «весенний», что вполне понятно и более удачно, если принять во внимание уже использованный в первой строке эпитет «зеленеющий». Снимает тавтологию и вариант, где тундра «развернулась ковром».
Но далее расхождения уже серьёзные. «Мы бежали с тобою, опасаясь погони» («от проклятой погони» и т. п.) — это одно. А вот «замочив вертухая» — совершенно иное, учитывая то, что последнее выражение означает — убить охранника лагеря, конвоира, надзирателя, в широком смысле — любого лагерного сотрудника, который носит погоны.
«Вертухай» — производное от «вертухаться», то есть вертеться, дёргаться, пытаться делать резкие движения, шуметь и вырываться. У Александра Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» изложена версия об украинском происхождении слова. Автор пишет: «В моё время это слово уже распространилось. Говорили, что это пошло от надзирателей-украинцев: “стой, та нэ вэртухайсь!” Но уместно вспомнить и английское “тюремщик” — turnkey — “верти ключ”. Может быть, и у нас вертухай — тот, кто вертит ключ?»
С вращением ключа — версия совсем уж фантастическая и ничем не подкреплённая. Что касается «украинской» этимологии, она в определённой степени заслуживает доверия. Хотя некоторые критики заявляют, что в украинском языке такого слова не существует, в данном случае нет смысла обращаться к литературному украинскому языку (который, по большому счёту, до сих пор окончательно не сформировался). Но в просторечии, в разговорной речи и даже в письменной мне не однажды приходилось встречать — віртуха, віртуху крутити, віртухаться, віртухай…
Однако при чём тут украинцы-надзиратели? В полемических спорах, дискуссиях противники этой версии заявляют, что значительная часть украинцев (прежде всего западных) в сталинских лагерях была заключёнными, а не надзирателями, поэтому-де разговоры об «украинских охранниках» беспочвенны и даже лживы. Это, мягко говоря, откровенная ерунда. Да, в послевоенные годы лагеря действительно наполнились так называемыми бандеровцами (или бендеровцами, хотя правильно первое написание — по фамилии идейного вождя этого национал-шовинистического движения Степана Бандеры), среди которых были не только собственно бойцы подпольных групп, но и просто крестьяне, помогавшие им, и даже совершенно невиновные люди. Это, однако, не отменяет того факта, что и в среде охраны, надзора украинцы составляли значительную часть личного состава. Достаточно обратиться к воспоминаниям узников ГУЛАГа. Например, Вадим Туманов в книге «Все потерять — и вновь начать с мечты» пишет о послевоенных лагерях, где отбывал наказание: «Много шуток в свой адрес вызывали украинцы. Их было одинаково много как среди заключённых, так и среди лагерного начальства, охраны, надзирателей». Более того: подобное положение сохранялось и позднее, особенно в отдалённых колониях (на «дальняках») — вплоть до распада СССР. Арестанты, с которыми я беседовал, приводили ироническую зэковскую топонимику — «Коми УССР Хохло-Мансийского национального округа», которая в связи с упоминанием Коми АССР (автономной республики) непосредственно относится к нашей теме.
Слово «вертухай» появилось в арестантском арго сравнительно поздно, с большой степенью вероятности
— в 1940-е годы. Во время и после Великой Отечественной войны в места лишения свободы пошло служить множество украинцев. Прежде всего это были деревенские парни, особенно из отдалённых сёл. Собственно, так же набирались ещё раньше и «вологодские» («соловецкие») конвоиры — первоначально именно из глухих русских селений. Но украинцы к тому же испокон веку считались ревностными служаками, отличались мелочным карьеризмом и стремлением выслужиться перед начальством. Увы, это — в некотором смысле национальная черта. Да не сочтёт меня читатель украинофобом; черта эта подмечена и советским солдатским фольклором: «Хохол без лычек — как член без яичек»… А народ зря не скажет.
Правда, в последнее время «украинскую» теорию стала вытеснять «еврейская». Согласно ей, «вертухай» заимствован русскими уголовниками из иврита, от сочетания «бар тукиа», что значит «исполняющий казнь». Еврейские «языковеды», а вслед за ними и русские заявляют ничтоже сумняшеся, будто бы ранее слово обозначало тюремного палача (в России палаческие функции исполняли обычно особо выделенные заключённые). И лишь позже оно стало использоваться в значении «охранник, надзиратель». На самом деле эти измышления являются абсолютным бредом — как и подавляющая часть подобного рода «ивритско-идишских» умствований по поводу этимологии русской уголовной лексики. Слово «вертухай» никогда, даже в самом страшном сне не означало «палач»! Ни в одном словаре, ни в одном письменном источнике вы подтверждения этой нелепице не отыщете.
Вообще подобного рода еврейские «языковеды» используют, как правило, один и тот же нелепый приём. Выдёргивая наобум слово из уголовного жаргона, они «на слух» подбирают что-нибудь хотя бы отдалённо созвучное в идише и иврите — даже совершенно не подходящее по смыслу. Затем начинается искусственное «привязывание» еврейского словечка к блатному, для чего выдумываются дурацкие истории, предположения и байки. Так произошло и с «вертухаем».
«Вертухаями» называли не надзирателей, а заключенных?
Столь же бездоказательными и абсурдными являются утверждения о том, что под «вертухаем» арестантский жаргон ГУЛАГа подразумевал вовсе не сотрудников мест лишения свободы, а… самих заключённых! Эту версию выдвигает в Интернете бывший сотрудник колонии под ником starley, ссылаясь на издание «Уголовно-исполнительная система. 130 лет», выпущенное в 2009 году. Вот что сообщает неведомый «старлей» (по его словам, в колонии он служил в отделе кадров, а затем — замполитом):
«За 16 лет службы я ни от одного осуждённого не слышал слово вертухай. Бывает, говорят: мусор, мент, даже фашист.
Но слово “вертухай” — применительно к сотрудникам колоний — я, не поверите, прочитал впервые у Солженицына, а потом с удивлением узнал, что им активно пользуется либерально-еврейская часть населения Интернета, а вслед за ними стали, как попугаи, повторять все.
Так вот, слово “вертухай” изначально обозначало вовсе не сотрудника лагеря или колонии. Оно обозначало зека, но зека не простого.
В условиях катастрофического недокомплекта аттестованной охраны для охраны лагерей и надзора за заключёнными внутри лагеря широко привлекались сами заключенные. Например, к середине 1939 года число стрелков ВОХР из числа заключенных составляло 25 тысяч человек. Надзиратели из числа заключённых носили специальную форму.
В 1941 году около 90 процентов аттестованного состава охраны было отправлено на фронт (ау, сказочники, рассказывающие о брони для лагерников), в том числе и пожелавшие самоохранники. А вот им на замену приходили признанные негодными к военной службе инвалиды, старики, женщины.
После войны руководство ГУЛАГа решило возродить самоохрану лагерей.
За безупречную службу заключенным, охраняющим лагерь, были положены двухнедельный отпуск, правда, без выезда домой, но с правом свидания с родственниками. Особо отличившиеся охранники, не допустившие побега (читай: застрелившие осужденного во время совершения побега), представлялись к условно-досрочному освобождению.
А вот за халатное отношение к службе виновные немедленно переводились на общие работы.
И зарплату они получали: например, те, кто отслужили более года, получали от 45 до 60 рублей. Максимальное жалование назначалось конвоирам. “Вологодский конвой шутить не любит”. Это выражение — зековское.
Если в 1941 году количество самоохранников составляло 5 с половиной тысяч человек на весь ГУЛАГ, а во время войны оно не превышало 3 тысяч, то к 1951 году их количество выросло до 41 тысячи (20 процентов от всего количества охранников).
Самоохрана лагерей просуществовала аж до 1959 года, после чего была упразднена.
Так почему вертухаи?
Да потому, что самоохранники, отслужив наряд, возвращались в барак. И ходили по бараку постоянно оглядываясь, вертясь (вертухаясь), чтобы не быть посаженными на пику.
Поэтому зеки слово вертухай не употребляют. Оно для них табуированное. А вот либеральная интеллигенция — употребляет с удовольствием. До сих пор».
«Старлей» также утверждает, что эта версия преподносится курсантам высших и прочих учебных заведений МВД как единственно верная.
Прочитав эту ахинею, не знаешь, плакать или смеяться. То, что бывший зоновский кадровик ни разу не слышал слова «вертухай», — вполне допускаю. Однако это вовсе не значит, будто этого слова не существует. Я за почти 18 лет работы в пенитенциарной системе тоже не сталкивался со многими образчиками жаргонной лексики. Лишь когда у меня появились близкие знакомые на воле из числа бывших уголовников, когда я стал
специально общаться с осуждёнными и сотрудниками мест лишения свободы, чтобы обогатить свой запас лексики арго и блатного фольклора, передо мною открылись россыпи слов, выражений, пословиц, поговорок, присказок… Но для этого необходимо поставить перед собой такую цель. Товарищ «старлей», видимо, её не ставил.
Чтобы узнать, что значит слово «вертухай», достаточно обратиться к различным мемуарным источникам. Бывшие узники ГУЛАГа используют его часто и активно. Например, Лев Копелев в мемуарах «Хранить вечно» (время действия — 1945–1947 гг.) упоминает охранников (судя по контексту — опять же украинцев): «Видно, что всё же они крестьянские сыновья, — местные полещуки, — и уважают, даже чтут хлеб и знают, что такое голод… И тупо равнодушные или грубые, злобные вертухаи на это время опять стали простыми хлопцами, способными пожалеть голодных и разделить чужую радость». И в другом месте — уже сокращённая форма от «вертухая»: «Эх, вертух, ободрал, гад, на сменке»… Можно вспомнить одну из песен группы «Лесоповал» на стихи бывшего лагерника Михаила Танича: «А на шмоне опять вертухай пять колод отберёт…» Или нобелевского лауреата Иосифа Бродского с его стихотворением «На независимость Украины»:
С богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда припрёт и вам умирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
Бродский особо подчёркивает «вертухайство» украинцев, которое продолжалось и тогда, когда он был осуждён. То же вспоминали и мои знакомые — бывшие осуждённые в начале 1990-х о своих прежних «ходках». Везде обязательно присутствовал хохол-надзиратель или охранник…
Таких примеров множество, некоторые из них мы ещё приведём ниже.
Что касается «самоохранника-вертухая», дикость подобного объяснения совершенно очевидна для любого, кто хотя бы поверхностно знаком с историей ГУЛАГа. Мы не будем вдаваться в подробности (это — не тема нашего очерка), обратимся к рассказу Варлама Шаламова «В лагере нет виноватых»:
«В двадцатые же годы действовала знаменитая “резинка” Крыленко
[2], суть которой в следующем. Всякий приговор условен, приблизителен: в зависимости от поведения, от прилежания в труде, от исправления, от честного труда на благо государства. Этот приговор может быть сокращён до эффективного минимума — год-два вместо десяти лет, либо бесконечные продления: посадили на год, а держат целую жизнь, продлевая срок официальный…
Высшим выражением крыленковской “резинки”, перековки была самоохрана, когда заключённым давали в руки винтовки — приказывать, стеречь, бить своих вчерашних соседей по этапу и бараку. Самообслуга, самоохрана, следовательский аппарат из заключённых — может быть, это экономически выгодно, но начисто стирает понятие вины».
Самоохрана из числа заключённых существовала и до, и во время, и после Великой Отечественной войны. Но «старлей» пишет: «Самоохранники, отслужив наряд, возвращались в барак. И ходили по бараку, постоянно оглядываясь, вертясь (вертухаясь), чтобы не быть посаженными на пику». Однако это — попросту говоря, ненаучная фантастика: самоохрана из числа заключённых всегда располагалась изолированно от основной массы лагерников!
Вот цитата из лагерного отчёта печально знаменитой «стройки № 503», или «мёртвой дороги». Как раз по нашей теме, поскольку эту железнодорожную магистраль начали тянуть согласно секретному постановлению Совета министров СССР № 255–331-сс (22 апреля 1947 года) от станции Чум (южнее Воркуты) до будущего крупного морского порта на Обской губе в районе мыса Каменный. В отчёте Обского ИТЛ за 1949 год читаем: «При колонне № 205, пятого отделения в тёмной сырой землянке размещены два взвода, охраняющие 201 и 202 колонны. Солдаты спят на двухъярусных сплошных нарах, без постельных принадлежностей. Самоохрана помещается вместе с солдатами, так как на 70 человек в этой землянке имеется только 40 мест».
Самоохрану размещают вместе с солдатами, несмотря на чудовищную тесноту и скученность; никому даже в голову не приходит нелепая мысль отправить самоохранников в зэковский барак!
А вот отчёт за 1951 год, где положение уже меняется к лучшему: «Солдаты и самоохрана размещены в типовых казармах отдельно друг от друга. В настоящее время жилплощадь на 1 заключённого составляет 3,4 м
2, на 1 человека самоохраны — 1,8 м
2».
Так что трусливо оглядываться в бараке, равно как и за его пределами, самоохранникам не было никакого смысла. Если «старлей» говорит правду и таких элементарных вещей не знают преподаватели и профессора вузов МВД — страшно даже представить, какую ещё галиматью они вбивают в головы своих слушателей…
И всё же можно допустить, что самоохранников называли «вертухаями» — но как раз по аналогии с охранниками-солдатами! То есть приравнивая к ним самоохрану из числа зэков. При этом заметим, что «старлей» смешивает стрелков ВОХР и самоохрану из числа заключённых, что совершенно недопустимо. Так, Людмила Липатова в материале «История 501-й стройки» (продолжением которой являлась 503-я стройка) различает в воркутинских лагерях три категории вооружённых людей:
«Первые — вольнонаёмные охранники, то есть ВОХР или ВСО, вторые — надзиратели или надзорсостав, третьи — самоохранники. В неё набирались заключённые, у которых остался небольшой срок, лояльно проявившие себя по отношению к администрации. Самоохранники одевались в такую же, как и вольнонаемная охрана, форму, только без звёздочек. Они имели более свободный режим содержания, чем их собратья по заключению. И, как ни странно, именно самоохранники чаще всего проявляли ту жестокость, от которой страдали заключённые. Фёдор Михайлович Ревдев (боевой офицер, прошёл всю войну, работал в Львове, осудили его за преклонение перед иностранной техникой) говорит по этому поводу следующее: “Вольные солдаты — люди как люди, а когда стоит самоохранник, так зверь, хуже зверя, хуже фашиста. Относились к человеку, как к животному. Шли в самоохрану садисты, действительно преступники. Честный человек никогда туда не пойдет. В Салехарде у меня есть люди, которые меня охраняли. Я ничего плохого о них не скажу. Самоохранники же — другое дело”».
О том же свидетельствует и лагерник Александр Сновский, тоже работавший на стройке № 501:
«Никогда не ставили оцепление. Вкапывали веточки, они назывались “запретка”. За эти веточки переходить нельзя было. Стреляли. Но если у солдат срочной службы была голова, то самоохранники стреляли без предупреждения. Потому что подстреленный за этой веточкой заключённый означал для самоохранника сокращение срока на полгода. Самоохрана — это малосрочники-подонки. Не блатные и не бухгалтеры, которые проворовались, а так, гнусь всякая, у которой было пять лет сроку. Раньше за изнасилование, например, давали гроши, копейки — три года… И что самоохрана делала? Подзывает зэка: “Иди сюда! Принеси мне оттуда дров!” А дрова за веточкой лежали. Глупый зэк шёл, охранник ему стрелял в спину. Получал полгода скидки срока за то, что якобы предотвратил побег. Но старые, опытные зэки всегда шли спиной вперёд. Когда я иду лицом к солдату, это уже не побег…
В самоохрану чаще всего шли люди с патологией личности. Они были звери. Солдат сдерживала воинская служба. Всё-таки у них оставалась какая-то порядочность. Это были наши люди, призванные на военную службу. А самоохрана была страшная… Там много было садистов, очень много садистов. Патологических садистов. Причём, добавлю: половых садистов, именно половых садистов. Мне не хочется поднимать эту тему… Тайны человеческой психики — дремучий лес».
Самоохрану лагерники ненавидели ещё больше, чем людей в форме, и могли таких зэков тоже причислять к вертухаям как раз из-за этого, а вовсе не потому, что те вертели в бараке головой от страха. Но само слово «вертухай» возникло именно как определение так называемых формовых — то есть несущих службу в местах лишения свободы надзирателей, охрану, конвойных, а затем и офицеров. Сюда же нередко включали и «вольных» сотрудников военизированной охраны.
Когда появились «вертухаи»?
Этот вопрос имеет прямое отношение к тексту песни. Чтобы найти ответ, нам придётся вернуться к «еврейской этимологии» слова «вертухай». Дело в том, что одна из защитниц ивритского происхождения «вертухая» заявила, будто слово появилось в русском арго ещё в 1880 году. Но, естественно, никаких доказательств не привела. Да и не могла, поскольку их не существует. Ни на каторге, ни в царских тюрьмах мы не встретим подобного словоупотребления. Нет ни одного примера в мемуарной литературе тех лет, равно как и в словарях русского арго начиная с XIX века и вплоть до Великой Отечественной войны — ни «вертухая», ни «вертуха», ни «вертухаться», ни «вертухнуться»…
Стоп! А вот здесь необходимо важное примечание. Если в отношении «вертухая» всё справедливо, то с однокоренными словами дело обстоит несколько иначе. Само по себе слово «вертухаться» известно в русском языке по меньшей мере с XIX века. То есть не в литературном русском (здесь его искать бесполезно), а в многочисленных говорах. У Владимира Даля оно отмечено в значении: «Вести себя неспокойно, вертеться» с пометами — псковское, тамбовское, вологодское, новгородское. В ряде других словарей русских говоров «вертухаться», «вертыхаться», «вертугаться» толкуется как «вертеться», «повёртываться, оборачиваться», «сопротивляться, увёртываясь при этом», «вертеться неправильно, рывками, качаясь» — с отсылом к тем же областям России. В словаре орловских говоров встречаем также фразеологизм «на вертухах» — в состоянии волнения, возбуждения. Есть также выражение «дать вертуха» — быстро исчезнуть, убежать.
Даже у Чехова в драматическом этюде «На большой дороге» (1885) следует характеристика дамочки: «Не то чтобы какая беспутная или что, а так… вертуха…» Словом «вертуха» персонаж Антона Павловича обозначает вертихвостку, егозу.
Но всё это, повторяем, относится к области языка народного, а не уголовно-арестантского. Хотя, несомненно, блатной жаргон щедро черпал лексику из русских говоров. Вот для примера — отрывок из воспоминаний лагерника Даниила Алина (время действия — лето 1941-го):
«…Бандиты имели свой лексикон или, выражаясь по-лагерному, свою “феню”, например: штопорнуть, захомутать, поставить на попа, замарьяжить и т. д. Они имели даже свои песни, соответствующие их идеологии, например:
А там, на повороте,
Гоп, стоп, не вертухайся,
Вышли три удалых молодца,
Купцов заштопорили,
Червончики помыли,
А их похоронили навсегда».
Как мы можем убедиться, в данном случае речь идёт не об окрике «вертухаев», а о довольно известной блатной песне. Я знаком с нею по более позднему варианту:
Ночка начинается,
Фонарики качаются,
И филин ударил крылом.
Налейте, налейте
Мне чарку глубокую
С пенистым крепким вином!
А если не нальёте,
Коня мне подведёте —
Покрепче держите под уздцы:
Поедут с товарами
Ровными парами
Муромским лесом купцы!
А вдруг из поворота —
Гоп-стоп, не вертухайся! —
Выходят два здоровых молодца:
Коней остановили,
Червончиков набрили,
С купцами рассчитались до конца!
А с этими червонцами
В Одессу приходили,
Зашли они в шикарный ресторан,
Там пили, кутили,
По десять лет схватили —
А потом по новой в Магадан!
А в Магадане тошно —
Гоп-стоп, не вертухайся! —
Бери кирку, лопату и копай!
А если вертухнёшься,
То в карцере проснёшься —
И тогда свободу вспоминай!
Фрагмент про чарку глубокую, коня и купцов в Муромском лесу является своеобразным перепевом-переделкой соответствующего отрывка из популярной разбойничьей песни «Что затуманилась, зоренька ясная» (слова Александра Вельтмана, 1831, музыку писали многие композиторы, наиболее популярна мелодия Александра Варламова, 1832):
Жаль мне покинуть тебя одинокую,
Скоро уж полночь… дай чару глубокую,
Вспень поскорее вином.
Время! Веди ты коня мне любимого,
Крепче держи под уздцы…
Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским лесом купцы.
То есть само по себе употребление слова «вертухаться» не означает принадлежности говорящего именно к украинцам. Несомненно одно: арестантский мир действительно заимствовал его из говоров — и хуторских жителей Украины, и деревенских российских парней. Малограмотные селяне, становясь тюремными надзирателями и конвойными, заменяли ёмким словечком традиционные команды, обращённые к зэкам: «Не двигаться!», «Голову не поворачивать!», «Стоять смирно!» и проч. Но вот так случилось, что именно окрики «хохлов» запомнились арестантом более всего. Как мы уже указывали, украинцев во время и после войны на должностях надзирателей было очень много, и они отличались особым рвением.
Гуляло словечко «вертухаться» и среди уголовной братвы. Зафиксировано даже жаргонное «вертухало» в значении — жулик, совершающий кражи на глазах у людей. Но то, что многие лагерники связывают его именно с «хохлами»-надзирателями и именно в «украизированной» форме «не вэртухайсь!», само по себе симптоматично. Подобная команда вполне естественна в устах тюремного надзирателя наряду с «не дёргайся!», «не рыпайся!» по отношению к арестантам, которых выводят из камеры, ведут по тюремному коридору и т. д. Прежде всего, так обращаются к блатарям, к профессиональным уголовникам: именно они ведут себя в тюрьмах, лагерях свободно, вызывающе, нередко позволяя себе подтрунивать над тюремщиками, особенно набранными из деревень. «Политики» и «бытовики» такого себе не позволяли.
И всё же — можем мы установить точно, когда именно в лагерной среде возникло слово «вертухай»? С абсолютной точностью — вряд ли. Что касается письменных источников, наиболее ранняя фиксация слова относится к 1946 году. По крайней мере, более раннего упоминания мне отыскать не удалось. Именно тогда в Воронежском следственном управлении вышел для служебного пользования справочник «Слова, употребляемые преступниками, с указанием их значения в обычной разговорной речи». Читаем: «ВЕРТУХАЙ, МЕНТ, МИЛОК, ПЕТУХ, СОЛОВЕЙ, ПОПКА, МЕТЕЛКА, ФИЛИН — милиционер, тюремный надзиратель». Затем в 1952 году ту же трактовку повторил словарь «Жаргон преступников (пособие для оперативных и следственных работников милиции)», изданный в Москве.
Однако есть и другие сведения. Так, советский фантаст Сергей Снегов, осуждённый в 1936 году на десять лет лагерей и вышедший на свободу в 1945-м, относит возникновение «вертухая» к более раннему периоду. В рассказе «Слово есть дело», действие которого происходит в Бутырской тюрьме в 1936 году, Снегов пишет: «Со звоном распахнулось дверное окошко. Грозная рожа коридорного вертухая просунулась в отверстие». В небольшом словарике, приложенном к сборнику «Язык, который ненавидит» (1991), поясняется: «Вертухай — надзиратель в коридоре тюрьмы».
Правда, следует учесть, что свои тюремно-лагерные рассказы Снегов писал спустя минимум четыре десятилетия после освобождения из ГУЛАГа, и память ему могла изменить, не исключены разного рода накладки. Так есть ли у нас основания с осторожностью относиться к косвенной датировке Снегова? Пожалуй, есть, и серьёзные. В других лагерных воспоминаниях, которые относятся к довоенному времени (речь идёт не о десятках, а о сотнях мемуарных источников, с которыми приходится работать), слово «вертухай» не встречается — ни как надзиратель, ни как конвойный, ни как часовой на вышке, вообще никак. Преимущественно всех перечисленных сотрудников так и называют — надзиратель, охранник, конвойный, стрелок или, скажем, жаргонное «попка».
Показательны в этом смысле воспоминания Олега Волкова «Погружение во тьму» (тоже изданные уже в эпоху «перестройки»). Вот автор описывает Соловки 1928 года:
«Надзиратели и конвой потели, терялись, разбираясь в грудах формуляров с неизменными “Ибрагимами-Махмудами-Мустафами-Ахмедами-оглы”».
Те же Соловки чуть позже:
«На улице, кроме комаров, были и “попки”, как метко прозвала лагерная братия нахохленных и важных караульщиков, порасставленных на вышках».
Зато вот вам лагерь 1944 года:
«Что это? Свет наизнанку? Люди отказываются покидать лагерь, просятся в зону! Клопов кормить, перед всяким вертухаем тянуться…»
А вот 1937 год, «Записки о камере» ростовчанина Владимира Фоменко:
«Стремительно одеваемся кто во что, едим глазами выводного стражника».
«Думать мне некогда, вахтёр оставил мне пайку хлеба и кружку кипятка на сутки».
«Надзорчики — это наименьшие тюремные начальники: вахтёры, выводные, стрелки. Они — вчерашние красноармейцы, которые после демобилизации решили не возвращаться в колхозы, а жить в тепле-сухе, носить казённое обмундирование, не ишачить на трудных работах».
А вот Михаил Миндлин, мемуарные рассказы «58/10. Анфас и профиль». Автор сидел в Бутырской тюрьме почти в одно время со Снеговым — в 1937 году. Но и у него никакого «вертухая» нет:
«Я заявил надзирателю, что никуда не выйду, пока не дадут тёплой одежды. В ответ двое “попок” вытащили меня в коридор. Но тут появился начальник конвоя…»
Собственно, и у самого Снегова в довоенных воспоминаниях «вертухай» больше не упоминается. В том же рассказе «Слово есть дело»:
«В камеру вошел
корпусной с двумя охранниками».
Или рассказ «До первой пурги»:
«Стрелки лагерной охраны попадались разные. Большинство были люди как люди, работают с прохладцей, кричат, когда нельзя не кричать, помалкивают, если надо помолчать… Мы любили таких стрелочков».
Слово «вертухай» встречается у лагерников в воспоминаниях, которые относятся к военному времени, а большей частью — к послевоенному. Причём значение его в первые послевоенные годы ещё не определилось точно. Если в словаре Воронежского следственного управления так определяли тюремного надзирателя и милиционера, то в воспоминаниях Екатерины Матвеевой «История одной зечки» автор даёт такой диалог:
«Выгрузка… закончилась быстро.
— Спешат вертухаи, сбились с расписания, — сказала Муха.
— Почему вертухаи? Вертухаи — которые на вышках стоят, вертятся. А это доблестные воины — конвой, охрана! — поправила Муху темноглазая блатнячка…»
Лишь позднее утвердилось общее значение «вертухая» как определения всех скопом «нехороших тюремщиков» (сотрудников пенитенциарной системы) и каждого из них в отдельности. Особенно часто слово определяет сотрудника тюрьмы или СИЗО — «крытки». В мемуарах Ивана Дорбы «Свой среди чужих» (время действия — послевоенная советская эпоха) читаем:
«И вот как-то вечером загремел засов и меня вызвали наконец на допрос… Вертухай повёл меня на другой этаж».
В автобиографическом романе Алексея Павлова «Должно было быть не так» (ельцинская Россия) автор даёт короткую справку: «Вертухай, вертух — тюремщик».
Современная детективная повесть Владимира Колычева «Без суда и следствия»:
«Ещё через полчаса появился вертух и повел их на комиссию. Ничего необычного. Кровь на анализ, осмотр терапевта, рентген…
Баней называлась тесная каморка на три соска. Их попытались загнать туда еще с десятком других зэков.
— Давайте, давайте, — подгонял их вертух».
Итак, подведём итог. Слово «вертухай», судя по воспоминаниям заключённых и письменным источникам, появилось в арго скорее всего во время Великой Отечественной войны и закрепилось в послевоенные годы как определение сотрудников ГУЛАГа (также — работников милиции). Так называли конвоиров, надзирателей, охрану и пр.
Для нашего расследования эта датировка очень важна.
Мочить иль не мочить? Во, блин, в чём заморочка…
Но прежде чем пояснить, почему так важна подобная датировка для трактовки строки, в которой беглецы «замочили вертухая», позволим себе небольшой экскурс в историю, казалось бы, всем нам известного жаргонного словечка «замочить» — совершенного вида глагола «мочить». Тем более Владимир Путин слову «мочить», можно сказать, памятник воздвиг нерукотворный. Напомним: 24 сентября 1999 года Владимир Владимирович, будучи премьер-министром России, прокомментировал на пресс-конференции в Астане бомбардировки российской авиацией чеченской столицы — города Грозного. Отвечая журналистам ОРТ, премьер пояснил: «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно».
До сих пор идут споры об уместности и оправданности использования подобного рода жаргонизмов в публичной речи официальных политиков высокого ранга. Сам Путин позднее, на встрече с коллективом Магнитогорского металлургического комбината 15 июля 2011 года, с одной стороны, сожалел о сказанном, с другой — считал, что по сути поступил правильно. Он заявил:
«…Помните, я вот ляпнул там по поводу того, что будем мочить там где-то… Я приехал (где-то на выезде был) — в Питер прилетел в расстроенных чувствах, меня приятель спрашивает: “Ты чего такой грустный?” Я говорю: “Да, ляпнул чего-то, видимо некстати, и неприятно — не должен я, попав на такой уровень, так языком молоть, болтать”. Он говорит: “Ты знаешь, я вот сейчас в такси ехал, и таксист говорит: «Что-то там мужик какой-то появился, правильные вещи говорит»”… То, что я ляпнул, — по форме, наверное, неправильно, а по сути — верно. Мне кажется, нужно поступать исходя из вот этих соображений — из соображений порядочности, прежде всего, и целесообразности (если вы, конечно, уверены, что действуете правильно)».
Из этого отрывка можно сделать вывод, что Путин всё-таки считает употребление жаргонной лексики допустимым, если это целесообразно. Википедия отмечает: «После выступления Путина эта идиома приобрела значение “внезапно застигать и беспощадно расправляться с кем-либо где бы то ни было”». Заметим, что сегодня, после такого «карт-бланша», использование жаргонной, грубо-просторечной лексики стало достаточно обыденным в речи российских политиков. Используя выражение, употреблённое Путиным, лидер коммунистов Геннадий Зюганов, к примеру, саркастически заметил: «Чтобы мочить в сортире, надо как минимум сортир построить. А когда за 10 лет ни одного современного наукоёмкого завода не построили, то это беда». Далее политические и общественные деятели стали активно использовать словечки «наезд», «разрулить ситуацию», «беспредел», «кошмарить» и т. п.
Но нам важно происхождение слова «мочить». Любопытно, что некоторые филологи — например, кандидат педагогических наук Елена Литневская — даже не относят это слово к жаргонной лексике. Литневская определила идиому «мочить в сортире» как «грубо-разговорное выражение». С тем же правом его можно трактовать и как «литературное». Так, когда-то я написал частушку, где выражение «мочить в сортире» использовано в прямом смысле, что создаёт комический эффект:
Кушай рыжики, Порфирий,
Это мой тебе презент:
Я мочила их в сортире,
Как нас учит президент.
Противоположное Литневской мнение высказал известный в прошлом диссидент Владимир Буковский — тот самый, которого в 1976 году советские власти обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, а народ тут же сочинил частушку:
Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана.
Где бы взять такую блядь,
Чтоб на Брежнева сменять?!
Буковский обвинил Владимира Путина как раз в «неправильном словоупотреблении», утверждая, что во времена ГУЛАГа на блатном жаргоне «(про)мочить в сортире» значило — убить стукача и утопить его в туалете. То есть выражение это — чисто уголовное:
«И он сказал знаменитую фразу “мочить в сортире”. Я посмотрел и долго смеялся — он ведь даже не знает, почему в сортире? Это же уголовное выражение, пошедшее из лагерей, когда в конечный сталинский период были восстания лагерные. А лагеря тогда были огромные — там бывало по 15–20 тысяч в лагерях.
И огромные сортиры стояли обычно на бугре с выгребными ямами. И первое, что делали восставшие, — они убивали стукачей и бросали их в сортир. Потому что до весны его не выкачают, трупа не найдут. Вот какая была ситуация. А отсюда пошло выражение “мочить в сортире”. Это выражение означает “мочить стукачей”.
А Путин, конечно, ничего не понимая, — он, конечно, такой же уголовник, как я — тенор Большого театра, — но ему этот образ готовили… А с какой стати он будет ловить террористов по сортирам? Какие сортиры, откуда? Почему террористы должны ходить в один сортир?»
Версия достаточно интересная. Хотя мне это выражение не встречалось в данном контексте ни в общении со старыми жуликами, ни в лагерных мемуарах, допускаю, что Буковскому нечто подобное рассказывали бывшие узники особлагов или других зон ГУЛАГа. Правда, по сути возражение довольно нелепо, особенно восклицание «откуда сортиры?» и «почему террористы должны ходить в один сортир?». Это сродни утверждению того же Буковского, что «полоний производят только в России».
Между тем израильские журналисты и филологи высказали другую остроумную версию. Они считают, что фраза Путина напрямую соотносится с событиями 8 мая 1972 года, когда четверо палестинских террористов из группировки «Чёрный сентябрь» захватили воздушный пассажирский лайнер «Боинг-707» бельгийской компании «Сабена», который выполнял рейс Вена — Тель-Авив. Самолёт приземлился в аэропорту Лода, где 9 мая бойцы элитного секретного спецподразделения Генштаба Израиля «Сайерет Маткаль» под командованием Эхуда Барака (впоследствии — премьер-министра Израиля) провели операцию по освобождению заложников под названием «Изотоп». Интересно, что в ходе штурма был ранен боец спецназа Биньямин Нетаньяху — тоже впоследствии ставший премьер-министром Израиля.
И вот тут начинается самое интересное. Главарь террористов Али Таха Абу-Санайна во время штурма заперся в туалете лайнера. Эхуд Барак бросился на штурм в первых рядах спецназовцев:
«В 1972 году Барак командовал молниеносной (90 секунд) операцией по освобождению заложников “Сабены”. Первым ворвался в “Боинг-707”, промчался мимо рядовых террористов (если бы он начал стрелять в ближайшего, то дальние получили бы время для ответных действий, а те спецназовцы, которые бежали за Бараком, не имели бы возможности применить оружие), добежал до туалета, где заперся главарь, и застрелил его. В спецслужбах всего мира эта операция детально изучается. Поэтому у специалистов есть предположение, что знаменитая фраза президента России “мочить в сортире” — оттуда, из сортира “Сабены”».
По другим свидетельствам, главного террориста прикончил в сортире спецназовец Мордехай Рахамим. Он выбил дверь и не дал арабу выдернуть чеку гранаты; Абу-Санайна так и умер с указательным пальцем в кольце.
А в 2009 году во время предвыборной борьбы уже сам Эхуд Барак активно цитировал знаменитую фразу Владимира Путина, обращаясь к русскоязычным репатриантам: «Как у вас говорят, террористов мочить надо в сортире».
Думается, предположение израильтян не лишено оснований, учитывая службу Владимира Путина в КГБ-ФСБ, где, безусловно, операция «Изотоп» изучалась как пример первого в мире успешного штурма самолёта, захваченного террористами. Вспомним, что перед употреблением фразеологизма Путин, говоря о том, что уничтожать террористов будут везде, первым делом вспомнил именно аэропорт.
Но вот ведь ирония судьбы! Оказывается, почти за сто лет до громкого убийства арабского террориста в туалете похожий случай произошёл в России. Причём, так сказать, в зеркальном отражении: то есть именно террорист «замочил в сортире» стража правопорядка!
Началось всё с известного покушения народовольцев на императора Александра II 1 марта 1881 года. В результате нападения «бомбистов», как известно, государь погиб. Это стало сигналом к ужесточению борьбы против участников революционного движения. В числе особо рьяных преследователей членов «Народной воли» оказался жандармский капитан Георгий Порфирьевич Судейкин. Он активно и успешно занимался арестами и вербовкой агентов из народовольческой среды, которых затем использовал в качестве провокаторов. В конце концов Судейкина назначили на специально созданную должность инспектора столичного Охранного отделения. В распоряжении главжандарма оказалась полицейская агентура на территории империи. Подозреваемых свозили в столичную охранку из всех городов России. Охранка действовала крайне эффективно: только в ночь на 5 июня 1882 года в Петербурге было задержано сто двадцать революционеров, не осталось на свободе ни одного члена Исполнительного комитета — центр «Народной воли» оказался обезглавлен одним ударом.
Народовольцы приговорили Судейкина к смерти. Однако долгое время осторожный жандарм ускользал от покушений. И всё же народовольцам удалось 16 декабря 1883 года с помощью завербованного Судейкиным агента Сергея Дегаева попасть в квартиру своего главного врага. Дегаев выстрелил Судейкину в спину, раненый жандарм устремился в прихожую. Далее в дело вступили народовольцы Конашевич и Стародворский:
«Стародворский, не дождавшись Судейкина, выскочил из спальни и первый удар нанёс ему в дверях кабинета, затем догнал и ударил вновь, отчего инспектор рухнул на пол, но всё же нашёл в себе силы подняться и бросился в уборную. Наконец Стародворскому удалось вытащить его из укрытия и добить. Так он и остался лежать — ногами в прихожей и головой в ватерклозете рядом с разбитым ночным горшком».
Конечно, это всего лишь любопытная перекличка с жаргонным выражением, которое употребил Владимир Путин. Но между тем следует отметить, что жаргонизм «мочить» появился незадолго до убийства Судейкина. Наиболее раннее упоминание подобного арготического словоупотребления можно отнести к середине XIX века. Обратимся к роману Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы» (1864), где в одной из сносок автор рассказывает:
«Если какая-либо мошенническая операция производится на улице или во дворе или же вообще в таком месте, где один сообщник может подойти к другому и пройти мимо него, как посторонний человек, то в этих случаях употребляется особенный лозунг, и употребляется он преимущественно тогда, когда надо узнать, каково продвигается дело в начале: хорошо ли, удачно ли идёт оно, или предвидится опасность? Лозунгом служит как будто безотносительно сказанное замечание о погоде, смотря по времени и по обстоятельствам. Слово “погода”, сказанное одним, непременно вызывает подходящий ответ другого. Таким образом, если в ответ на погоду скажется серо, то это означает, что пока ещё неизвестно, как пойдет дело. Мокро и вода выражают полную опасность…»
В том же романе один из персонажей по имени Пров говорит:
«Нет, судари мои! — сказал он решительно. — На этакое дело нет вам моего благословения: это уж уголовщиной называется, дело мокрое, смертоубийство есть».
В примечании поясняется также: «Мокро — опасно». Таким образом, «сыро», «мокрое дело», «мокруха» — все эти слова используются для обозначения убийства, и наиболее раннее их толкование пока зафиксировано именно в романе Крестовского.
Разумеется, и жаргонные «мочить», «мочилово» тоже образованы именно от «мокрого дела». Или наоборот: «мокрое» — от слова «мочить». Правда, следует заметить, что в словарях жаргона догулаговского периода и времён ГУЛАГа форма «(за)мочить» не зафиксирована, в то время как отмечены «мокро», «мокрое дело», «мокрушник», «мокрота», «мокрятник», «мокрый гранд» (грабёж с убийством; «гранд», «грант» — грабёж)… В словаре В. Танкова «Опыт исследования воровского языка» (Казань, 1930) встречаем глагол «мокрить» — убить (правильнее — убивать, но мы цитируем словарь). Впрочем, в справочнике 1927 года «Словарь жаргона преступников (блатная музыка)», составленном начальником научно-технического отдела ОУР ЦАУ НКВД С. М. Потаповым «по новейшим данным», глагол «замочить» всё же указан, однако со значением «продать».
Увы, подавляющее большинство словарей указанного периода не могут считаться полноценными и даже вполне достоверными. Многие из них не включают в себя даже идиому «мокрое дело», известную со времён Ключевского, не говоря уже о другой уголовной лексике. Уже то, что словарь Потапова включил глагол «замочить», свидетельствует о том, что это словечко активно использовалось блатным миром как минимум с 1927 года. Что касается его «расшифровки», могу заметить, что множество слов и выражений уголовного жаргона Потапов трактовал неточно, неверно, а зачастую нелепо.
Кстати, сигнал «мокро» или «сыро» из арго петербургских мазуриков породил не только «мокруху» и «мочилово», но также сигнал тревоги — «вассер!» или «вассар!» — «убегай, скрывайся!». Первоначально этот сигнал звучал как «вода!» (от детской игры «вода-огонь»). Позднее в одесском жаргоне «вода» превратилась в «вассер» (что на немецком и идише значит «вода») и постепенно закрепилась в общероссийском уголовном языке, вытеснив русский эквивалент. Что касается «сырости», в арго существует поговорка «Чем меньше сырости, тем легче путь»: в блатном мире убийство не приветствовалось и осуждалось «воровским законом».
В завершение сказанного заметим, что «Петербургские трущобы» Крестовского можно считать в части описаний столичного «дна» и криминала того времени фактически документальным произведением. Писатель собирал материалы, в течение девяти месяцев выдавая себя за беспаспортного бродягу и проникая в самые злачные места Петербурга, общаясь с ворами, проститутками, нищими… Его «гидом» был Иван Дмитриевич Путилин — позднее знаменитый сыщик, а тогда 19-летний помощник полицейского надзирателя Сенного рынка. Крестовский стал блестящим знатоком воровского и нищенского жаргона, в этом смысле его не смог превзойти даже Владимир Иванович Даль. Так что информации, полученной от Крестовского, можно доверять безоговорочно.
«Мы бежали с тобою, замочив вертухая»
Но вернёмся всё же к эпопее о побеге зэков из воркутинских краёв. Пора бы наконец перейти к рассмотрению самого побега: ведь песня «По тундре» посвящена именно его описанию. Стало быть, и нам самое время поговорить о «побегушниках».
Тема эта непростая и, прямо скажем, безграничная. Ей можно (более того — должно) посвятить даже не отдельный том — собрание сочинений. Справедливо заметил в «Архипелаге ГУЛАГ» Александр Солженицын: «История всех побегов с Архипелага была бы перечнем невпрочёт и невперелист. И даже тот, кто писал бы книгу только о побегах, поберёг бы читателя и себя, стал бы опускать их сотнями».
Несмотря на то что очерк наш вроде бы должен быть ограничен воркутинскими лагерями, поневоле придётся копать несколько глубже, чтобы разобраться в психологии беглецов, толкавшей их на совершение побегов, в разновидностях побегов, в их особенностях, в том общем, что объединяло побегушников, в каком бы конце СССР они ни находились… Без такого обзора обойтись никак нельзя.
Однако начнём мы, как и обещали, с ответа на вопрос, почему нам так нужно было выяснить время возникновения в арго слова «вертухай».
Обратимся к тексту одного из вариантов песни, где повествуется о том, как двое уголовников («мы бежали с тобою» — то есть именно вдвоём, или «набздюм», как говорят блатные) совершили побег, убив при этом охранника, а их затем задержали и живыми притащили назад в лагерь, где один из них как ни в чём не бывало лежит в бараке и рассматривает надоевшего чекиста, который маячит на вышке. Да как же такое могло быть?! Суровые, жестокие времена сталинской кровавой диктатуры — и вдруг за убийство сотрудника правоохранительных органов не следует расстрел! Невозможно…
В том-то и дело, что
теоретически это было вполне возможно. Но — лишь в течение небольшого отрезка времени: с мая 1947 по январь 1950 года. Ни раньше, ни позже. Дело в том, что 26 мая 1947 года в Советском Союзе вступил в силу указ Президиума Верховного Совета СССР от «Об отмене смертной казни», который гласил:
«Историческая победа советского народа над врагом показала не только возросшую мощь Советского государства, но и прежде всего исключительную преданность Советской Родине и Советскому Правительству всего населения Советского Союза.
Вместе с тем
международная обстановка за истекший период после капитуляции Германии и Японии показывает, что дело мира можно считать обеспеченным на длительное время, несмотря на попытки агрессивных элементов спровоцировать войну.
Учитывая эти обстоятельства и идя навстречу пожеланиям профессиональных союзов рабочих и служащих и других авторитетных организаций, выражающих мнение широких общественных кругов, Президиум Верховного Совета СССР считает, что применение смертной казни больше не вызывается необходимостью в условиях мирного времени.
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Отменить в мирное время смертную казнь, установленную за преступления действующими в СССР законами.
2. За преступления, наказуемые по действующим законам смертной казнью, применять в мирное время заключение в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет.
3. По приговорам к смертной казни, не приведённым в исполнение до издания настоящего Указа, заменить смертную казнь, по определению вышестоящего суда, наказаниями, предусмотренными в статье 2-й настоящего Указа».
Отсылка к исторической победе советского народа звучит несколько странно: со времени окончания Великой Отечественной войны прошло более двух лет… Более очевидное объяснение: государству для восстановления экономики требовалось огромное количество рабочей силы, которую можно было нещадно эксплуатировать без всякой оплаты труда. Поэтому было признано нецелесообразным уничтожать преступников: пусть лучше загибаются в лагерях. Одновременно резко увеличились сроки наказания. Буквально через полторы недели был также введён в действие указ (вернее, два указа) «четыре шестых» (от 4 июня 1947 года), который ужесточал уголовную ответственность за кражи и хищения всех видов: виновные карались сроками от 10 до 25 лет лишения свободы. Армия рабов ГУЛАГа стала пополняться ударными темпами.
Однако уже 12 января 1950 года указом ПВС СССР смертная казнь снова вводится в Уголовный кодекс — опять же «ввиду поступивших заявлений от национальных республик, от профсоюзов, крестьянских организаций, а также от деятелей культуры». Вот как раз в этот самый короткий отрезок времени — менее чем три года — за убийство охранника можно было схлопотать не расстрел, а «четвертак» — 25 лет лишения свободы вдобавок к уже имевшемуся сроку.
Правда, на деле сотрудники лагерей подобной гуманности по отношению к беглецам не проявляли, предпочитая убивать их при попытке к бегству или при оказании сопротивления (даже если никакого сопротивления не оказывалось). Так было на протяжении всей истории ГУЛАГа — и даже в период отмены смертной казни. Некоторых, взятых живыми, впрочем, нередко предпочитали травить собаками на вахте или избивать.
Обратимся вновь к Солженицыну (в своём романе он отводит побегам особую главу, и мы не раз ещё будем к ней возвращаться):
«Пойманного беглеца, если взяли убитым, можно на несколько суток бросить с гниющим прострелом около лагерной столовой — чтобы заключённые больше ценили свою пустую баланду. Взятого живым можно поставить у вахты и, когда проходит развод, травить собаками. (Собаки, смотря по команде, умеют душить человека, умеют кусать, а умеют только рвать одежду, раздевая догола.) И ещё можно написать в Культурно-Воспитательной Части вывеску:
“Я бежал, но меня поймали собаки”, эту вывеску надеть пойманному на шею и так велеть ходить по лагерю.
А если бить — то уж отбивать почки. Если затягивать руки в наручники, то так, чтоб [на всю жизнь] в лучезапястных суставах была потеряна чувствительность (Г. Сорокин, ИвдельЛаг). Если в карцер сажать, то чтоб уж без туберкулёза он оттуда не вышел. (НыробЛаг, Баранов, побег 1944 года. После побоев конвоя кашлял кровью, через три года отняли левое лёгкое.)
Собственно, избить и убить беглеца — это главная на Архипелаге форма борьбы с побегами».
Травлю собаками описывает Семён Беленький в своих воспоминаниях «Лагерь. ОЛП-1». Действие происходит в 1949 году на строительстве Волго-Балтийского канала, побегушников двое — как и в песне «По тундре»:
«Побрели к вахте. Оттуда вышли надзиратель с конвоем. Началось построение и пересчёт, во время которого выяснилось, что двоих наших нет. Нас оставили стоять под дождем, а надзиратель и конвоиры стали звать недостающих и ходить по объекту, отыскивая их следы.
Вскоре выяснилось, что эти двое бежали. Оба были родом из Новгородской области. Один из них, Волков, мужик лет сорока с лишним, бородатый, мрачный и озлобленный. Он на всех ворчал, клял советскую власть и непрерывно дымил махоркой. Второй — молодой здоровый солдат, за какую-то провинность попавший сюда из группы советских войск за границей. Их побег был, конечно, актом отчаяния и безумия — ушли без подготовки, без еды, не зная местности, в холодное время года, захватив со стройки один топор… Что толкнуло их к этому, я не знаю. Может быть, просто заметили прореху в ограждении и не смогли удержаться от соблазна? А может быть, решили любой ценой уйти или погибнуть.
Мы стояли в строю под дождём, а конвой, надзиратель и прибывшая им на подмогу команда с собаками продолжали поиск… Часа через два побегушников нашли собаки. Избитых, с наручниками на заведённых назад руках, их бросили перед колонной. Конвоиры били их сапогами, а устав, стали травить собаками. Собаки рвали в клочья их одежду и вырывали из тел куски мяса.
Волков умер сразу. Конвойные это поняли и оттащили труп в сторону, а молодого продолжали терзать. Наконец, оба тела бросили в телегу и повезли. Колонна двинулась к жилой зоне.
Перед входом в лагерь нас обыскали. Во время обыска в “шлюзе” мы видели тела беглецов, валявшиеся под проливным дождём на земле у вахты, — мёртвого и живого вместе».
Впрочем, некоторым отчаянным лагерникам везло. Если побегушник попадал живым внутрь зоны, на территорию лагеря, убивать его уже было нельзя. У поэта Анатолия Жигулина, бывшего колымского зэка, есть замечательное стихотворение «Памяти друзей» (1987), где он описывает побег, в котором участвовал:
Я полностью реабилитирован.
Имею раны и справки.
Две пули в меня попали
На дальней, глухой Колыме.
Одна размозжила локоть,
Другая попала в голову
И прочертила по черепу
Огненную черту.
Та пуля была спасительной —
Я потерял сознание.
Солдаты решили: мёртвый,
И за ноги поволокли.
Три друга мои погибли.
Их положили у вахты,
Чтоб зэки шли и смотрели —
Нельзя бежать с Колымы.
А я, я очнулся в зоне.
А в зоне добить невозможно.
Меня всего лишь избили
Носками кирзовых сапог.
Сломали ребра и зубы.
Били и в пах, и в печень.
Но я всё равно был счастлив —
Я остался живым.
Случилось это в 1953 году, уже после восстановления смертной казни. По беглецам открыли огонь, как только они пересекли территорию зоны. Вот как описывает тот же самый случай Жигулин уже в автобиографической повести «Чёрные камни»:
«…Меня сильно ударило в левую руку (камень, что ли? — мелькнуло в уме), и я потерял сознание.
От пулемётной стрельбы весь лагерь проснулся. Один из бараков находился почти возле запретной проволоки, метрах в пяти и параллельно ей, напротив нас, лежавших в совсем неглубокой старой траншее. В окна барака было видно, что все мы лежим неподвижно, но пулеметчики, “как бы резвяся и играя”, прохлёстывают по нам очередь за очередью. Стрельба эта, как рассказывали мне потом, длилась минут двадцать. Затем к нам подошли поднятые по тревоге солдаты и офицеры охраны, лагерное начальство, надзиратели.
Я очнулся, когда меня волокли за ноги. Первая мысль была: почему включился свет? Потом я услышал множество голосов. Кто-то спросил:
— Все дохлые?
— Все, товарищ капитан.
— Это хорошо. Обыскать и положить возле ворот в зоне, чтобы все видели. И пусть лежат, пока не завоняют.
— Они быстро не завоняют, товарищ капитан. Температура ещё долго будет минусовая или около нуля.
— Ничего. Если и завоняют — это не беда. Это даже лучше в смысле культурно-воспитательной работы.
Я понял, что жив, но, разумеется, глаз не открыл и не пикнул… Волокли меня двое… Голова билась голым затылком о камни. Света (сквозь веки) и шума было много — десятки голосов.
— Откройте ворота!..
Огни прожекторов у вахты. Ах, скорее бы заволокли в зону! Не дай бог обнаружить стоном, что ты живой, — полоснут из автомата, добьют».
Стоп! А вот это — момент интересный. Почему Жигулину было так важно, чтобы его занесли в зону? Не всё ли равно, где тебя добьют… Пояснения даёт сам автор:
«Заволокли, бросили. Проскрипели закрывающиеся ворота. Теперь вся охра с оружием осталась за воротами, за зоной. Заходить в любую — жилую или рабочую — зону с оружием строго запрещалось и охре, и лагерной администрации».
Да, могут избить, покалечить — но не убьют. Таков порядок, и он соблюдался даже в расстрельные времена.
Хотя порою беглецам сохраняли жизнь по иным соображениям. По воспоминаниям некоторых лагерников, за живого беглеца полагалось денежное вознаграждение (его можно было далее использовать в качестве раба), а за мёртвого — «моральное поощрение» в виде грамоты, очередной лычки и т. п. Владимир Высоцкий отразил это в песне «Побег на рывок», посвящённой своему другу — легендарному зэку Вадиму Туманову, по мотивам рассказа которого и было создано это произведение:
Как за грудки, держался я за камни:
Когда собаки близко — не беги!
Псы покропили землю языками
И разбрелись, слизав его мозги.
Приподнялся и я,
Белый свет стервеня,
И гляжу — кумовья
Поджидают меня.
Пнули труп: «Сдох, скотина!
Нету проку с него:
За поимку — полтина,
А за смерть — ничего».
И мы прошли гуськом перед бригадой,
Потом — за вахту, отряхнувши снег:
Они обратно в зону — за наградой,
А я — за новым сроком за побег.
Но это уже — другая история. Что же касается варианта песни «По тундре», где лагерники бегут, убивая охранника, а затем невредимыми доставляются в зону той же самой охраной, подобная версия не могла возникнуть ранее второй половины 1947 года: иначе всё изложенное воспринималось бы как абсолютная нелепость.
Собственно, в «блатном пионерском варианте» подобная нелепость всё равно существует, учитывая суровые гулаговские реалии, о которых мы говорили выше. Однако на сайте «В нашу гавань заходили корабли» я встретил редкий и неожиданный вариант:
А на вышке всё тот же недобитый чекист…
То есть выходит, что «вертухай» был всего лишь ранен!
Однако порою участников вооружённых побегов брали живьём и судили. Так было, например, в случае с побегом группы Ивана Тонконогова в 1948 году. Из двенадцати человек в живых осталось двое, и они получили дополнительные сроки. Один из них, Солдатов, освободился в 1957 году.
Впрочем, меня не покидает мысль о том, что «вертухая» в песню вставил лично Андрей Макаревич в конце 1990-х. Во всяком случае, ранее подобная версия не встречалась ни у кого, не была на слуху, а после 1996 года она появляется в целом ряде сборников «блатной песни». Конечно, я могу и ошибаться. Но для песни, которая существует в десятках различных вариантов, это не так важно. Тем более что и в других куплетах песни встречаются значительные разночтения.
Побег — удел «духовитых»
Одно из них — в эпизоде с задержанием беглецов:
Дождик капал на рыла и на дула наганов,
Вохра нас окружила, «Руки вверх!» — говорят.
Но они просчитались, окруженье пробито:
Кто на смерть смотрит прямо, того пулей не взять!
Именно в таком виде исполняли куплет Олег Басилашвили и Валентин Гафт в фильме Эльдара Рязанова «Небеса обетованные». Напомню, что в комедии они играли бывших политических узников сталинского ГУЛАГа Дмитрия Логинова и Фёдора Елистратова.
Однако заметим: как раз «политики», «враги народа» предпочитали из лагерей не бегать. В значительной мере это были «люди системы»: бывшие коммунисты, комсомольцы, советские работники, воспитанные новой страной в рамках новой идеологии. Да, они считали, что осуждены неправильно, но надеялись на восстановление справедливости, на реабилитацию. Впрочем, и других причин отказаться от побегов было достаточно. Обо всём этом пишет Александр Солженицын:
«Наверно, в ГУЛаге посчитали однажды и убедились, что гораздо дешевле допустить в год утечку какого-то процента зэ-ка зэ-ка
[4], чем устанавливать подлинно строгую охрану всех многотысячных островков.
К тому ж они положились и ещё на некоторые невидимые цепи, хорошо держащие туземцев на своих местах.
Крепчайшая из этих цепей — общая пониклость, совершенная отданность своему рабскому положению. И Пятьдесят Восьмая, и бытовики почти сплошь были семейные трудолюбивые люди, способные проявлять доблести только в законном порядке, по приказу и с одобрения начальства. Даже и посаженные на пять и на десять лет, они не представляли, как можно бы теперь одиночно (уж боже упаси коллективно!..) восстать за свою свободу, видя против себя государство (своё государство), НКВД, милицию, охрану, собак; как можно, даже счастливо уйдя, жить потом — по ложному паспорту, с ложным именем, если на каждом перекрёстке проверяют документы, если из каждой подворотни за прохожим следят подозревающие глаза. И настроение общее такое было в ИТЛ: что вы там с винтовками торчите, уставились? Хоть разойдитесь совсем, мы никуда не пойдём: мы же — не преступники, зачем нам бежать? Да мы через год и так на волю выйдем! (амнистия!..) К. Страхович рассказывает, что их эшелон в 1942 г. при этапировании в Углич попадал под бомбежки. Конвой разбегался, а зэки никуда не бежали, ждали своего конвоя».
А вот ещё одно свидетельство по поводу теплушек, из которых не бежали зэки. Это — из воспоминаний Ольги Слиозберг, эпизод относится к осени 1939 года:
«Однажды вечером, на каком-то длинном перегоне, слетел от тряски замок с двери, и дверь теплушки раздвинулась во всю ширь… В смрадный, душный воздух переполненной теплушки широкими волнами влилось дыхание степи, аромат трав и цветов. Мы замерли. И вдруг раздался истерический голос: “Конвой, конвой, закройте дверь!” Поезд шёл, никто не слышал. Раздались ещё голоса: “Надо вызвать конвой, а то подумают, что мы сделали это сами, хотели бежать”».
В таком поведении нет ничего удивительного и парадоксального. Как справедливо замечает Солженицын, помимо «идеологических цепей», было и много других:
«Другая цепь была — доходиловка, лагерный голод. Хотя именно этот голод порой толкал отчаявшихся людей брести в тайгу в надежде, что там всё же сытей, чем в лагере, но и он же, ослабляя их, не давал сил на дальний рывок, и из-за него же нельзя было собрать запаса пищи в путь.
Ещё была цепь — угроза нового срока. Политическим за побег давали новую десятку по 58-й же статье (постепенно нащупано было, что лучше всего тут давать 58–14, контрреволюционный саботаж)…
Ещё держала зэков — не зона, а бесконвойность. Те, кого менее всего охраняли, кто имел эту малую поблажку — пройти на работу и с работы без штыка за спиной, иногда завернуть в вольный посёлок, очень дорожили своим преимуществом. А после побега оно отнималось.
Глухой преградой к побегам была и география Архипелага: эти необозримые пространства снежной или песчаной пустыни, тундры, тайги. Колыма, хотя и не остров, а горше острова: оторванный кусок, куда убежишь с Колымы? Тут бегут только от отчаяния.
…И кто найдёт в себе отчаяние передо всем этим не дрогнуть? — и пойти! — и дойти! — а дойти-то куда? Там, в конце побега, когда беглец достигнет заветного назначенного места, — кто, не побоявшись, его бы встретил, спрятал, переберёг? Только блатных на воле ждет уговоренная малина, а у нас, Пятьдесят Восьмой, такая квартира называется явкой, это почти подпольная организация.
Вот как много заслонов и ям против побега».
Да, пожалуй, одним из решающих аргументов в пользу бессмысленности побега было как раз то, что даже в случае удачи «политик» фактически бежал в никуда. Как поясняла уже упомянутая выше Ольга Слиозберг в случае с сорванным вагонным замком:
«Бежать не хотел ни один человек. Бежать могли люди, связанные с преступным миром, с политическими организациями. Ну что бы, например, могла делать я, если бы мне дали свободу, но не дали паспорта? Ведь дальше квартиры на Петровке в Москве мои мечты не шли, а на Петровке меня завтра же поймали бы и возвратили в тюрьму с дополнительным сроком.
Итак, мы стояли молча и смотрели на “свободу”, лежавшую на расстоянии вытянутой руки.
На ближайшем полустанке дверь закрыли, и видение свободы исчезло».
Виктор Бердинских в «Истории одного лагеря» (Вятлаг) тоже замечает: «Чаще всего “уходили в бега” уголовники. Политзаключённые совершали побеги крайне редко: подавляющее большинство “пятьдесят восьмой” твердо верили в конечное “торжество советской власти”, в ее “справедливость”, были убеждены в своей правоте и невиновности, ждали смерти Сталина и амнистии».
Жак Росси в своём «Справочнике по ГУЛАГу» тоже отмечает, что в побеги действительно уходили большей частью именно блатные: «Из лагерей… бегут прежде всего на всё готовые рецидивисты или более мелкие урки, для которых побег — своего рода экскурсия, после которой добровольно возвращаются. Очень редки побеги политических». Да и Солженицын пишет:
«Ворам… давали 82-ю статью (чистый побег) и всего два года, но за воровство и грабёж до 1947 года они тоже не получали больше двух лет, так что величины сравнимые. К тому ж в лагере у них был “дом родной”, в лагере они не голодали, не работали — прямой расчёт им был не бежать, а отсиживать срок, тем более что всегда могли выйти льготы или амнистия. Побег для воров — лишь игра сытого здорового тела да взрыв нетерпеливой жадности: гульнуть, ограбить, выпить, изнасиловать, покрасоваться. По-серьёзному бежали из них только бандиты и убийцы с тяжелыми сроками».
Однако я бы не был столь категоричен. Во-первых, не всегда для воровского сословия в ГУЛАГе была такая уж «лафа». Во время Великой Отечественной, по воспоминаниям многих лагерников, и на Колыме, и в Норильске, и в других местах воры вынуждены были работать; по этому поводу у них даже была специальная сходка. Дело в том, что в военное время действовала инструкция, согласно которой если заключённый не приступал к работе после двукратного предупреждения, караул имел право стрелять на поражение. И голодать в этот период «блатному братству» тоже порою приходилось. Однако в целом замечание верное в той части, что профессиональные уголовники чувствовали себя в местах лишения свободы зачастую не хуже (если не лучше), чем на свободе. Тюрьма и лагерь их не пугали. Не случайно и до сих пор чрезвычайно живуч уголовный афоризм-девиз — «Мой дом — тюрьма». Напомним, что по старому «воровскому закону» честный вор не мог иметь дом, имущество, обязан был отказаться от родных, не жениться… То есть он ничем не был связан со свободой.
И насчёт сроков за побег тоже не совсем верно. Да, до 1947 года с его драконовскими указами «четыре шестых» блатные бегали потому, что наказание в случае поимки было незначительным. Но после увеличения этого наказания бежать стали в разы больше! Именно потому, что терять всё равно нечего. Ну, добавят с «червонца» (или «пятнашки») до «четвертака» — и 10–15, и 25 лет лишения свободы для блатаря были почти одинаково громадными, необозримыми сроками, и ему нечего было терять.
Конечно, для «политиков» совершенно не характерно то мировоззрение, которое выражено в последнем куплете многих «традиционных» версий:
Мы теперь на свободе, о которой мечтали,
О которой так много в лагерях говорят.
Перед нами раскрылись необъятные дали,
Нас теперь не настигнет пистолета разряд!
Какие «дали»?! «Контрики» о такой свободе в лагерях не мечтали. Повторяю — были исключения, но они лишь подтверждали правила. Основная же масса «политиков» была инертна. Семён Милосердов, попавший в лесной лагерь прямо со студенческой скамьи, горько сетовал:
«Медвежатники» и «скокари»
Захватили в «зоне» власть:
— Эй вы, сталинские соколы,
Или с нами вам — не в «масть»?
Возле нар сижу и верю я,
Что не знал Он ничего
Про разбой кровавый Берии
И опричнину его,
И что банду ненавистную
Он прижмёт — держи ответ!
Мы сидим и ждём амнистию,
А её всё нет и нет…
Под сталинскими соколами автор подразумевал не боевых лётчиков военных лет (именно за ними в советской пропаганде закрепилось это гордое название), а бывших бойцов и командиров, попавших в лагеря после войны.
И вот тут я решительно не соглашусь с вышеупомянутыми исследователями. «Вояки» представляли собой несколько иное явление, нежели «контрики» в целом. Часть из них в первые послевоенные годы, к сожалению, влилась в ряды советского криминального мира. Попав в лагеря, с 1947 года немало таких людей становились «суками», помогая начальству зон бороться против воров (хотя, по большому счёту, «суками» в классическом понимании эти бывшие фронтовики не были, поскольку не являлись допрежь ворами, а потому и не могли порвать с воровскими традициями). Другие образовали в ГУЛАГе особую «масть», которая так и называлась — «вояки». В воспоминаниях многих лагерников можно встретить упоминание о таких сидельцах, с которыми воры предпочитали не связываться.
Так вот, бывшие военные нередко вместе с блатными уходили в побеги, поднимали вооружённые восстания. А между тем большинство таких «вояк» «чалились» именно по политической 58-й статье за измену Родине, шпионаж, контрреволюционную деятельность, восхваление иностранной техники и прочее! «Политиками» были и повстанцы всех видов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии — от власовцев до бандеровцев. Даже немало уголовников попадали в лагеря по политическим статьям.
Да, конечно, песня «По тундре» по настрою, тональности изначально всё-таки была блатной. Однако не будем сбрасывать со счетов и «политиков», и «бытовиков». О них нам ещё предстоит поговорить отдельно.
«Вохра нас окружила…»
Пришла пора наконец поговорить о побегах. Куда же без них в такой специфической песне? Разумеется, у многих побегушников были свои причины рваться на волю. Однако стремление к свободе для человека — чувство отчасти иррациональное. Поэтому порою бежали даже люди, которым не было смысла совершать подобный поступок. Случались побеги за несколько месяцев до освобождения, или у «малосрочников», которые, как говорится, «свой срок могли на одной ноге у параши отстоять». В «Архипелаге ГУЛАГ» по этому поводу замечено:
«Чехов говорит, что если арестант — не философ, которому при всех обстоятельствах одинаково хорошо (или скажем так: который может уйти в себя), то не хотеть бежать он не может и не должен!
Не должен не хотеть! — вот императив вольной души. Правда, туземцы Архипелага далеко не таковы, они смирней намного. Но и среди них всегда есть те, кто обдумывает побег или вот-вот пойдёт. Постоянные там и сям побеги, пусть неудавшиеся — верное доказательство, что ещё не утеряна энергия зэков».
Существовало общее определение побега — «переменить участь» (или «поменять судьбу»). Выражение старое, каторжанское, но вот дожило до сталинских времён. А ещё весёлый лагерный люд говаривал в таких случаях издевательски: «Остался должен прокурору». Впрочем, ту же самую присказку использовали в отношении тех, кто умер в лагере, недотянув до конца срока: «Это был один из товарищей Спирина, голодное изнурение которого дошло уже до необратимой степени “Д-3”, и он, пролежав в нашей больнице месяца полтора, умер. Про него ещё говорили, что он “остался должен” прокурору больше двенадцати лет» (Григорий Демидов. «Дубарь»).
Однако были и свои, региональные особенности. Как писал Жак Росси в «Справочнике по ГУЛАГу»: «В умеренной полосе СССР самым благоприятным сезоном для побегов считают весну и лето. В Заполярье же предпочитают ждать, пока замёрзнут непролазные болота и исчезнет мошкара, а снежный покров тундры станет твёрдым».
На Колыме побег называли — «уйти во льды» или «встать на лыжи» («лыжи навострить» — подготовиться к побегу). Это означало чаще раннюю весну. Однако бегали и коротким (два месяца) колымским летом. Так что существовал и другой вариант обозначения побега — «уйти во мхи».
Вот что пишет по этому поводу Варлам Шаламов в очерке «Зелёный прокурор»:
«Неволя становится невыносимой весной — так бывает везде и всегда… Путешествие по тайге возможно только летом, когда можно, если продукты кончатся, есть траву, грибы, ягоды, корни растений, печь лепёшки из растёртого в муку ягеля оленьего мха, ловить мышей-полёвок, бурундуков, белок, кедровок, зайцев…»
Кстати, о «зелёном прокуроре». Это ироническое выражение тоже возникло ещё на царской каторге и стало традиционным для многих поколений сидельцев. Солженицын отмечает: «“Зелёным прокурором” называют зэки побег. Это — единственный популярный среди них прокурор. Как и другие прокуроры, он много дел оставляет в прежнем положении, и даже ещё более тяжёлом, но иногда освобождает и вчистую. Он есть — зеленый лес, он есть — кусты и трава-мурава».
В Воркуте под «зелёным прокурором» подразумевались поздняя весна и лето. То есть «когда тундра наденет свой зелёный наряд».
Впрочем, если говорить о республике Коми и о Воркуте с окрестностями, надо заметить, что песенные побегушники выбрали не лучший способ — по тундре, да ещё по железной дороге… Понятно, что от тундры никуда не деться. И Воркута в тундре расположена, и многие другие лагеря. В этом смысле характерен отрывок из «Истории одной зечки» Екатерины Матвеевой:
«…Около неё уселась сама Манька Лошадь — воровка в законе, уважаемая всей воровской кодлой.
— Инта скоро! — сказала она…
— А Воркута когда? — спросила Надя…
— Воркута — это дальше. Сперва ещё Кожва, Печора, Абезь, потом Инта, а потом уж Воркута.
— А что, и в этих местах лагеря?
— Ещё какие! На Кожве, к примеру, лесоповал — страсть. Зеки там, как муховня, дохнут, работа — каторжная, еда…!
— Сколько тащимся, и всё лагеря да лагеря…
— Считай, от самого Горького; Унжлаг, Каргополаг, а уж от Котласа сплошь лагеря, до самой Воркуты одни вышки да проволока».
Песенные беглецы могли «оторваться» из любого лагеря, расположенного в окрестностях дороги «Воркута — Ленинград». Но скорее всего довольно близкого к тайге: об этом можно судить по некоторым деталям. Хотя бы по строке «Эта тундра без края, эти редкие ели». Дело в том, что в тундре ели, равно как и деревья иного рода, не растут: это просто невозможно в условиях вечной мерзлоты и постоянных жутких ветров. Один из пользователей Интернета даёт следующее пространственное описание: «Вокруг Воркуты уже за 4–5 часов на поезде до неё сплошная тундра». А вот что вспоминает поэт Виктор Василенко о лагере в Инте, где он отбывал свой срок в 1951 году:
Я вспоминаю ёлку,
живую, возле крыльца
одиннадцатого барака,
жалкую, оледенелую,
с жалкими иглами на худых ветках.
…В тундре она была одна.
Я удивлялся,
как ветры и вьюги
ей жить позволили!
…Ёлочка оставила овраг
и выросла под стенами барака,
она была — одна!
То есть существование ёлки в тундре — это фактически чудо. Однако не следует забывать, что ближе к югу тундра переходила уже в лесотундру, там росли уже и ели, и карликовые лиственницы, которые могли достигать высоты до трёх метров с диаметром ствола у основания до шести сантиметров, и даже редкие сосны. То есть в этом смысле песня вполне отражает действительность. Но бежать вдвоём
по железной дороге — это явно самоубийственно, поскольку из поезда пространство вокруг просматривается на многие километры, так что побегушники могли быть очень быстро обнаружены. Разве что маршрут вдоль железной дороги (в некоторых версиях именно так — «вдоль») был недолгим: как у Григория Шурмака — «впереди ждёт спасенье — золотая тайга». В более развёрнутом виде картина рисуется в одном из вариантов, размещённых на сайте «В нашу гавань заходили корабли»:
Дождик капнул на руку и на ручку нагана,
Там, вдали, есть спасенье — золотая тайга.
Там спасенье от зоны, рудников окаянных,
От смертей, что зовутся: холод, пуля, цинга.
Собственно, если принимать во внимание куплет с «пробитым окружением», подобное возможно именно разве что в тайге: на открытом пространстве тундры у двоих беглецов, окружённых военизированной охраной, вырваться нет ни единого шанса. Вот и в версии, которую мы цитировали выше, захват беглецов происходит именно в тайге, где им по лицам хлещут ветки (затем побегушников доставляют в лагерь поездом):
Ветки хлещут по рылу, сзади воет погоня,
Вохра нас окружила, «Руки в гору!» — кричат.
Эх ты, краткая воля! Эх ты, гиблая доля…
Бьют колёса по рельсам и на стыках стучат.
А теперь самое время поговорить о «вохре». Тема достаточно интересная и не слишком изученная. Так, Андрей Сёмин в книге «Чужие песни Владимира Высоцкого» поясняет:
«ВОХР — в расшифровке аббревиатуры в настоящее время царит путаница, в разном контексте может подразумеваться охрана вооружённая, военизированная, ведомственная, вневедомственная и пр. Между тем сокращение появилось на свет 28 мая 1919 г. с принятием Советом рабоче-крестьянской обороны постановления об объединении всех войск вспомогательного назначения на базе войск ВЧК и передаче их в подчинение НКВД, с переименованием в войска внутренней охраны (ВОХР). 31 января 1920 г. на войска ВОХР возложена охрана лагерей принудительных работ. С тех пор в блатной среде название ВОХР (ВОХРа, ВОХРы) прочно закрепилось за охранниками тюрем, лагерей и т. д., несмотря на то, что охрана мест заключения впоследствии осуществлялась различными органами».
Тут Сёмин не совсем прав. Блатные, как и остальные лагерники, вполне отличали ВОХР, то есть военизированную охрану, от других видов охраны — прежде всего, осуществляемой бойцами-срочниками, к каким бы министерствам и ведомствам они не принадлежали в разные периоды времени. В этом отношении показательно определение французского узника сталинских лагерей Жака Росси, данное им в знаменитом «Справочнике по ГУЛАГу»:
«Военизированная охрана мест заключения… вохра; охра. До объединения всех лагерей в НКВД СССР в 1934 г., НКЮ и НКВД РСФСР союзных республик имели свою собственную В… В. действует только на территории места заключения (ср. взвод, дивизион охраны) и несёт караульную, конвойную и надзирательскую службы (этапы сопровождают караульные войска)… В зависимости от местных условий, численность В. составляет 3–5 % или 7,5 % от числа заключенных. Считают, что во время 2-й мировой войны В. насчитывала около 3 миллионов человек… Служат в В. вольнонаёмные, по 3-летним возобновляемым договорам. Первый договор чаще всего подписывают демобилизующиеся солдаты из колхозников (если нет другого способа избежать возвращения в колхоз). Случается, что, прибыв на место, новичок испытывает настоящее потрясение, но политруку В. обычно удаётся помочь ему освободиться от моральных сомнений. Суть политзанятий, проводимых с бойцами В., отражена в лозунге, красующемся в каждой казарме (со времён ежовщины): “Боец В., будь бдителен! Помни, что охраняешь изменников Родины, шпионов, диверсантов, бандитов…” В годы 2-й мировой войны много вохровцев было отправлено на фронт и заменено ранеными фронтовиками, которые к заключенным относились заметно человечнее… До 30-х гг. служили в В. также заключённые-бытовики… Офицерский состав В. — кадровые работники НКВД-МВД СССР… Имелся ВОХР ИТЛ, ВОХР ГУМЗ, ВОХР НКПС (по охране лагерей и тюрем наркомата путей сообщения)».
Говоря о вольнонаёмных парнях из деревень, обратим внимание на то, что во многих версиях песни «вохра» использует выражение «Руки в гору!» — типично малороссийское, украинское. Так же, как и в знаменитой уголовной балладе «Гоп со смыком», которая родилась именно на Украине:
Забежали мы в контору,
Закричали «Руки в гору!
А червонцы выложить на стол!»
Вообще-то выражение это не подразумевает гору в прямом смысле слова. Оно восходит к церковнославянскому наречию «горе», что значит «ввысь», «вверх», «к небу». Возвести очи горе — поднять глаза вверх, воздеть руки горе — поднять руки к небу. Однако так получилось, что именно на Украине весёлые налётчики стали использовать переиначенный церковный образ вместо окрика «руки вверх!». Возможно, и до них это выражение в Малороссии было известно и популярно, но мне удалось его впервые встретить в письменной форме лишь в источниках времён Гражданской войны на Украине. Современные словари жаргона дают идиому «руки в гору» как уголовную, однако её активно использовали и сотрудники мест лишения свободы, что зафиксировано в блатной песне о побеге. Это косвенно подтверждает сведения о значительном количестве лагерных вертухаев из числа жителей украинских деревень.
Следует уточнить и по поводу наличия заключённых среди вохровцев. В другом месте справочника Росси уточняет: говоря о том, что в 1930-е годы среди вохровцев имелись заключённые бытовики, он подразумевал не
военизированную, а
внутреннюю охрану лагерей, более известную как «самоохрана»: «Внутренняя охрана мест лишения свободы — “команда надзора, состоящая из самих лишённых свободы… может быть вооружена”» (ИТК-33, ст. ст. 86, 87). Эта «внутренняя охрана» была отменена во время Великой чистки 1936 года, но затем снова восстановлена в виде самоохраны.
Да и численность ВОХР во время Великой Отечественной войны (3 миллиона человек) — что-то из области заоблачной фантастики, разумеется, не имеющей ни малейшего отношения к действительности. Куда более реалистичны сведения, собранные Солженицыным от лагерников:
«С огромным разворотом Архипелага после 1937 года и особенно в годы войны, когда боеспособных стрелков забирали на фронт, — всё трудней становилось с конвоем, и даже злая выдумка с самоохраной не всегда выручала распорядителей. Одновременно с тем зарились получить от лагерей как можно больше хозяйственной пользы, выработки, труда — и это заставляло, особенно на лесоповале, расширяться, выбрасывать в глушь командировки, подкомандировки — а охрана их становилась всё призрачней, всё условней.
На некоторых подкомандировках Устьвымьского лагеря уже в 1939-м вместо зоны был только прясельный заборец или плетень и никакого освещения ночью! — то есть ночью попросту никто не задерживал заключённых. При выводе в лес на работу даже на штрафном лагпункте этого лагеря приходился один стрелок на бригаду заключённых. Разумеется, он никак уследить не мог. И там за лето 1939 года бежало семьдесят человек (один бежал даже дважды в день: до обеда и после обеда!), однако шестьдесят из них вернулось. Об остальных вестей не было».
То есть во время войны охрана заключённых не отличалась массовостью. Это подтверждается и косвенными данными: известно, например, что к середине 1944 года из ГУЛАГа было передано на укомплектование Красной армии 975 000 человек заключённых и 117 000 кадровых сотрудников НКВД, в том числе 93 500 человек из военизированной охраны. Это за три года! Брать было не из кого.
Особое внимание следует обратить на замечание Росси о том, что военизированная охрана имелась в самых разных структурах — ИТЛ, ГУМЗ, НКПС… Отсюда возникает путаница. Так, в 2001 году в сборнике «Блатные песни с комментариями и примечаниями Фимы Жиганца» в пояснении термина «вохра», использованного в песне «По тундре», я написал: «Вохра, ВОХР — военизированная охрана мест заключения. В песне неточность: побегушников отлавливали солдаты внутренних войск, а вохровцы набирались из вольнонаёмных и несли караульную, конвойную и надзирательскую службу. С 50-х годов ВОХР в местах лишения свободы постепенно заменён военнослужащими внутренних войск». И через некоторое время получил вполне резонное возражение на портале «а-pesni»:
«Фима Жиганец… указывает, что беглецов должна была ловить не вохра, а бойцы внутренних войск, но в мемуарах лагерников упоминается именно вохра:
“Дня через два выстроили всех и пересчитали по спискам 2-го отдела. Бригад не выводили на работы, а чем-то заняли в зоне. Вся ВОХР с собаками прочесывала тайгу вокруг. Беспрерывно гудела сирена, не то жалобно, не то тревожно.
— Какой может быть побег, лето-то прошло! — раздражённо толковали блатные. — Заблудились они в ихних тайгах!
«Они» были пойманы. Утром нестройная процессия бригад прошла мимо двух трупов, неестественно вытянувшихся на земле. Лица были прикрыты шапками. (Хелла Фришер. В нашей жизни много раз — «так трудно еще не было» // Доднесь тяготеет. Вып. 1. Записки вашей современницы. М.: Советский писатель, 1989. С. 439)”».
Замечание вполне резонное. Просто следует учитывать, что в воспоминаниях чешской коммунистки Хеллы Фришер, которые относятся к 1942 году, речь шла об операции в окрестностях лагеря («прочёсывали тайгу вокруг»), и участие вохровцев в этих локальных поисках вполне закономерно, не выходит за рамки их должностных обязанностей.
В то же самое время надо заметить, что, скажем, ВОХР ГУМЗ (Главного управления мест заключения) имел более широкие полномочия и действовал в полномасштабных операциях по поискам беглецов — вкупе с другими силовыми структурами. А для подавления восстания Марка Ретюнина использовалась ВОХР Севжелдорлага, хотя участок «Лесорейд», где вспыхнули волнения, отношения к железным дорогам не имел. По воспоминаниям колымского сидельца Ивана Павлова, для предотвращения побегов на Колыме организовали «летучие отряды» вохровцев — кавалерийские взводы, которые прочесывали тайгу. Также в условиях нехватки кадров к этому могли подключать даже лагерный ВОХР, а не военизированную охрану ГУМЗ.
Правда, вохровцы, да и солдаты-срочники нередко не отличались высокой дисциплиной. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» привёл один из примеров вохровской безответственности:
«Много расскажут случаев таких, как с бухгалтером Ортаусского отделения Карлага: послали его с отчётом за 40 км, с ним — одного конвоира. А назад пришлось ему везти в телеге не только пьяного вдрызг конвоира, но и особенно беречь его винтовку, чтоб не судили того дурака за потерю».
Случай с бухгалтером замечателен тем, что почти буквально повторяет сюжет «Похождений бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, когда Швейк затащил двоих своих конвоиров в трактир, где «бывают уличные девки и другие приличные люди», а затем доставил охрану прямиком в пункт назначения к фельдкурату Отто Кацу: «Конвоиров под руки вёл уже Швейк. Это стоило ему большого труда. Ноги у них всё время подкашивались, солдат беспрестанно тянуло ещё куда-нибудь зайти. Маленький толстяк чуть было не потерял пакет, предназначенный для фельдкурата, и Швейку пришлось нести пакет самому… Сверхчеловеческими усилиями ему удалось наконец дотащить их до Краловской площади, где жил фельдкурат…» Воистину: мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
Нередко охранники не отличались рвением и при ликвидации побегов. И это ещё слабо сказано. Виктор Бердовских приводит пример из истории Вятлага: «9 июля 1950 года с 15-го ОЛПа бежали 7 заключённых. Но выставленная на ликвидацию побега розыскная группа вместо поиска беглецов организовала пьянку в деревне Куницыно, в результате чего пьяный солдат Баранов застрелил своего сослуживца Распутько. Вторая розыскная группа потеряла служебную собаку (как выяснилось впоследствии — её “зарубили” беглецы) и также вернулась без результата…»
Впрочем, у чекистов Севера был мощный союзник — местное население, аборигены. Они активно помогали ловить беглецов. Почему?
А вот это уже — повод для отдельного разговора…
Охотники за «головками»
Уже не раз помянутый нами знаток и исследователь ГУЛАГа Жак Росси в статье «ловцы людей» своего знаменитого справочника отмечает: «Ловцы людей — частные лица, прирабатывающие охотой на беглецов… В царское время охотой на беглых каторжан промышляли главным образом сибирские охотники-автохтоны, для которых как беглец (русский, украинец, кавказец), так и власть, платящая за его поимку, были одинаково чужды… Об отношении же русского населения Сибири сказано в старой каторжной песне: “Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой”. Зная, что некоторые беглецы опасаются встречи с жителями (которых могут затем допрашивать власти), сибирские крестьяне выставляли на завалинку хлеб
[5]и молоко на случай, если ночью будет проходить беглец. В связи с организацией в начале 20-х гг. первых крупных советских лагерей в северной России ГПУ стало вербовать л.л. прежде всего среди населения Карелии, через которую ведёт путь в Финляндию. За каждую сданную голову чекисты платили деньги (около полумесячного заработка рабочего) и товары: 2 пуда муки, 4 фунта сахару и т. д. … В степях же Казахстана можно за них получить кирпичный чай и др. ценимые там товары. Из-за постоянного недостатка самых необходимых товаров охота на беглецов — доходный промысел по всей территории СССР… Заработанные охотником деньги и товары пересылаются после идентификации головки тем лагерным управлением, за которым числился беглец. Соответствующие документы оформляются счетоводами, которыми чаще всего бывают заключённые».
Термин «головки» француз тоже поясняет подробно:
«За поимку беглых лагерников НКВД-МВД выплачивает охотникам Северной Сибири премии в деньгах и в дефицитных товарах (сахар, мука, мануфактура, охотничьи принадлежности). Т. к. поймать беглеца, а потом вести его по тундре трудно и опасно, его пристреливают, отрезают голову и прячут от зверя. Когда
соберётся достаточно, мешок с “головками” погружают на санки или в лодку и отвозят “заказчику”. Мешок выглядит как если бы в нём были арбузы
[6]. Если случайно встреченный человек, новичок в советской тундре, спросит — что везёшь, охотник ответит — головки… Вот слова одного охотника: “…бутылка пива, пачка чая и 50 рублей… надо принести начальнику отрубленную головку. Раньше достаточно было принести правое ухо. Теперь этого уже слишком мало”».
В других источниках также есть сведения о том, что первоначально охотники за беглецами приносили лагерному начальству отрубленную руку беглеца, чтобы можно было определить личность заключённого по отпечаткам пальцев. Но вскоре северяне стали жульничать: одну руку они приносили в лагерь, другую — в местные органы правопорядка, чтобы получить две премии. Как в том же «Швейке» Гашека пациент сумасшедшего дома выдавал себя за Кирилла и Мефодия, чтобы получать двойную порцию… Поэтому решили всё же «отоваривать» только «головки».
Нельзя сказать, чтобы в этом смысле советские чекисты оказались первооткрывателями. Такую же «систему отчёта» использовали, к примеру, «порубежники» Курской земли ещё в XVII веке. Напомним, что именно сюда, на московскую «украйну», то есть окраину, на пограничную засечную полосу Иван Грозный ссылал в первую очередь «кромешников» и бунтарей. Здесь сложился особый тип людей, которых прозывали «севрюками». Писатель и краевед Евгений Марков характеризовал их следующим образом:
«Постоянная жизнь на пустынных рубежах русской земли, среди глухих лесов и болот, вечно на стороже от воровских людей, вечно на коне или в засаде, ежедневный риск своей головой, своей свободой — выработали из севрюка такого же вора и хищника, незаменимого в борьбе с иноплеменными ворами и хищниками, все сноровки которых им были хорошо известны, как свои собственные».
А в одной из исследовательских работ сотрудники Курского археологического музея сообщают любопытные детали: «Уложив в стычке противника, курский порубежник в качестве подтверждения своей доблести предъявлял воеводе уши, а нередко и отрезанную голову врага». Не правда ли, знакомая история? Впрочем, такие зверские традиции встречаются у многих народов. Снимали же индейцы скальпы с поверженных врагов и по их количеству судили об отваге воина…
Надо отметить, что практика отрезания голов своеобразно отразилась и в блатном фольклоре. Так возникло, например, одно из популярных зэковских выражений — «принести голову под мышкой». Это — указание на бессердечность зоновских «лепил» (врачей), которые не дают освобождения от работы даже тяжелобольному человеку: «Эта тварь гнойная тебя не сактирует
[7], даже если ты ему голову под мышкой принесёшь!» Поговорка в разных вариациях известна не только среди арестантов, но и среди «вольняшек», а также сотрудников колоний. Например, у Сергея Довлатова в «Зоне»:
«Попробуйте зайти к доктору Явшицу с оторванной головой в руке. Он посмотрит на вас унылыми близорукими глазами и равнодушно спросит:
— На что жалуетесь, сержант?»
Скорее всего, образ оторванной (или отрезанной) головы возник в арестантском мире именно под впечатлением «охоты за головками» (не случайно Росси отмечал, что счёт «головкам» вели заключённые).
Есть у зэков и другое расхожее выражение-угроза: «Я тебе голову оторву и дам в руки поиграться!» Корни его скорее всего те же, что и в предыдущем случае. Зэки легко перенимали «нравственные принципы» гулаговского начальства. Да и в самой арестантской среде обычай отрезания головы в качестве наказания был распространён. Часто голову провинившегося отрезали пилой или пилорамой (отсюда выражение «пустить под пилораму» — расправиться с кем-то). Так что подобный образ был для уголовника чем-то достаточно будничным, даже обыденным.
Любопытен в этом смысле эпизод из воспоминаний известного актёра Евгения Яковлевича Весника — бывшего фронтовика:
«Восточная Пруссия, 1945 год. Как сейчас помню: не даёт немецкий пулемётчик, оставленный в арьергарде, провезти через поляну наши стопятидесятимиллиметровые пушки-гаубицы — тяжёлые, неповоротливые, прицепленные к мощнейшим американским тракторам “Катер-Пиллер Д-6”. Рядовой Кузнецов Василий — “беломорканальник”, осуждённый на 10 лет (как попал он на фронт — прямо из лагеря или побывав в штрафной роте и искупив свою вину кровью, — не помню), получил от меня приказ: пробраться к дому, из которого ведётся огонь, и ликвидировать огневую точку. Через полчаса пулемёт замолк. А ещё через десять минут Вася принёс затвор немецкого пулемёта и… голову стрелявшего немца.
— Боже мой! Зачем голова? — вскричал я.
— Товарищ гвардии лейтенант, вы могли бы подумать, что я затвор с брошенного пулемёта снял, а стрелявший сам ушёл… Я голову его принёс как факт, как доказательство!»
А далее Весник комментирует случившееся:
«Я представил его к ордену Славы и первый раз видел, как он плакал! Навзрыд!
Убеждён, что Вася в преступный мир не вернулся. Свою целительную роль сыграли доверие и поощрение».
Я рад бы разделить мнение Евгения Яковлевича. Однако душу мою терзают смутные сомнения… Уже из рассказа очевидно, что герой Вася не оставил своих прежних замашек. Для него отрезание чужой головы было поступком совершенно естественным, вроде намазывания масла на бутерброд. В самом деле: нужно доказательство — получите! Так же естественно зарезать человека, который чем-то мешает, не то сказал или не так поступил. На этот счёт у блатарей существует ёмкая поговорка: «Ему человека зарезать — как высморкаться»…
Так что присказка об оторванной голове — не столько гипербола, гротеск, сколько реальное отражение мировоззрения уголовников.
Учитывая это, можно понять и эвенков, якутов, чукчей, ненцев и прочих северных аборигенов. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» отмечал:
«Когда-то… якуты хорошо относились к заключённым и брались: “Девять солнц — я тебя в Хабаровск отвезу”. И отвозили на оленях. Но потом блатари в побегах стали грабить якутов, и якуты переменились к беглецам, выдавали их.
Враждебность окружного населения, подпитываемая властями, стала главной помехой побегам. Власти не скупились награждать поимщиков (это к тому же было и политическим воспитанием). И народности, населявшие места вокруг ГУЛАГа, постепенно привыкали, что поймать беглеца — это праздник, обогащение, это как добрая охота или как найти небольшой самородок.
Тунгусам, комякам, казахам платили мукой, чаем, а где ближе к жилой густоте, заволжским жителям около Буреполомского и Унженского лагерей, платили за каждого пойманного по два пуда муки, по восемь метров мануфактуры и по несколько килограммов селёдки. В военные годы селёдку иначе было и не достать, и местные жители так и прозвали беглецов “селёдками”. В деревне Шерстки, например, при появлении всякого незнакомого человека ребятишки дружно бежали: “Мама! Селёдка идёт!”»
Другими словами, и усилиями власти, и усилиями самих уголовников представители народов Севера стали рассматриваться беглецами исключительно как враги. Власть умело стравливала одних с другими:
«Советская власть не только стала сурово наказывать беглецов, но и запугивать население за оказание им помощи, а вскоре, используя неотъемлемую черту социализма — обнищание народных масс, были установлены заманчивые премии за убийство беглецов… В результате беглец считает, что если он не убьёт заметившего его человека, то тот непременно убьет его» (Жак Росси).
Сомнения беглецов были небезосновательны. Даже гостеприимный хозяин легко мог оказаться безжалостным убийцей. Николай Добротворский в очерке «Как бежали из колымских лагерей» пишет: «Среди бывших сидельцев Колымы ходит рассказ о добром чукче, который всегда с радостью приглашал к себе в ярангу погреться беглого зэка. Поил его чаем, отогревал. А потом уже спящему гостю садил пулю в лоб. Так и зарабатывал себе на хлеб, охотясь за головами».
Впрочем, порою аборигены оказывались более «гуманными» и «цивилизованными», доставляя трупы беглецов, что называется, в целости и сохранности. Екатерина Матвеева в «Истории одной зечки» описывает соответствующий эпизод — речь идёт как раз о воркутинских лагерях:
«У ворот стояла упряжка оленей и длинные ненецкие сани… На крыльце в малицах и пимах сидели двое ненцев и ели сырое мороженое мясо. Ловко и быстро орудуя маленьким ножичком у самых губ, ненец отрезал кусочки.
…На длинных и узких санях лежала поклажа, привязанная в несколько раз сыромятными ремнями. При свете фонаря в санях что-то тускло поблёскивало, как кусочек стекла на земле.
“Что это они везут такое?” — полюбопытствовала Надя и нагнулась над поклажей. И тут же в ужасе отшатнулась. На неё смотрел человеческий глаз. Взглянув ещё раз, она увидела, что на санях лежат два человеческих тела. Не помня себя от страха, она бросилась в пекарню. Мансур широкой деревянной лопатой высаживал готовые буханки из печи.
— Кто это у них?! — завопила она, влетая в дверь… — Два человека там, у них в санях!
— Были два человека, а теперь два чурбана!
— Замёрзли?
— А ты как думаешь? Сто тридцать километров от самого Карского по морозу пёрли связанных?
— Зачем их связали? Кто они?
— Ну? Чего ты? Заключённые это. Беглые, поняла? Вышли на стойбище к чумам, обрадовались, домой пришли! А их поймали — теперь в милицию сдадут. Спирт, табак, чай, сахар получат. И денег дадут, мануфактуру. Неплохо?
— Как же можно! Они ведь живые люди! — воскликнула потрясённая Надя.
— Маленькая, глупенькая ты ещё, сестричка! Сама подумай, кто пустится в побег? Долгосрочник, верно? А кто долгосрочник? Убийца, бандит, за тяжкие преступления, верно?
— Нет, неверно! Сколько у нас женщин сидят с большими сроками!
Мансур присвистнул:
— Скажешь тоже! Сравнила! То политические, люди образованные, знают хорошо, что за побег получат.
— Знают! — с горечью согласилась Надя. — Знают, что знакомые продадут из страха, родные откажутся, а кто не откажется, сам сядет!
— Эй, сестрица! Вредно тебе с политическими общаться. Крамолы нахваталась, ишь, как заговорила! — добродушно засмеялся Мансур, не то порицая ее, не то одобряя. — Забирай свой хлебушек и кати… айда!
Разгрузив хлеб, Надя поспешила всё рассказать Вольтраут, но та даже бровью не повела, сказала только:
— Правильно! Чего было лезть к дикарям, все они давно распропагандированы и знают, что до революции была одна лампочка Ильича, а теперь даже зоны днём и ночью освещены и дышат народы Севера свободно. И всё это дала им Советская власть, а зэки враги, и их надо отлавливать.
— Зачем же замораживать, пусть судят их по закону.
— Не надеялись, что сами пойдут сдаваться.
— Ты смеёшься, Валя, а у меня от твоего смеха мороз по коже…»
Бывало, охотники доставляли беглецов и живыми — всё зависело от ситуации. Сергей Снегов, вспоминая в рассказе «Побег с коровой» о норильских лагерях, приводит беседу с побегушником Трофимом, который сообщает, как после долгих блужданий сбежал и от своих подельников:
«— Уже на третий день повстречался с двумя охотниками на лыжах — один постарше, другой пацан, сынишка старшого. Тащат сани, полные зверья — шкур, натурально, а не туши. И сами по шею нагруженные оружием и добычей. Я к ним с душой: “Ребята, примите к себе. Я беглый, сдайте меня в лагерь. Вам за меня пятьсот рублей премии дадут”. Это такса была такая — кто приволок беглого, вохровец или чистый вольняшка, тому денежная награда.
— Они и согласились на премию?
— Переглянулись, молчат. Потом сели обедать, меня угостили жареной олениной… У костра старшой говорит: “А зачем нам тебя двести километров переть с собой? Мы и без хлопотни получим за тебя законную премию”. Я помертвел, чую — полная хана! Уже не раз бывало — вохра или вольняшки догоняют беглого, убивают, чтобы не возиться с ним в дороге, отрезают палец и предъявляют в зоне: мол, застрелили при попытке к бегству, проверяйте линии. И если линии на пальце сходятся с личной карточкой беглого — норма. Им и благодарность, и премия, а тот догнивает, где убит, либо растаскивают на куски зверьё и птицы.
— Как же ты выкрутился из такой сложной ситуации?
— Пришлось крепенько пошуровать в мозгах… Говорю старшому: “Правильно раскинули — кончать меня проще, да вам невыгодно. Вот вы — из последней силы прёте поклажу. А вы впрягите меня в санки, навалите на меня свои сидора. Я вместо вас тащу, вы налегке с ружьями. Куда я денусь — шаг в сторонку, вы мне пулю в спину!” Старшой посмотрел на второго: “Соображает бегляк! Используем, что ли?” И нагрузили меня так, что еле переставляю копыта. Но шёл, смертушка моя вела меня за руки. Неделю так топали по тундре и лескам. Зато кормили охотники от пуза — пока сам не отвалюсь. Даже сдружились в дороге. Старшой пригласил в гости, когда освобожусь, адресок дал, он и сейчас у меня в заначке. А в милицию сдал честно, премии не захотел упускать. Меня в поселке сразу в карцер… Я старшому, между прочим, письмишко наворотил уже из зоны, не знаю, ответит ли, пока молчит. Думаю, ответит, очень душевный был человек».
Однако следует заметить, что ловцы заключённых не случайно предпочитали предъявлять «головки», а не живых людей. Далеко не все относились к «охотникам» так, как Трофим. Если доставишь беглеца живым, существует возможность встречи с ним на воле — пусть теоретическая, маловероятная, но существует. И блатарь может отплатить своему обидчику.
Впрочем, это касалось не только воли. Случалось, что сами «охотники за головами» в результате каких-то жизненных коллизий тоже попадали в лагеря. Их там старались использовать в самоохране или на бесконвойном передвижении, но в случае разоблачения прошлых «подвигов» судьба таких лагерников была печальна. По словам Анатолия Жигулина: «Один такой охотник по иронии судьбы попал в лагерь, на рудник имени Белова. И здесь его опознал пойманный им Андрей Бехтерин, бежавший за два года до этого из СВИТЛа. После суда (58–14 — саботаж) Андрей получил 25 лет вместо своей десятки и попал уже не в СВИТЛ, а в Берлаг. Андрей жестоко отомстил ему. Летом 1953 года этот бывший охотник бесконвойный взрывник Петька, по кличке Петька-стукач, был “технически уработан”».
Вот и оставляй после этого беглеца в живых… Надёжнее отсечь башку.
Правда, и это часто не помогало. Аборигенам нередко приходилось расплачиваться за «головки» очень жестоко. Вадим Туманов вспоминает: «Наказывая кого-то за подлость, воры изобретательны на отмщение и не знают жалости. В колымских лесах кочующие по тайге аборигены иногда ловили беглых лагерников, отрубали им руки, приносили начальству райцентра, получая за это порох и дробь. Вор Лёха Карел бежал, прихватив с собою аммонит, и взорвал целый посёлок оленеводов. Лёху поймали, дали 25 лет (расстрелов тогда не было), но с тех пор уцелевшие в районе аборигены стали избегать беглых лагерников».
Если говорить о воркутинских и печорских лагерях, картина здесь была примерно же такая. Например, во время массового вооружённого побега из Обского лагеря от восставших отделилась группа заключённых, каждый из которых был осуждён за измену Родине на 25 лет. Около 20 человек из них через трое суток вышли в расположение оленеводческого колхоза — три ненецких чума. В чумах проживало 42 человека (7 мужчин, 15 женщин и 20 детей, начиная с 5-месячного возраста). Все жильцы чумов, включая младенцев, были зарублены топорами и застрелены из винтовок.
Жестокий век, жестокие сердца.
Мы бежали с тобою, прихвативши «корову»…
В предыдущей главе мы упомянули рассказ Сергея Снегова «Побег с коровой». Эту разновидность побега нам нельзя обойти молчанием. Правда, в песне «По тундре» никакая «корова» не упоминается. Но раз речь идёт о бегстве из северных лагерей, из зоны Заполярья, когда побегушникам часто приходилось пересекать огромные пространства тундры и тайги, находиться в пути не одну неделю, даже не один месяц, — без рассказа о «корове» обойтись никак невозможно.
Почему? Да потому, что беглому зэку нередко приходилось опасаться не только дикого зверя, погони вохровцев и солдат, травли со стороны «охотников за головками», но и своих же сотоварищей по побегу. Не исключено было, что они взяли его с собой в качестве той самой «коровы».
В «Справочнике по ГУЛАГу» Жак Росси поясняет:
«Корова — человек, предназначенный на съедение; то же багаж, баран. Сам ничего не подозревая, в этой роли может выступить любой начинающий уголовник, которому старшие товарищи предложат участие в побеге. Оказанное новичку доверие льстит ему, и он обычно соглашается. Если во время побега не удастся пополнить кончившиеся припасы, то зарежут “корову”, выпьют артериальную кровь и съедят ещё теплые почки (во время побега опасно зажигать костер). Если же всё обойдется благополучно, то новичок лишь позже поймет, чем рисковал. Тех, кому приходилось есть человечину, называют людоедами. Они не хвастают своими приключениями, т. к. многие из уголовников не одобряют этого.
Примеч. 1: Людоедство не является советским новшеством. В 1895 г. М. Лобас в № 37 журнала “Врач” сообщал, что некто В. Васильев, бежав с каторги, питался мясом своего товарища. В советское время подобные явления стали настолько нормальными, что появился соответствующий технический термин».
Действительно, побеги с «коровами» знала ещё сахалинская каторга. Об этом писал в книге очерков «Сахалин» (1903) известный журналист и литератор Влас Дорошевич: «Случаи людоедства среди беглых каторжных более часты, чем об этом думают. Официально известны три людоеда».
О первом, Павле Колоскове, бежавшем из Рыковской тюрьмы 13 июля 1892 года и пойманном 24 июля того же года, надзиратель Онорской центральной дороги Мурашов в рапорте сообщал:
«…При нём найдены арестантские вещи, два котла, в том числе мешок человеческого мяса, поджаренного. Колосков Павел показал, что убил ссыльно-каторжного, который вместе пошёл с ним в просеки… В эту самую ночь бежал с ним ссыльнокаторжный Крикун-Каленик».
Оба беглеца работали на прокладке Онорской просеки, которую автор сахалинских очерков характеризует так:
«Кому-то и с чего-то пришла в голову героическая, но совершенно нелепая мысль прорезать просекой Сахалин вдоль южного поста Корсаковского. Просеку пришлось вести через тундру, поросшую тайгой. Что это за просека, можете судить по тому, что мне, например, чтобы проехать верхом 8 вёрст от Онора до Хандосы 2-й, понадобилось три с половиной часа…
Работы по проведению просеки велись от ранней весны до первых заморозков. Люди вязли в трясине, рубя деревья и выкорчёвывая пни. И к этой муке — работать чуть не по пояс в топкой грязи — присоединялась ещё нестерпимая мука от мошкары, которая тучами носится летом над тундрой. Мошкара облепляла людей. Люди буквально обливались кровью…
За целое лето прошли таким образом семьдесят семь вёрст, а затем эта идея — прорубить просеку “вдоль всего Сахалина” — была брошена, как совсем невыполнимая».
В общем, «по тундре, по Онорской дороге…». Впрочем, о дороге и побегах с этих работ сахалинские узники сочинили собственные песни и стихи, отрывки из которых приводит Дорошевич:
«Воспоминание об этой “Онорской дороге” сохранилось в одной каторжной песне, сложенной “терпигорцами”, то есть каторжанами, шедшими на Сахалин не морем, а сухим путём:
Пока шли мы с Тюмени, —
Ели мы гусей,
А как шли мы до Онора, —
Жрали мы людей.
В одном рукописном сборнике стихотворений, посвящённом онорским работам, говорится так:
И многие идут бродяжить,
Сманив товарищей своих,
А как устал, — кто с ним приляжет,
Того уж вечный сон постиг.
Убьют и тело вырезают,
Огонь разводят — и шашлык,
Его и им же поминают,
И не один уж так погиб».
Дорошевичу удалось встретиться в Александровской тюрьме с самим Колосковым — узником номер 248: «Молодой ещё парень, низкорослый, широкоплечий, истинно “могутный”. С тупым, угрюмым лицом, исподлобья глядящими глазами. Каторга, даже кандальная, его не любит и чуждается». Колосков утверждал, что не убивал сотоварища: тот якобы сам «занедужился и помер». По словам каторжанина, и человеческого мяса он не ел, хотя пожарил его и носил в котомке. «Наклепал» же на себя как на людоеда для того, чтобы не послали снова на изнурительные работы, а заключили в тюрьму за тяжкое преступление.
Однако Дорошевич сообщает, что это ложь:
«Я видел свидетелей того, как арестованного Колоскова с его страшной сумкой привели на работы.
Каторжане его ругали, хотели избить, и убили бы, если бы не защитили надзиратели. Каторга не хотела верить такому ужасному преступлению и заставляла Колоскова есть при ней найденное у него жареное мясо.
— Как же ты говоришь, что убил и ел? Докажи свою храбрость. Ешь!
И Колосков под угрозами ел при каторжанах.
— Хорошее, вкусное мясо! Лучше всякого скотского!
Он даже смеялся при этом. “Никакой провинности у него в лице не замечалось”, как свидетельствуют очевидцы».
Затем Колосков и сам признался журналисту в том, что соврал.
Дорошевич рассказал и о других каторжанах-каннибалах:
«Из двух других “онорских людоедов” жив только один — Васильев. Его товарищ Губарь, с которым вместе они совершили преступление, умер, не перенеся наказания.
…Покойный Губарь, судя по портрету, человек тупой, жестокий и злой… подговорил Васильева и Федотова, юношу-каторжанина, 20 лет, и вместе с ними бежал.
Федотов был убит Губарем на второй же день.
— Я так думаю, он для того его и уговорил бежать, чтобы убить и съесть. Уж заранее у него в мыслях было! — говорит Васильев.
В рассказе Васильева, очень подробном и детальном, самое страшное — это ночь перед убийством.
— Федотов-то ничего не знал. А меня дрожь брала, — потому я-то слыхал, что Губарь и раньше, когда с каторги бегал, товарищей убивал и телом питался
[8]. Как пришла ночь, Федотов заснул, а я не сплю, зуб на зуб не попадает: не убил бы Губарь… Губарь мне и говорит на рассвете: “Будет, что есть”, и на Федотова головой кивнул. Меня в холод бросило: “Что ты?” Дух инда захватило. Да страх взял: “Ну, как откажусь, а он потом Федотова подговорит, да меня они убьют”. Ну, и согласился. Отошёл это я испить к ручеёчку, вертаюсь, а мне навстречу Губарь идёт белый, ровно полотно. “Есть, — говорит, — что есть!” Тут и пошли мы к телу…
Васильев — здоровенный 35-летний мужчина, говорят, необыкновенной физической силы. Как большинство очень сильных людей, он необыкновенно добродушен. И я с изумлением смотрел на этого великана, белобрысого, с волосами — цвета льна, кроткими и добрыми глазами, говорящего с добродушной, словно виноватой, улыбкой. Так мало он напоминает “людоеда”.
…Он рассказал мне, краснея, бледнея, волнуясь от страшных воспоминаний, всё подробно, как они подошли, вырезали мягкие части из трупа, вынули печень и сварили суп в котелке, который унесли с собой с работ.
— Молоденькой крапивки нащипали и положили для вкуса.
Васильев, по его словам, сначала не мог есть.
— Да уж очень животы подвело. А тут Губарь сидит и уплетает… Ел.
…Васильева каторга “жалела”:
— Он не по своей вине. Не он начал. Он не такой человек.
Губаря каторга ненавидела. Это был отвратительнейший и грознейший из “Иванов”, страх и трепет всей тюрьмы…
На Сахалине все в один голос говорили, что каторга, сложившись по грошам, заплатила палачу Комлеву 15 рублей, чтобы он задрал Губаря насмерть…
Факт тот, что Васильев и Губарь были приговорены к одному и тому же количеству плетей. Их наказывал Комлев в один и тот же день. Васильев вынес все наказание сполна и остался неискалеченным. Губаря после 48-го удара в бесчувственном состоянии отнесли в лазарет, и через три дня он умер. Он был простёган до пахов. Образовалось омертвение».
Из отрывка видно, что каторга в целом ненавидела людоедов. Обычные каторжане испытывали омерзение и отвращение к подобным типам. Сам Васильев тронулся умом: от воспоминаний о страшном побеге у него развилась шизофрения в виде мании преследования.
В основном каторжанские людоеды принадлежали к уголовной касте «Иванов». Вот как определял их Влас Дорошевич: «“Иван” — это долгосрочный арестант, которому нечего терять, лихач, отчаянная башка, головорез каторги… Это обыкновенно до мозга костей испорченные арестанты — “аристократия” каторги. Они держат в страхе и трепете всю остальную, робкую, забитую каторгу, называемую презрительно “шпанкой”, но они же являются коноводами и зачинщиками всех тюремных возмущений».
Другими словами, «Иваны» сахалинской каторги — приблизительно такая же каста, как «воры в законе» советского ГУЛАГа. В лагерях СССР в побег с «коровой» тоже большей частью уходили именно блатари, уголовники со стажем, «отмороженные». Различие лишь в том, что на царской каторге термина «корова» ещё не изобрели. Кроме того, людоедство считалось поступком постыдным, отвратительным; каннибала, сознательно пошедшего на убийство и пожирание своего сотоварища, считали отверженным, изгоем. А в среде блатных побег с «коровой» не считался чем-то предосудительным: жизнь такая… Фраером больше, фраером меньше.
Но вернёмся к Снегову и его беседе с побегушником Трофимом, который объяснял:
«— У нас ведь побег был особенный… Одного из троих положили в коровы. Чтоб съесть, когда голодуха одолеет невтерпёж. В тундре, сам знаешь, продовольственных складов не оборудовано…
— Кого же определили в корову?
— Задумка на уход была Васькина. Сговорились с ним, что в корову возьмем Сеньку Хитрована.
…Васька уже давно разрабатывал план ухода — выспрашивал у знающих людей о реках, озёрах, горных барьерах и городах на пространстве между Норильском и Красноярском. Даже школьную карту края достал для уверенности. Расстояние было немалое — полторы тысячи километров по прямой до железной дороги, больше двух тысяч по таёжному бездорожью… Трофим поначалу ужаснулся. Никто в лагере, свято хранившем предания об удачных “уходах”, ещё не слыхал, чтобы беглецы удалялись в глухую тайгу, вместо того, чтобы пробираться к единственной надежной магистрали на волю — всегда оживлённому, полному судов и посёлков Енисею.
— Топать ногами — это три месяца до железки, — спорил Трофим. — Загнёмся, не дойдя до Ангары…
Тогда Васька Карзубый высказал свой основной козырь удачи.
— Без нового запаса жратвы от Подкаменной до Ангары не дотопаем, верно. Надо прихватить кусок мяса на своих ногах, чтоб самим не таскать на спине. И пусть мясо топает с нами до крайнего края, понял?
— С коровой идти? — снова ужаснулся Трофим. В отличие от меня он хорошо знал, что в побеге именуется коровой.
— С коровой, — хладнокровно подтвердил Васька. — Подберём солидного фофана, чтобы в тягость не стал, пока с полными сидорами канаем по тайге. А потом, уже на Подкаменной, заделаем, засолим и располовиним — чтобы каждому хватило уже до Ангары и дальше.
…Картина побега стала вырисовываться с определённостью. Разговоры шли в середине зимы, но “заявление зелёному прокурору” Васька решил подавать в марте, когда солнце уже понемногу греет, а в воздухе — морозно и реки и озёра ещё прочно скованы: по льду любую реку перейдём легко, а по шалой весенней воде и ручеек не осилить. В конце апреля — добраться бы до Подкаменной Тунгуски, там наполним опустевшие сидора мясом, что сопровождает их на своих ногах, и айда напролом до Ангары, пока её не расковал май. А после Ангары уже как придётся. Ну да там весна прибыльная, и рыбой, и зверьём богатая, да втихаря кое-чего и у местных можно прихватить. А доберёмся до железки — всё, полная воля, от края на восток, до края на запад — свобода!
Такая перспектива мутила Трофима — стало невтерпёж в зоне, когда вдруг замаячила свобода — до звонка оставалось ещё целых семь лет, срок вдруг показался непролазным. А когда Васька определил в коровы Сеньку Хитрована, Трофим сам заторопил уход. Сеньке, высокому жилистому парню, раза три или четыре судимому за дела по пятьдесят девятой
[9], в сроке за последнее “мокрое” предприятие — очистили втроём, завалив сторожа, районное сельпо, двоих убийц расстреляли, ему по молодости выдали пятнадцать лет — звонок на окончание срока в этой жизни практически уже не “светил”».
Однако тут в рассказе Снегова происходит неожиданный поворот. После почти двух месяцев скитаний беглецов по тайге Трофим вдруг узнаёт, что на самом деле «коровой» в побеге назначен… он сам! Оказывается, предприятие задумал и расписал по нотам именно Сенька Хитрован. Тимофей случайно подслушал его разговор с Васькой, из которого выходило, что «кончать» незадачливого побегушника его подельники решили через три дня. И вот тогда Трофим сбежал от своих «друзей»…
Таких гулаговских историй немало. Не всегда речь идёт о заранее намеченной жертве. Порою «коровами» становились случайно встреченные в побеге люди: «В 1949 году на лугу близ Веслянского совхоза задержали беглеца с человеческим мясом в рюкзаке: он убил попавшегося ему на пути бесконвойного художника с пятилетним сроком и обрезал с него мясо, а варить было недосуг» (А. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ»).
Одна из наиболее драматических историй изложена в автобиографической повести Генриха Сечкина «За колючей проволокой». Сечкин — журналист, педагог, музыкант, за свою жизнь был пять раз судим, в общей сложности на 54 года, из которых реально отсидел около 15, часть из них — в сталинских лагерях, где принадлежал к «блатному братству».
Побег Сечкина интересен тем, что его автор откровенно признаёт: он сам во время скитаний… питался мясом погибшего подельника с «говорящей» кличкой Бизон (кстати, побегушников, обречённых на заклание, называли также «бычок», «баран», «кабанчик»). Правда, сам он товарища не убивал. Сечкин рассказывает, как их с Бизоном несколько дней преследовала стая волков, не решаясь напасть. В конце концов, зэки решили вступить с хищниками в схватку и обнажили ножи:
«Бизон перевёл взгляд на мой нож, и в выцветших его глазах появилось подобие мысли.
— Сека, ты ел когда-нибудь человечину?
— Обижаешь, братан. Что, я волчара, что ли?
— Мне мысль пришла. Ведь всё равно хана. Братва столько потрудилась. И всё для того, чтобы этих тварей накормить? Давай кинем монетку. Хоть один, может, дойдёт.
Я всё понял…
— Брось дурить, Юра, — впервые назвал я его по имени. — А что потом на сходняке уркам скажешь? Что зарезал и съел в побегушке товарища? И зачем тогда бегать, если на сходке завалят?
— Ты не понял. Заваливать себя будем сами. А потом… — он не смог договорить фразу. Слишком уж кощунственной она была. — В случае… ну сам понимаешь, у меня в кармане письмо. Ну, бросаю? — он достал из кармана монету. — Твой орёл!
Моментально проснувшийся азарт игрока заставил меня вскрикнуть:
— Давай!
Монетка, вращаясь, взлетела вверх, упав на землю, закрутилась на месте и повалилась навзничь. Под пробившимся сквозь мутное небо лучом солнца засверкал герб Советского Союза.
— Ну вот, — с облегчением сказал Юрка. — Бог правду видит. По моей вине мы остались без жратвы. Мне и расплачиваться.
— Юра, брось. Поиграли, и хватит. Я без тебя всё равно не дойду. Ты же у нас следопыт. Может, ползком доползём до какой-нибудь зоны. Сдадимся мусорам. А в другой раз получше подготовимся.
Не отвечая, он поднялся на четвереньки и, одной рукой обнажив грудь, приставил к ней лезвие ножа.
— Стой! — заорал я изо всей силы так, что от неожиданности вздрогнули даже волки. Перевернувшись на спину, я попытался выхватить у него нож. Но проклятая слабость подвела. Увернувшись от моих рук, Юрка с силой ударился о землю. Раздался характерный хруст костей. Нож вошёл в тело по рукоятку.
Смерть наступила мгновенно.
В отчаянии я перевернул Юрку на спину и закрыл его замершие глаза.
Внезапно, ощутив необычайный прилив сумасшедшей силы, как будто какая-то пружина подбросила меня вверх, я вскочил на ноги и яростно бросился с ножом на волков. Сознание помутилось. Ведь это они виноваты в гибели Юрки! Это они сожрали все наши запасы! Волки, слегка смутившись, отошли подальше…
До утра я не мог сомкнуть глаз… Вчерашняя сила куда-то улетучилась. Зато появились мысли. “А ведь я не смогу даже подняться. Неужели Юрка отдал свою жизнь для того, чтобы я подох рядом с ним?.. Нет, я обязательно должен дойти куда угодно. Хотя бы для того, чтобы рассказать о нём его близким. Но тогда придётся есть Юрку! Нет. Ни за что”».
Дальше у Сечкина начинаются галлюцинации, сознание угасает… Куда в это время делись волки и почему они не сожрали тех, кого так упорно преследовали, остаётся неизвестным. Известно лишь, что часть Бизона они всё-таки отхватили. Сам Сечкин по этому поводу пишет: «Почему волки уступили мне часть своей добычи, останется неразгаданной загадкой на всю жизнь… Тем более непонятно, почему они не съели меня самого».
Впрочем, герой в конце концов преодолевает колебания, пустив в ход оригинальную людоедскую логику: «Что же я, хуже волка? Прочь дурацкую, наивную добродетель! Плевать на все. Люди намного кровожаднее волков. Ради честолюбия они убивают себе подобных. Не хочу больше быть человеком! Хочу быть зверем!»
Далее… Далее предоставляю судить читателю:
«Рядом лежала большая ветка сосны. Порубив её ножом на куски, сложил колодцем на разгорающийся костер. Потом, отрезав большой кусок мяса от Юркиной ягодицы, насадил его на лезвие, которое пристроил над костром с помощью двух обломков веточки, и принялся медленно поворачивать импровизированный шампур.
Никогда мне не забыть вкус человечьего мяса. Сладковато-приторное, жестковато-вязкое.
Насильно запихивая себе в рот подгоревшие куски (есть не хотелось уже очень давно) и ежесекундно ожидая заворота кишок, я с жутким отвращением поедал Юркино тело.
Трое суток провалялся я на этом “лобном” месте. Интуитивно просыпаясь, подползал к большой луже, напивался вдоволь, раздувал почти потухший костер, съедал кусочек мяса и вновь забывался в тяжёлом сне. С желудком творилось что-то невообразимое. Но стали прибавляться силы. На четвертый день смог наконец встать. Срезав с ноги остатки мяса и уложив его вместе с остальными вещами в сильно отощавшую наволочку, я тронулся в путь».
Особо впечатлительным читателям хочу сказать: достоверность этого чтива вызывает огромные сомнения. Не только из-за добродетельных волков: на протяжении всей книги Сечкина встречается столько несуразностей, несоответствий, нестыковок, что за её документальность ручаться нельзя. Скорее, она похожа на уголовные байки и «романы», где действительные события причудливо переплетаются с самой фантастической, нелепой, несусветной выдумкой и больной фантазией.
«Кто на смерть смотрит прямо, того пулей не взять»
Повторимся: в песне «По тундре» обошлось без «коровы». А могло и не обойтись… Но опасностей и без того хватало. После обзора разнообразных гулаговских ужасов теперь для нас более ясны слова —
Мы бежали с тобою, опасаясь погони,
Опасаясь тревоги, громких криков солдат.
То есть с погоней и солдатами и так предельно ясно, равно как и с вохрой, которая всё-таки настигла беглецов (в иных вариантах солдаты отсутствуют, а беглые зэки опасаются громких криков «Назад!»). А вот насчёт тревоги… Хотя из контекста понятно, что речь идёт о сигнале, а не о душевном состоянии, для тревоги у двух приятелей, как мы выяснили, были и другие поводы. Один из главных — враждебное отношение к побегушникам со стороны окружающего мира, чужого и чуждого. Беглецы заранее были настроены крайне агрессивно по отношению к окрестным обитателям, которые охотились на них, как на пушного зверя, — равно как и к геологам: те тоже чаще всего («как и все советские люди») считали своим долгом сообщить властям о беглых преступниках. Беглецы, разумеется, с членами экспедиций тоже не церемонились.
Постепенно побеги становились всё более отчаянными и кровавыми. Так, рассказывая о подготовке колымского побега в 1953 году, Анатолий Жигулин пояснял читателям, что для подобного предприятия обязательно необходимо было оружие: «Винтовка предпочтительнее для охоты на зверя, автомат — для защиты от солдат и местных охотников, которые, польстившись на щедрые дары Дальстроя: деньги, оружие, порох, дробь, спирт, продукты, — при случае ловили беглецов».
Именно о таком побеге рассказано в песне «По тундре». Правда, отчаянной парочке зэков удалось раздобыть лишь наган (или наганы: в разных версиях строка об оружии звучит по-разному: «на дуло нагана» или «на дула наганов»). Хотя в ряде вариантов указано, что речь идёт именно об оружии преследователей —
Нас уже не догонит пистолета разряд
или
Нас уже не догонит револьверный заряд, —
всё же и сочинители, и многочисленные исполнители песни отдавали себе отчёт, что вохровцы, которые гнались за своими жертвами, уж точно были вооружены солиднее. Потому всё-таки куда больше других вариантов:
Вохра нас окружила, карабины нам в лица…
Вохра нас окружила, слышен хруст под ногою.
Винторезы наставив, «Руки в гору!» — кричит.
Лай овчарок всё ближе, автоматы стучат…
А то, что и побегушники уж точно имели на руках «стволы», следует хотя бы из указания, что «окруженье пробито» — именно «пробито», то есть без боя не обошлось.
И вот теперь мы переходим к обзору «боестолкновений» между беглецами и их преследователями.
Довоенный ГУЛАГ вооружённых побегов практически не знал. Опять-таки и из этого правила существовали отдельные исключения. Об одном из них рассказал Олег Волков в мемуарах «Погружение во тьму». Эпизод относится к 1928 году, место действия — Кемский пересыльный пункт:
«Как-то ночью после отбоя раздалась стрельба. С вышек беспорядочно палили. У одной из них сбежавшиеся стрелки разглядывали зарезанного часового. Как ухитрился чеченец проползти под проволокой? Кошкой подобраться к караульному, спустившемуся с вышки поразмять ноги или за нуждой, и вонзить в него самодельную железку — так, что тот рта не успел раскрыть? Ведь было светло, как днём.
Со смельчаком ушли ещё двое. Беглецов заметили, когда они уже порядочно удалились от зоны. Стреляли по ним безуспешно; прячась за камни, перебегая, ползя юрко и стремительно, они достигли опушки леса. Преследовать их не рискнули — чеченцы прихватили винтовку и подсумок убитого.
Тело лежало под вышкой, в нескольких шагах от зоны. Вокруг грудились люди: зэки по одну сторону проволоки, обескураженные “попки” — по другую. У заключённых в то утро был более бодрый вид. Зато охрана — в отместку — не знала удержу…»
Чеченцев поймать так и не удалось. Однако подобные случаи можно пересчитать по пальцам. Разве что во время коллективизации бегали из Сибири ссыльные переселенцы-селяне, нередко — раздобыв оружие или откопав когда-то припрятанное в родных местах. Шолохов в «Поднятой целине» создал яркий образ такого беглеца — Тимофея Рваного, который вернулся тайно в Гремячий Лог и пытался застрелить Макара Нагульнова. Однако это — тема совершенно другая, не гулаговская.
А вот в местах лишения свободы до войны условия для вооружённых побегов ещё не созрели. Блатные предпочитали «рвать когти» по-тихому, тем более сроки за побег добавлялись небольшие. Убийство же охранника — это гарантированная «вышка». Кому оно надо?
«Политики» и вовсе не мыслили никаких побегов с перестрелкой. В основе своей это была забитая, затравленная масса, которую прессовали со всех сторон. Большинство «контриков» пытались доказать свою невиновность и лояльность великим идеям коммунизма.
К тому же в конце 1930-х, в годы Большого террора, жуткие чистки прошли и по лагерям. Они коснулись далеко не только «политиков». Физически уничтожались и профессиональные уголовники: развернулась жестокая борьба с лагерным бандитизмом. Рассказы о «гаранинских» и «кашкетинских» расстрелах передавались из уст в уста поколениями зэков. Так что о побегах с оружием не могло быть и речи.
Положение изменилось в военное и послевоенное время. Это случилось в результате общего ожесточения и отчаяния узников, чудовищного увеличения сроков, появления в лагерях разного рода «вояк»: от представителей националистического и идейного вооружённого сопротивления типа бандеровцев, власовцев, прибалтийских «лесных братьев», а также воевавших на стороне гитлеровцев калмыков, татар, казаков и др. — до бойцов и командиров Советской армии (как несправедливо репрессированных, так и влившихся после войны в ряды криминала и осуждённых за уголовные преступления).
Вот что пишет об этом периоде Виктор Бердинских в исследовании «История одного лагеря»: «Были побеги с подкопами, с перестрелкой (когда, отняв у охранников оружие, побегушники при задержании оборонялись до последнего патрона). Нашумел в своё время дерзкий побег заключенного-финна, который при преследовании его уложил более десятка солдат-вохровцев».
Солженицын тоже приводит похожие случаи:
«Весной 1947 г. на Колыме, близ Эльгена, вели колонну зэков два конвоира.
И вдруг один зэк, ни с кем не сговариваясь, умело напал на конвоиров, в одиночку, обезоружил и застрелил обоих. (Имя его неизвестно, а оказался он — недавний фронтовой офицер. Редкий и яркий пример фронтовика, не утерявшего мужество в лагере!)
Смельчак объявил колонне, что она свободна! Но заключённых объял ужас: никто за ним не пошёл, а все сели тут же и ждали нового конвоя. Фронтовик стыдил их — тщетно. Тогда он взял оружие (32 патрона, “тридцать один — им!”) и ушёл один. Ещё убил и ранил нескольких поимщиков, а тридцать вторым патроном кончил с собой. Пожалуй, развалился бы Архипелаг, если бы все фронтовики так себя вели.
В КрасЛаге бывший вояка, герой Халхин-Гола, пошёл с топором на конвоира, оглушил его обухом, взял у него винтовку, тридцать патронов. Вдогонку ему были спущены собаки, двух он убил, ранил собаковода. При поимке его не просто застрелили, а, излютев, мстя за себя и за собак, искололи мёртвого штыками и в таком виде
бросили неделю лежать близ вахты».
Автор «Архипелага ГУЛАГ» не совсем прав. В послевоенное время, а особенно с 1947 года, когда в ГУЛАГ пошли массовые потоки «большесрочников» — и блатари, и «политики», и «бытовики», — отчаянные побеги перестали быть редкостью. Конечно, можно согласиться с Семёном Беленьким, который пишет: «Я пробыл в лагерях около шести лет, и на моей памяти не было ни одного удачного побега. Бывали прекрасно подготовленные попытки, в осуществлении которых участвовали так называемые бесконвойные. Результат один — провал, избиение, суд». И тем не менее побеги становились всё более дерзкими, отчаянными, кровопролитными. Сказывалось то, что зоны пополнились бывшими фронтовиками. Многие из них просто не могли себя сдержать, они действовали зачастую спонтанно, не в силах вытерпеть рабского положения и оскорблений со стороны вертухаев. Это ведь было поколение победителей, они сломали хребет фашизму!
Алексей Яроцкий рассказывает об одном из таких «вояк» в воспоминаниях «Золотая Колыма»:
«Мимо нашего посёлка гнали этап, один заключённый всё время хромал и отставал. Конвоир его подгонял прикладом. Заключённый сказал: “Не толкай меня, я Берлин брал”, и когда его ещё раз толкнули, он обернулся, выхватил винтовку из рук конвоира и проломил ему череп прикладом. Потом он захватил две запасные обоймы и побежал в сопку. Здесь бывший фронтовик принял свой последний бой. Когда его взяли, он уже умирал от нескольких ранений, рассказывал один боец, участвовавший в операции, но был “такой злой”, что зубами вырывал вату из телогрейки, затыкал раны и стрелял до последнего дыхания… Это был бессмысленный акт, никуда он от опергруппы с собаками уйти не мог, тем более хромой от старой фронтовой раны, но у человека было сознание солдатской чести, он не позволил себя оскорблять и умер в неравном бою как мужчина и личность».
Изменялась психология и «бытовиков», и «контриков». Получая от 15 до 25 лет срока, многие из них начинали воспринимать любого представителя лагерной системы как лютого врага, для борьбы против которого хороши все средства. В качестве иллюстрации приведём уже упоминавшийся в одной из глав неудачный побег Анатолия Жигулина из колымского лагеря. Помните, мы рассказывали о жестокости лагерной охраны и конвоя по отношению к побегушникам и приводили случай с Жигулиным, которого не добили лишь потому, что, посчитав за мертвеца, уже затащили в зону? Однако мы не коснулись главного: плана побега и дальнейших действий беглецов на воле. Между тем в рамках нашего очерка это чрезвычайно важно.
Но сначала — несколько слов об Анатолии Жигулине. Вот уж кто по праву мог считаться стопроцентным «контриком»! В 1947 году семнадцатилетний комсомолец Толя Жигулин в послевоенном Воронеже вместе с несколькими одноклассниками создаёт подпольную «Коммунистическую партию молодёжи», цель которой состояла в глубоком и детальном постижении марксистско-ленинского учения, распространение «подлинного марксизма» в массах и возврат Советского государства к «ленинским принципам», которые, по мнению ребят, были извращены в сталинское время. Также, по признанию Жигулина, «в Программе КПМ содержался секретный пункт о возможности насильственного смещения И. В. Сталина и его окружения с занимаемых постов». Вскоре организация разрослась до примерно 60 человек.
Осенью 1949 года половина из них — в том числе Жигулин — была арестована. А 24 июня 1950 года Анатолий Жигулин был осуждён по 58-й статье к десяти годам лишения свободы (достаточно гуманно по тем временам, учитывая, что с января 1950 года в стране снова стала действовать смертная казнь и заговорщики легко могли «попасть под раздачу»). Сначала юный ленинец отбывал наказание в Иркутской области (Тайшет), затем его направили на Колыму за попытку побега. Но и на Колыме молодой зэк не угомонился. И вот тут начинается самое интересное.
Дело в том, что с Колымы бежать было практически невозможно. Несмотря на то что Колыма — не остров, а материковая часть суши, её не случайно называли «планетой», подчёркивая изолированность и труднодоступность. Доставляли сюда зэков, сотрудников, оборудование, еду исключительно морским путём через бурное Охотское море — сначала из Владивостока и порта Находка, затем из специально построенного порта Ванино. Так же возвращались назад. Иначе — никак: по суше на юго-запад, к Транссибирской магистрали, лежали тысячи километров тайги и болот — как поётся в колымской лагерной песне, «где нет ни жилья, ни селений». На север, к якутам, расстояние тоже огромное, к тому же там тундра, открытые пространства на те же тысячи километров. Если из воркутинских лагерей бежали через тундру в «золотую тайгу», то в Якутию — из тайги в тундру. И что в той тундре ловить? Скорее, тебя поймают охотники за «головками».
И всё же зэки из колымских лагерей бежали! Но «колымский побег» был особого рода. Вот что пишет Жигулин:
«Добраться до материка было нельзя. Но бежать и жить в глухой тайге охотой и разбоем было можно. Вертолётов тогда ещё не было. Но для жизни в тайге надо было бежать с захватом оружия — винтовок или автоматов».
Такой побег задумал и Жигулин с подельниками. Вернее, план выработал опытный вор Иван Жук, остальные примкнули. Это случилось после смерти Сталина, когда «ворошиловская амнистия» 1953 года почти не коснулась политзэков. Собственно, многие из них ещё раньше поняли, что ничего хорошего от власти не дождёшься. Массовые побеги с захватом оружия и чётко созревшим намерением не останавливаться перед убийством начались задолго до смерти Сталина, причём участие в них вместе с блатарями принимали и «политики», и «бытовики»:
«Иван рассказал мне о том, что уже давно задумал побег.
— Когда меня возили для опознания в Усть-Омчуг, понравилось мне одно место дороги. Его отсюда видно. Видишь, желтая скала, а ниже — густой стланик, там, дальше, опять невысокая стенка, её не видно отсюда. Там место узкое. Машины идут, ветки задевают. Нам лучше машина с рудным концентратом. Она всегда выходит с фабрики ровно в девять утра. В кабине — шофёр, заключённый-бесконвойник. В кузове бочка с концентратом и два солдата с автоматами. Для налета, для прыжка в кузов нужно четыре человека. По двое на каждого солдата. Трое, считая меня, уже есть. Ты будешь четвёртым. Один хватается за автомат, второй действует пикой. Я покажу, научу, как, если не умеешь.
Разделились на пары, тренировались, насколько это было возможно, где-нибудь в пустом штреке. Иван и я составляли одну пару. Федор и Игорь — другую. Иван и Федор при прыжке должны были хвататься за солдатские автоматы. Я и Игорь — действовать пиками. Конечно, риск был очень велик. Что ножи и голые руки против автоматов! Была предусмотрена возможность гибели двоих из нас. Машину мог вести любой. Поэтому даже в случае гибели троих оставшийся имел шанс прорваться в вольную тайгу…
Уходить решено было, когда стает снег, в одну из коротких весенних ночей, через средний участок ограждения, чтобы быть подальше от вышек. Место прохода через ограждение предполагалось посыпать махоркой (от собак) до Чёрного ручья, а до него всего двадцать метров. Затем по ручью бегом — он не глубже чем по колено, — из световой зоны. Затем — всё время по воде — до Шайтанки. От Шайтанки по ручью в распадок за Жёлтой скалой. Там опять посыпать махоркой, но не густо, чтоб её не было видно. И в стланике ждать фабричную машину. В любом случае — будет стрельба или нет — проехать через Усть-Омчуг как можно дальше, как можно ближе к густой тайге. Было четыре брезентовые куртки, которые обычно надевают поверх телогреек вольные гормастера и прочая вольная шушера. Шапки и брюки — тоже вольные. Продуктов (и я, и Фёдор, и Игорь получали посылки) — на две недели. Предусматривалась и возможность укрыться в стланике на Жёлтой скале на несколько дней, пока всё успокоится. Мы будем в двух километрах от лагеря, а искать нас будут уже где-нибудь на Индигирке, полагая, что мы рванули зайцами на каком-нибудь грузовике».
Отметим, что, помимо «честного вора» и «контрика», в побеге приняли участие два «вояки». Первый, Фёдор Варламов, 33 лет, из Воронежа, разведчик, майор, Герой Советского Союза, дошедший не только до Берлина, но и до Порт-Артура. Однако после войны он получил «законный четвертак» (25 лет лагерей) за то, что в начале войны оказался в плену, откуда вскоре бежал. Второй, Игорь Матрос, 25-летний ленинградец, был взят с военно-морской службы за высказывания против Сталина, тоже получил 25 лет.
И все четверо были готовы убивать, действовать как диверсанты! И, судя по всему, не только однажды напав на грузовик. Ничего подобного! Из воспоминаний Варлама Шаламова и других колымских узников можно узнать, что такие беглецы располагались вдоль единственной на всю Колыму дорожной трассы, чтобы постоянно грабить проходящий транспорт. Это явление представляло серьёзную опасность даже несмотря на то, что, по воспоминаниям сидельца Ивана Павлова, к концу 1930-х годов практически вся колымская трасса (1042 километра по тайге и вечной мерзлоте от Магадана до Усть-Неры) была под контролем. Через каждые пятьдесят — сто километров на дороге стояли КПП, где солдаты проверяли документы у всех проезжавших. Но «вольных стрелков», «колымских робин гудов» ничего не останавливало. Вот что пишет Шаламов в «Зелёном прокуроре»:
«Так рождается “уход во льды”, как красочно окрещены такие побеги “вдоль трассы”. Заключённые вдвоём, втроём, вчетвером бегут в тайгу в горы и устраиваются где-нибудь в пещере, в медвежьей берлоге — в нескольких километрах от трассы — огромного шоссе в две тысячи километров длиной, пересекающего всю Колыму…
По огромному шоссе день и ночь идут машины. Среди них — много машин с продуктами. Шоссе в горах — всё в подъёмах и спусках — машины вползают на перевалы медленно. Вскочить на машину с мукой, скинуть мешок-два — вот тебе и запас пищи на всё лето. А везут ведь не только муку. После первых же грабежей машины с продуктами стали отправлять в сопровождении конвоя, но не каждую машину отправляли таким образом.
Кроме открытого грабежа на большой дороге, беглецы грабили соседние с их базой посёлки, маленькие дорожные командировки, где живут по два-три человека путевые обходчики. Группы беглецов посмелее и побольше останавливают машины, грабят пассажиров и груз.
За лето при удаче такие беглецы поправлялись и физически, и “духовно”».
Конечно, это была не «свобода, о которой мечтали» — но и не лагерное рабство. Ради этого стоило рискнуть жизнью… И многие рисковали — как четвёрка неудачливых побегушников, в которую входил Жигулин.
Хотя… Тот же Шаламов сообщает о подобных побегах:
«Беглецы жили до поздней осени. Мороз, снег выживал их из голого, неуютного леса. Облетали осины, тополя, лиственницы осыпали свою ржавую хвою на грязный холодный мох. Беглецы были не в силах более держаться — и выходили на трассу, на шоссе, сдавались на ближайшем оперпосту. Их арестовывали, судили… и — они выходили в ряды работяг на прииск, где уже не было их товарищей по бригаде — те либо умерли, либо ушли в инвалидные роты полумертвецами».
То есть на Колыме такие дерзкие «отрывы» зачастую совершались лишь для того, чтобы продлить себе жизнь, не надорваться на ТФТ — тяжёлом физическом труде. Однако были и куда более масштабные, дерзкие побеги. Они стоят отдельного рассказа.
Марк Ретюнин — романтик, бандит и любитель Шекспира
И тут самое время вернуться к проблеме авторства песни «По тундре». Мы уже писали, что песня не могла возникнуть до войны, поскольку железная дорога Воркута — Ленинград появилась лишь 31 декабря 1941 года, когда заключённые завершили прокладку отрезка Котлас — Воркута. Кроме того, в довоенном ГУЛАГе вооружённые побеги с нападением на охрану были практически невозможны: к ним не были психологически готовы ни блатари, ни «бытовики», ни тем более «политики». А вот как быть с датировкой Григория Шурмака, который утверждал, что сочинил песню в конце 1942 года (ноябрь-декабрь)? Возможно ли, чтобы за год психология зэков изменилась настолько, что они вдруг стали лихими побегушниками, готовыми вступить в вооружённый конфликт с лагерной охраной, вохрой и остальными военными формированиями? В мирное время не решались, а с началом боевых действий — вдруг настолько «озверели»? Мало верится…
А вот представьте себе! Есть неопровержимые документальные доказательства того, что именно в конце 1942 года и именно в воркутинских лагерях произошли события, которые запросто могли послужить толчком для создания песни о вооружённом побеге зэков!
Причём речь идёт не о каком-то банальном побеге парочки заключённых, которые захватили оружие у охраны и затем устроили перестрелку с преследователями. Берите выше! Мы имеем в виду настоящее восстание лагерников, которое перешло в многодневные бои. Случилось это в Усть-Усинском лагпункте «Лесорейд» Воркутлага НКВД. Руководил восстанием бывший зэк Марк Ретюнин, оставшийся работать на лесопункте «вольняшкой». Это было первое массовое вооружённое выступление узников ГУЛАГа. А поскольку вспыхнуло оно как раз в Воркутлаге, есть прямой смысл остановиться на нём подробно.
О восстании Марка Ретюнина глухо упоминали и Александр Солженицын, и его близкий знакомый по лагерю Дмитрий Панин, и ряд других сидельцев. Но до последнего времени сведения эти были обрывочны и неточны (все документы оставались засекреченными и недоступными), а самих руководителей «усинского бунта» часто выставляли обычными бандитами и пособниками фашистов. Так, пламенный троцкист Исай Абрамович в своих «Воспоминаниях и взглядах» пишет:
«Причины возникновения таких бунтов можно понять, но восхищаться ими нет никаких оснований. “Вождя” одного из таких восстаний против советской власти Марка Ретюнина, о котором упоминается в “Архипелаге ГУЛАГ”, я знал лично с января 1937 по апрель 1941 года на лесзаге “Касью”… Этот “свободолюбивый” герой был бывшим бандитом, осуждённым за убийство по статье 59–3. Он был безграмотным, умеющим читать по складам и писать печатными буквами. Психология этого дремучего человека изменилась за время его пребывания в лагере только в том отношении, что он под влиянием бывших врагов революции сменил идею убийства ради ограбления на идею массового и беспощадного убийства людей, стоящих выше него на социальной лестнице.
Его захватывала “мысль”, что наступит такое время, когда можно будет без опаски уничтожать людей. Он одинаково восхищался и Сталиным, и Гитлером, как людьми с сильным характером. “Вот это люди!” — восклицал он, при этом сжимая оба кулака, представляя этим жестом удушение человека. По вине Ретюнина погибло много людей прекрасных и ни в чем не повинных, кроме того что они знали Ретюнина».
Однако верить безоговорочно этим «свидетельствам» я бы поостерёгся, поскольку они в корне противоречат воспоминаниям других лагерников, знавших Ретюнина. Действительно, в лагпункте «Лесорейд» на 24 января 1942 года находилось 193 заключённых, из них 62 — «политики» (большинство приняли участие в восстании). Чтобы заурядный тупой бандит поднял такую массу и повёл за собой — это полная чушь.
Иначе пишет о Ретюнине в исследовании «Усинская трагедия» краевед Михаил Рогачёв: «Тайные осведомители характеризовали Ретюнина как “сильного, решительного и честного человека, способного к смелым и решительным действиям”. По свидетельству современников, он производил впечатление волевого человека, умеющего справиться с массами, был хорошим организатором. При этом Ретюнин пользовался авторитетом среди рабочих зэков, но среди “отрицательного элемента” авторитет потерял.
Начальник управления Воркутлага, капитан госбезопасности Тарханов считал Ретюнина одним из лучших работников, “готовым и способным ради производственных интересов лагеря чуть ли не жертвовать своей жизнью”. В то же время “в характере Марка, кстати большого любителя и знатока поэзии, чувствовалась тяга к эффекту и авантюре”».
А вот свидетельство бывшего узника ГУЛАГа Владимира Зубчанинова: «Я познакомился с начальником рейда Ретюниным. Он был из тех крестьянских парней, которых во время коллективизации судили как бандитов. Срок он отбывал на Воркутинских шахтах, где возглавлял одну из самых лучших горняцких бригад. После освобождения его сделали начальником сначала небольшого лесзака, а теперь — Усть-Усинского рейда. Походкой он напоминал медведя, рыжая лохматая голова была у него немного наклонена вперед, и глазки смотрели тоже по-медвежьи. Но это был романтик. В его избушке, стоявшей на высоких сваях, лежал томик Шекспира. Когда я взялся за него и раскрыл, Ретюнин сказал:
— Вот был человек!
И наизусть стал декламировать:
Для тех, кто пал на низшую ступень,
Открыт подъём, им некуда уж падать.
Опасности таятся на верхах,
А мы внизу всегда живём в надежде!
— Понимаешь? Живём в надежде, открыт подъём! Это не всякому червяку даётся».
Согласитесь: между бандитом, читающим по слогам, и романтиком, любителем поэзии, цитирующим наизусть Шекспира, существует огромная разница…
Впрочем, перейдём непосредственно к восстанию. И тут нас ждёт неожиданное открытие: если верить докладной записке замнаркома внутренних дел Коми АССР П. А. Корнилова народному комиссару внутренних дел Коми АССР С. И. Кабакову (февраль 1942 г.), у воркутинских зэков не было причин для недовольства! Начальник Воркутлага капитан госбезопасности Леонид Тарханов, можно сказать, прослыл либералом — и это несмотря на то, что Воркутлаг специальным приказом НКВД был отнесён к числу особых режимных лагерей: 55,9 % здешних заключенных составляли «изменники родины, шпионы, диверсанты, террористы, повстанцы, троцкисты, бандиты и др. особо опасные государственные преступники». Между тем целый ряд лагерных подразделений даже в начале войны не имел закрытых зон, а заключённые передвигались без конвоя — в том числе «политики» и бандиты. Зэчки, осуждённые за контрреволюцию и шпионаж, служили домработницами в домах сотрудников колоний.
Ничего не изменил даже приказ народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии и Генпрокурора Виктора Бочкова № 221 от 22 июня 1941 года, которым было предписано в 24 часа «сосредоточить под усиленной охраной в зонах контрреволюционеров, бандитов, рецидивистов и других опасных преступников, также немцев и иноподданных, прекратить бесконвойное их использование». Ага! Разбежались! На 1 января 1942 года из 10 185 расконвоированных заключённых Воркутлага «контрреволюционеры и бандиты» составляли более 80 %. В некоторых подразделениях без конвоя передвигались все заключённые, независимо от степени «социальной опасности».
Оперативники жаловались, что начальник Воркутлага Тарханов отмахивается от их сигналов, а их требования ужесточить режим вызывают у него «бурю негодования». Ради выполнения плана Тарханов шёл на невиданные проявления либерализма: так, лучшие производственники из числа заключённых получали личные свидания с родственниками длительностью до 10 суток! Подобная щедрость немыслима даже в современных российских местах лишения свободы.
Старший оперуполномоченный Третьяков 10 февраля 1942 года сообщает о состоянии дел в некоторых подразделениях: «Зон, изоляторов нигде нет, расконвоированы на 100 %, в ряде работ заключённые работают вместе с трудпереселенцами, вольнонаёмными, отсюда связь, кражи, промоты, сожительство, пьянки, нелегальная переписка и прочие нарушения». Тут, как говорится, и камни возопиют…
И всё же, думается, дело не в особом гуманизме Тарханова. Он всего лишь пытался создать условия для выполнения производственных планов военного времени. С началом войны режим содержания заключённых в ГУЛАГе неуклонно ужесточался. Рабочий день увеличился до 12, а то и до 16 часов, из зэков пытались выжать последние соки под лозунгом «Выполним по три нормы на двух заключённых!» Ухудшилось питание и медицинское обслуживание, выросла смертность. Стала лютовать охрана: стрелки без всякого повода применяли оружие, травили заключённых собаками, зверски избивали. Зэки всё чаще пускались в бега. Если в первом полугодии 1941 года бежали 54 человека, то во втором — уже 147 человек.
К тому же в Коми АССР 1941 год был отмечен затяжной весной, холодами в июне-июле, заморозками в августе. Погибли посевы в сельхозах, была сорвана осенняя навигация по рекам. Свирепствовала эпидемия гриппа.
Республика Коми была одной из крупнейших «провинций» ГУЛАГа — с самой большой концентрацией лагерей. Старинное село Усть-Уса оказалось в самом центре этого лагерного мира и переживало кратковременный период расцвета. В октябре 1941 года оно стало райцентром с населением около 4,5 тысяч жителей — по северным меркам почти город. Здесь сосредоточились все районные учреждения, аэродром, Печорское управление речного пароходства, склады и базы. Усть-Уса была важнейшей перевалочной базой для северных лагерей, строительства Печорской железной дороги. Через нее шли этапы на Воркуту.
«Лесорейд» располагался в шести километрах от села, на другом берегу Печоры. Заключённые работали на лесоповале и погрузке леса. Этот лагпункт и возглавил в добровольно-принудительном порядке после окончания срока Марк Ретюнин — бандит-налётчик, авантюрист и любитель Шекспира. Здесь он и поставил кровавую трагедию с шекспировским размахом…
Но что подтолкнуло зэков к столь отчаянному шагу? Да, условия ужесточились. Однако Ретюнин недаром слыл отличным работником, которого ценил сам начальник Воркутлага. К моменту восстания уроженцу Архангельской области Марку Андреевичу Ретюнину исполнилось 33 года. В 1929 году он был осужден на 13 лет за бандитизм (участие в ограблении банка). В 1939-м освободился и вскоре возглавил лагпункт. Ретюнин пользовался авторитетом среди заключённых, люди характеризовали его как сильную личность, жёсткого администратора, способного любой ценой обеспечить план.
При этом Ретюнин умел обеспечить заключённым относительно нормальные условия существования. Впоследствии ему вменялось в вину то, что «без соблюдения производственных интересов заключённые “Рейда” почти каждый день получали по пол-литра молока…» А замнаркома внутренних дел Коми АССР Корнилов с возмущением приводил такой эпизод: «В дни 6 и 7 ноября 1941 года все заключённые на лагпункте “Рейд” были пьяные, бродили всю ночь по зоне, распевали песни. Вмешательство военизированной охраны было запрещено Ретюниным, который заявил, что на это время он лагпункт берёт на свою ответственность, и предупредил, чтобы во избежание неприятностей стрелки в зону не заходили». Вот до какой степени распространялась власть «безграмотного бандита»!
Ещё один яркий пример. Подготавливая восстание, Ретюнин стал выписывать и получать с базы лишнее продовольствие, фураж, обмундирование за 8–9 месяцев вперёд. Лагпункт получал концентраты, выписывал походные кухни, палатки, брал в большом количестве белые меховые полушубки… Так что можно не сомневаться: для того времени «Лесорейд» был, как говорят в кругах бывалых сидельцев, чуть ли не «Сметанлагом». Так что же тогда подвигло зэков на безумное предприятие?
В обвинительном заключении утверждалось, будто бунтовщики собирались свергнуть советскую власть, связаться с немецкими войсками для получения помощи, установить на захваченной территории фашистский режим и присоединить её к Германии или Финляндии. Однако краевед Михаил Рогачёв пишет: «После подавления восстания по северным лагерям упорно ходил слух, что восставшие прорывались на фронт. Вот как передаёт дошедшие до него слова Ретюнина Л. Городин (он был заключённым на “Лесорейде”, но незадолго до событий переведён в другой лагпункт): “Я получил рацию… в которой содержится приказ расстрелять всех троцкистов. Нежели так погибать, не лучше ли пробиться на фронт и присоединиться к какой-либо части или партизанить в тылу у немцев?” Имеется свидетельство одного из участников подавления восстания, разговаривавшего с захваченным раненым повстанцем. Последний сказал, что “они не уголовники и не бандиты, они хотели ехать на фронт”».
Действительно, учитывая состав заключённых, которые приняли участие в восстании Ретюнина, приходится отмести «фашистскую» версию как абсолютную нелепость. Подавляющее большинство осуждённых по 58-й статье (равно как и «бытовиков») были патриотами и сторонниками советской власти (вспомним, как широко в лагпункте отмечали день Октябрьской революции — с пьянкой и песнями).
Тогда что же?
Меж двух огней: пуля чекиста или пуля фашиста?
А мы уже выше обмолвились о реальной причине «ретюнинского бунта». Дело в том, что с началом войны в лагерях фактически было прекращено освобождение заключённых. Даже тех, кто освобождался, оставляли на вольных должностях в тех же лагерях. Но и это далеко не главное. В конце концов, многие уходили добровольцами на фронт. Многие — и прежде всего заключённые, которые были осуждены по 58-й статье, боялись совсем другого. Они считали, что освобождённых задерживают для того, чтобы расстрелять. Эти слухи упорно бродили среди узников лагерей, особенно «контриков», дела которых работники оперативно-чекистских отделов трактовали как шпионаж и диверсии в пользу нацистской Германии и её союзников (Италии, Японии, Румынии и т. д.).
То, что большинство «политиков» считали эту угрозу абсолютно реальной, совершенно очевидно. Ведь сам Ретюнин, а также, к примеру, десятник Владимир Соломин, сметчик Афанасий Яшкин были уже «вольняшками», а у многих других участников восстания срок заключения подходил к концу. Им просто не было никакого смысла бунтовать, тем более в достаточно «уютном» лагпункте, которым «рулил свой человек». Рассказывая о восставших, Михаил Рогачёв пишет: «Нужны были исключительные обстоятельства, чтобы заставить этих людей объединиться с оружием в руках. Таким обстоятельством были слухи о скорых расстрелах, которые поддерживал Ретюнин». После разгрома восстания Яшкин рассказал на допросе о словах Ретюнина: «А чего мы теряем, если нас и побьют? Какая разница, что мы подохнем завтра или помрём сегодня, как восставшие… Я знаю, что нас всех хотят погубить голодной смертью… Вот увидите, скоро в лагерях один другого будет убивать, а до этого существующая сейчас власть всех заключённых по контрреволюционным статьям перестреляет, в том числе и нас — задержанных вольнонаемных».
Однако речь шла не только об опасности для «контриков». По лагерям распространялся слух, что в самом ближайшем времени начнутся расстрелы заключенных по примеру 1938 года — без суда и следствия, причем санкции эти коснутся не только 58-й статьи, но также 59-й и даже некоторых категорий бытовых статей. Осведомитель из числа заключённых по кличке «Инженер» уже после разгрома восстания вспоминал: «В разговоре со мной Дунаев указал на следующее: в Печорстрое уходят целые командировки, предварительно разоружая охрану и забирая с собой винтовки и пулемёты. На самой Воркуте создан центр по противодействию и предотвращению возможных расстрелов заключённых. Детали не помню, но материал об этом мною передан Уполномоченному Опер. Чек. Отдела в Усе». Правда, сам уполномоченный отрицал получение подобных сигналов от «Инженера». Однако несомненно, что психологическое напряжение среди массы осуждённых нарастало с каждым днём.
Возникает резонный вопрос: насколько обоснованы были эти опасения? Возможно, они являлись абсолютно беспочвенными? Так, например, считает полковник Станислав Кузьмин, профессор Академии МВД РФ: «Циркулировали не имевшие под собой никакого основания слухи о том, что неоднократно судимые будут вывезены на Север и ликвидированы, как в 1937–1938 годах».
Между тем разговоры о ликвидациях заключённых имели под собой основание. В первые месяцы войны из Центральной России и других регионов, которые могли быть оккупированы фашистами в первую очередь, были эвакуированы 27 лагерей и 210 колоний с общим числом около 750 000 заключенных, а также 272 тюрьмы, в которых содержалось 141 527 человек. При этом, согласно справке Тюремного управления НКВД СССР от 24 января 1942 года, 9817 заключённых были расстреляны в тюрьмах, 674 — расстреляны конвоем в пути следования при подавлении бунта и сопротивления, 769 — незаконно расстреляны конвоем в пути, 1057 — умерли в пути следования. Существуют свидетельства, что под влиянием возникшей паники заключённых не эвакуировали, а расстреливали без суда и следствия. По неподтверждённым данным, во время стремительного наступления немцев на Ростов под Таганрогом были подожжены теплушки, в которых находились заключённые, и люди заживо сгорели. Даже если это не так, то слухи об этом активно циркулировали в массах.
Особое внимание уделялось уничтожению арестантов, которые, с точки зрения советского руководства, ни в коем случае не должны были попасть в руки гитлеровцев. Например, приказ № 2756 от 18 октября 1941 года предписывал специальной группе сотрудников НКВД выехать в Куйбышев для расстрела 21 «врага народа», а попутно расстрелять ещё четверых в Саратове. Соответствующие списки утверждал лично Сталин, составляя их вместе со своими соратниками Берией, Маленковым, Молотовым, Ворошиловым, Хрущёвым… Можно хотя бы вспомнить расстрел 153 политзаключённых Орловской тюрьмы 11 сентября 1941 года в Медведевском лесу под Орлом. Среди погибших — лидер эсеров Мария Спиридонова, её муж Илья Майоров и другие видные деятели партии социалистов-революционеров.
Впрочем, у заключённых Воркутлага в памяти сохранились куда более близкие и страшные события. Краевед Рогачёв прямо упоминает о них: «Перед угрозой массового истребления, как это было во времена “кашкетинских расстрелов” 1938 г., у заключённых была более важная задача — добыть свободу и спасти свои жизни, что казалось возможным, если попытаться выступить организованно и с оружием в руках».
Однако, прежде чем рассказать о «кашкетинских расстрелах», обратим внимание читателей на другое событие. Выше мы утверждали, что выступление Марка Ретюнина является первым массовым вооружённым восстанием в ГУЛАГе. Это действительно так — если не считать инцидента на колымской командировке «Зелёный мыс», который следователи НКВД назвали позже «восстанием», а историк Александр Бирюков в очерке «За нами придут корабли…» определил более точным термином «волынка». В ночь на 23 ноября 1937 года заключённые маленькой рыбопромысловой командировки «Зелёный мыс» в низовьях реки Колымы, как излагает это Бирюков, «опасаясь эксцессов со стороны совершенно непредсказуемого начальника командировки, встревоженные слухами о начале войны, о захвате японцами Дальнего Востока и падении власти в Москве («Остался один Ворошилов!»), стремясь не допустить расправы над собой, без единого выстрела разоружили охрану (она состояла из трёх человек, только один из них, начальник, был вольнонаемным) и взяли власть в свои руки.
Они ждали приезда начальства — своего, из Эльгена, где располагалось тогда Колымское управление сельского и промыслового хозяйства Дальстроя, которое обеспечило бы им безопасность, объяснило бы, что происходит в Магадане и Москве. Начальство — не своё, энкавэдэшное — добиралось долго: от Магадана до командировки более полутора тысяч километров. А добравшись и получив — опять-таки без единого выстрела, хотя на руках у восставших было несколько десятков ружей! — власть над командировкой, начало следствие».
На «подавление восстания» был брошен отряд ВОХР вместе с уполномоченными УНКВД по ДС (руководили операцией некие Веселков и Кабисский). Списочный состав вольнонаемных и колонистов составлял 72 человека. Постановлением «тройки» УНКВД 28 декабря 1937 года были расстреляны трое руководителей восстания, а 15 января 1938 года — еще 46 его участников. Из них 22 «политика», остальные — «бытовики».
Разумеется, это выступление нельзя считать «вооружённым восстанием». Но важно другое: оказывается, достаточно было отдалённых и совершенно неправдоподобных слухов (в блатном арго называемых «парашей»), чтобы подтолкнуть лагерников к активным действиям даже в страшном 1937 году.
События на командировке «Зелёный мыс» начались ещё при директоре колымского «архипелага Дальстрой» Эдуарде Берзине. Они послужили катализатором гигантского уголовного дела № 17777 о контрреволюционной, шпионской, террористической, вредительской, повстанческой организации, во главе которой якобы стоял сам Берзин. Это дело, пишет тот же Бирюков, «накрыло, как зловещее облако, в первой половине 1938 года всю Колыму, — те события ноября-декабря 1937 года на забытой богом командировке будут рассматриваться новым следствием как первый шаг, как пробный шар, пущенный преступной берзинской шайкой перед тем, как поднять антисоветское восстание на всей территории Дальстроя».
А вот теперь самое время перейти к «кашкетинским расстрелам». Они названы так по фамилии Ефима Иосифовича (Хаима-Меера) Кашкетина-Скоморовского, получившего жуткое прозвище «палач Воркуты». Скоморовский, полуграмотный недоучка и психопат, в 1919 году пошёл добровольцем в Красную армию (тогда же и сменил фамилию на Кашкетина), а в 1927-м поступил на службу в органы ОГПУ. Из аттестации: «Большое самомнение и переоценка своих способностей. Хвастлив. Обнаруживает претензию. Признавать ошибки не склонен. Упрям, недостаточно дисциплинирован… Во взаимоотношениях с товарищами проскальзывает резкость, попытка подчёркивать своё мнимое превосходство». В начале 1932 года медики дали заключение о непригодности Кашкетина к службе в органах ОГПУ «ввиду наличия выраженных невротических явлений и нарушения зрения на одном глазу».
Однако вместо увольнения его повысили до старшего оперуполномоченного, и лишь 8 октября 1936 года врачебная комиссия признала Кашкетина инвалидом третьей группы с диагнозом «шизоидный психоневроз». Но в январе 1938 года Кашкетин вновь зачислен на службу и назначен оперуполномоченным 2-го отделения 3-го отдела НКВД. Наркомату внутренних дел срочно потребовались психи и шизофреники.
С января по апрель 1938 года лейтенант госбезопасности Ефим Кашкетин находился в командировке в Воркуто-Печорском лагере, а с сентября по 20 декабря 1938 года — в Ухто-Ижемском как руководитель опергруппы для борьбы с троцкистами во исполнение приказа НКВД СССР № 00409 от 1937 года. Воркутинские лагеря в это время активно пополнились репрессированными сторонниками Льва Троцкого, многим из которых административная ссылка была заменена лишением свободы. Троцкисты отказывались выходить на работу, требовали перевести их в политизоляторы, объявили голодовку и написали письмо лично Николаю Ежову — у которого с психикой тоже были большие проблемы, как и у Кашкетина.
Ежов послал на место спецкомиссию во главе с шизофреником. Лейтенант Кашкетин объявил голодающим, что Ежов согласился с требованием перевода троцкистов в политизоляторы в случае прекращения голодовки. Троцкисты согласились, и их стали перебрасывать в лагпункт «Кирпичный завод», откуда затем якобы собирались отправить по тюрьмам. Для прибывающих соорудили многоместные утеплённые палатки, создали приличные условия. Как пишет в воспоминаниях «Эхо прожитых лет» И. Сулимов: «Кирпичный завод стал для многих тысяч “врагов народа” притягательной точкой, куда надо было попасть любыми путями. И действительно, кому из них не мечталось после заполярного холода, голода и рабского труда уехать, уйти, уползти на коленях в казённый дом с тёплыми камерами, с трёхразовым питанием, с ежедневными прогулками и, наконец, с библиотекой, в которой можно брать для чтения книги по истории, философии, техническим наукам и даже изучать иностранный язык!»
На самом же деле «Кирпичный завод» оказался подобием гитлеровских еврейских гетто. Согнав туда значительную часть недовольных, чекисты затем попросту истребили их физически. Тот же Сулимов сообщает:
«Из того, что мне удалось узнать… кровавая бойня заключённых началась во второй половине марта. В палатки заходил конвоир и, зачитывая по списку, давал команду: “Собирайтесь с вещами!” С радостью на лице вызванные на этап люди прощались с остающимися, надеясь на скорую встречу в политизоляторе. На морозном дворе собирался этап до сотни заключённых, их вещи укладывались в сани, запряжённые лошадьми, окружались небольшим конвоем с собаками… Затем этап растягивался по едва заметной тундровой дороге, а впереди и сзади колонны — конвоиры и санные упряжки лошадей. При удалении от лагпункта на 4–5 км на крутом изгибе тропы из саней начинали трещать пулемёты, и люди, как скошенная трава, падали на стылую землю… Палачи так устроили расстрельный процесс, что оставшиеся в живых узники лагпункта не догадывались о трагедии с ранее выведенными на этап их несчастными товарищами. Ведь пулемётные очереди и ружейные выстрелы производились на значительном расстоянии от Кирпичного завода».
Об этих казнях сохранились рассекреченные данные, в частности, донесения самого Кашкетина: «Никаких эксцессов и неполадок в процессе операции не было… К месту операции осуждённые направлялись группами по 60 человек. Всё годное лагерное обмундирование сохранено, описано, упаковано и хранится на Кирпичном заводе… Сейчас прошло 10–11 дней, и можно с уверенностью сказать, что настроение заключённых на Кирпичном заводе не внушает никаких опасений… Я решил закрепить на всё это время за 3-й частью место проведения операций. Там расположился взвод стрелков, оснащённый станковым и лёгким пулемётами. Во взвод направлен политрук на постоянную работу, до времени окончания операции на Кирпичный завод командирован оперработник тов. Бутузов».
Троцкистов и других зэков уничтожали и иными способами. Бывший комкор Алексей Шаповалов вспоминал о лагере смерти на Ухтарке — притоке Ухты в её верхнем течении. Около двухсот человек здесь сожгли живьём в бараке, ночами расстреливали лагерников, заставляя их рыть для себя могилы. По рассекреченным данным, с 1 марта 1938 года в результате «кашкетинских расстрелов» погибли 86 заключённых в посёлке Чибью, 1779 — в районе Ухтарки, а всего казнено различными способами 2614 человек (всего же троцкистов в 1937 году прибыло в воркутинские лагеря около трёх тысяч, то есть расстреляно было большинство из них).
Несмотря на то, что уничтожение заключённых проводилось тайно, весть о нём быстро распространилась по лагерям. Не было, наверное, ни одного воркутинского лагерника, который бы не знал о чудовищных «кашкетинских расстрелах»
[10]. И неважно, что расстрелы на самом деле начались раньше, нежели в Воркуту прибыл Ефим Кашкетин. Так же, как и колымские массовые расстрелы названы «гаранинскими», несмотря на то, что сам начальник Севвостлага полковник Степан Гаранин не входил в «расстрельную тройку» УНКВД по Дальстрою, не допрашивал, не осуждал людей, не был инициатором расстрелов, сам никого лично не расстреливал. Главное, что говорит арестантская молва.
И всё же — насколько обоснованы были опасения воркутинских лагерников о грядущих массовых расстрелах «политиков», бандитов, уголовников-рецидивистов? Думается, они были безосновательны. Некоторые исследователи считают, что решающую роль сыграла авантюрная, «наполеоновская» натура руководителя восставших — Марка Ретюнина. Наверное, в этом есть определённая доля истины. Без отчаянного руководителя, способного поднять и повести за собой инертную массу заключённых, тем более «политиков», никакое вооружённое выступление не было бы возможно. Однако, с другой стороны, если бы не существовало атмосферы всеобщего психоза, связанного со слухами о грядущих расправах, никакой Ретюнин не смог бы взбаламутить такую массу людей — даже несмотря на то, что подготовка к восстанию и обработка сознания зэков велась в течение нескольких месяцев. Так что одно наложилось на другое — и роль личности, и психология взбунтовавшейся толпы.
Разумеется, огромную роль сыграла и кровавая практика гулаговских чекистов, которая давала обильную пищу для панического ужаса среди заключённых. Чтобы понять значение «кашкетинских расстрелов» как одной из важнейших побудительных причин восстания, достаточно приглядеться к его руководству.
Согласно документам судебного следствия, командир бунтовщиков Зверев Иван Матвеевич в 1927 году являлся организатором и руководителем троцкистской группы в городе Ряжске, исключён из ВКП(б) за принадлежность к троцкизму и в 1936 году осужден Особым совещанием за контрреволюционную троцкистскую деятельность на 5 лет ИТЛ.
Начальник штаба Дунаев Михаил Васильевич — осуждён в 1938 году Военным трибуналом на 15 лет по статье 58—7-11 УК РСФСР как участник троцкистской организации.
Военком Макеев Алексей Трофимович — осуждён в 1941 году Военным трибуналом Московского военного округа по ст. 58—11-7 как один из руководителей право-троцкистской организации в Коми АССР на 15 лет ИТЛ с поражением в правах на 5 лет.
Командир отделения Соломин Василий Евгеньевич — в 1936 году исключен из партии и арестован как участник троцкистской организации и осужден Особым совещанием на 5 лет ИТЛ.
Нет сомнения, что и многие рядовые участники восстания были осуждены (праведно и неправедно) за троцкистскую деятельность. А теперь посудите сами: были у них основания после не столь давних «кашкетинских расстрелов» троцкистов опасаться их повторения в военное время?
Десять дней, которые потрясли ГУЛАГ
Восстание в «Лесорейде» полыхнуло 24 января 1942 года. Активная его фаза продолжалась десять дней. Идея вооружённого выступления, однако, возникла намного раньше: по некоторым сведениям, в августе 1941 года, по другим — в октябре-ноябре. Идейные вдохновители — уже названные выше Ретюнин, Макеев, Зверев, Дунаев. При этом замнаркома внутренних дел Коми АССР Симаков в докладной записке на имя Берии, хотя и называл Ретюнина «бандглаварём», однако сообщал, что «бандитско-повстанческая организация была создана отбывающими наказание в лагере троцкистами, которые обработали и вовлекли в свою организацию бывшего начальника командировки Воркутлага “Усинский рейд” Ретюнина».
Возможно, в чём-то Симаков прав. Видимо, главным идеологом восставших был всё же Алексей Макеев — в прошлом крупный хозяйственник, управляющий трестом «Комилес», член бюро обкома ВКП(б). Его репрессировали в составе всей партийной верхушки и приговорили к расстрелу, который заменили 15 годами лагерей. Кроме того, Марк Ретюнин, конечно, даже при всех своих
задатках лидера не в состоянии был продумать и в деталях разработать план восстания. Для этого требовались профессиональные военные, командиры, офицеры. И такие в рядах бунтовщиков были. Двоих можно назвать определённо — Иван Зверев и Михаил Дунаев.
Подготовка велась в глубокой тайне: даже за месяц до выступления о нём знали не более двух десятков человек. В планы заговорщиков входили захват Усть-Усы, установление своей власти, предъявление ультиматума руководству Воркутлага с требованием освободить всех заключённых, бросок по железной дороге в двух направлениях — на Котлас и Воркуту. Макеев рассчитывал, что по пути к ним будут примыкать заключённые из других освобождаемых лагерей, спецпоселенцы и местное население. Таким образом, возникнет мощная армия. Среди вольных предлагалось агитировать за отмену колхозов, а также отменить продовольственные карточки, выдавая продукты со складов.
Итак, 24 января, в субботу, в 16.00 по распоряжению Ретюнина все свободные охранники пошли мыться в баню (банщик — китаец Лю Фа — был в числе заговорщиков). Как только за ними закрылась дверь, боевая группа заключённых обезоружила стрелка на вахте и дежурного в казарме. Ещё два стрелка пытались сопротивляться, но один был ранен, другой — убит.
В руках восставших оказалось 12 винтовок, 4 нагана, 1682 винтовочных и 105 револьверных патронов. Затем всю охрану заперли в овощехранилище. Одному из стрелков удалось бежать. Он добрался до затона Печорского пароходства и сообщил о ЧП.
Между тем участникам бунта раздали со склада заранее выписанные Ретюниным добротные армейские полушубки, валенки, шапки, загрузили на сани продовольствие. Однако к восставшим примкнули далеко не все заключённые: из 193 человек отчаянных оказалось только 82. Остальные либо разбежались, либо уговаривали повстанцев одуматься.
Но остановить повстанцев было уже невозможно. Последовал штурм Усть-Усы. Эффект неожиданности сыграл свою роль: первая группа во главе с Василием Соломиным — с четырьмя винтовками на 12 человек! — захватила почту и перерезала связь. Ретюнин с 20 бойцами напал на здание КПЗ. В ходе столкновения два стрелка охраны были убиты, освобождено из камер предварительного заключения 38 арестованных, из которых 12 человек, в основном обвинявшихся в контрреволюционных преступлениях, примкнули к восставшим. Затем ретюнинцы предприняли штурм здания охраны Печорского управления речного пароходства, ранив нескольких охранников и захватив 10 винтовок (из них две мелкокалиберные) и один наган. Одновременно восставшие ворвались в местное отделение Госбанка, управляющий Родин был убит.
Затем группы объединились и взяли штурмом райотдел НКВД. В бою погибли замначальника райотдела и трое милиционеров, но одному удалось бежать. Он добрался до лагпункта «Поля-Курья» и сообщил о нападении «немецкого десанта». Начальник лагпункта М. Поляков (из бывших заключённых-«бытовиков») послал в помощь милиционерам отряд лагерных вохровцев из 15 человек с ручным пулемётом.
Марк Ретюнин между тем отправляет шестерых повстанцев на захват местного аэродрома, где находилось два самолёта. Однако охранники и пилоты, которые находились в это время на аэродроме, были уже предупреждены о возможном налёте. Они встретили атакующих огнём, обратили в бегство и даже захватили одного из них.
Эффект внезапности был потерян. К тому же инструктор райкома ВКП(б) М. Карпова сумела пробраться на радиостанцию и передать на всю Усть-Усу сообщение о нападении банды неизвестных людей на райцентр. Загудел консервный завод. Его рабочие приготовились к обороне от «немецкого десанта». А вскоре в бой против восставших вступили бойцы ВОХР из «Поля-Курья». Около полуночи ретюнинцы панически бежали из Усть-Усы. Многих соратников просто бросили, в том числе одного из командиров зэковского ополчения — Ивана Зверева.
Отряд ушёл сильно поредевшим — всего 41 человек (из них 35 — «политические») на 10 санях. Тем временем по всему краю уже собирались силы для ликвидации восстания. На всех возможных направлениях движения отряда были выставлены заслоны, предупреждены начальники лагпунктов.
В результате боя в Усть-Усе было убито девять повстанцев и один ранен, задержано 40 безоружных бунтовщиков, а после отступления ретюнинцев в райотдел НКВД добровольно явился 21 человек. С другой стороны погибли 14 человек (в том числе мирные жители) и 11 были ранены.
После отступления повстанцам снова улыбнулась удача. Они настигли в 20 километрах от Усть-Усы в деревне Акись обоз с оружием, напали на него и разжились значительным количеством винтовок, пистолетов, патронов, гранатами и компасами. Так что, несмотря на неудачный штурм райцентра, боевая группа в составе 41 бойца была хорошо вооружена и экипирована.
И всё же дальнейшие события напоминали травлю обречённых. Утром 25 января повстанцы вошли в деревню Усть-Лыжа для отдыха и пополнения запасов продовольствия. Заняли почту, сельсовет, разоружили единственного милиционера, взломали склад, забрали 10 мешков муки, 5 мешков крупы, 3 мешка сахару, ящик махорки, спирт и пилы. На продукты Алексей Макеев выписал расписку от имени «отряда особого назначения № 41». Затем попытался агитировать население против колхозов, но безуспешно. На почте восставшие прослушали телефонные разговоры и узнали, что их везде ожидают заградительные отряды, два из которых уже движутся к Усть-Лыже. Около трёх часов дня бойцы зэковской «армии» на 13 подводах ушли в лес по оленьей тропе, чтобы добраться до оленьих стад, захватить их и, пересев на упряжки, унестись в тундру.
План был неплох, однако и его осуществить не удалось. Через сутки после ухода повстанцев в Усть-Лыжу добрались две группы вохровцев численностью 55 и 70 человек. Отдохнув, они отправились в погоню. Беглецы не смогли использовать этот временной разрыв, они задержались у оленеводов, вымотанные длительным бегством. Утром 28 января у стоянки Усть-Усинского оленесовхоза вохровцы настигли ретюнинцев. Начался бой. Отряд окопался на обоих берегах реки Лыжи и открыл огонь по преследователям. Перестрелка длилась до позднего вечера и окончилась победой повстанцев. Итог для ВОХР оказался печальным: 15 убитых, в том числе начальник отделения Севжелдорлага лейтенант госбезопасности Барбаров, 9 раненых, из которых двое скончались, 75 человек госпитализированы с обморожением. Но это была не столько заслуга зэков «отряда особого назначения № 41», сколько последствия бездарного руководства операцией по ликвидации восставших. Как отмечалось позднее в отчёте, «в результате неумелого выбора позиции и отсутствия руководства ведения огня значительная часть убитых бойцов перебита огнём собственных взводов». С наступлением темноты вохровцы бежали с поля боя. На следующий день в бой согласились идти только 35 человек из ста.
Но и повстанцев изрядно потрепали: они потеряли 16 человек убитыми. Оставалось около 30 человек, измученных, почти без боеприпасов. Они решили уходить, разбившись на группы, чтобы затеряться в тайге и тундре. Но спастись зимой, без поддержки местных жителей, в окружении вооружённого до зубов противника (против зэков задействовали даже авиацию) было невозможно. Уже 31 января были ликвидированы две небольшие группы беглецов, на следующий день в верховьях реки Малый Тереховей (175 км от Усть-Усы) преследователи взяли в кольцо основной отряд, где сосредоточились все руководители восстания. Бой длился почти сутки. Три повстанца погибли, боезапас был почти весь израсходован. И тогда шестеро загнанных зэков, в том числе Ретюнин, Макеев и Дунаев, застрелились. Двое — Яшкин и китаец Лю Фа — сдались.
Так завершились десять дней, которые потрясли Воркутлаг, а по большому счёту — весь ГУЛАГ. Достаточно сказать, что приказ № 72 от 28 января 1942 года «О ликвидации вооружённого бандитского выступления группы заключённых командировки Воркутлага “Усинский рейд” в районе Усть-Уса» подписал сам народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Павлович Берия.
Всё было кончено, хотя по тайге ещё долго вылавливали отдельных повстанцев. Более чем через месяц, 3 марта, опергруппа обнаружила в охотничьей избушке недалеко от деревни Куш-Шор трёх вооруженных беглецов, которые оказали сопротивление и были уничтожены (со стороны преследователей погиб местный охотник-проводник). 4 марта в верховьях реки Лыжа задержаны в шалаше ещё пятеро участников Усть-Усинского восстания. Они не оказали сопротивления. Несмотря на это, по приказу командира опергруппы троих в ходе следования пристрелили — «потому что их трудно было доставить в Усть-Усу».
Итого за время восстания и его ликвидации повстанцы потеряли 54 человека убитыми (включая шестерых самоубийц). Со стороны их противников потери составили убитыми и умершими вследствие тяжелых ранений — 33 человека, ранеными — 20 человек, а также 75 человек обмороженных (по другим данным — 52 человека).
9 августа 1942 года решением суда 50 обвиняемых по делу об Усть-Усинском восстании были приговорены к расстрелу. Среди них оказались и те, кто в бунте не участвовал, даже «политики» из других лагерей. Приговор был приведён в исполнение через несколько дней в Сыктывкаре. А уже 20 августа по всем лагерям и колониям НКВД разослана из Москвы докладная записка «Об усилении контрреволюционных проявлений в ИТЛ НКВД», где содержалось указание о немедленном аресте заключённых, «на которых имеются материалы об антисоветской работе в лагерях и колониях, высказывающих повстанческие настроения, а также ведущих подготовку к побегам». До конца года за «повстанчество» к ответственности было привлечено 2335 человек.
А это значит, что в 1942 году о восстании знал фактически весь Воркутлаг. Такое ЧП скрыть было невозможно. И, как водится, оно обрастало массой слухов и домыслов. Наверняка это стало одним из толчков к формированию нового сознания и мировосприятия у части заключённых.
Теоретически восстание Ретюнина могло послужить материалом для песни о побеге двух зэков из воркутинских лагерей. Хотя, на мой взгляд, такое предположение не слишком основательно. Восстание Ретюнина для 1942 года — из ряда вон выходящий эпизод. По-настоящему и вооружённые побеги, и восстания начали сотрясать ГУЛАГ много позже…
Мюнхгаузен «в законе»
Итак, несмотря на ретюнский бунт, военные годы не располагали к вооружённым побегам. «Политики» в значительной части были настроены патриотически (хотя на фронт их и не пускали). Блатарей свобода тоже не особо манила: в городах мужчина призывного возраста — как бельмо на глазу: патрули остановят обязательно. А попадись — поставят к стенке без суда и следствия. Да и что можно «сработать» на воле, где «всё для фронта, всё для победы», а для «честного вора» ничего?
Правда, лагерные оперативники всеми силами пытались разоблачить какие-нибудь «подпольные фашистские организации» зэков. В одном из отчётов ГУЛАГа читаем: «В течение 1941–1944 гг. в лагерях и колониях вскрыто и ликвидировано 603 повстанческих организации и группы, активными участниками которых являлись 4640 человек». Статистика не впечатляет (наполняемость ГУЛАГа в военные годы — примерно полтора миллиона человек). К тому же наверняка органы НКВД «обезвредили» немало «липовых» групп. Хотя факт существования некоторых подпольных организаций — «Железная гвардия», «Русское общество мщения большевикам» — у кандидата исторических наук В. Земскова, например, не вызывает сомнений. Всё же и он не может обойти тот факт, что «в отчётах ГУЛАГа о настроениях заключённых отмечалось, что только незначительная их часть надеется на освобождение с помощью гитлеровцев. У большинства же царили патриотические настроения».
В этом смысле совершенно феерична история генерала Ивана Бессонова. Сын пермского рабочего, он в феврале 1920 года добровольцем пошёл в Красную армию, в 1934-м перевёден в войска НКВД. Выполнял ответственные задания: будучи командиром 3-го полка НКВД, охранял Жданова на Дворцовой площади в Ленинграде, располагая пулемётные расчёты на чердаках Зимнего дворца во время парадов и демонстраций. В 1937–1938 гг. Бессонов — начальник отдела боевой подготовки пограничных и внутренних войск НКВД. Казалось бы, менее подходящей фигуры для «идейного борца со сталинизмом» придумать трудно. Человек воспитан и вскормлен этим самым сталинизмом, был плотью от плоти советской тоталитарной системы, причём одним из руководителей сталинской «опричнины» — НКВД. Но…
Бессонова переводят в состав действующей армии, и во время войны он попадает в плен под Гомелем. Здесь генерал излагает свой послужной список, убеждая германское командование в глубоких знаниях специфики ГУЛАГа. Бессонов предложил гитлеровцам сформировать парашютно-десантное подразделение и забросить несколько групп в район расположения исправительно-трудовых лагерей НКВД от Северной Двины до Оби. Десантники должны были поднять заключённых на антисталинское восстание в советском тылу. Бессонов гарантировал успех акции, однако он был всего лишь аппаратным работником, а его прожект являлся авантюрой и откровенным бредом. Каких именно зэков собирался поднимать на борьбу Бессонов? В лагерях во время войны большей частью остались «политики» и уголовники: остальных власть старалась амнистировать и отправить на фронт. Среди «политиков» немцам было нечего ловить: их ожидало только отчаянное сопротивление правоверных коммунистов. Блатные, согласно «воровскому кодексу», не брали оружие даже из рук собственной власти; ещё менее они были настроены брать его из рук власти чужой. Кроме того, уголовники всегда считали себя «социально близкими» советской власти. То есть никакой базы для поддержки со стороны зэков у германского командования быть не могло. Что и доказали последующие события.
Достоверно известно о высадке нескольких «бессоновских групп». Двенадцать человек под командованием старшего лейтенанта Годова десантировались 2 июня 1943 года в районе совхоза «Кедровый Шор» Кожвенского района Коми АССР. Парашютисты были одеты в форму НКВД и до зубов вооружены: немецкие и советские автоматы, ящики с ручными гранатами и взрывчаткой. Оружие, а также запас продовольствия и медикаментов предназначались для освобождённых зэков. Однако 9 июня группа была ликвидирована войсками НКВД. Причём обстоятельства ликвидации чрезвычайно любопытны. Группа летела из Риги через Норвегию. Командир, бывший колчаковский офицер Лев Николаев — единственный, кто собирался воевать с Советами, остальные решили сразу сдаться. Николаева убили сами десантники. Ещё одного диверсанта застрелил перепуганный стрелок ВОХР, когда тот шёл сдаваться. После того как десант добровольно сдался, оперативники НКВД на радостях напились и растащили трофейное имущество, продукты и деньги. А когда контрразведка решила провести с фашистами радиоигру и заманить в ловушку новые группы, выяснилось, что пропала топографическая карта, которая находилась при диверсантах. И вообще от их экипировки осталось… три банки из-под лимонной кислоты и два носовых платка. «Бдительные мародёры» попали под суд.
В июне 1944 года в бассейн Печоры были сброшены ещё семеро парашютистов особой группы «Ульм». Пятеро погибли в перестрелке, двоих пленили. После краха десантов гестапо обвинило Бессонова в антигерманском заговоре, план гулаговских восстаний назвали «провокаторским», генерала приговорили к смерти и посадили в концлагерь Заксенхаузен. Правда, приговор привести в исполнение не удалось: Бессонова освободили союзники. Однако отсрочка была недолгой. 15 мая 1945 года Иван Георгиевич обратился к оккупационным американским властям с просьбой возвратить его в Советский Союз. Хотя догадывался, что участь его будет печальной. Так и случилось: 19 апреля 1950 года Бессонова казнили… Фемиды Гитлера и Сталина оказались в этом случае единодушны.
Эпоха лагерной «пугачёвщины»
Итак, во время войны более ни о каких вооружённых побегах и восстаниях (за исключением ретюнинского) не известно. А вот после войны такие побеги стали суровой реальностью. Мы уже отчасти касались причин этого, но сведём их все воедино. Первая — приток бывших «вояк», то есть людей, прошедших фронт и научившихся легко проливать чужую кровь. К ним же можно добавить осуждённых власовцев, бандеровцев, «лесных братьев» и прочих. Второе — появление в 1947 году указов «четыре-шесть», по которым людей осуждали за кражу личного, государственного, общественного имущества от 10 до 25 лет лишения свободы. В-третьих, отмена в том же году смертной казни: убийство для человека с огромным сроком фактически стало безнаказанным. Наконец, создание в 1948 году системы Особлагов, куда изолировали самых опасных политических зэков, и спецлагерей для особо опасных уголовников.
Это мгновенно сказалось на оперативной обстановке, особенно в воркутинских и печорских лагерях. Уже 16 июня 1947 года заместитель начальника ГУЛАГа Георгий Добрынин отмечал серьёзный рост групповых и вооружённых побегов. А Генеральный прокурор СССР Григорий Сафронов заявил в своём выступлении 1948 года: «Групповые вооружённые побеги, имевшие место в Воркутинском, Печорском и Обском лагерях, были организованным выступлением особо опасных преступников, которые ставили перед собою задачу освобождения других заключённых и уничтожения работников охраны и лагеря». Прокуратура рассматривала эти выступления как предпосылку широкомасштабных восстаний. Только на «стройке 501» (Северное управление железнодорожного строительства МВД) в 1948 году было совершено 64 побега, в которые ушли 129 заключённых. 66 из них разоружили отряд охраны и освободили 500 зэков.
В августе 1948 года вспыхнуло восстание заключенных Обского лагеря, работавших на строительстве железной дороги Чум — Лабытнанги. Восставшие захватили несколько лагпунктов и продвигались к Воркуте, чтобы поднять заключённых Воркутлага. Против повстанцев были использованы авиация и истребительные отряды, уничтожившие основную часть восставших. Ряд исследователей утверждают, что ядро восстания составили бывшие офицеры, но, согласно официальным отчётам, наиболее массовую и отчаянную часть повстанцев составляли уголовники.
Подобные события характерны не только для Республики Коми. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» рассказывает:
«В 1951 году в Краслаге около десяти большесрочников конвоировалось четырьмя стрелками охраны. Внезапно зэки напали на конвой, отняли автоматы, переоделись в их форму (но стрелков пощадили! — угнетённые чаще более великодушны, чем угнетатели), и четверо, с понтом конвоируя, повели своих товарищей к узкоколейке. Там стоял порожняк, приготовленный под лес. Мнимый конвой поравнялся с паровозом, ссадил паровозную бригаду, и (кто-то из бегущих был машинист) — полным ходом повёл состав к станции Решёты, к главной сибирской магистрали. Но им предстояло проехать около семидесяти километров. За это время о них уже дали знать (начиная с пощажённых стрелков), несколько раз им пришлось отстреливаться на ходу от групп охраны, а в нескольких километрах от Решёт перед ними успели заминировать путь и расположился батальон охраны. Все беглецы в неравном бою погибли».
Насколько достоверна эта история, сказать трудно. Однако таких побегов — с захватом оружия, перестрелками и боями — в последние годы сталинского правления ГУЛАГ знал немало. Они становились лагерным фольклором, обрастая фантазиями, преувеличениями и проч.
Наиболее известен в этом ряду рассказ Варлама Шаламова «Последний бой майора Пугачёва». Первый «набросок» Шаламов создал в очерке «Зелёный прокурор», изложив историю подполковника Яновского, который увёл в побег арестантов из числа «вояк»
[11]. Здесь конспективно изложены все линии будущего рассказа: двенадцать беглецов (по числу евангельских апостолов) из числа лагерной хозобслуги — «придурков», откормившихся за зиму (иначе слабому зэку не выдержать побега), нападение на вахту, затем — на барак охраны, где арестанты вооружились, захват грузовика на трассе, уход в тайгу, по направлению к аэродрому, бой с преследователями, даже количество погибших одинаково — двадцать восемь трупов. Один из персонажей «Зелёного прокурора» перекочевал в рассказ о Пугачёве — выживший побегушник повар Солдатов. Правда, в первом случае ему дали двадцать пять лет лагерей, во втором — расстреляли. Это указывает на то, что побег Пугачёва, в отличие от побега Яновского, Шаламов перенёс на более позднее время — когда в Уголовный кодекс снова вернули статью о расстреле.
Есть и другое важное отличие. Группа Яновского состояла не только из бывших бойцов Красной армии, но и «из военных преступников, из власовцев, из военнопленных, служивших в немецких частях, из полицаев и жителей оккупированных немцами сёл, заподозренных в дружбе с немцами. Здесь были люди, за плечами которых был опыт войны, опыт ежедневных встреч со смертью, опыт риска, опыт звериного уменья в борьбе за свою жизнь, опыт убийства…»
В рассказе о Пугачёве Шаламов полностью вымарывает упоминание о власовцах и полицаях, оставляя только советских солдат и офицеров: «Здесь было много людей с иными навыками, с привычками, приобретенными во время войны, — со смелостью, уменьем рисковать, веривших только в оружие. Командиры и солдаты, летчики и разведчики…» И тем самым — искажает историческую правду, лакирует неприглядную действительность.
А в действительности зачастую движущей силой вооружённых побегов являлись именно каратели, особенно украинские националисты. Колымский писатель, знаток истории ГУЛАГа Александр Бирюков в документальном очерке «Побег двенадцати каторжников» рассказывает об одном из реальных побегов двенадцати арестантов с прииска им. М. Горького на Колыме в июле 1948 года. Шаламов наверняка знал об этой истории, поскольку прииск находился примерно в ста километрах от Дебинской больницы, где писатель работал фельдшером.
Во главе побега стоял Иван Тонконогов. Беглецы напали на охрану, захватили оружие и амуницию — пулемёт, 7 автоматов, 3 винтовки, 3 нагана, бинокль, компас. Группа почти полностью состояла из выходцев с Западной Украины: бывших карателей, полицаев, членов Организации украинских националистов. Лишь двое в прошлом служили в Советской армии.
Вот лишь несколько характеристик.
Главарь банды — Тонконогов Иван Николаевич (или Никитович), украинец, в предвоенные годы дважды судим. В апреле 1942 года добровольно поступил на службу в немецкие карательные органы, отличался особой жестокостью, лично избивал и пытал задержанных. Трибунал приговорил Тонконогова к 25 годам каторжных работ.
Худенко Василий Михайлович, украинец, в 1941 году был призван в армию, сдался в плен, в январе 1942 года вступил в члены ОУН, в апреле 1943 года вступил в Украинскую повстанческую армию, был политическим шефом штаба Северной группы УПА. Приговорён к расстрелу, который заменён 20 годами каторжных работ.
Сава Михаил Михайлович, украинец, участвовал в банде УПА, в сотне бандита «Беркута». Приговорён к 15 годам каторжных работ.
И так далее…
В ночь на 26 июля 1948 года эти каторжники напали на вооружённую охрану лагпункта № 3 ОЛП Нижний Ат-Урях и убили старшего надзирателя Васильева, дежурного по взводу Рогова, дежурного по вахте Перегудова, связали жену Перегудова Сироткину и проводника служебных собак Грызункина. Автор очерка отмечает совпадение многих деталей с шаламовским рассказом. Бирюков убеждён, что именно этот случай положен Шаламовым в основу рассказа о побеге Пугачёва.
Группу Тонконогова взяли быстро. Поднятый по тревоге взвод охраны с собаками вышел на след, после первой же перестрелки банда понесла потери и рассеялась. Уже 29 июля почти все беглецы были уничтожены. Уцелели двое и — на этот раз в соответствии с историей о побеге Яновского — получили дополнительные сроки. Кстати, один из них носил фамилию Солдатов — как и персонаж рассказа о майоре Пугачёве. Солдатов не был бандеровцем, он воевал против фашистов, имел награды, состоял в партии. Но в 1944 году здорово напился и застрелил милиционера. О Тонконогове на суде сказал: «Мы были люди разных взглядов, но оба мы — заключённые, и это нас объединило». Вот главное: блатных, «вояк», бандеровцев, «политиков» объединяло стремление «переменить участь»…
Если Шаламов пытался перелицевать побегушников исключительно в неправедно осуждённых честных советских воинов, то другие авторы создавали иные легенды. Например, бывший лагерник Пётр Демант (литературный псевдоним Вернон Кресс), автор «документального» романа «Зекамерон XX века». Демант поведал о побеге с прииска «Днепровский» пятерых зэков во главе с Василием Николаевичем Батютой. С лёгкой руки Деманта история эта кочует по Интернету в кратком изложении: «Штабс-капитан русской царской армии, георгиевский кавалер Василий Батюта, уроженец города Сумы, 1891 года рождения, во время Второй мировой войны служил в СС и удостоился высших наград Рейха. Попав в колымские лагеря, Батюта два раза уходил в побег… После второго побега отряд Батюты из пяти человек… долгое время вёл боевые действия на Колыме. Партизаны нападали на лагпункты, убивали охрану, захватывали продукты и боеприпасы, выпускали заключённых, сеяли окрест панику. Уничтожили спецгруппу НКВД из Москвы, специально посланную для их истребления. Дошло до того, что Батюта прислал начальнику прииска “Днепровский” записку, в которой отдельно говорилось об оперуполномоченном Гаврилове: “Решили покинуть ваши гостеприимные края. Благодарим за хлеб-соль. Точно неизвестно, когда уедем. Если г. Гаврилов будет продолжать издеваться над пленными, передайте ему, что мы вернемся на «Днепровский» и вздёрнем его на линейке, не побрезгуем предварительно кастрировать”. И подпись “В. Батюта, оберштурмбаннфюрер СС, кавалер орденов Святого Георгия Победоносца, Железного креста первой и второй степеней и Рыцарского креста”. Партизанский отряд Батюты стал колымской легендой».
Вся эта история о «благородном фашистском Робине Гуде» — полный бред. Не было никакого «высокого худого старика с очень загорелым лицом, маленькими зоркими голубыми глазами и светлыми, сильно поседевшими волосами», который «помимо родного русского, говорил на отличном немецком языке» (как описывал главаря беглецов Демант). Не было «кавалера Рыцарского креста» — все удостоенные этой высшей награды Рейха известны поименно. А вот побег с «Днепровского» — был. И Батюта имелся в наличии. Только не Василий, а Павел, которому на момент второго побега в 1949 году исполнился 41 год, так что никаким георгиевским кавалером быть он не мог.
Подлинный Батюта явно не подходит под мерки «лагерного героя». На самом деле украинец Павел Батюта в 1941 году дезертировал из рядов Красной армии и добровольно поступил на службу к гитлеровцам, где дорос до начальника Роменской окружной полиции, затем до начальника карательного отряда, который возглавлял до весны 1943 года, когда был уволен немцами с должности за зверское убийство 29 роменчан. Пьяные садисты во главе с Батютой не просто убили несчастных и побросали их в колодец. Большинство жертв были раздеты догола, у некоторых проломлены черепа, лица изуродованы до неузнаваемости. Женщин перед смертью жестоко насиловали.
Число расстрелянных, повешенных, замученных Батютой не поддаётся исчислению. Только в декабре 1942 года в селе Озеряны Черниговской области под руководством палача были согнаны под одну крышу и живьём сожжены 172 человека. А ведь каратели Батюты также привлекались к борьбе с партизанами под Кролевцом, Конотопом, Батурином, Липовой Долиной, Ямполем, в брянских и курских лесах.
За свою деятельность Батюта был награжден оккупантами гектаром земли, домом и бронзовой медалью, которую ему, правда, так и не вручили из-за «инцидента» с колодцем. Как справедливо замечает автор очерка «По следам палача» Олеся Рапута: «Даже для фашистов Батюта и его подчинённые оставались примитивной кастой убийц, которых презирали, но которые были крайне необходимы, чтобы топить в крови всех, кто не подчинится фашистскому режиму».
После войны Павлу Батюте удавалось некоторое время скрываться под вымышленным именем вместе с женой и сыном. Однако в 1947 году его жена Мария была застрелена в Южной Осетии, и следователям удалось докопаться до прошлого мнимого «Станислава Синюржи». Но уже вступил в действие запрет на смертную казнь, и Батюта получил 25 лет лагерей.
В 1948 году он совершает первый неудачный побег — и остаётся в живых. Тогда украинский палач в сентябре следующего года повторяет попытку — в составе группы из лаготделения № 11 прииска «Днепровский». Все участники формально были «политиками»: измена Родине, подготовка теракта, контрреволюционная деятельность… Но на самом деле все они оказались отъявленными уголовниками. Вот как описывает дальнейшие события в очерке «Наречённый Берлаг» Александр Козлов:
«Совершили дерзкий побег украинцы В. Н. Батюта и Д. К. Ермак, казахи Т. Еркибаев и Д. Ташканбаев, венгр Л. Балог… Их поведение и действия во время побега явно не похожи на поведение “политических”. По сути своей, они носили уголовный, бандитский характер… “Побег преступников, — говорилось в специальном донесении, — совершён при следующих обстоятельствах. Заключённые, совершившие вооруженный групповой побег, работали на производстве в составе бригады, состоящей из 27 человек, и находились под охраной двух конвоиров — бойцов конвойных войск, вооружённых автоматами. В момент перерыва, когда заключённые сидели у костра, к костру подошли оба конвоира и сели покурить. В это время несколько заключённых внезапно набросились на конвоиров, нанеся одному из них тяжелое ранение, и отобрали у него автомат. Затем таким же путем обезоружили и второго конвоира, нанеся ему незначительное повреждение. Забрав два автомата, 70 штук к ним патронов, два головных убора, принадлежащих солдатам, преступники скрылись в тайге. Остальные заключённые в количестве 21 человека остались на месте работы”.
На розыск и задержание беглецов направили более десяти оперативных групп из 86-й дивизии конвойных войск с розыскными собаками. К ним одновременно были привлечены работники других служб, способных оказать содействие в ликвидации группового побега, который растянулся не на один месяц. Сбежавшие слабо ориентировались в окружающей местности… но, уже выйдя с “Днепровского” на берег реки Хеты и наткнувшись там на небольшое жилье, они запаслись продуктами, затем подождали хозяев — двух рыбаков, связали их и допросили. После того как те рассказали о близлежащем складе оленеводов и согласились туда подвести, беглецы двинулись в путь. Ночью проводников у костра хладнокровно убили, раздели и забросали ветками. Эта первая кровь вроде бы ещё больше объединила “политических”, но спустя некоторое время у них начались разногласия на национальной почве.
Считая, что казахи замышляют что-то недоброе, Ракулов и Ермак их ликвидировали ещё до первого выпавшего снега, а трупы сожгли. После этого оставшиеся в живых вышли к одной из таёжных командировок, где захватили пять лошадей, палатку, одежду и медикаменты. С этим добром они спустились по реке Армань, облюбовали наиболее неприметную сопку, где провели в палатке 2,5 месяца, питаясь вареной кониной. В начале 1950 года после ограбления ещё одной командировки к беглецам присоединилась заключённая В. В. Бочкарёва, осуждённая на пять лет лагерей. Это привело к возникновению новых разногласий, кончившихся тем, что Ракулов неожиданно застрелил из автомата ничего не подозревавших Батюту и Ермака. В данное время беглецы жили в вырытой ими землянке недалеко от замёрзшей речки. В начале июня 1950 года они, сделав плот, поплыли на нём по этой же речке.
…Плот ударился об остров и развалился. Оставив Бочкарёву ждать их возвращения, Ракулов и Балог добрались до берега, где наткнулись на вооружённых охотников. Балог открыл стрельбу. В ходе перестрелки Ракулов был смертельно ранен. Бросив его, истекающего кровью, Балог забрал два автомата и вскоре сдался в поселке Хасын, недалеко от которого и происходили эти последние события. С 18 сентября 1949 года до его сдачи 21 июня 1950 года прошло 9 месяцев и 3 дня».
Подобная омерзительная история о шестерых озверевших ублюдках, перестрелявших друг друга, никак не вписывается в картину «героических подвигов» отважного офицера царской армии и «кавалера Рыцарского креста», который противостоял «кровавой гэбне», лихо партизаня в колымской тайге. Но ничего не поделаешь: между сказкой и реальностью порою существует глубокая пропасть…
«Мы добрались с тобою до норвежской границы…»
Итак, в результате исследования гулаговских вооружённых побегов и восстаний можно сделать вывод о том, что, по большому счёту, из лагерей после 1947 года стремились вырваться все — и блатные, и «политики» (прежде всего «вояки»), и «бытовики». В этом стремлении их уравнивали огромные сроки наказания, которое становилось фактически чуть ли не пожизненным. Кроме того, состав «политиков» стал совершенно разнородным, и, говоря об осуждённых по пресловутой 58-й статье, мы объединяем вместе как идейных коммунистов, репрессированных за несогласие со сталинской политикой или вообще по клеветническим наветам, так и бывших фронтовиков, а также настоящих бандитов, уголовников, карателей и фашистских прихвостней… Даже в особлагах, предназначенных исключительно для «контриков», было немало блатных, которые провинились перед своим «братством», были приговорены соратниками к смерти и демонстративно «косили под политиков», набивая на лбу наколки типа «Смерть Сталина спасёт Россию» или выкрикивая антисоветские лозунги, чтобы скрыться от расправы в спецлагерях (см., например, воспоминания узника особлага Целинского и др.).
Мы уже подчёркивали, что, в отличие от профессиональных уголовников, «политическим» бежать было некуда, у них не было опыта жизни в подполье, на нелегальном положении, не существовало у них многочисленных «малин» и «хаз», не знали они умелых изготовителей фальшивых «ксив», да и в принципе такая жизнь была для них непривычной, чуждой. Однако же и среди таких людей находились те, кто пытался совершить побег. Мы говорим о людях, которые не пытались вернуться в советскую действительность, а стремились любыми способами уйти за границу, бежать на «загнивающий Запад». Любопытно, что в некоторых вариантах песни «По тундре» прямо говорится именно об этом. Так, на сайте «В нашу гавань заходили корабли» читаем:
Это было весною, зеленеющим маем,
Когда тундра надела свой зеленый наряд,
Мы с тобой оторвались прямо к финской границе,
Нас теперь не догонит пистолета заряд.
И это — не единственная версия. Так, филолог Юрий Новиков, будучи студентом филологического факультета МГУ в 1955–1960 гг., собирал песни из репертуара туристов-любителей. В числе прочего в этот набор входили и известные блатные произведения. Позднее Новиков свел их в подборку «Песни ГУЛАГа из репертуара студентов МГУ». И здесь мы тоже встречаем упоминание зэков — нарушителей границы:
Стерегли нас с тобою все зловещие птицы,
Нас опасность и смерть поджидали в пути;
Мы добрались с тобою до норвежской границы,
Нам осталось последний рубеж перейти!
О побегах через норвежскую границу нам ничего неизвестно. Да и тащиться из «воркутского рая» к этому малюсенькому отрезку пограничной зоны на северо-запад, через Кандалакшу и Мончегорск — затея нелепая, когда проще пересечь финскую границу, которая гостеприимно растянулась на сотни километров. Она-то манила «политических», пожалуй, с самого создания ГУЛАГа ОГПУ — 1 октября 1930 года. Тем более что граница в то время была не столько на замке, сколько на щеколде, которыми закрываются деревянные сортиры на садовых участках. Однако широкую известность получили два «знаковых», удачных побега из ГУЛАГа 1930-х годов. Мы бы отнесли их к разряду «семейных», поскольку беглецы уходили в чужие земли по принципу «Папа, мама, я — дружная семья».
Первое предприятие такого рода совершили супруги Чернавины. Владимир Вячеславович был известным учёным-ихтиологом, Татьяна Васильевна — старшим научным сотрудником в Эрмитаже. Отец семейства работал в мурманском Севгосрыбтресте. С 1924 по 1929 год он и его коллеги сумели благодаря новым технологиям увеличить улов рыбы с 9 тысяч тонн в год до 40 тысяч. Но «архитекторы» первой пятилетки потребовали довести показатели до… полутора миллионов тонн! Ихтиолог машинально покрутил пальцем у виска — и за саботаж великих планов в 1930 году получил 5 лет Соловков. Направили его в рыбопромышленное отделение лагеря. Чернавин зарекомендовал себя ценным специалистом, и в 1932 году к нему в Кемь приезжает Татьяна с 13-летним сыном Андреем. Тогда они и решили дружно «дёрнуть в загранку».
Побег готовили полгода — ждали лета. Ихтиолог добился от гэпэушников письменного разрешения на служебные командировки без конвоя для организации новых рыбных промыслов. К приезду жены он также получил право на десятидневное свидание. Но с самого начала беглецов преследовали несчастья. За несколько дней до побега глава семейства надорвал спину, поднимая тяжёлую сеть. Татьяна случайно утопила в реке компас вместе с картой. Однако Владимир решил не отступать: будет солнце — сориентируемся по часам. Только прочь из проклятой страны!
Трио Чернавиных надеялось добраться до «приюта убогого чухонца» дня за три-четыре. Однако блуждания растянулись на все восемь: без оружия, компаса, карты, тёплой одежды, почти без пищи беглецы пересекли морской залив в заплатанной лодке, прошли сотню верст дикими горами, лесами и болотами, полными комаров и гнуса. Но в конце концов всё завершилось благополучно, и счастливую семью радушно встретил финский пограндозор.
А через два года в парижской газете «Последние новости» выходят сразу две скандальные книги-разоблачения — «Записки “вредителя”» Владимира Чернавина и «Жена “вредителя”» Татьяны Чернавиной. Эти воспоминания не раз издавались на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, финском, польском и других европейских языках — и даже на арабском. А после того как мемуары беглецов увидели свет в США, газета «Правда» в 1934 году разразилась гневной статьёй в адрес «продажных лжецов».
Ах, если бы «правдорубы» знали, что это — только цветочки…
В тот самый год, когда штатные публицисты обрушивали проклятия на «клеветников России», по направлению к финской границе двинулось ещё одно семейство. Его душой и мозговым центром стал журналист, спортсмен и авантюрист Иван Солоневич. Сокурсник Николая Гумилёва по Петербургскому университету, Солоневич затем работал журналистом, судебным репортёром, активно занимался тяжёлой атлетикой. В Февральскую революцию из-за нужды подался в грузчики, но был позорно изгнан за отказ пить денатурат. После установления власти большевиков вместе с женой Тамарой и братом Борисом бежал к белым на юг России.
В отличие от Чернавиных, Солоневичи после прихода Советов сразу решили валить из страны. Однако бегство с армией барона Врангеля не удалось. Солоневич заболел тифом, провалялся в госпитале, а супруга с сыном Юрием прибыли уже после завершения эвакуации. Не судьба…
Солоневич было «включился в антисоветскую борьбу, но чуть не попал под расстрел и решил переквалифицироваться в бродячие циркачи — благо к нему приехал брат Борис, до этого служивший в ОСВАГе (осведомительно-агитационный отдел Добровольческой армии). Оба колесили по малороссийским сёлам, где за еду устраивали силовые демонстрации, борцовские и боксёрские поединки.
В 1926 году семейство переезжает в Москву, где братья становятся инструкторами по физкультуре и спорту, а Тамара Солоневич устраивается переводчицей в Комиссию внешних сношений при ВЦСПС. Казалось бы, жизнь наладилась. Но на самом деле хрустальная мечта Солоневичей — побег на Запад. Тамара, прослужив с 1928 по 1931 год в берлинском торгпредстве, заключает фиктивный брак с немецким гражданином и уезжает в Германию. А братья готовят побег из СССР. Несколько попыток срываются, а во время последней Бориса, Ивана и его сына Юрия арестовали в вагоне по дороге на Мурманск (их сдал агент «Прицельный» — в миру Николай Бабенко). Брали в лучших традициях польско-российской комедии «Дежа-вю»: операцию проводили 26 сотрудников ГПУ, переодетых в проводников и простых пассажиров! За антисоветскую агитацию и подготовку к побегу Иван и Борис схлопотали по восемь лет лагерей, а Юрий — три года. При этом по иронии судьбы троицу направили в Подпорожское отделение Беломорско-Балтийского комбината — поближе к финской границе.
На ББК Иван Солоневич сумел занять пост спортивного инструктора, а Борис устроился доктором. Чтобы собрать необходимую информацию, подготовить план и маршрут побега, Иван идет к высокому начальству с планом «вселагерной спартакиады», которую он берётся подготовить в кратчайшие сроки. Грандиозная афера достойна стать в один ряд с эпохальным всемирным шахматным турниром в Нью-Васюках. Лагерное руководство всемерно поддержало инициативу. Иван оформляет для себя двухнедельную командировку в Мурманск и пятидневную — в Повенец для сына. Борис должен был совершить побег одновременно с братом и племянником — в полдень 28 июля 1934 года из Лодейного Поля, столицы Свирьского лагеря ОГПУ.
За несколько дней до «часа X» в «Правде» вышло постановление Совнаркома СССР, которое карало попытку побега за границу расстрелом. На что Солоневич-старший заметил: «Не меняет положения», а младший презрительно пожал плечами… Иван и Юрий встретились в условном месте и на шестнадцатый день побега перешли на территорию Суоми, где их заключили в объятия местные крестьяне. Позднее отец и сын встречаются с Борисом, а потом семья воссоединяется с Тамарой Солоневич. Вскоре Иван Лукьянович пишет разоблачительные мемуары «Россия в концлагере», Борис публикует воспоминания «Молодёжь и ГПУ», а 22-летний Юрий Солоневич в 1938 году создаёт книгу «22 несчастья», в которой признаётся, что не имел ничего против жизни в СССР. В Советской России для него было много интересного, например, работа с кинорежиссёром Абрамом Роомом, у которого Юра был в помощниках. В побеге ему был интересен романтический антураж: замысел, обсуждение, подготовка, добыча оружия… В его книге сочетаются восхищение волшебным краем, добрый юмор и едкая ирония по отношению к людям, которые не чувствуют дыхания
вечности, а занимаются делами суетными, нелепыми и смешными.
Юрий с грустью признаёт: побег в Финляндию оказался «утопическим проектом». Счастья на чужбине беглецы не нашли, зато потеряли чудесный пруд «с самыми настоящими, золотистыми и жирными карасями» в родной стороне, и настоящее солнце для них осталось на востоке. За пределами Родины Солоневичей ожидали разочарования, непонимание, клевета. Их объявляли и «агентами ГПУ», и «фашистами», потому что книгой «Россия в концлагере» зачитывались Гитлер, Геббельс, Геринг, а сам Иван Солоневич создал в 1938 году в Германии «Национальный русский фронт» для борьбы с Советами. В феврале 1938 года НКВД организует покушение на Солоневича: от взрыва бомбы гибнут его жена Тамара и секретарь Николай Михайлов…
В конце концов, судьба забросила Ивана и Юрия Солоневичей в Южную Америку, где неугомонный Иван Лукьянович продолжал сочинять статьи о «народной монархии», основанной на «русской идее», а эмигранты по-прежнему считали отца и сына агентами Москвы.
Впрочем, после советско-финского вооружённого конфликта 1939–1940 гг. граница с Финляндией была заперта на надёжный замок, и желание бежать в этом направлении у подавляющего большинства заключённых отпало напрочь. Фактически попытки уйти из сталинских лагерей за пределы СССР возобновились уже после войны, во второй половине 1940-х годов. Да и о них-то известно не особенно много. В основном речь идёт о слухах.
В рассказе Сергея Снегова о «корове» есть эпизод, где зэк Трофим сообщает автору о побеге нескольких десятков заключённых из Норильска:
«Бригада землекопов из бывших военных напала вдруг на “попок” — четырёх стражей на вышках, обезоружила их и с захваченными автоматами ушла в тундру. Цель побега, по рассказам, была простая — прорваться к Енисею, по дороге разжиться продовольствием и новым оружием в посёлках, захватить какое-нибудь судёнышко и уплыть на нём за рубеж. И хоть добытым оружием бывшие солдаты и офицеры, посаженные в лагерь, владели несравненно лучше, чем так за всю войну и не понюхавшие пороха вохровцы, беглецов после нескольких настоящих сражений всех переловили — кого сразу убили, кому навесили новые сроки, кого после возвращения расстреляли по приговору суда. Побег заключённых военных наделал много смятения в Норильске. И первоначальные шансы побега, и его трагический исход горячо обсуждались во всех бараках, особенно среди уголовников, всегда мечтающих о “заявлении зелёному прокурору” — как они между собой называют побеги.
— Фофаны эти офицеры! — доказывал Трофиму его сосед по нарам Васька Карзубый, вор из “авторитетных”… — Диспозицию по-военному выработали — накоротке переть отрядом на воду. А до воды — одни голые льды. Первый же самолёт всех застукал, а куда на равнине деться? На автоматы понадеялись, дурьё! И вышло — их четыре автомата против сорока у вохряков. Нет, не на бой им было дуть всей командой, а прятаться от боя. Уходить только через тайгу, и только на юг».
Время действия — или период с 1945 по 1947 год (до отмены смертной казни, поскольку нескольких беглецов расстреляли, но уже после войны, поскольку бегут из лагеря офицеры, а во время войны офицеров в лагеря не сажали, а отправляли в штрафбаты), или с 1950 года, когда смертная казнь была восстановлена. И то, и другое возможно, поскольку Снегов освободился из лагеря в 1945 году, затем до 1956-го жил в Норильске и работал на горно-металлургическом комбинате.
Александр Солженицын пишет: «И не вовсе редки среди беглецов были такие (на провал готовившие ответ: “Мы бежали в ЦК просить разобраться!”), которые цель имели уйти на Запад и только такой побег считали завершённым. Ходили слухи, что на Чукотке захватили зэки самолёт и всемером улетели на Аляску. Но, думаю: только пробовали захватить, да сорвалось».
Впрочем, в том же «Архипелаге ГУЛАГ» рассказан случай о другом безвестном «геройском беглеце»: «Он был из Одессы, по гражданской специальности — инженер-механик, в армии — капитан. Он кончил войну в Австрии и служил в оккупационных войсках в Вене. В 1948 году по доносу был арестован, получил 58-ю и, как тогда уже завели, 25 лет. Отправлен был в Сибирь, на лагпункт в 300 километрах от Тайшета, то есть далеко от главной сибирской магистрали. Очень скоро стал доходить на лесоповале. Но сохранялась ещё у него воля бороться за жизнь и память о Вене! И оттуда — ОТТУДА! — он сумел убежать в Вену! Невероятно!»
Далее описываются события ещё более невероятные: долгий переход через леса с поеданием сырой рыбы, грибов, орехов и ягод (к счастью, дело было летом), короткие переезды на товарных поездах с постоянными соскоками перед станциями, рукопашная схватка с охранниками на железной дороге, грабёж ларька, работа в течение трёх месяцев механиком в глухом колхозе — и наконец Карпаты:
«Через горную границу глухим крутым лесистым местом он переходил очень осмотрительно — и всё-таки пограничники перехватили его!.. Покинули его силы, он не мог больше ни сопротивляться, ни лгать, и с последней яростью только крикнул: “Берите, палачи! Берите, ваша сила!” — “Кто такой?” — “Беглец! Из лагеря! Берите!” Но пограничники вели себя как-то странно: они завязали ему глаза, привели в землянку, там развязали, снова допрашивали — и вдруг выяснилось: свои! бендеровцы! (Фи! фи! — морщатся образованные читатели и машут на меня руками: “Ну, и персонаж вы выбрали, если бендеровцы ему — свои! Хорошенький фрукт!” Разведу руками и я: какой есть. Какой бежал. Каким его лагерь сделал. Они ведь, лагерники, я вам скажу, они живут по свинскому принципу: “бытие определяет сознание”, а не по газетам. Для лагерника те и свои, с кем он вместе мучился в лагере. Те для него и чужие, кто спускает на него ищеек. Несознательность!) Обнялись! У бендеровцев ещё были тогда ходы через границу, и они его мягко перевели».
Беглец добрался до американского сектора в Вене, устроился на работу:
«Но! — человеческое свойство: минует опасность — расслабляется и наша настороженность. Он надумал отправить деньги родителям в Одессу, для этого надо было обменять доллары на советские деньги. Какой-то еврей-коммерсант пригласил его менять к себе на квартиру в советскую зону Вены. Туда и сюда непрерывно сновали люди, мало различая зоны. А ему было никак нельзя переходить! Он перешёл — и на квартире менялы был взят».
Мне не довелось столкнуться с документальным подтверждением удачных либо неудачных побегов из ГУЛАГа за границу в послевоенный сталинский период. Да и позднее тоже. Хотя побегов «с воли» было очень много. Одно время я специально их систематизировал — невозвращенцы, побеги вплавь, на лодках, на кораблях, на вертолётах, на самолётах, из армейских частей с территории стран Варшавского договора и т. п. А вот чтобы из мест лишения свободы и прямиком через границу на Запад — такого мне не встречалось.
Но ведь история советских лагерей всё ещё полна загадок и тайн…
«Мчится поезд Барнаул — Воркута»: «христосики» против «начальничков»
В истории песни о воркутинском побеге есть и неожиданные повороты. Так, мне удалось найти совершенно удивительный вариант — скорее, не вариант даже, а переделку, которую и нынче исполняют несколько хоров (как мужские, так и женские) евангельских христиан-баптистов. Привожу эту песню полностью — она того стоит:
По тундре, по железной дороге
Мчится поезд Барнаул-Воркута.
За стальною решёткой там сидят христиане
И под грохот колёс тихо гимны поют.
По тундре, по суровой Сибири
За правду Божью наших братьев везут.
Но когда на свободе мы их снова увидим,
Будем радостно Бога мы опять прославлять.
В неволе вы не падайте духом,
Мы вместе с вами создаём Божий дом;
Хоть тяжка ваша доля и хоть слёзы польются,
Но Христова свобода ждёт борцов впереди.
Но скоро пролетит это время,
Не будет тюрем и больших лагерей,
Будет братство Христово, будет вечное лето,
И тогда в жизни новой будет вечный покой.
Здесь нет ни слова о побегах, однако этот баптистский гимн, несомненно, можно считать полноценной версией песни «По тундре». В ней своеобразно продолжена тема протеста против лагерного рабства — на этот раз ненасильственного, но бескомпромиссного противостояния злу.
Надо сказать, что сила духа и веры сектантов и евангельских христиан (а в советское время и официальная власть и общая масса населения различия между теми и другими не видели) отмечается многими узниками ГУЛАГа. Ещё Олег Волков вспоминал о соловецких сектантах 1928 года:
«Упорство сектантов накаляло начальство до предела. Они не называли своего имени, на все вопросы ответ был один: “Бог знает!”; отказывались работать на антихриста. И никакие запугивания и побои не понудили их служить злу, то есть власти, распинавшей Христа. И охранники отступились. Но побег, за которым последовали выговоры и упрёки сверху: “Просмотрели! Распустили!” — подхлестнул служебное рвение.
И вот кучку державшихся вместе исхудалых и оборванных сектантов загнали в угол зоны и, связав руки, поставили на выступающий валун. Было их человек двадцать: два или три старца с непокрытой головой, лысых и седобородых; несколько мужчин среднего возраста — растерзанных, с ввалившимися щеками, потемневших, сутулых; подростки, какими рисовали нищих крестьянских пареньков передвижники; и три нестарые женщины в длинных деревенских платьях, повязанные надвинутыми на глаза косынками. Как случилось, что сектанток не отделили, а держали в нашей зоне? Быть может, специально привели из женбарака, стоявшего неподалеку.
Командир распорядился: стоять им на валуне, пока не объявят своих имён и не пойдут работать. Тройке стрелков было приказано не давать “сволоте” шевелиться.
Строптивцев поставили “на комары” — так называлась в лагере эта казнь, предоставленная природе. Люди как бы и ни при чём: север, болота, глушь, как тут без комаров? Ничего не поделаешь!
И они стояли, эти несчастные “христосики” — тёмные по знаньям, но светлые по своей вере, недосягаемо вознесённые ею. Замученные и осмеянные, хилые, но способные принять смерть — за свои убеждения.
Тщетно приступал к ним взбешённый начальник, порвал на ослушниках рубахи — пусть комары вовсю жрут эту “падлу”! Стояли молча, покрытые серым шевелящимся саваном. Даже не стонали. Чуть шевелились беззвучно губы.
— Считаю до десяти, ублюдки! Не пойдёте — как собак перестреляю… Раз… два…
Лязгнули затворы. Сбившиеся в кучку мужики и бабы как по команде попадали на колени. Нестройно, хрипло запели “Христос воскресе из мёртвых…”. Начальник исступлённо матерится и бросается на них с поднятыми кулаками.
Продержали их несколько часов. Взмолились изъеденные стражи. И начальник махнул рукой: “А ну их к…”»
Разумеется, стойкость проявляли не только сектанты, но и другие верующие. Так, Евгения Гинзбург рассказывает в мемуарах «Крутой маршрут» о православных христианках из Воронежской области (действие относится к 1940 году):
«Очень поддержали нас в ту смертельно опасную для нас весну и те примеры душевной стойкости, которые преподали нам наши полуграмотные воронежские религиозницы. В конце апреля того года была Пасха. Несмотря на то, что именно воронежские всерьёз, без “туфты”, выполняли норму, что на них главным образом и держался производственный план нашего Седьмого километра, Кузен (прозвище начальника конвоя. —
А. С.) и слушать не стал, когда они начали просить освободить их от работы в первый день праздника.
— Мы вам, гражданин начальник, эту норму втрое отработаем, только уважьте…
— Никаких религиозных праздников мы не признаём, и агитацию вы мне тут не ведите! С разводом в лес! И попробуйте только не работать… Это с вами там, в зоне, чикаются, акты составляют да опера тревожат. А я с вами и сам управлюсь… По-рабочему…
И этот злодей дал своим злоденятам конкретное указание. Мы увидели всё это. Из барака, откуда они отказывались выходить, повторяя: “Нынче Пасха, Пасха, грех работать”, их выгнали прикладами. Но, придя на рабочее место в лесу, они аккуратно составили в кучу свои пилы и топоры, степенно расселись на всё ещё мёрзлые пни и стали петь молитвы. Тогда конвоиры, очевидно выполняя инструкцию Кузена, приказали им разуться и встать босыми ногами в наледь, в холодную воду, выступившую на поверхность лесного озерка, ещё скованного льдом.
…Не помню уж, сколько часов длилась эта пытка, для религиозниц — физическая, для нас — моральная. Они стояли босиком на льду и продолжали петь молитвы, а мы, побросав свои инструменты, метались от одного стрелка к другому, умоляя и уговаривая, рыдая и крича.
Карцер в ту ночь был забит так, что даже стоять было трудно. И, тем не менее, ночь прошла незаметно. Всё время шел спор между нашими. Как расценивать поведение воронежских? Фанатизм или настоящая человеческая стойкость в отстаивании свободы своей совести? Называть их безумными или восхищаться ими? И самое главное, волнующее: смогли бы мы так?
Спорили так жарко, что почти полностью отвлеклись от голода, изнурения, вонючей сырости карцера. Интереснее всего, что ни одна из часами стоявших на льду воронежских не заболела. И норму уже на следующий день они выполнили на сто двадцать».
И всё же особенно запомнились гулаговским узникам именно сектанты. Именно им блатной фольклор обязан появлением поговорки «По субботам не работам, а суббота — каждый день». Эта присказка вошла даже в ряд лагерных песен. Та же Евгения Гинзбург вспоминает:
«Больше часа стояли мы у вахты возле ворот, коченея… и слушая пение блатных. Пританцовывая, они вопили:
Сам ты знаешь, что в субботу
Мы не ходим на работу,
А у нас субботка кажный день…
Ха-ха!»
Я всегда утверждал, что поговорка о субботе связана с еврейской «ветвью» уголовного фольклора. Что вполне понятно, поскольку шаббат (суббота) у евреев считается днём, когда работать вообще запрещено. Однако, думается, в арестантском фольклоре такой запрет появился как раз благодаря именно русским сектантам. Обратимся к мемуарам донского писателя Гавриила Колесникова «Лихолетье» (дело происходит на Колыме в конце 1930-х):
«Помню я одного сектанта. Молодой. Страшно сильный, хотя и некрупный, а по духу настоящий протопоп Аввакум. Был он тихий, безотказный, безропотный, очень добрый и неназойливо услужливый. Такие спокойно, без позы идут на расстрел вместо товарища. И работник редкостной мощи: сколько он колымской земли перелопатил. По его твёрдому убеждению, суббота принадлежала богу и была нерабочим днём. И в этот день все силы ада ополчались против него. Собаки. Солдаты. Нарядчики. Карцер. Голод. Пинки. Кулаки. Сапоги. Приклады. Он молился на верхних нарах, и его с размаху сталкивали наземь, а потом, заарканив лямкой, по каменистой колымской дороге волокли километра за три в забой. Так было каждую субботу, годами. Но так и не нашлось в лагере силы сильнее его духа. Только вспыхивал он в дни истязаний, нет, не божественным, а скорее сатанинским огнём, и кричал своему богу, не то грозя, не то ликуя:
— За тя, Господи, погибаю!»
Вот такой сектантский отголосок еврейского шаббата. К слову сказать, во многих русских деревнях выходным традиционно тоже считалась суббота — «банный день»…
Высоко оценивал сектантов и Варлам Шаламов в одном из писем Солженицыну (ноябрь 1962 года), давая характеристику Алёшке-сектанту — персонажу повести «Один день Ивана Денисовича»: «Необычайно правдивой фигурой в повести, авторской удачей, не уступающей главному герою, я считаю Алёшку, сектанта, и вот почему. За двадцать лет, что я провёл в лагерях и около них, я пришёл к твёрдому выводу — сумма многолетних, многочисленных наблюдений, — что если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, побои и холод, непосильную работу, сохранили и сохраняли неизменно человеческие черты, — это сектанты и вообще религиозники, включая и православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди и из других “групп населения”, но это были только одиночки, да и, пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Сектанты же всегда оставались людьми».
Характеристика верующих замечательная. С одним уточнением: Алёшка был баптистом, а баптисты считают себя не сектантами, а христианской Церковью. Именно их особо выделяет как стойких поборников своей веры Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»:
«…Вера у них — очень твёрдая, чистая, горячая, помогала им переносить каторгу, не колебнувшись и не разрушившись душой. Все они честны, негневливы, трудолюбивы, отзывчивы, преданы Христу.
Именно потому и искореняют их так решительно. В 1948–50 годах только за принадлежность к баптистской общине многие сотни их получали по 25 лет заключения и отправлялись в Особлаги».
Замечательно описывает стойкость верующих газета «Протестант» в очерке «ГУЛАГ — испытание для христиан СССР»:
«В своих “Воспоминаниях” М. М. Ермолаев, работавший на лесоповале в Коми, отмечает, как его поразили евангелисты и староверы. Они относились к тяжёлой физической работе как к испытанию, посланному Богом, почти желанному, которое нужно было пройти, преодолеть. Верующие, как и некоторые из политических заключённых, помогали новичкам в артели выполнить норму, чего никогда не делали уголовники. Те, выполнив свою норму, прохлаждались, посмеивались, а то и издевались над выбивавшимися из сил людьми. Верующие же становились в пару со слабыми и тянули их, беря дополнительно к своей часть их нормы. Этим они давали возможность новичку привыкнуть к тяжёлой работе, зацепиться и выжить…
Говорить о Боге было опасно. Лагерная администрация строго наказывала тех, кто активно распространял весть о Христе, и старалась не допустить духовного общения христиан, их совместных молитв. Если начальство узнавало о таких собраниях, то пресекало их, переводя верующих в другие места. Братьев всячески стремились разъединить, но их порой оказывалось слишком много, поэтому вообще пресечь духовное общение не удавалось. Верующие собирались тайно. За участие в запрещённых собраниях сажали в штрафной изолятор или даже увеличивали лагерный срок…
Случаев, когда Господь избавлял верующих от неминуемой смерти, было немало. Когда православный священник о. Захарий (Куценко) из-за болезни не смог подняться с нар и выйти на работу, его избили лагерные охранники и бросили в штрафной изолятор на пять суток. Очнулся он от страшного холода, который пронизывал всё тело. Промёрзшие стены камеры были покрыты толстым слоем изморози. Священник понял, что его бросили сюда умирать. Посиневшими, бескровными губами он шептал молитву: “Господи, прости их, ибо не ведают, что творят”. Каждое слово молитвы давалось с трудом. Каждое движение причиняло боль. Временами он терял сознание. Превозмогая муки, о. Захарий молился непрестанно. Через пять суток явились охранники, чтобы отнести тело в морг, но с удивлением обнаружили, что в истощённом высохшем теле священника всё ещё теплилась жизнь. Они не могли понять, почему зэк остался жив, пролежав пять суток в каменном мешке на ледяном полу, больной и голодный. Отсюда всех отвозили на кладбище…
Богу слава и особая честь тем христианам, кто был верен до смерти и кто не отрёкся от веры даже под пытками. Солженицын рассказал про верующую старушку, которую в 1937 году, в разгар Большого террора, в тюрьме НКВД мучили нескончаемыми ночными допросами. Два года назад у неё останавливался на ночлег скрывавшийся от преследования митрополит. На вопрос, куда он направился дальше, старушка отвечала: “Знаю. Но не скажу! Ничего вам со мной не сделать, хоть на куски режьте. Ведь вы начальства боитесь, друг друга боитесь, даже боитесь меня убить. А я не боюсь ничего! Я хоть сейчас к Господу на ответ!”
Да, были такие, кто с допросов не вернулся, кто был верен до смерти, не отрекся от Бога, не предал никого! И вот что удивительно, бесправные, оклеветанные, мучимые и убиваемые христиане в каком-то смысле оставались хозяевами положения. Они были немым укором и приговором своим палачам».
«Мчится поезд Барнаул — Воркута»: дело замученного христианина
Ну, со стойкостью верующих в лагерях всё достаточно ясно. Однако почему в песне евангельских христиан мчится именно поезд Барнаул — Воркута? Случаен ли этот маршрут?
Нет, упоминание Барнаула в песне далеко не случайно. Чтобы понять это, придётся совершить небольшой экскурс в историю отношений советской власти и протестантских церквей евангельских христиан и баптистов.
Поначалу Советы относились к этим конфессиям вполне терпимо. Более того: новая власть пыталась даже использовать опыт хозяйственной деятельности евангельских и баптистских общин; их члены пользовались относительной свободой деятельности, могли свободно проводить богослужебные собрания, издавать духовную литературу и т. д. Но уже в апреле 1929 года постановлением ВЦИК и СНК СССР «О религиозных объединениях» резко ограничены права верующих, многие подверглись уголовному преследованию. Из лагерей за время сталинских репрессий не вернулись около 22 тысяч осуждённых баптистов и евангелистов. Большинство молитвенных домов были закрыты.
С 1930 по 1938 год перестали существовать легально Всесоюзный совет союза христиан веры евангельской, Всесоюзный совет баптистов, Всесоюзный совет евангельских христиан.
Правда, в октябре 1944 года евангелисты и баптисты объединяются, в стране легально начинает действовать Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов. Позднее к ВСЕХБ присоединилась часть общин других действовавших в СССР христианских конфессий.
Однако многие евангельские христиане-баптисты были недовольны позицией ВСЕХБ, который, по их мнению, проявлял чрезмерный конформизм в отношениях с государством. Особенно усилилось это недовольство во время правления Никиты Хрущёва, когда антирелигиозная кампания развернулась с новой силой. В апреле 1961 года в Узловской церкви (Тульская область) возникает инициативная группа по созыву съезда ЕХБ. Первое ее совещание прошло в Москве 10 августа 1961 года. Инициативники извещали об этом братьев и сестёр в послании, с которым разъехались по стране.
Тут мы и подходим к так называемой «барнаульской трагедии» или делу «Кулундинских узников» 1963–1964 годов. В Алтайском крае были сильны позиции христиан-баптистов. Ещё до объединения в одно религиозное движение эти верующие преследовались государственными карательными органами. Только в 1935 и 1937 годах в Барнауле были расстреляны 15 братьев из общин. Однако куда больше оснований связать создание религиозной переделки песни «По тундре» с событиями 1963 года.
В посёлке Кулунда в 1962 году возникла довольно серьёзная конфликтная ситуация. Как позже было сформулировано в обвинительном заключении:
«С 1961 года с момента образования нелегального “инициативного оргкомитета”… в среду верующих Кулундинского района стали проникать различные обращения, извещения и другие тексты, критикующие Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов…
В первых числах ноября 1962 г. местные органы Советской власти объявили верующим баптистам о необходимости регистрации общины и о запрещении впредь проводить какие бы то ни было сборища верующих… Часть верующих, преимущественно молодежь, в том числе Хмара Любовь Михайловна, Субботин Владимир Феоктистович, Хмара Николай Кузьмич, Классен Мария Яковлевна, Хмара Василий Кузьмич и другие, не подчинились местным органам власти.
…Субботин применял не только принуждения детей к вере в Бога, но также воздействовал наглядной агитацией, развешанными по стенам квартиры плакатами, как-то: “Один у нас учитель — Христос”, “Помни Создателя в дни юности твоей” и другие…
Молодёжная группа сектантов, возглавляемая Субботиным и его активными сторонниками Хмара Л. М., Хмара Н. К. и Хмара В. К., разбирали отдельные положения Библии, допускали своевольность и неправильное толкование, критиковали и не признавали новое положение ВСЕХБ».
Поразительно: в вину обвиняемым вменялось… цитирование Библии! Но особенно умиляет пассаж с «неправильным толкованием»: оказывается, советский суд вправе был определять, какое положение Библии является правильным, а какое неправильным, и карать «еретиков» за «своеволие»!
На эту нелепость обратили внимание в своём открытом письме евангельские христиане-баптисты Алтайского края: «Можно подумать, что следователи являются членами Святейшего синода с высшим богословским образованием, хорошо разбирающиеся в библейских истинах и призванные защищать их непогрешимость и что органы прокуратуры и суда также являются стражами Церкви в непогрешимости библейских истин. Вовсе нет… Поскольку в Уголовном кодексе нет статьи “за неправильное толкование Библии”, то следователь назвал это “антиобщественной и реакционной деятельностью” и применил ст. 227 УК РСФСР».
Центральной фигурой «барнаульской трагедии» стал пресвитер Николай Хмара — бывший алкоголик, который после вступления в евангельскую общину покончил с пьянством и стал рьяным проповедником. К моменту ареста Хмара был членом евангельской церкви христиан-баптистов всего четыре месяца. Вместе с Фёдором Субботиным и другими активными членами общины он пылко поддерживал «инициативников» и выступал против ВСЕХБ. Вот что пишет по этому поводу в статье «Смерть — во свидетельство» В. М. Хорев:
«Более молодой состав жертвенных верующих, ревнующих о деле Божьем, сказал: “Время поклоняться Богу всегда. И в печи огненной трое отроков поклонялись Богу и прославляли Его. Когда царь подписал указ бросать в львиный ров за молитву живому Богу, Даниил и тогда открывал окна в сторону Иерусалима и молился, прославляя Иегову. Мы будем собираться”… Они боролись, как могли, не следовали советам боязливых и малодушных распустить общину, прекратить собрания. Церковь в Кулунде в условиях гонений росла и развивалась».
Но и власти не дремали. 28 июля 1963 года в газете «Советская Кулунда» выходит статья «Воинствующие мракобесы», в начале августа четыре сотни граждан сгоняют на сход, по решению и заявлению которого возбуждено уголовное дело. Осенью 1963 года наиболее активные члены «религиозного сопротивления» Фёдор Субботин, Василий Хмара и Николай Хмара были арестованы.
Жена Николая Хмары позднее вспоминала:
«У нас в семье было четверо детей, младшей дочери в то время было всего две недели. Николай Кузьмич знал, что в этот день его арестуют. Утром мы только склонились на колени для молитвы, подъехала машина. Обратившись к детям, Николай Кузьмич сказал: “Дети, знайте, что ваш папа не преступник. Меня забирают в тюрьму за то, что верую в Бога”».
Следствие закончилось 19 ноября 1963 года. А с 24 декабря в поселковом клубе Кулунды несколько дней проходил открытый суд. Процесс был громким, изобилующим нелепостями и грубейшими нарушениями. Допрашивали даже школьников, детей подсудимых — учащихся третьего, шестого и восьмого классов. Судебная коллегия приговорила: Субботина Ф. И. к пяти годам лишения свободы с отбытием в колонии строгого режима; Хмару Н. К. и Хмару В. К. к трём годам лишения свободы в колонии общего режима; Хмару Л. В. — к двум годам лишения свободы условно.
А 9 января 1964 года, через две недели после объявления приговора, Николай Хмара умер в Барнаульском СИЗО. Семье принесли телеграмму о смерти 11 января.
Родственники получили из тюрьмы тело Николая Кузьмича. Закрытый гроб привезли в Барнаул. Братья открыли гроб и, увидев тело, ужаснулись. Тело было изуродовано… Тут же отправили телеграмму на имя Брежнева:
«После суда в тюрьме над заключёнными производятся пытки. Двое ещё живы — Хмара и Субботин, а третий умер, не выдержал произвола краевого суда и тюрьмы. Избито всё тело, пальцы пожжены, голова не имеет формы, тело всё в кровоподтёках, язык вырван. Народ приходит в ужас. Просим Вашего вмешательства. Тело хранится до Вашего ответа».
Позднее в открытом письме евангельские христиане-баптисты Алтайского края дали ещё более полную картину: «На руках видны следы от наручников, ладони рук, пальцы и подошвы ног пожжены, нижняя часть живота имеет следы выжженных ран в виде проколов острыми раскалёнными предметами, правая нога опухшая, ступни обеих ног имеют следы пробоин, на теле — следы ссадин и синяков». Как будто бы повторилась история с гонениями христиан в Римской империи — разве что львами не травили…
Можно только предполагать, что эта же информация отправилась в международные организации, и именно потому дело получило огромный резонанс. На место выехала правительственная экспертная комиссия. До её прибытия с 12 по 16 января шли богослужения, похороны откладывались. И — невиданное дело! — судебно-медицинская экспертиза и Генеральный прокурор СССР признали не только факт насильственной смерти Николая Хмары, но и незаконность возбуждения против него уголовного преследования:
«Совершенно необоснованно только за свои религиозные убеждения был привлечен к уголовной ответственности и осуждён… Хмара Н. К. Причём во время его содержания под стражей начальник Славгородского следственного изолятора УООП Алтайского края майор Нестеров, находясь на службе в нетрезвом виде, избил заключённого Хмару Н. К., а заместитель начальника изолятора Анипко при этапировании больного Хмары в г. Барнаул преступно-халатно отнёсся к обеспечению надлежащих условий перевозки заключённых в холодное время года, вследствие чего у Хмары были обморожены пальцы обеих ног, наступило общее переохлаждение тела, которое повлекло заболевание Хмары воспалением лёгких и его смерть…
Должностные лица, виновные в смерти Хмары, были привлечены к уголовной ответственности…»
Вмешательство правительственной комиссии не позволило местным чиновникам исполнить «частное определение» Алтайского краевого суда «О передаче несовершеннолетних детей Субботина Ф. И., Хмары Н. К. и Хмары В. К. в детские учреждения». Хотя первое время Марию Хмару вызывали в школу, в милицию, к следователю… Она вспоминала: «Шло время, дети оставались в семье, а злобно настроенные люди возмущались: “Почему у неё не отбирают детей?!” Дочь Надя (первоклассница) каждое утро со слезами говорила: “Мама, я не хочу идти в школу, меня заберут в интернат…”»
После мученической смерти Николая Хмары был создан Совет родственников заключённых. Эта организация отправила в Генеральную прокуратуру СССР, КГБ и Совет по делам религий при СМ СССР заявление, где были изложены факты незаконных преследований верующих. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Анастас Микоян дал распоряжение «истребовать и изучить все дела в отношении верующих евангельских христиан-баптистов, привлечённых в 1961–1964 гг. по ст. 227 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других республик, обеспечив опротестование каждого необоснованного приговора и постановления суда». И.о. Генерального прокурора СССР Михаил Маляров 10 сентября 1964 года заявил:
«Субботин Фёдор, Хмара Николай, Хмара Василий и Хмара Любовь осуждены необоснованно… Они являлись членами религиозного объединения ЕХБ, деятельность которого разрешена законом. Поэтому деятельность группы баптистов, в которую входили осуждённые, не может считаться нелегальной, независимо от того, что группа не была зарегистрирована местными органами власти.
Нет ничего преступного в том, что осуждённые выступали против Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов и высказывали недовольства руководителями церкви по внутрицерковным делам, в которые государство не вмешивается.
Нет ничего преступного в том, что осуждённые совершали в своих квартирах религиозные обряды, ибо, согласно ст. 124 Конституции СССР, свобода отправления религиозных культов признается за всеми гражданами… работники милиции и дружинники действовали незаконно, нарушая конституционные права советских граждан на неприкосновенность их жилища и свободного совершения религиозных обрядов.
Религиозное воспитание несовершеннолетних в семье также не является преступлением. В действиях осуждённых нет состава преступления, предусмотренного ст. 227 УК РСФСР, которая устанавливает ответственность не за религиозную деятельность, а за деятельность, проводимую под видом проповедования религиозных вероучений.
Прошу:
Приговор Алтайского краевого суда от 24–27 декабря 1963 года… отменить и дело прекратить за отсутствием в их действиях состава преступления».
Президиум Верховного суда РСФСР от 23 сентября 1964 года отменил обвинительный приговор и постановил: «Дело производством прекратить за отсутствием состава преступления».
Осенью 1964 года освободили из неволи братьев: Ф. И. Субботина и В. К. Хмару. Угрозы отнять детей в этих семьях узников не осуществились. Случай для советского общества, можно сказать, уникальный, тем более что после него 14 октября 1964 года в Верховном суде СССР состоялось совещание с председателями Верховных судов союзных республик для обсуждения результатов обобщения судебной практики по делам о нарушении законодательства о религиозных культах. Председателям Верховных судов было рекомендовано изучить уголовные дела, рассмотренные судами в 1962–1964 годах, по которым были привлечены к ответственности служители культов и участники религиозных организаций, и принять меры к устранению допущенных судами ошибок. А в Кремле Микоян лично принял делегацию евангельских христиан в составе пяти человек, которая доложила главе государства о положении гонимых верующих ЕХБ.
Вот какая трагическая история запечатлелась в одной из переделок знаменитой арестантской песни.
«Рано утром проснёшься и раскроешь газету»…
Вариацией песни «По тундре» можно считать и более позднюю песню о «ворошиловской амнистии» 1953 года. Многим она известна в исполнении Владимира Высоцкого.
Рано утром проснёшься
И раскроешь газету —
На последней странице
Золотые слова:
Это Клим Ворошилов
Даровал нам свободу,
И теперь на свободе
Будем мы воровать.
Рано утром проснёшься,
На поверку построют,
Вызывают «Васильев!» —
И выходишь вперёд.
Это Клим Ворошилов
И братишка Будённый
Подарили свободу —
И их любит народ.
Она положена на ту же мелодию, что и песня о побеге двух арестантов, хотя рассказывает о совершенно другом событии. Интересно, что во многих версиях добавляется традиционный припев —
По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд Воркута — Ленинград,
но в этом случае выходит, что поезд мчится с освобождёнными из лагерей арестантами.
Впрочем, речь в этой песне может идти и не о «ворошиловской» (или «бериевской», как её ещё называли) амнистии 1953 года, в результате которой на свободе оказалось значительное количество отпетых уголовников. К примеру, Андрей Сёмин в исследовании «“Чужие” песни Владимира Высоцкого» называет и ряд других подобных актов несколько более позднего времени:
«В песне имеется в виду один из указов об амнистии, принятых Президиумом Верховного Совета СССР в период пребывания К. Е. Ворошилова его председателем, то есть с 15 марта 1953 г. по 7 мая 1960 г. Наиболее вероятными документами такого рода представляются указы Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. “Об амнистии” и указ от 8 сентября 1953 г. “Об отмене запрещения применять амнистию к лицам, осуждённым за преступления, предусмотренные постановлениями ЦИК и СНК СССР от 7 и 22 августа 1932 г.” В этих документах признавалось, что “в результате упрочения советского общественного и государственного строя, повышения благосостояния и культурного уровня населения, роста сознательности граждан, их честного отношения к выполнению своего общественного долга укрепились законность и социалистический правопорядок, а также значительно сократилась преступность в стране… в этих условиях не вызывается необходимостью дальнейшее содержание в местах заключения лиц, совершивших преступления, не представляющие большой опасности для государства, и своим добросовестным отношением к труду доказавших, что они могут вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными членами общества”. В этой связи постановлялось “освободить из мест заключения и от других мер наказания, не связанных с лишением свободы, лиц, осужденных на срок до 5 лет включительно”».
Вместе с тем общий «эмоциональный фон» песни вполне может относиться и к социально-политическим реалиям более позднего времени — указам Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 1955 г. «Об освобождении от дальнейшего отбывания наказания лиц, осуждённых, но не отбывших наказания за продажу, обмен и отпуск на сторону оборудования и материалов, а также о снятии судимости с этих лиц» и от 1 ноября 1957 г. «Об амнистии в ознаменование 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции»…
С. М. Будённый к вышеперечисленным амнистиям решающего отношения не имел, упомянут в песне по признаку легендарного, героического, наряду с К. Е. Ворошиловым, участия в Гражданской войне в России.
«Наш братишка» — отсылка к «Маршу Будённого» (1920 г.), муз. Дм. Покрасса, сл. А. д’Актиля:
Будённый — наш братишка, с нами весь народ,
Приказ — голов не вешать и глядеть вперёд.
Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер.
Сумеем кровь пролить за СССР!
Но особенно интересно другое наблюдение и предположение Андрея Сёмина. Отмечая исполнение песни «Рано утром проснёшься…» Владимиром Высоцким, автор комментариев пишет: «Фонограммы чьих-либо, кроме В. Высоцкого, исполнений приведённого варианта до 1963 года не обнаружены, поэтому не следует исключать возможного его авторства».
Есть смысл несколько поправить Сёмина: по некоторым данным, Высоцкий мог впервые исполнить «Рано утром…» чуть раньше, в 1962 году — для своего отца, Семёна Владимировича. Впрочем, смещение даты не так существенно, как другая, более интересная деталь. В первоначальном варианте для отца звучит иной финал первого куплета:
Это Клим Ворошилов
Подарил нам свободу,
И теперь на свободе
Вы увидите нас.
То есть фактически эта версия не имела уголовного подтекста и касалась всех освобождаемых лагерников. Действительно, несмотря на то что по амнистии на свободу вышло немало уголовников, она была нацелена прежде всего на «бытовиков». Берия в записке председателю Совета министров СССР Георгию Маленкову отмечал, что «содержание большого количества заключённых в лагерях, тюрьмах и колониях, среди которых имеется значительная часть осуждённых за преступления, не представляющие серьезной опасности для общества, в том числе женщин, подростков, престарелых и больных людей, не вызывается государственной необходимостью». Всего по «ворошиловской» амнистии лагеря покинули 1 203 421 заключённых из общего количества 2 526 402 человека.
А вот уже выступая во ВГИКе (сентябрь 1963 года), Владимир Высоцкий превратил песню в блатную, и персонажи обещали, выйдя на волю, продолжить разгульную воровскую жизнь.
Кстати, предположение Сёмина о том, что «Рано утром…» может относиться не к «ворошиловской» амнистии, а к более поздней амнистии 1957 года в связи с 40-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, если принять версию об авторстве Высоцкого, не лишены оснований. В том же 1963 году Владимир Семёнович пишет песню «За хлеб и воду и за свободу», где есть такие куплеты:
Как хорошо устроен белый свет!
Меня вчера отметили в приказе:
Освободили раньше на пять лет, —
И подпись: «Ворошилов, Георгадзе»…
Да это ж математика богов:
Меня ведь на двенадцать осудили!
Из жизни отобрали семь годов,
И пять — теперь обратно возвратили…
Здесь уж точно речь о «юбилейной» амнистии: она первая, которую Михаил Порфирьевич Георгадзе подписывал в качестве секретаря Президиума Верховного Совета СССР (до него подписывали А. Ф. Горкин и Н. М. Пегов), и последняя, которую как председатель Президиума ВС СССР подписывал Климент Ефремович Ворошилов…
Но есть и ещё одна знаменательная перекличка. В песне «Рано утром проснёшься…» речь идёт о некоем заключённом Васильеве, которого выкликают, и он выходит вперёд. Напомним, что песня написана на мелодию песни «По тундре» — о побеге заключенных. А теперь — внимание! В 1962 году Высоцкий создаёт песню в жанре «насмешливо-иронической трагедии» — «Зэка Васильев и Петров зэка»:
Сгорели мы по недоразумению —
Он за растрату сел, а я — за Ксению, —
У нас любовь была, но мы рассталися:
Она кричала и сопротивлялася.
На нас двоих нагрянула ЧК,
И вот теперь мы оба с ним зэка —
Зэка Васильев и Петров зэка.
А в лагерях — не жизнь, а темень-тьмущая:
Кругом майданщики, кругом домушники,
Кругом ужасное к нам отношение
И очень странные поползновения.
Ну а начальству наплевать — за что и как,
Мы для начальства — те же самые зэка —
Зэка Васильев и Петров зэка.
И вот решили мы — бежать нам хочется,
Не то все это очень плохо кончится:
Нас каждый день мордуют уголовники,
И главный врач зовёт к себе в любовники.
И вот — в бега решили мы, ну а пока
Мы оставалися всё теми же зэка —
Зэка Васильев и Петров зэка.
Четыре года мы побег готовили —
Харчей три тонны мы наэкономили,
И нам с собою даже дал половничек
Один ужасно милый уголовничек.
И вот ушли мы с ним в руке рука,
Рукоплескали нашей дерзости зэка —
Зэка Петрову и Васильеву зэка.
И вот — по тундре мы, как сиротиночки,
Не по дороге всё, а по тропиночке.
Куда мы шли — в Москву или в Монголию, —
Он знать не знал, паскуда, я— тем более.
Я доказал ему, что запад — где закат,
Но было поздно: нас зацапала ЧК —
Зэка Петрова и Васильева зэка.
Потом — приказ про нашего полковника:
Что он поймал двух крупных уголовников.
Ему за нас — и деньги, и два ордена,
А он от радости всё бил по морде нам.
Нам после этого прибавили срока,
И вот теперь мы — те же самые зэка —
Зэка Васильев и Петров зэка.
Вторая часть этой издевательской баллады — явная пародия на песню «По тундре». Это заметно в деталях: беглецы бегут по тундре — но не по «железной (или — широкой) дороге», а напротив — «не по дороге мы, а по тропиночке». В отличие от пары беглецов, которые точно знали направление — Воркута — Ленинград, Васильев с Петровым не представляли, куда бегут — в Москву или в Монголию. Как и в одном из основных вариантов «По тундре», беглецов зацапала ЧК (она же ВОХРа). Но если побегушник из первой песни «плюёт в потолочек» и разглядывает «надоевшего чекиста», то у Высоцкого начальник лупит двух арестантов по морде, и песня завершается нехитрой моралью — «и вот теперь мы — те же самые зэка»…
Заметим, что Владимир Высоцкий наряду с «Рано утром проснёшься…» исполнял и «По тундре». Правда, сохранился лишь один аудиоотрывок — и тоже с довольно издевательской концовкой:
Это было весною, зеленеющим маем,
Когда тундра надела свой зелёный наряд,
Мы бежали с тобою золотою тайгою,
Нас поймал где-то в тундре справедливый отряд.
По тундре, по железной дороге…
Вообще тема побега у Высоцкого возникала не раз. В 1962 году он создаёт и песню «Не уводите меня из весны» — опять-таки о неудачной попытке вырваться на волю, на этот раз — мужчины и женщины:
Спросил я Катю взглядом: «Уходим?» — «Не надо».
«Нет, Катя, без весны я не могу!»
И мне сказала Катя: «Что ж, хватит, так хватит».
И в ту же ночь мы с ней ушли в тайгу.
Как ласково нас встретила она!
Так вот, так вот какая ты, весна…
А на вторые сутки на след напали суки,
Как псы, на след напали и нашли,
И завязали суки и ноги, и руки,
Как падаль, по грязи поволокли.
Я понял, мне не видеть больше сны,
Совсем меня убрали из весны.
Снова — неудачный побег… А позднее, в 1977 году, Высоцкий напишет по воспоминаниям Вадима Туманова «Побег на рывок». В общем, тема побегов занимала в творчестве поэта не последнее место. И свою роль сыграла в этом песня «По тундре».
Но вернёмся к фамилии Васильев. Что-то, видимо, мистическое было связано с ней у Высоцкого. Во время съёмок фильма «Вертикаль» в 1966 году в приэльбрусском пансионате «Иткол» (Кабардино-Балкария) Владимиру Семёновичу рассказали случай, который его поразил и послужил толчком для создания песни «Мерцал закат, как сталь клинка» («Ведь это наши горы»). Дело в том, что на Эльбрус и после войны часто приезжали бывшие альпийские стрелки из германской группы «Эдельвейс», которые в войну сражались здесь против Красной армии. Немцы хорошо знали Кавказ, у них были свои подробные карты, поскольку перед войной наши инструкторы ходили вместе с ними на восхождения. А потом они столкнулись здесь же как противники. И Владимира Семёновича поразил услышанный им эпизод: один советский инструктор в 1940 году спас немецкого альпиниста, а в 1943-м был бой, после которого с немецкой стороны кто-то прокричал: «А у вас такой — фамилия его Васильев — есть? Вчера ефрейтора у нас убили, он с ним вместе на Эльбрус ходил — привет ему передавал». Рассказ этот скорее всего передавался со слов Высоцкого. Действительно ли тот, кто поведал Владимиру Семёновичу эту историю, называл фамилию именно Васильева, неизвестно. Возможно, звучала какая-то другая. Но поэт назвал Васильева. Не исключено, что это была для него такая «фольклорная» фамилия, которую он нередко использовал для персонификации безымянных персонажей.
Итак, что касается песни «Рано утром проснёшься и раскроешь газету…», действительно есть некоторые основания считать, что её автором является Владимир Высоцкий. Хотя это, конечно, лишь предположение, которое требует более весомых, неопровержимых доказательств.
«Мариинское небо»
Песня «По тундре» сегодня является, можно сказать, знаковым произведением, классикой уголовного фольклора, звучит в шансонных концертах, цитируется в статьях — и не только о ГУЛАГе… Но, если бы ограничивалось только этим, её можно было бы причислить к памятникам истории советского периода. Однако песня продолжает жить, изменяясь, приспосабливаясь к новым временам, иным реалиям.
Так, несколько лет назад я получил письмо от Александра Рвова, в котором он сообщает:
«Один мой сокурсник кончал школу-интернат в Мариинске, городишке 5-ти зон, из коих 2 пересылки и 1 крытка. И он всё пел песню “Мариинское небо”. Как я понимаю, это почти неузнаваемый вариант известной “По тундре, по железной дороге…” на ту же мелодию, правда, в минорном ключе. В “Гавани…” я её слышал, но с совсем другими словами и без последнего куплета (там всё кончалось расстрелом). Если Вы её не знаете, то вот извольте ознакомиться с сим образчиком отнюдь не блатной песни. Ну, а ежели известна Вам эта вещица, то прошу прощения за беспокойство.
Мариинское небо опустилось над нами,
И голодным этапом нас с тобой поведут.
Мама, милая мама, что за люди в бушлатах,
В оцепленье конвоя, всё идут и идут?
Это было весною, расцветающим маем;
Трое их осуждённых из-под стражи ушли.
На седьмом километре их собаки догнали,
Их чекисты поймали, на расстрел повели.
Их поставили к стенке, повернули спиною,
Грохнул залп автоматов, и упали они,
И по трупам кровавым, как по тряпкам ненужным,
Зарядив автоматы, шесть чекистов прошли.
Приезжаю домой я, плачут ели и сосны,
Плачет маленький мальчик, он устал меня ждать.
Нас растили бураны, воспитала нас вьюга,
Лишь приклад автомата нас сумел приласкать».
Действительно, мне эта «вещица» была известна, но без привязки к Мариинску и тамошней колонии для несовершеннолетних. Например, филолог Екатерина Ефимова, изучающая тюремную субкультуру, записала похожий вариант в одной из женских колоний (конец 1990-х годов):
Я сижу за решеткой, мама, пью особую водку.
Пью особую водку и плюю в потолок.
Предо мной не икона, мама, а запретная зона,
И на вышке маячит полупьяный конвой.
Я тебя не ругаю, мама, ни за что не ругаю.
Ну зачем ты так рано в ДВК
[12] отдала?
Мы сегодня с друзьями, мама, в жизнь иную вступаем,
Ведь для нас пролетела золотая пора.
Это было весною, мама, когда всё зеленело.
Трое из заключённых из-под стражи ушли.
На восьмом километре, мама, их собаки догнали,
Повязали чекисты, на расстрел повели.
Их поставили к стенке, мама, развернули спиною.
Грянул залп автоматов, и упали они.
И по трупам невинным, мама, как по тряпкам ненужным,
Разрядив автоматы, три чекиста прошли.
На крутом косогоре, мама, стоит крест деревянный.
Его девушка нежно прижимает к груди.
Перед ней не икона, мама, а запретная зона,
И на вышке маячит полупьяный конвой.
Совершенно очевидна связь и первой, и второй версии с песней «По тундре» путём заимствования отдельных строк (и даже куплета). В то же время несомненно, что своё вдохновение неведомые сочинители черпали и из песни «Споём, жиган» («Пацаночка»):
И ты упала, кровью обливаясь,
Упала прямо грудью на песок,
И по твоим по золотистым косам
Прошёл чекиста-суки кованый сапог!
В свою очередь, создатели «Пацаночки» творчески переделали куплет из фронтового стихотворения Михаила Исаковского «Прощальная» (о девушке-смолянке, которую «берут в неволю в чужедальний край»):
А может, мне валяться под откосом
С пробитой грудью у чужих дорог,
И по моим по шелковистым косам
Пройдет немецкий кованый сапог…
Есть и другие обработки этой песни (та же Ефимова приводит одну из них, записанную в альбоме воспитанника Можайской колонии для несовершеннолетних).
Однако Мариинская воспитательная колония в Кемеровской области, пожалуй, наиболее достойна иметь подобный «гимн». Не так давно её название прогремело на всю страну: в 2012 году «малолетки» устроили массовые беспорядки, которые были жёстко подавлены спецназом ФСИН и сотрудниками администрации колонии. Случилось это в ночь с 4 на 5 марта. Возмущённые родители обнародовали своё обращение к руководству правоохранительных органов:
«4 марта 2012 г. в день выборов Президента России наши дети, несовершеннолетние осуждённые Мариинской воспитательной колонии Кемеровской области, возмущённые издевательствами со стороны сотрудников, закрылись в спальном помещении общежития. Начальник ГУФСИН, находясь в нетрезвом состоянии, не стал выслушивать проблемы осуждённых, которые вызвали их на такой шаг, а дал команду спецназу врываться в помещение и избивать наших детей. Но, согласно его докладу в Москву, он лично сумел убедить осужденных в 01 час. 30 мин. разобрать баррикады. Но что может сделать постоянно пьяный человек, который ненавидит людей и даже своих подчиненных сотрудников считает за “быдло”, только одно, дать команду “фас”. На видео хорошо видно, как в 01 час. 32 мин. спецназ начинает брать штурмом спальное помещение и как начальник ГУФСИН заходит в помещение и при нём бьют наших детей. Его первый зам. не контролирует действия спецназа, а просто ходит и разговаривает по телефону. Как видно из кадров, избивали детей уже даже после того, как помещение было разблокировано. Причём, как сказал мой сын, били всех подряд, не разбираясь, кто виноват, а после избиения всех согнали на 1 этаж, раздели догола и начальник ГУФСИН начал прививать чувство патриотизма, заставив дубинами детей петь гимн России и кричать: “Дяденьки милиционеры, простите нас!” Начальник Кемеровского ГУФСИН пытается скрыть факты издевательства над детьми».
После проверки фактов (в числе которых — видеозапись камер наблюдения, где зафиксировано нанесение нескольким подросткам ударов резиновой дубинкой по спине) к ответственности не был привлечён никто из сотрудников. Между тем в блоге Олега Лурье, размещённом в Живом Журнале, отклики на действия администрации были неоднозначными:
«Я против необоснованных наказаний, а тем более пыток и вымогательств однозначно… Но, зная русский характер и натуру босоты, потому что рос среди таких, я говорю одно — они понимают ТОЛЬКО СИЛУ. Поэтому, чтобы избежать крупных бунтов и побегов, которые периодически устраивает воровская поросль, дальновидно смотря на взрослых воров в законе, их и смиряют дубинками».
«У меня, честно сказать, нет большого возмущения… Малолеток тоже как-то надо учить уму-разуму. Есть ситуации, когда нужно спустить зарвавшемуся щенку штаны и хорошо ремнём пройтись. Но нельзя, законы не велят. Я знаю одного правозащитника из Астрахани, тоже всё радел про то, что надо быть терпеливым с подростками, нужны беседы и т. д. Но 16-летние отморозки, за которых он так воевал с местным УВД, просто избили его и жену во дворе его же дома. Деньги им были нужны. Хорошо, что просто избили, без увечий. Он этой темой больше не занимается, что-то надломилось в душе, говорит. Тех “детишек” я знаю, работаю с такой категорией подростков, поэтому его понимаю. Не всегда сотрудники ФСИН психологически готовы выдержать поведение молодых отморозков».
«Есть и оступившиеся, но, как правило, туда попадают отморозки, как бы неприятно это слово нам не было. Гопота не имеет уважения к старшим, к рамкам поведения, культуре, праву собственности, жизни своей и других. Школа для таких ничего не значит, будущее связанно с бандитизмом, о котором все их мечты с малого возраста. Физическая сила и дерзость — основные составляющие юных бандюгов. Они не хотят работать, а хотят воровать. К тому же они унижают тех, кто работать или учиться хочет. А потом из них вырастают серийные убийцы. Проблема перевоспитания есть, но куда девать “генетику” молодого преступника? Вот если б в обществе была мощная пропаганда, что работать почётно, а за воровство наказание, то что-то, возможно, и изменилось бы. А пока на телевидении сплошные славословия бандитизму, пока родители дома без всякого стеснения открывают бутылку водки и даже наливают ребёнку, пока дети видят неуважение друг друга в своих родителях и пока не изменено много чего другого в культуре всей страны, то малолетки будут и за дерзость их будут бить, как бьют в тюрьмах демократических стран».
В этих репликах есть своя правда. Действительно, именно колонии для несовершеннолетних являются наиболее опасными и отвратительными рассадниками жестокости, насилия, агрессивности — можно сказать, «территорией беспредела». Здесь в молодых полупустых головах бродят идиотские представления о «воровской романтике» и прочем. Взрослые осуждённые не случайно называют «малолетку» «филиалом дурдома». Однако призывы бороться с этим явлением исключительно при помощи насилия — это путь в никуда. Напротив, необходима разработка особых программ воздействия на сознание ребят, подключение не только силы принуждения, но прежде всего — опытных педагогов, вливание серьёзных средств в создание исправительных учреждений нового типа для социально запущенных подростков. Агрессия же всегда порождает только ответную агрессию. Сначала она скрытая, а потом — вырывается наружу с разрушительной силой.
Песня о трёх парнишках, расстрелянных чекистами, — это одно из современных фольклорных произведений, которые хранят и накапливают в себе отрицательный заряд энергии ненависти к правоохранительным органам и власти в целом. Это — симптом опасной болезни не только мальчишек, которые находятся за «колючкой», но и всего общества.
«По прерии, вдоль железной дороги»
Впрочем, есть и менее мрачные современные версии песни «По тундре». В качестве примера можно привести пародию, автором которой является Виктор Баранов — популярный петербургский автор и исполнитель, лауреат многих фестивалей бардовской песни. Баранов давно уже занимается шуточными переделками в духе кантри известных отечественных шлягеров. Так появились песни «Поспел маис на ранчо дяди Билла», «По диким степям Аризоны», «Прерия кругом, путь далёк лежит» и другие. Не обошёл стороною Виктор Алексеевич и песню «По тундре»:
Мы бежали с тобою, мы бежали по прерии,
Мы бежали по прерии десять суток подряд.
Мы бежали с тобою от злого шерифа,
Чтобы нас не настигнул «смит-вессона» заряд.
Припев:
По прерии, вдоль железной дороги,
Где проносится поезд «Даллас — Нью-Орлеан».
Дождь нам капал на рыло и на дуло нагана,
Когда нас окружили, «Руки вверх!» — говорят.
Но они просчитались, мы пробились на волю,
Нас теперь не настигнет «смит-вессона» заряд.
Мы бежали с тобою, опалённые солнцем.
Мы бежали по прерии десять суток подряд.
Мы бежали с тобою, два отважных ковбоя,
Чтобы нас не настигнул «смит-вессона» заряд.
Положа руку на сердце: не бог весть какая пародия. На троечку, пожалуй. Но, как говаривал дедушка Карл Маркс в статье «К критике гегелевской философии права»: «Это нужно для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым».
Что же, пора и нам расстаться с песней и прошлым, о котором она повествует. Расстаться — но не забыть…

Как Таганка и Централка не поделили цыганку с картами
«Таганка» («Централка»)



Цыганка с картами, дорога дальняя,
Дорога дальняя, казённый дом;
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, парнишечку, по-новой ждёт…
Таганка,
Все ночи, полные огня,
Таганка,
Зачем сгубила ты меня?
Таганка,
Я твой бессменный арестант,
Погибли юность и талант
В твоих стенах!
А впрочем, знаю я и без гадания:
Решётки толстые мне суждены.
Опять по пятницам пойдут свидания
И слёзы горькие моей жены.
Зачем же ты, судьба моя несчастная,
Опять ведёшь меня дорогой слёз?
Колючка ржавая, решётка частая,
Вагон столыпинский да стук колёс…
Цыганка с картами, глаза упрямые,
Монисто древнее да нитка бус;
Хотел судьбу пытать с червонной дамою,
Да снова выпал мне бубновый туз!
Прощай, любимая, живи случайностью,
Иди проторенной своей тропой,
И пусть останется навеки тайною,
Что и у нас была любовь с тобой…
[13]
О тюрьме так мало песен сложено…
Нет, вообще-то о тюрьме как таковой песен сложено как раз немало. Но в море разливанном русского арестантского песенного фольклора по пальцам сочтёшь произведения, посвящённые конкретным «крыткам». Причём большинство из них относится к дореволюционному времени.
Из наиболее ранних сразу вспоминается «Александровский централ»:
Это, барин, дом казенный,
Александровский централ.
А хозяин сему дому —
Сам Романов Николай…
Александровским централом называлась центральная каторжная тюрьма в селе Александровском (76 километров к северо-западу от Иркутска).
Ещё одна тюрьма, прославленная уголовными менестрелями, — знаменитый «одесский кичман» —
С одесского кичмана
Сбежали два уркана…
Под одесским кичманом (так на жаргоне именуют тюрьму) подразумевается Одесский тюремный замок, возведённый по проекту санкт-петербургского профессора архитектуры Арсения Томишко в 1891–1894 гг. На 5-м Международном тюремном конгрессе в Париже (1895) Одесская и Московская пересыльные тюрьмы были признаны лучшими в Российской империи (а всего таких «крыток» по России насчитывалось 895).
Но одесский кичман удостоился всё-таки лишь мимолётного упоминания в известной блатной балладе. Лишь по строчке «низовой фольклор» посвятил и питерскому Литовскому тюремному замку (песня «По приютам я с детства скитался», где судья «укатал в Литовский» бедного бродяжку), разрушенному в марте 1917 года, или московской Краснопресненской пересыльной тюрьме, основанной в 1937 году («Идут на Север этапы новые», где «жиган» утром покидает Пресню и идёт этапом на Воркуту).
К сему можно добавить уголовный романс «Мы встретились с тобой на Арсенальной» — о петербургской женской тюрьме по Арсенальной улице, 9-11, построенной в её современном виде в 1909–1913 гг. по проекту архитектора Алексея Трамбицкого. А заодно и разбитную песенку, преимущественно известную в исполнении Аркадия Северного: «На Арсенальной улице я помню старый дом» — на этот раз о знаменитой питерской тюрьме «Кресты», возведённой почти одновременно с женской тюрьмой в 1884–1889 гг. по проекту всё того же А. Томишко на Арсенальной набережной, 7. Впрочем, по поводу обеих «арсенальных» песенок ряд исследователей высказывает сомнения: возможно, они — лишь более поздние стилизации под песенный «блат».
Так что полноценных произведений, посвящённых конкретным тюрьмам, в русском классическом блатном песенном фольклоре сегодня всего два — «Александровский централ» и «Таганка».
Отчего же именно Таганской тюрьме выпала «честь» остаться запечатлённой в песенной памяти уголовного мира? Попробуем разобраться.
Мошенник, авантюрист и варёный повар
Начнём с названия. Знаменитая ныне Таганка появилась в 1804 году по указу императора Александра I в Москве. Она была расположена на пересечении улицы Малые Каменщики и Новоспасского переулка на территории Таганской слободы, вблизи от Таганских ворот и одноименной площади, поэтому не удивительно, что и окрестили её на «таганский» лад. Но откуда произошло само слово «таганка» и что оно значит?
По одной из версий, слово «Таганка» происходит от тюрскского «таган». Как поясняет в своём «Толковом словаре» В. И. Даль, «таган (татарск.) — круглый или долгий железный обруч на ножках, под которым разводят огонь, ставя на него варево; треножник». «Толковый словарь иностранных слов» Л. П. Крысина даёт более подробное описание: «Металлический обруч на ножках, служащий подставкой для чугуна, котла при приготовлении пищи на открытом огне, а также сам такой котел на ножках». В «Толковом словаре» Д. Ушакова указывается, что обруч служит не только подставкой: «Треножник, козлы, к которым подвешивается котёл».
Ряд языковедов соотносят таган с турецким и крымско-татарским tygan — жаровня. Макс Фасмер в своём «Этимологическом словаре русского языка» указывает, что слово заимствовано татарами и турками из новогреческого языка, где оно означает сковороду или тигель. Профессор Эдуард Мурзаев тоже считает, что тюркское слово «таган» восходит к греческому «теганон» — сковорода с ручкой. Он также заявляет, что в географии под таганом разумеется гора либо холм, чему есть множество подтверждений в самых разных уголках России: например, селения Таганча в Киевской и Черкасской областях, Таган в Новосибирской области, гора Алтын-Таган на Алтае, город Таганрог в Ростовской области.
Треножник, сковорода или холм — любое из этих значений связано с Таганской слободой, ибо она действительно располагалась на Таганском холме (одном из семи, на коих столица зиждется): здесь с давних времён (не позднее XVI века) располагались ремесленники — таганных дел мастера. И до сих пор в нижней части герба Таганского района изображён котёл на подставке.
Но от проблем лингвистических вернёмся к тюремным. Хотя поначалу Таганка никакой тюрьмой не была. По статусу она считалась «рабочим домом»
[14]. Рабочий дом формально тюрьмой не являлся. Это особо подчёркивает, например, Энциклопедический словарь Брокгауза — Эфрона в статье «Рабочие дома»: «Учреждением Р. и смирительных домов
наряду с тюрьмой, арестантскими ротами, арестными домами и пр. (выделено мною. —
А. С.) уложение имело в виду достигнуть согласования характера каждого наказания не только с тяжестью, но и со свойствами преступного деяния». То есть в рабочем доме предполагались более мягкие условия содержания и обязательное обучение заключённых определённым специальностям, чтобы облегчить освобождённому социальную реабилитацию на свободе. С этой целью в Таганском рабочем доме действовали токарные, переплётные, слесарные, портновские мастерские, а также типография. Отбывание наказания в рабочем доме сопровождалось лишением всех прав и преимуществ и назначалось на время от двух месяцев до двух лет.
Правда, известный русский криминолог Николай Степанович Таганцев (его фамилия мистическим образом перекликается с темой нашего очерка) справедливо заметил в 1873 году, что на деле созданное законом разнообразие мест заключения на практике свелось «к полнейшему однообразию — один и тот же острог являлся, смотря по требованию, и тюрьмою, и рабочим, и смирительным домом». Указом от 21 апреля 1884 года рабочие дома упраздняются (уже в 1866 году в империи их существовало только три), Таганка же ещё раньше, к середине XIX века, получает статус губернской тюрьмы.
Подробно рассказывать о самой тюрьме можно (и нужно бы) — оно того стоит. Однако главное для нас всё же — история знаменитой песни о Таганке, рассмотренная через призму блатного музыкального фольклора.
Итак, отчего же арестантский мир воспел именно Таганку? Да, тюрьма знаменитая, сиживали здесь и меценат-миллионщик Савва Мамонтов, и философ Павел Флоренский, и писатель Леонид Андреев, и поэт Леонид Радин (в камере Таганской тюрьмы в 1897 году он даже сочинил революционный марш «Смело, товарищи, в ногу!»); среди заключённых числились известные большевики Леонид Красин, Анатолий Луначарский, Николай Бауман и др.
Мне, однако, куда интереснее персонажи иного рода. Например, узником Таганской тюрьмы был авантюрист Василий Трахтенберг. Википедия и другие источники утверждают, будто Василий Филиппович попал сюда в 1908 году за то, что продал французскому правительству несуществующие рудники (не то в Марокко, не то в Южной Африке) и именно в Таганке собрал уникальный даже по сегодняшним меркам словарь «Блатная музыка» («Жаргон тюрьмы»), который был опубликован в том же 1908 году. На самом деле история с рудниками сомнительна и покрыта мраком. Зато похождения Трахтенберга легко можно почерпнуть из скандальной периодики начала XX века. Известный пройдоха родом был из состоятельной купеческой семьи, учился в Императорской военно-медицинской академии, но образование не завершил: помешало пристрастие к карточной игре и лёгкой жизни. В 1900 году приговорён к месячному тюремному заключению, позднее — ещё к двум месяцам тюрьмы, а затем, судя по всему, список мест лишения свободы, которые поневоле посетил несостоявшийся лекарь, основательно пополнился. В этом легко убедиться, открыв словарь «Блатная музыка», изданный в 1908 году под редакцией и с предисловием известного языковеда, профессора Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ. Издание предваряется перечнем: «По материалам, собранным в пересыльных тюрьмах: Петербургской, Московской (“Бутырки”), Виленской, Варшавской, Невской и Одесской; в тюрьмах: в “Крестах”, в “Доме предварительного заключения”, в “Дерябинских казармах” (Петербург), в “Каменщиках”
[15] (Москва)».
То есть жаргонные слова и выражения Трахтенберг начал собирать не в 1908 году, а значительно ранее. Более того: к этому времени Василий Филиппович уже освободился из «Каменщиков». По крайней мере, в предисловии Бодуэна де Куртенэ к словарю читаем: «Часть словарного материала, вошедшего в предлагаемый здесь сборник, была около двух лет тому назад приобретена от В. Ф. Трахтенберга Отделением русского языка и словесности Императорской Академии наук для пополнения с этой стороны издаваемого Отделением обширного словаря русского языка». То есть Трахтенберг продал свои записи учёным ещё в 1906 году — надо думать, после освобождения. Затем Бодуэн де Куртенэ обработал эти записи, добавил известную ему воровскую лексику, особый упор сделав на выписки из труда известного киевского литератора Григория Брейтмана «Преступный мир. Очерки из быта профессиональных преступников» (1901), составил указатель к словам и написал предисловие к работе. Как справедливо замечает языковед Салават Вахитов о Бодуэне де Куртенэ: «По сути, он создал свой словарь тюремного жаргона, но, будучи человеком скромным и глубоко порядочным, оставил авторство за В. Ф. Трахтенбергом».
Но, по крайней мере, Трахтенберг в «Каменщиках» всё же чалился. А вот история с другим узником не столь очевидна. На просторах Интернета можно встретить байку о том, что в 1922 году Таганку случаем «посетил» Осип Беньяминович Шор — авантюрист, мошенник и одно время (1918) инспектор одесского угрозыска. Говорят, Шор послужил прототипом Великого Комбинатора Остапа Бендера. Его фигура яркими штрихами запечатлена в воспоминаниях Валентина Катаева «Алмазный мой венец». Остап (как его называли в семье) Шор во время службы в одесском угрозыске считался одним из лучших оперативников и грозой городских бандитов. И те в 1918 году по ошибке застрелили его старшего брата — Натана Шора, известного поэта, писавшего под псевдонимом Анатолий Фиолетов. После этого, как гласит молва, через некоторое время Осип Шор уволился и уехал в Москву. Вот здесь якобы его задержали за участие в драке (одессит вступился за честь жены своего сотоварища-поэта), водворили в Таганскую тюрьму, но чуть ли не наутро отпустили — после того как выяснилось, что он «из своих».
Однако, согласно другим биографическим сведениям, Шор в 1922 году переехал вовсе не в Москву, а в Петроград, где действительно в первые же дни попал в тюрьму за пьяную драку. Пробыл он там недолго — пока из Одессы не пришёл ответ на запрос. В бумаге сообщалось, что товарищ Шор являлся одним из лучших сотрудников угрозыска. А миф о Таганке, думается, возник после выхода в свет романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Там в одном из эпизодов администратор театра Колумба выдал Остапу Бендеру два билета в партер, загипнотизированный взглядом незнакомца:
«И, машинально выдавая пропуска счастливым теа- и кинокритикам, притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза.
Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу».
Так и реальный Шор — прототип Бендера — переместился из тюрьмы питерской в тюрьму московскую.
И совсем уж безумная байка: якобы до революции в Таганке одно время готовил пищу для заключённых повар по фамилии Баландин. Но кулинар из него был, мягко говоря, хреноватый. То ли подворовывал он, недокладывал в котёл мяса и прочих ингредиентов, то ли руки у него не из того места росли… Короче, кончилось всё это дело плачевно: уркаганы сварили повара в котле живьём — в назидание будущим поколениям. Отсюда якобы пошло название тюремной похлёбки — баланда.
Понятно, что ничего общего с реальностью эта жуткая страшилка не имеет. Да, баландой в местах лишения свободы в самом деле называют похлёбку — жидкий, водянистый суп. Только вот происходит это название вовсе не от фамилии несчастного повара. Даль в своём «Толковом словаре» даёт следующее определение: «Баланда… род ботвиньи, холодец из заквашенного на муке отвара свекольной или иной ботвы с окрошкою… род лебеды, ботва, идущая на ботвинью». В литовском и других балтийских языках balanda — лебеда. Таким образом, баланда издавна считалась похлёбкой из лебеды, незатейливой едой для самых бедных.
Но мы слишком увлеклись таганскими узниками. В конце концов, и в других тюрьмах сиживали люди известные. Взять ту же Бутырку: тут вам и Владимир Маяковский, и Нестор Махно, и Феликс Дзержинский… А в 1908 году здесь выступал знаменитый иллюзионист Гарри Гудини, который, закованный в кандалы и цепи, за 28 минут сумел освободиться из специального «ящика», в котором арестантов перевозили из Москвы в Сибирь.
А между тем никто почему-то не поёт — «Бутырка, все ночи, полные огня». Песню сочинили почему-то всё-таки о Таганке. Хотя… Так ли это на самом деле? Вы уверены, что в оригинале имелась в виду именно Таганская тюрьма?
По-польски «Таганка» звучит как «Тамара»?
Впрочем, не будем забегать вперёд. Начнём всё же с Таганки.
Самое раннее предположение о возникновении этой песни я встретил в работе Андрея Сёмина «“Чужие” песни Владимира Высоцкого». Автор пишет:
«Читательница “Русской мысли”
[16] В. Винницкая ещё в 1973 г. (номер от 27 дек.) сообщила не подтверждённую до сих пор в печати версию о том, что песня “Тюрьма Таганка” написана в прошлом веке поэтом-народовольцем И. И. Гольц-Миллером. Её письмо было перепечатано в журнале “Вагант” (1992. № 9)».
Подобная версия не выдерживает критики. Иван Гольц-Миллер, русский поэт и революционер (1842–1871), действительно за распространение запрещённых сочинений в 1863 году провёл три месяца в Московском смирительном доме «для предерзостных» (ныне — Матросская Тишина), а затем был сослан. В Таганке он никогда не был. Но дело даже не в том; в конце концов, необязательно там быть, чтобы написать стихи об этой тюрьме. Стихов-то — и революционных, и депрессивно-упадочных — Иван Иванович создал немалое количество. В 1869 году поэт был выслан из Одессы во время студенческих волнений за то, что он «был замечен в пении недозволенных песен» (нешто «Таганку» горланил?).
Однако есть и другие нестыковки. И в начале XX века, и во времена Гольц-Миллера весь честной народ именовал тюрьму не «Таганкой», а «Каменщиками». Вот отрывок заметки одной из московских газет: «10 ноября (28 октября) 1902 года: В московской губернской тюрьме, что в Каменщиках, ежегодно в конце октября происходит особое духовное торжество, совершаемое по почину и по инициативе заключённых здесь арестантов. На заработки, получаемые ими от различных работ, введённых в этой тюрьме, заключённые в одно из октябрьских воскресений приглашают особо чтимые святыни, и торжественное молебствие приносит им отрадное утешение, западающее в их сердца добрыми семенами». Согласитесь, в газетной информации проще было бы написать «Таганская тюрьма», а не использовать громоздкий оборот «московская губернская тюрьма, что в Каменщиках». А вот цитата из современного путеводителя «Москва»: «Улицы Большие и Малые Каменщики начинаются у Таганской площади и идут на юг… В XIX в. здесь стояла Таганская губернская тюрьма, и слово “Каменщики” для москвичей означало “Тюрьма на Таганке”».
Кроме того, «Таганка» написана в стиле танго — это достаточно очевидно. Но самые ранние упоминания о танго в России датируются 1913 годом (хотя в Европу мода на эту музыку и танец пришла из Аргентины несколькими годами раньше). Так что вариант с авторством Гольц-Миллера не проходит.
Другую историю поведал Михаил Шуфутинский в интервью «Я никакой не мачо»: «В 1990 году в Риге ко мне пришёл человек прямо перед концертом. Принёс рукописную общую тетрадь. И говорит, что многие годы он записывал песни Рижского централа. И там была “Таганка”, датированная 32-м или 34-м годом. И автор песни был в этой тетрадке написан. Перед самым выходом на сцену я просил его оставить тетрадь, но он не согласился. Тогда я попросил, чтобы он подошёл после концерта, хотел уточнить автора и текст. Он сказал, что придёт… И не пришёл… Это была та самая песня… Значит, всё-таки автор был, не может быть, что эта песня народная. Я не верю в народность песен».
Ну, вообще-то автор есть у любой песни, в том числе и у народной. А не верить в «народность» песни — это примерно то же самое, как не верить в электричество (чем грешила «ничья бабушка» в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова)… В целом история мутная. Во-первых, неясно, записана ли песня в тетрадь в 1932-м или 1934 году или же записана позже, но помечена этими датами со слов исполнителя. Во-вторых, за многие годы исследований «низовой» песни я убедился, что у многих таких произведений существует до десятка «авторов».
Кое-кто предполагает, что Шаляпин, выступая перед арестантами Таганской тюрьмы в 1906 году (факт реальный), мог исполнить первоначальный вариант «Таганки». Ну, это даже на версию не тянет.
Так что перейдём к версии, автор которой свои изыскания единственно верными, окончательными и бесповоротными.
[17] Подписывается этот автор как Ян Павловский (настоящее имя — Яков Попов). В своём труде «Таганка: тюрьма и песня», размещённом на портале «Шансон», Павловский утверждает, что «Таганка» — переделанное танго «Тамара» польского композитора Зигмунта Левандовского, слова Збигнева Мацейовского, в исполнении популярного польского певца 30-х годов Адама Астона. Танго было написано Левандовским для ревю «Весна и любовь» в варшавском театре «Голливуд». В 1933 году песня была записана на пластинку фирмой «Сирена-Электро» и пользовалась огромной популярностью в Польше.
Правда, автор исследования о том, как «Тамара» превратилась в «Таганку», делает оговорку: «Танго “Тамара” не было известно в СССР, оно не выпускалось на пластинках, не переводился его текст». Вопрос: как же оно стало популярным в советской арестантской среде? У Павловского есть однозначный ответ:
«Как мог поляк угодить в Таганку? Вспомним, при разделе Польши по советско-германскому пакту более 200 тысяч польских военнослужащих всех званий, в том числе около 10 тысяч офицеров были объявлены военнопленными. По решению Политбюро ЦК ВКП(б) все польские военнопленные переданы органам НКВД, во главе которых стоял Лаврентий Берия. Это не соответствовало Гаагской и Женевской конвенциям (военнопленными должны были заниматься армейские), против чего выступали отдельные польские офицеры. Их размещали в нескольких лагерях. Возможно, наш герой — один из них и потому угодил в Таганский централ, для чего пришлось ему прокатиться в столыпинском вагоне. Возможно, он сидел в одной камере с русскими, которые подхватили неизвестную напевную мелодию, помогли подобрать слова, привнесли пикового туза и “по новой”. Ведь в те времена в камерах сидело народа, как в бочке сельдей. Позже, не исключено, с объявлением амнистии поляка выпустили, он был призван в армию Андерса и с ней ушел из СССР… Вот, пожалуй, и всё, что я могу сказать об авторе текста».
Честно говоря, вспоминается до боли знакомое: «Нам кажется, вороне, а может быть, корове, а может быть, собаке ужасно повезло…» Подобные пассажи в серьёзном исследовании недопустимы. Так что от высокой фантазии унизимся до грубой реальности. А в реальности польские военные в основном миновали столичные тюрьмы. В первые же дни после вступления Красной армии на территорию Польши НКВД организует освободительно-приемные (то есть фильтрационные) пункты в районах, где находились конечные станции железных дорог советской колеи — в Ярмолинцах, Каменце Подольском, Олевске, Орехове, Радошковицах, Столпцах, Шепетовке, Тымковичах, Волочисках и Житковичах. Отсюда поляков этапировали прямо в спецлагеря Управления по делам военнопленных при НКВД СССР (создано 19 сентября 1939 года приказом № 0308): Осташков (Калининская область), Козельск (Смоленская область), Юхнов (Смоленская область), Путивль (Черниговская область), Козельщина (Полтавская область), Старобельск (Ворошиловградская область), Южа (Ивановская область) и Оранки (Горьковская область). Затем появились ещё два распределительных лагеря — в Грязовце и Вологде. То есть военнопленные в перечисленные лагеря попадали, минуя московские пересылки. Отметим также, что указанные лагеря создавались не для военнопленных, а для интернированных: ведь формально до ноября 1939 года (т. е. до объявления войны СССР эмигрантским правительством Польши, обосновавшимся в Лондоне) польские военные на территории СССР считались именно интернированными, а не военнопленными.
Конечно, столичные тюрьмы пропустили через себя немало поляков — но несколько иного качества. Юрий Юркевич, сидевший в конце 1930-х годов в Бутырской тюрьме, вспоминал: «Через мою бутырскую камеру прошло множество поляков: журналистов, учителей, ксендзов, всё больше из городов Западной Украины. Рядовых солдат больше посылали в лагеря обычного типа, а офицеров, как рассказывали, отправляли обычно на Новую Землю (имеется в виду, конечно, не архипелаг Новая Земля на советском Крайнем Севере, а вся территория СССР, за исключением Западной Украины и Белоруссии. —
А. С.). Такой же была участь и всех других, служивших в польской армии, — украинцев, евреев, татар, грузин».
Так что чисто теоретически поляки могли занести «Тамару» в советские тюремные камеры. Ну, не военные сочинили, а штатские — какая разница? Хотя, как мы убедимся позднее, как раз Бутырка была центральной тюрьмой НКВД, поэтому могла принимать подобные этапы поляков, а вот Таганка предназначалась для «обслуживания» жителей Московской области.
Но есть вопрос куда более важный, нежели способ доставки польского танго в советские застенки: насколько близка мелодия «Тамары» мелодии «Таганки»? Текст нас интересует в меньшей мере, поскольку есть примеры того, как на известную мелодию сочинялся совершенно новый текст, не имеющий никакого отношения к исходному. Например, мелодию песни «На Молдаванке музыка играет» написала Нелли Касман в 1923 году, автор текста на идиш — её муж Самуил Штейнберг, и этот текст не имеет никакого отношения ни к Абрашке Терцу, который срубил большие бабки и справил на них именинки, ни к Кольке-Ширмачу, который стал «героем стройки в пламени труда».
И вот здесь нас сразу же ожидает разочарование. В своём исследовании Ян Павловский делает однозначный вывод: «С учётом всего сказанного, прослушанного и просмотренного можно с полной уверенностью утверждать: композитором, написавшим музыку “Таганки”, был польский композитор Зигмунт Левандовский». Увы, ознакомившись с тем же материалом, я пришёл к совершенно противоположному мнению: между двумя песнями нет абсолютно никакого сходства — ни малейшего! Да его и быть не может, так как тексты написаны совершенно разными стихотворными размерами, и положить столь несовпадающие между собою стихи на одну музыку не в силах даже самый гениальный композитор. Чтобы читатель мог убедиться в этом, я специально перевёл один куплет и припев «Тамары» на русский язык. Перевод достаточно вольный, однако размер соблюдён в точности:
Лёг на землю сумрачный туман,
В табор я спешу, в толпу цыган.
Там меня моя дивчина ждёт,
Дивчина сладкая, как мёд.
Припев:
Тамара, спой мне
ту песнь цыганскую разлуки,
Былое танго,
оно нам скрасит расставанья час.
Через минуту
в дорогу тронутся кибитки,
запомни плач души разбитой,
Моей души, в которой свет погас.
Если сравнить с «Таганкой», то совершенно очевидно, что перед нами — две песни с абсолютно несовпадающими стихотворными размерами. На что я и обратил внимание Павловского: «Увы, не вижу серьёзных оснований сопоставлять “Таганку” и “Тамару”. Разве что по созвучию этих двух слов. Мелодия танго далека от “Таганки”. Во всяком случае, все песни уголовного мира, написанные на известные мелодии, их выдерживали. Пусть иногда даже брали только мотив припева (как в случае с Нелли Касман). В Вашем случае этого нет даже приблизительно».
В ответ автор версии заметил: «Сходство музыки мне подтвердили Екатерина Мельникова (одна из тех, кто принимал орган Большого), другие музыканты». К сожалению, я не принимал орган Большого театра и не совсем в курсе, что подразумевала Екатерина Мельникова под «сходством музыки». Хобот слона тоже сходен со шлангом пылесоса. Но эти хоботы принадлежат разным зверям, простите за грубый юмор. Возможно, великие настройщики органов и шибко продвинутые музыканты смогут уловить отдалённое сходство гармонии отдельных отрывков или ещё что-то. Однако органистов по тюрьмам всегда чалилось немного, и страшно далеки они от простого арестантского люда. Повторяю: в уголовно-арестантском мире существует множество переделок популярных песен. Однако они абсолютно точно копируют мелодию оригинала. В случае с «Тамарой» ничего подобного мы не наблюдаем. Впрочем, у нас будет ещё повод вернуться к обсуждению этой темы.
Быть может, старая — но не центральная!
Но любопытен и другой аспект. В своём очерке Павловский предполагает, что его мифический герой-поляк «угодил в Таганский централ». И вот тут хотелось бы прояснить некоторые чрезвычайно любопытные подробности.
Действительно, в песне совершенно определённо указано — «старая тюрьма центральная». Но эта характеристика никоим образом не может относиться к Таганке! Вспомним, что до революции она числилась как губернская тюрьма. В 1918 году, согласно временной инструкции Наркомюста РСФСР от 23 июля «О лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания такового», Таганка отнесена к общим местам заключения (тюрьмам) — для осуждённых к лишению свободы, подследственных, подсудимых и пересыльных. Территориальная подведомственность не уточнялась, поскольку Республика Советов сжималась как шагреневая кожа, тут было не до «центральности» или «уездности». Впрочем, вскоре общие места заключения были перекрещены из тюрем в исправительные дома, что закрепил первый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, принятый на сессии ВЦИК 16 ноября 1924 года. «Крытки» разделялись на дома заключения (домзаки) — аналоги нынешних следственных изоляторов, и исправдома — в них содержались лица, приговорённые к лишению свободы на срок свыше полугода. Поэтому известный правовед Борис Утевский пишет в «Воспоминаниях юриста»: «“Таганский исправдом”, или “Таганка”, как его по традиции продолжали называть, была одной из старых царских тюрем».
В 1929 году система мест заключения несколько изменяется: а) дома заключения для подследственных и пересыльных; б) колонии (открытые и закрытые); в) дома заключения для срочных заключённых; г) исправительно-трудовые лагеря. Таганка превратилась из исправдома в домзак для осуждённых преступников. Лишь позднее, в начале 1930-х, Таганке вернули гордое звание тюрьмы № 1 (Таганская). На правах областной тюрьмы 27 октября 1934 года вместе с другими исправительно-трудовыми учреждениями она была передана из ведения Наркомюста в Отдел мест заключения ГУЛАГа НКВД СССР.
И только за несколько лет до того, как Таганку разрушили (а произошло это в 1958 году), она получила статус «Центральная Таганская пересыльная тюрьма Восьмого управления МВД СССР». Так что до этого времени «старой центральной тюрьмой» Таганку при всём желании назвать было нельзя.
Правда, здесь снова вмешивается уже известный нам исследователь Павловский. Желая всеми силами притянуть время создания «Таганки» к 1939 году (появлению польских военнопленных), он просто обязан присвоить Таганской тюрьме статус центральной! И Павловский совершает этот трюк с ловкостью необычайной! Он пишет:
«13 февраля 1938 г. приказом НКВД № 025 Тюрьма № 1 ОМЗ УНКВД Московской области реорганизуется в Таганскую тюрьму ГУГБ, т. е. Таганка из областной тюрьмы становится центральной, переходя из ведения УпрНКВД Московской области в центральное подчинение Главупр госбезопасности НКВД. Начиная с 1939 г. часть тюрем из ведения НКВД передаётся в ведение ГУЛАГа под пересыльные. Пересыльной становится и Таганка».
Действительно, и приказ такой имел место, и Таганская тюрьма перешла в ведение Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Так в чём же подвох? А всё до смешного просто. Переход тюрьмы в ведение ГУГБ вовсе не означал того, что она получала статус «центральной»! На что я и указал исследователю:
«Ваше “т. е.” никаким боком не проходит. Потому что термин “центральная тюрьма” не подлежал расширительным толкованиям. Количество центральных тюрем было точно определено, и Таганки в их числе не было. К 1939 году (когда “Таганку” якобы сочинили пленные польские офицеры) в подчинении Главного тюремного управления НКВД (образовано в сентябре 1938 года) в Москве находились центральные тюрьмы ГУГБ НКВД СССР — Внутренняя, Бутырская, Лефортовская, Сухановская (плюс Тюрьма специального назначения и психиатрическая тюремная больница в Казани)».
Лукавство Павловского становится отчётливым, когда оказывается, что он стыдливо «отсёк» часть документа, где особо подчёркивалось: Таганка реорганизована в тюрьму ГУГБ «с преимущественным содержанием в ней лиц, арестованных УГБ УНКВД Московской области»! Другими словами, в составе НКВД за Таганкой особо закреплялся статус именно областной тюрьмы, а ни в коем случае не центральной! То есть если бы песня о «старой центральной тюрьме» родилась в 1939 году, она явно не имела в виду Таганку. Да и с другой стороны: даже если вдруг принять версию Павловского, всё равно получается нелепость. Тюрьма лишь год как центральная, а о ней уже поют как о «старой центральной»… Ерунда полная.
Кстати, в «Справочнике по ГУЛАГу» Жака Росси тоже отмечается: «Таганка или Таганская тюрьма Московского обл. управления НКВД-МВД — старая московская тюрьма в Пролетарском районе Москвы, 4-этажное здание с галереями внутри, с натянутой металлической сеткой для предупреждения попыток самоубийства». Напомним, что НКВД было преобразовано в МВД СССР 18 марта 1946 года. То есть, согласно Росси, и до этого, и после Таганка оставалась областной тюрьмой. Спорить с этим бессмысленно, поскольку то же самое гласит и приказ НКВД СССР № 025 1938 года.
Централка, я твой навеки арестант…
Позвольте! Что же выходит? Во всех вариантах песни указывается «старая тюрьма центральная». Но если Таганская тюрьма никогда центральной не являлась — исключая несколько лет перед самым её сносом, — выходит, неведомые сочинители из числа арестантов были «не в курсе дела»? Это дикое предположение отметаем с порога. Но тогда как объяснить этот странный эпитет?
И вот тут позволю себе повторить уже заданный вопрос: а вы уверены, что изначально речь шла именно о Таганской тюрьме? Если всё ещё уверены, познакомимся с новой порцией фактов и цитат.
Начнём, пожалуй, со спорного. С апреля по июнь 1979 года в журнале «Наш современник» публикуется роман Валентина Пикуля «У последней черты», который затем выходит отдельным изданием под названием «Нечистая сила». Роман был посвящён Григорию Распутину и «распутинщине» и вызвал небывалый скандал. Но нам интересен всего лишь небольшой эпизод из него:
«На квартире Бадмаева, где он решил укрыться, сидел Курлов, распевая блатные песни. Это удивительно, что человек, всю жизнь сажавший других по тюрьмам, обожал тюремную лирику… Закрыв глаза, жандармский генерал с большим чувством выводил:
Централка — и ночи, полные огня,
Централка — зачем сгубила ты меня,
Централка — я твой последний арестант,
Па-а-гибли юность и талант
В стена-а-ах тва-а-их…»
Какой любопытный поворот! Вовсе не о Таганке речь идёт, а о Централке — то есть о центральной тюрьме, централе, коим Таганка во время «распутинщины» уж точно не являлась.
Мне могут возразить: это же художественное произведение, Пикуль себе и не такие вольности позволял! Допустим. Но годом раньше Пикуля в Париже бывший сиделец, филолог, писатель, собиратель блатного и лагерного фольклора Андрей Донатович Синявский публикует известное эссе «Отечество. Блатная песня», где опять-таки вместо Таганки фигурирует совершенно другое название:
Центральная!
Ах, ночи, полные огня!
Центральная!
Зачем сгубила ты меня?
То есть и Синявский отдаёт предпочтение «Центральной», несмотря на то, что к тому времени активно исполнялся вариант с «Таганкой» из двух куплетов, который наиболее известен и популярен в народе («Цыганка с картами, дорога дальняя» и «Я знаю милая, больше не встретимся»). Значит, Андрей Донатович за решёткой слышал песню в иной версии, без упоминания Таганки?
И не он один. Гулаговский сиделец Николай Мурзин вспоминает 1948 год:
«По двору Киевской центральной пересыльной тюрьмы разрешалось ходить сколько желаешь…
С подоконников, из окон свисают сотни, тысячи арестантов. Они перекрикиваются, балагурят, находят себе “подружек”.
Вот одна из них поёт, сидя на окне, так что голос её слышен всюду. Она неплохо поёт, у неё есть голос. Только нет будущего:
Централка…
Все ночи полные огня.
Централка…
Зачем сгубила ты меня?
И ещё что-то:
Дорога дальняя,
Тюрьма центральная,
Тюрьма центральная,
Казённый дом…»
Та же картина в мемуарах киносценариста Валерия Фрида «Записки лагерного придурка». В 1945–1950 гг. Фрид находился в Краснопресненской пересыльной тюрьме и вспоминает:
«Там, на Красной Пресне, я впервые услышал знаменитую “Централку” — или “Таганку”, кому как нравится. Её очень трогательно пели на верхних нарах:
Цыганка с картами, дорога дальняя,
Дорога дальняя, казённый дом:
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, несчастного, по-новой ждет…»
Как легко убедиться, Фрид тоже считает «настоящей арестантской» песню с Централкой, а о Таганке упоминает в качестве уступки новым поколениям исполнителей.
К концу 1940-х — началу 1950-х гг. относится и отрывок из мемуаров Ады Федерольф «Рядом с Алей». Ада Александровна тогда отбывала пожизненную ссылку в Туруханске вместе с дочерью Марины Цветаевой Ариадной Эфрон, которой и посвящены воспоминания:
«В Туруханске в те годы у Али еще было приятное меццо-сопрано, и она прекрасно пела на спевках в своём клубе и народные песни, и злободневные частушки.
Дома она вспоминала тюремную песню:
Централка — все ночи, полные огня,
Централка — зачем сгубила ты меня?
Централка — я твой бессменный арестант,
Погибли юность и талант в стенах тюрьмы».
Но это всё — послевоенные годы. А вот Юрий Герман написал свои повести «Лапшин» и «Жмакин» в 1937–1938 гг. и только позднее объединил их в большой роман «Один год». В одном из эпизодов с уголовником Алексеем Жмакиным звучит и «Централка»:
«Какие-то обрывки старых, полузабытых песен шумели у него в ушах, он отгонял их, но они лезли вновь и вновь:
Централка, все ночи, полные огня,
Централка, зачем сгубила ты меня?
Централка, я твой бессменный арестант,
Погибли юность и талант в стенах твоих…»
А теперь попробуем разобраться. Сначала склоню перед читателем свою повинную голову и приведу собственные размышления — комментарий к тексту песни «Централка» в сборнике блатных песен, выпущенных в 2001 году ростовским издательством «Феникс». Писал я следующее:
«Централка — это один из вариантов “Таганки”. Видимо, зэки переделали “Таганку” в “Централку”, чтобы расширить “географию” песни. “Централкой” можно назвать любую крупную пересыльную тюрьму любого города — “централ”. Однако “Таганка” всё-таки осталась песенной арестантской классикой. Впрочем, некоторые арестанты, напротив, утверждают, что именно “Централка” была первоосновой, а “Таганка” — более поздний вариант…»
Как видите, я не дал окончательного ответа. За комментарием следовал текст «Централки» — так, как он был записан мною:
Цыганка с картами гадала правильно:
«Дорога дальняя в Сибирь ведёт…»
Быть может, старая тюрьма Центральная
Меня, преступничка, по новой ждет.
Припев:
Централка!
О, ночи, полные огня!
Централка!
За что сгубила ты меня?
Централка!
Я твой бессменный арестант,
Погибли юность и талант
В стенах твоих…
Сижу я в камере, всё в той же камере,
Где, может быть, ещё сидел мой дед,
И жду этапа я, этапа дальнего,
Как ждал отец его в семнадцать лет.
Опять по пятницам пойдут свидания
И слезы горькие моей жены.
Дорога дальняя, тюрьма центральная,
За что загублены тобою мы?
Припев:
Централка!
Мир строго форменных одежд.
Централка!
Страна фантазий
[18] и надежд.
Централка!
Ты нас от солнца хоронишь
И скоро всех нас превратишь
В живой скелет!
Так что же появилось раньше — курица или яйцо, «Таганка» или «Централка»? Думается, явный перевес аргументов — на стороне «Централки». Даже если принять во внимание возражение, что значительная часть воспоминаний сидельцев ГУЛАГа и художественных произведений, упоминающих «Централку», написана уже после того, как в 1960-е годы «Таганка» пошла звучать по всей стране, а «Централка» появилась, дескать, задним числом, как переделка… Ничуть не бывало. Сами подумайте: если в ГУЛАГе в песне упоминалась Таганка — почему же узники сталинских лагерей в мемуарах упорно называют именно Централку?! Им ведь куда проще вспоминать Таганку, которая у всех на слуху. Нет же: что ни мемуары, то — Централка. В лучшем случае, как у Анатолия Жигулина в «Чёрных камнях», который, вспоминая лето 1950 года, цитирует два куплета песни вообще без припева, то есть и без Таганки, и без Централки. При этом для него как для арестанта было совершенно очевидно, что песня «старинная» (несомненно, автор повторял традиционное мнение сидельцев). Уж точно дореволюционная. А Таганка, ещё раз напомним, до революции была губернской тюрьмой.
Кстати, любопытный факт. Несколько раз «Таганку» исполнял Владимир Высоцкий. И вот что любопытно: в поздних версиях он заменил в первом куплете строку «Быть может, старая тюрьма центральная» на «Быть может, старая тюрьма Таганская». Кто-то подсказал? Очень возможно, и даже наверняка. Особенно если учесть, что в 1958 году молодой студент Школы-студии МХАТ Владимир Высоцкий знакомится с Андреем Синявским, который преподавал в студии русскую литературу. Синявский был очарован тем, как Высоцкий исполняет блатные песни, не раз приглашал его с другими студентами к себе домой, причём супруга Андрея Донатовича Мария Розанова вспоминала: «После первого их визита я сказала Синявскому, что нельзя, чтобы всё так ушло, — нужно купить магнитофон. Мы купили “Днепр-5” — большой, громоздкий и с зелёным огоньком. И все остальные приходы в наш дом Высоцкого уже записывались на магнитофоне».
Высоцкий часто приходил к Синявскому и после возвращения Андрея Донатовича из лагеря — вплоть до отъезда писателя за границу в 1973 году. Синявский написал позднее свои известные произведения «Голос из хора» и «Отечество. Блатная песня», где упоминаются исключительно куплеты с Централкой — но не с Таганкой. И вот как раз в исполнениях и упоминаниях «Таганки» уже после встреч с освободившимся Синявским Владимир Семёнович заменяет в первом куплете слово-эпитет «центральная» на «таганская»:
Быть может, старая тюрьма Таганская
Меня, парнишечку, по-новой ждёт.
То есть, не расставаясь с упоминанием Таганки, Высоцкий устраняет противоречие, согласившись с тем, что Таганская тюрьма не могла быть «старой центральной». Так делает он, например, выступая в Доме культуры «Мир» города Дубны 10 февраля 1979 года, затем — в московском НИИ строительной физики 2 марта. В этих концертах поэт цитирует только начальный куплет. А полностью в таком варианте Владимир Семёнович исполнил песню во время двухнедельной поездки в Рим, когда Марина Влади снималась в фильме «Мнимый больной». Импровизированный концерт состоялся вечером 2 июля 1979 года в ресторане, и там тоже отсутствовало указание на «центральную тюрьму».
Вполне естественно предположение, что именно Синявский после освобождения поправил Высоцкого, и тот подредактировал текст, убрав явное противоречие.
Не лишена оснований версия о том, что Высоцкий в молодые годы сам же и заменил Централку на Таганку — когда поступил в 1964 году в любимовскую труппу Театра на Таганке. Таганка — это звучит гордо…
Однако это вряд ли. Во всяком случае, на портале «Поэтическая речь русских. Народные песни и современный фольклор» я нашёл следующую запись одного из вариантов:
Цыганка старая гадает с картами,
Дорога дальняя, казённый дом…
Как видно, старая тюрьма Таганская
Как прежде ждёт меня под новый год.
Куплет предваряется комментарием: «Джана знает с 1950». То есть Джане Кутьиной, исполнившей куплет, он известен с 1950 года. Если это действительно так, «Таганка» представляет собой арестантский вариант «Централки», в котором изначально центральная тюрьма была заменена Таганской, а затем, со временем, как говорится, «всё смешалось в доме Облонских»…
«Ты, моя родная пятьдесят восьмая», или «Я сижу в Таганке, как в консервной банке»
Раз уж мы помянули Андрея Донатовича Синявского, именно он в эссе «Отечество. Блатная песня» приводит куплет «Централки» —
Сижу я в камере, всё в той же камере,
Где, может быть, ещё сидел мой дед,
И жду этапа я, этапа дальнего,
Как ждал отец его в семнадцать лет —
с комментарием: «…распавшаяся в истории “связь времён” восстанавливается в песне, можно заметить, несколько однобоко — по одной преимущественно генетической ветви… Преемственность поколений, единство народной жизни наново постигались в тюрьме. И здесь же встретились реки со всех концов России. В итоге, по поводу того или другого конкретного источника, мы не можем сказать со всей определённостью, блатная это мелодия или тюремная вообще, и кто её сложил — “вор”, “мужик” или “политик”».
Однако с этим утверждением я бы не согласился. Например, вор не стал бы петь о семье или жене. По воровскому закону, от родни он должен был отказаться, а жены и вовсе не заводить. Впрочем, тот же закон требовал от блатного порвать и связи с матерью — однако в уркаганских песнях образ матери всё же время от времени появляется. Вообще-то тезис «у вора матери нет» не следует понимать буквально: мол, «законник» должен был напрочь забыть мать. Ничего подобного! Одновременно существовал и другой императив: «Мать для жулика — это святое». Как же их совместить? Очень просто: вор, блатной (до «сучьей войны» это было практически одно и то же) обязан любить и почитать свою мать, но одновременно должен порвать с нею все связи, чтобы «мусора» не могли использовать родственные чувства в своих целях, бить по больному. То же — с семьёй.
Для «мужика», «бытовика» куплет о тюремной «преемственности поколений» звучал несколько чужеродно. Всё-таки они были за колючкой людьми случайными.
Другое дело — «политики». В период сталинских репрессий неожиданно оказалось, что многие из них — дети старых большевиков — «пошли тропой любимого отца» (как поётся в другой уголовной песне), который мыкался по царским тюрьмам. Насчёт деда, правда, это уже перебор. Так ведь и в уркаганском мире подобные «семейные династии» были редкостью.
К тому же «контрики» умудрились переделать «Централку» на свой лад, создав по её образу и подобию… «Лубянку»:
Цыганка с картами меня не встретила,
Дорогу дальнюю знал наперед:
Судьба-ревтроечка
[19] меня приметила —
Прощай, семья моя, прощай, завод!
Припев:
Лубянка, все ночи, полные огня,
Лубянка, зачем сгубила ты меня?
Лубянка, я твой бессрочный арестант,
Пропали юность и талант
В стенах твоих.
Ведь знаю твердо я и без гадания —
Этапы долгие мне суждены,
Никто с родными мне не даст свидания,
Я не увижу слез своей жены.
Припев:
Лубянка, все ночи, полные огня,
Лубянка, зачем сгубила ты меня?
Лубянка, я твой безвинный арестант,
Пропали юность и талант
Лубянская внутренняя тюрьма была создана в 1920 году внутри здания ОГПУ по Большой Лубянской улице № 2 (названия учреждения затем калейдоскопически менялись на НКВД, НКГБ, МГБ и, наконец, КГБ). Здесь содержались политические преступники. Через Лубянку в годы сталинских «чисток» прошли десятки тысяч видных коммунистов и советских работников, генералы, министры, чекисты, деятели науки, культуры и т. д. Видимо, в 30–40-е годы и родилась эта вариация.
В 1960-е тюрьму закрыли приказом председателя КГБ Владимира Семичастного. В январе 2001 года Владимир Ефимович так объяснил своё решение в интервью «Парламентской газете»: «Как-то решил я поинтересоваться, кто и за что сидит во внутренней тюрьме КГБ. Прошёлся по камерам — тюрьма-то ведь во дворе нашего здания. А там всего человек десять подследственных, и не за шпионаж, а за растрату в особо крупных размерах. Для чего им на Лубянке сидеть? Чтобы потом жертвами борьбы с режимом сделаться? Короче, отправили их всех в Лефортово, а тюрьму перестроили — сделали там столовую, кабинеты, складские помещения».
Впрочем, и Таганку «контрики» не обошли вниманием. Юрист Борис Утевский, о котором мы уже упоминали, в мемуарах сообщал об одном из произведений, посвящённых Таганской тюрьме:
«Было в ней что-то особенно мрачное, тяжёлое и давящее даже на тех, кто входил в её ворота не в качестве заключённого, а по делам службы. Когда я побывал в ней в первый раз, мне вспомнилось стихотворение неведомого поэта, заключённого в Таганке во времена царизма:
Так вот она, Таганская тюрьма,
Отверженных угрюмая обитель!
Кто, кто воздвиг тебя? Живой строитель?
Иль породила ненависть и тьма?
Ты мучила глашатаев ума,
Которых гнал трусливенький правитель,
Бандит и вор — излюбленный твой житель,
И ты воспитываешь их сама!
Ты обесценилась во дни террора,
Утратив обаяние позора,
И запертые в каменный конверт
Устраивают праздничный концерт…
Но страшен мне осенними ночами
Весёлый гроб с живыми мертвецами…»
Увы, Борис Самойлович неправ. Текст этого сонета относится не к царским временам, а к началу 1920-х годов, о чём свидетельствуют некоторые детали. Например, строка о «праздничном концерте». До революции узники Таганки никаких концертов устраивать в этой тюрьме не могли. Это было непредставимо. А вот как раз на начальном этапе развития Республики Советов тюремная система подверглась самым необычным экспериментам и изменениям.
Любопытные воспоминания об этом оставил некий Соломон Оскарович Бройде, написавший мемуары «В советской тюрьме», «Фабрика человеков», «В сумасшедшем доме». Вот что пишет о нём Георгий Андреевский в книге «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху»:
«Если верить Бройде, обвинённому впоследствии в плагиате и использовании чужих литературных трудов, он в 1920 году как меньшевик был арестован и шестнадцать месяцев провел в московских тюрьмах и Институте судебной психиатрии имени профессора В. П. Сербского. Арест, надо сказать, не прошел для него даром, Бройде потянуло в литературу, и он оставил редкие для такого жанра оптимистические воспоминания о пребывании в советской тюрьме тех лет. Его книги о московских местах заключения стали популярными. В свое время их издавали отдельными тиражами, печатали в газетах, журналах…
В книге “Фабрика человеков” (так именуется тюрьма), написанной не Бройде, а, согласно “Словарю псевдонимов”, Игорем Силенкиным, описывается, как автор отбывал наказание в Таганской тюрьме и руководил там самодеятельным театром. Спектакли ставились в тюремном клубе, под который была отдана церковь, расположенная рядом с тюрьмой в Малых Каменщиках. Зрительный зал был рассчитан на триста человек. Помимо двадцати мужчин в нем играли женщины — соучастницы бандитов, хозяйки квартир (“хаз”), проститутки. В тюремном клубе шли спектакли и концерты, поставленные не только силами самодеятельности, но также профессионалами московских театров: Малой оперы, Еврейского, Украинского. Выступали в нем Шаляпин, Москвин и другие прославленные артисты».
Действовал театр и в Бутырской тюрьме, где Бройде тоже успел побывать в качестве арестанта. В Бутырке Бройде даже стал главным режиссером и поставил «Дни нашей жизни» Леонида Андреева. В спектакле также были заняты и мужчины, и женщины. Кроме того, «Соломон Оскарович описывает концерты “на карантине”, которые давали вновь поступившие заключённые, имеющие вокальные способности. Особенно шумным успехом пользовались профессиональные певцы, которых превратности судьбы заносили в тюремные стены. Певцы становились на подоконник карантинной башни, просовывали голову сквозь решётку и пели. Окна камер, выходящих во двор, облепляли заключённые. Они тихо слушали и громко аплодировали, чем радовали артистов, не все из которых были избалованы таким успехом, какой им дарила тюрьма».
Подобная обстановка царила и в других местах лишения свободы (позднее даже в печально знаменитых Соловецких лагерях особого назначения). С учётом вышеизложенного мы теперь можем яснее понять строки о том, что Таганка «обесценилась во дни террора, утратив обаяние позора». То есть во время «красного террора» тюрьму набили множеством представителей интеллигенции и богемы, силами которых затем и давались в основном концерты…
Впрочем, приведённый выше сонет, слишком «литературный», не прижился в памяти арестантского народа — даже среди «политиков». Упоминание о нём мне удалось найти лишь у Утевского (не сам ли Борис Самойлович его сочинил?
[21]). Почти не осталось воспоминаний и о «политической» переделке «Централки» на «Лубянку». Зато сохранились отрывки другой популярной некогда песни «контриков», которая посвящена исключительно Таганской тюрьме. И пелась всегда только с упоминанием Таганки.
Но для начала в очередной раз обратимся к мемуарам Валерия Фрида «Записки лагерного придурка», автор которой пишет: «За свои десять лет в лагерях я слышал много песен — плохих и хороших. Не слышал ни разу только “Мурки”, которую знаю с детства; воры её за свою не считали — это, говорили, песня московских хулиганов».
В целом верно подмечено. Однако это — если речь идёт о ворах, о блатных (что в сталинские времена считалось синонимами). А вот «политиков» такие тонкости «кодекса чести» как-то мало волновали. Надо сказать, что «Мурка» была широко известна и популярна во всех слоях советского общества. Что касается интеллигенции, богемы, к хулиганской песенке относились, конечно, иронически, но нередко использовали её мелодию и стилистику для всевозможных пародий и переделок. Например, о ледовом походе «Челюскина»: «Шмидт сидит на льдине, словно на малине, и качает сивой бородой». Можно также вспомнить, что Константин Симонов в 1943 году сочинил свою «Корреспондентскую застольную» именно на мотив «Мурки», о чём вспоминал в дневнике:
«Ехали через стык двух фронтов ненаезженной, непроторённой дорогой. За два дня пути почти никого не встречали, как это часто бывает на таких стыках. Водитель боялся случайностей. И я тоже.
Чтобы переломить себя, в дороге стал сочинять “Корреспондентскую песню” и просочинял её всю дорогу — почти двое суток…
В конце концов добрались до Батайска, где стоял штаб Южного фронта и находился фронтовой корреспондентский пункт “Красной звезды”… мой хмурый водитель, всю дорогу не проронивший ни слова и мрачно наблюдавший процесс рождения новой песни, явился в санчасть с сообщением, что с ним с Северо-Кавказского фронта ехал сюда ненормальный подполковник, который всю дорогу громко разговаривал сам с собою.
Мы посмеялись над этим и спели на мотив “Мурки” (музыки Блантера тогда еще не было) сочиненную мной корреспондентскую песню:
От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли…»
Оказывается, «Мурка» вдохновляла творческих людей не только на фронтах Великой Отечественной, но и в тюремных застенках. Краткое упоминание о «таганской песне» мы встречаем у того же Росси:
«Я сижу в Таганке, как в консервной банке,
За дверьми гуляет вертухай…
(Из песни 30-х гг.; на мелодию “Мурки”)».
Более подробно излагает текст нескольких куплетов в мемуарах «Минувшее проходит предо мною» Юрий Юркевич:
«Можно было негромко петь. Исполнялся и тюремно-лагерный репертуар, вот хотя б песня 1937 года на мотив известной “Мурки”:
Я сижу в Таганке, как в консервной банке,
А за дверью ходит вертухай.
Кушаю баланду, завербован в банду,
Пью три раза в день фруктовый чай.
Вечер наступает, Таганка оживает,
Хмурит брови юный лейтенант:
“Хватит запираться, надо признаваться
В том, что ты шпион и диверсант”.
Дальше о том, как этот лейтенант “зубы сокрушает, кости он ломает” и т. д.»
Старый гулаговец Лев Гурвич дополняет песню таганских политзаключённых новыми куплетами:
«…Тогда, холодным летом 1949 года, маялись в душной камере Новосибирской тюрьмы.
Ты моя родная, пятьдесят восьмая,
Вечная ты спутница моя… —
грустно напевали “повторники” песенку, сложенную в Таганской тюрьме и говорившую о том, что от этого ярлыка никогда не избавиться единожды его получившему, хоть и ни за что ни про что. Описывалась в ней и битком набитая камера:
Я сижу в Таганке, как в консервной банке,
А за дверью ходит вертухай.
Завербован в банду, лопаю баланду,
Пью три раза в день морковный чай.
Тридцать диверсантов, сорок террористов,
Пункт десятый — просто болтовня,
Двадцать три шпиона, это всё для фона,
А на самом деле — всё херня…»
Но вот эта ироничная песенка сохранилась лишь в отрывках из лагерных мемуаров. «Таганка» же как тюремное танго широко звучит на просторах нашей Родины и до сих пор. В чём же секрет подобной популярности?
Судьба кандальная, дамы и тузы
Для начала попытаемся ответить на чрезвычайно важный вопрос. Допустим, первоначально действительно возникла песня о Централке, а затем её перекроили в «Таганку» (то ли Высоцкий, то ли арестантский люд — по неведомым причинам). Но когда именно возник первоначальный текст? Со всей определённостью ответить на это не так просто. Дело в том, что с течением времени оригинал, судя по всему, серьёзно изменялся, добавлялись новые куплеты, детали… Какие-то более поздние корректировки можно определить, что мы и попытаемся сделать. Но удаётся это далеко не всегда.
Так, Лидия и Майкл Джекобсоны относят «Таганку» к 20-м годам XX века, однако фольклорист Андрей Башарин в рецензии к их двухтомнику «Песенный фольклор, ГУЛАГ и исторические источники» делает любопытное примечание: «Относя песню “Цыганка с картами” к 20-м годам, авторы пишут, что “её терминология (казённый дом, центральная тюрьма, столыпинский вагон) использовалась как до, так и после революции”, не принимая в расчет, что уже в следующем варианте (также приведённом в книге) поминается и “кандальный звон” и “судьба кандальная”, чего после революции, кажется, уже не было».
Действительно, такой вариант первого куплета существует и даже дошёл до наших дней:
Мне нагадала цыганка с картами
Дорогу дальнюю, казённый дом.
Дорога дальняя,
Тюрьма центральная,
Судьба кандальная мальчишку ждёт.
Похожий вариант приводят Джекобсоны; в современных версиях «судьба кандальная», впрочем, меняется на «смерть коварную». То есть Башарин, наряду ещё с некоторыми исследователями, предполагает, что песня скорее всего могла возникнуть до революции. К аргументам в пользу этой версии можно добавить и упоминание «бубнового туза» в некоторых вариантах «Таганки»/«Централки». В самом деле, Февральская революция 1917 года отменила и кандалы, и нашивки в виде ромбов («бубновый туз») на одежду осуждённых.
Версия заслуживает внимания. Действительно, в Российской империи существовали центральные каторжные тюрьмы (чего не было при Советах). Одна из самых известных — уже упомянутый Александровский централ. После революции 1905 года последовал ряд изменений в тюремной системе империи. В частности, некоторые губернские тюремные замки были тоже преобразованы в каторжные централы (тюрьмы центрального подчинения) — Шлиссельбургский, Орловский, Вологодский, Московский, Владимирский, Зерентуйский и т. д. Здесь содержались политические заключённые, отсюда же их отправляли на каторгу. Так что в тексте не случайны мотивы расставания, дальней дороги (и даже в некоторых вариантах — прямое упоминание Сибири).
Правда, песня на мотив танго могла возникнуть не ранее 1913 года, когда танго буквально взорвало Россию (в Европе первые исполнения и записи аргентинского танго появились в 1909–1911 годах).
К тому же наш старый знакомец Ян Павловский, отстаивая «польскую генеалогию» песни, представил ряд возражений:
«Некоторые исследователи считают, что песня возникла ещё до революции, ссылаются при этом на упоминание в тексте туза. Да, действительно, на спине арестанта-каторжника имелась квадратная нашивка, которая именовалась бубновым тузом. Была она жёлтого цвета. Но! Во-первых, Таганка не была пересылкой, она была губернской тюрьмой. В ней сидели, отбывали наказание уголовники, а не ожидали этапа каторжники. “Туз” же нашивался только на одежду каторжника. Во-вторых, в тексте упоминается пиковый туз, хотя и бубновый ложится в рифму. Но пиковый туз — как символ чёрного невезения, неудачи более уместен. Вариантов у песни много, но все они появились после возникновения самой песни. Во всех случаях упоминание туза не свидетельствует о появлении песни до революции».
Рассмотрим аргументы по порядку. Прежде всего, мы уже пришли к выводу, что первоначально в арестантской песне упоминалась не Таганка, а Централка. Поэтому нестыковка исчезает сама по себе: центральные каторжные тюрьмы использовались и как место отбывания наказания, и как место формирования и отправки этапов на каторгу.
Но даже если бы мы вдруг согласились с Павловским и представили, будто упоминание о Таганке присутствовало в песне изначально, и в этом случае его возражение оказалось бы нелепым, поскольку в сибирскую и дальневосточную каторгу отправлялись осуждённые не только из центральных тюрем. Достаточно вспомнить историю с революционной песней «Смело, товарищи, в ногу!», которая уж точно возникла в стенах Таганки. Текст её написал Леонид Радин в 1897 году, сидя в губернской тюрьме «Каменщики» по делу московского «Рабочего союза». А в конце февраля 1898 года партия заключённых этой тюрьмы перед отправкой в Сибирь заучила песню наизусть и затем разнесла по каторге. Кстати, в Бутырском централе песню подхватили уже позже, а затем она разошлась по России посредством многочисленных публикаций. То есть на каторгу можно было легко попасть из любой тюрьмы. В то время не было разделения «крыток» на тюрьмы и следственные изоляторы. Стало быть, если вместо «тюрьмы центральной» в песне упоминается «судьба кандальная», это нисколько не противоречит возникновению песни в дореволюционной России.
Что касается «бубнового туза», история ещё интереснее.
Конечно, никто не будет спорить с тем, что «бубновые тузы», то есть нашивки на форменной одежде каторжан (только правильнее сказать — ромбы, а не прямоугольники), появились именно в царской России. Такой «бубновый туз» служил для распознавания узников и затруднял побег. Разве что можно поправить Павловского насчёт цвета. «Тузы» были не только жёлтыми, но также красными и даже чёрными. Например, революционер-народоволец Пётр Якубович, который провёл восемь лет на Карийской и Акатуйской каторге, вспоминал в мемуарах «Мир отверженных»: «Просто жаль было смотреть на него, облечённого в серую куртку с двумя чёрными каторжными тузами на спине». Вот так: даже по два «туза» порою нашивались — видимо, для верности прицела.
Но для нас важен не цвет. Куда важнее, что, оказывается, «бубновые тузы» существовали и позже, в ГУЛАГе! Вот что вспоминает, например, уголовник Виктор Пономарёв, прошедший сталинские лагеря, в своих «Записках рецидивиста»: «“Тузами” называли тех, кто сидел у нас по пятьдесят восьмой статье. У них на спине куртки и бушлата был нарисован квадрат и номер. Это придавало им сходство с карточным бубновым тузом». Именно тогда появилось блатное выражение «объявить туза за фигуру», то есть выдавать незначащего человека за авторитетного: «политиков» блатные считали изгоями лагерного мира.
Такие нашивки были введены в 1943 году. По указу от 19 апреля были восстановлены каторжные работы (отменённые после Февральской революции) в отношении изменников Родины, из-за смягчающих обстоятельств избежавших смертной казни. Через три месяца, 17 июля, утверждается «Инструкция по учёту и этапированию заключённых, осуждённых к каторжным работам», которая закрепляет регламент использования личных номеров арестантов: «Личным делам каторжников присваиваются номера по книге регистрации осуждённых к каторжным работам… Номера личных дел исчисляются сериями с № 1 по № 999 включительно. Каждой серии в свою очередь присваивается буква алфавита, проставляемая перед номером дела… После номера проставляются буквы “КТР”
[22]… Номер личного дела (без добавления “КТР”) нашивается на одежду каторжников».
Номер присваивался каторжнику навсегда и в случае его смерти не передавался новичку. Как пишет Жак Росси, «лагеря КТР были размещены на территории гулаговских ИТЛ, в отдалённых местностях (Воркута, Казахстан, Колыма, Норильск, Тайшет), но контакты между КТР и з/к были практически невозможны… На работу и с работы водили КТР колоннами по 5 человек в ряд, причём все правые руки всех правых крайних и все левые руки левых крайних соединялись цепью». Так что, как видим, на сталинской каторге существовали и кандалы. Такое подразделение ГУЛАГа так и называлось — «кандальное лаготделение».
Казалось бы, стилистика и содержание песни «Таганка»/«Централка» не особо вяжутся с каторжными лагерями для «изменников Родины». Тот же Росси поясняет: «“Изменниками” признавались советскими судами коллаборационисты, как, например, полицаи, оставшиеся на посту рабочие газового завода или няни в детяслях, которые бежавшие перед наступлением немцев власти забыли эвакуировать». То есть как-то не особенно подходит под это определение «парнишечка»-рецидивист. Однако это не совсем так. На самом деле сталинская каторга предназначалась не только для «изменников и контрреволюционеров». И во время войны, и после неё многим уголовникам, осуждённым к смертной казни, этот приговор заменяли каторжными работами.
Так, например, случилось с участниками столичной бандитской шайки Самодурова. Трибунал приговорил Николаева, Фадеева, Новикова, Самодурова и Соболева к расстрелу, а Верховный Суд СССР заменил Новикову и Самодурову смертную казнь двадцатью годами каторжных работ (эти двое не совершили убийств).
Другую известную своими кровавыми преступлениями банду возглавлял некто Букварёв. Суд над ним и его сообщниками состоялся в июле 1946 года. Букварёва тоже приговорили к расстрелу, но Верховный Суд опять-таки изменил меру наказания на двадцать лет каторжных работ. Когда бандита выводили из зала суда, он радостно завопил: «Да здравствует МУР во всём мире!» Так что «бубновый туз» и «судьба кандальная» не обходили стороной и убийц, бандитов, грабителей.
Более того: у истории с «тузами» существует продолжение. В 1948 году лагеря ГУЛАГа начинают различаться по характеру контингента. Сначала приказом МВД СССР № 00219 от 28 февраля 1948 г. организуются особые лагеря, затем 31 декабря приказом № 001516 образуются специальные лагерные подразделения строгого режима. Сегодня многие исследователи не видят разницы между особлагами и спецлагами, заявляя, что и те, и другие предназначались якобы для изоляции политзаключённых, контрреволюционеров и т. д. Что касается особлагов, во многом такие утверждения справедливы (хотя и не в полной мере). А вот спецлаги как раз были созданы для изоляции уголовно-бандитствующего элемента.
Как отмечает историк Григорий Саранча, таким образом должна была осуществляться дифференциация заключённых. В обычных лагерях содержались «бытовики» и неопасные уголовники. В спецлагеря направлялись особо опасные рецидивисты, бандиты и воры. В особлагах
изолировались политические заключённые, изменники, шпионы, диверсанты и т. д. При этом в особлагах и спецлагах устанавливался особо строгий вид режима, поэтому в глазах советской и мировой общественности формально «политики» содержались в равных условиях с уголовниками (на деле режим особлагов был жёстче).
Весной 1948 года советских каторжан в полном составе перевели в особлаги и спецлаги (соответственно «масти»: в первые — «политиков», во вторые — уркаганов). При этом в обоих случаях сохранялась система нашивки номеров — «тузов». Согласно инструкции 1943 года, необходимым обязательным требованием к таким нашивкам являлись контрастные цвета по отношению к одежде. Кое-где номера выводили белой масляной краской прямо на тёмном бушлате заключённого (это вменялось в обязанности художника при культурно-воспитательной части — КВЧ). Однако в основном номера писали чёрной краской на белых лоскутках ткани, и затем каждый зэк должен был сам нашивать их на одежду, а также следить за их состоянием. Более подробно об этом рассказано у Александра Кучинского в «Тюремной энциклопедии»:
«Заключённому выдавались четыре белых полоски материи размером восемь на пятнадцать сантиметров. Эти тряпки он нашивал себе в места, обозначенные администрацией. Любопытно, что в системе Главного управления лагерей не было всероссийского стандарта. Номера могли крепиться в разных местах на одежде, но в большинстве случаев — на левой стороне груди, на спине, на шапке и ноге (иногда на рукаве).
На ватниках в этих местах заблаговременно проводилась порча. В лагерных мастерских имелись портные, которые тем и занимались, что вырезали фабричную ткань в форме квадрата, обнажая ватную подкладку. Беглый зек не мог скрыть это клеймо и выдать себя за вольняшку. Бывало, что место под номер вытравливалось хлоркой. Служебная инструкция требовала окликать спецконтингент лишь по номерам, забывая фамилию или, того хуже, имя и отчество. Начальники отрядов часто сбивались, путались в трехзначных метках и порой переходили на фамилии. В помощь надзирателям на каждом спальном месте зека прибивалась табличка с номером и фамилией. Вертухай мог зайти в барак среди ночи и, обнаружив пустую койку (“чифирит где-то, падла”), просто записать номер, а не пускаться в расспросы».
Нашивки с номерами были отменены с расформированием особлагов и спецлагов в 1954 году — после волны восстаний в указанных лагерях. Позднее сохранились только так называемые бирки — нашивки на левой стороне груди с указанием инициала и фамилии осуждённого, а также номера отряда, в котором он содержится.
То есть упоминание «бубнового туза» вовсе не обязательно указывает на то, что песня, о которой мы ведём речь, родилась до революции. Более того: она могла возникнуть в советское время даже ранее, нежели появились нашивки в каторжных, особых и специальных лагерях. Дело в том, что выражение «бубновый туз», «бубнового туза повесить (влепить и т. д.)» и до революции, и долгое время после неё использовалось как идиома, которая подразумевала лишение свободы в целом.
Можно вспомнить главу «Герои времени» из поэмы Николая Некрасова «Современники» (1875):
Ничего не будет нового,
Если завтра у него
На спине туза бубнового
Мы увидим… ничего!
Или позднее — у Александра Блока в поэме «Двенадцать» (1918):
В зубах — цигарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
А вот воспоминания «Встречи с Лениным» Николая Валентинова-Вольского, примыкавшего одно время к большевикам. Он воспроизводит свою беседу с Лениным, где, если верить Вольскому, Владимир Ильич произносит фразу: «Говоря о какой-то критике марксизма, не помню уже о ком, Плеханов однажды мне сказал: “Сначала налепим на него бубновый туз, а потом разберёмся”».
Казалось бы, после революции идиома постепенно должна исчезнуть, поскольку исчезла каторга и нашивки. Ничуть не бывало! Достаточно обратиться к стихотворению Ярослава Смелякова «Послание Павловскому». Смеляков был репрессирован, однако его миновала трагическая судьба двух его близких друзей — поэтов Павла Васильева и Бориса Корнилова, расстрелянных во время так называемого Большого террора. В стихотворении автор обращается к следователю, который вёл его дело («крёстному из НКВД») и пишет:
Не вспоминается ли дома,
когда смежаешь ты глаза,
как комсомольцу молодому
влепил бубнового туза?
Обратите внимание: написано значительно позже отмены нашивок в период Февральской революции и много раньше их введения на сталинской каторге и в спецлагах! Смеляков был в лагерях с 1934 по 1937 год и никаких нашивок уж точно не носил; в «Письме домой» он в ответ на просьбу любимой («Но, боже ж мой, ведь ты сама просила, чтоб в этот день я вместе с вами был!») поэт рисует фантастическую картину того, как он по этому зову вдруг мистически появляется в кругу родных —
В казённой шапке, в лагерном бушлате,
полученном в интинской
[23] стороне,
без пуговиц, но с чёрною печатью,
поставленной чекистом на спине.
Ясно, что «бубновый туз» у Смелякова — метафора, обозначающая лагерь, лишение свободы.
Поэтому упоминание «бубнового туза» и даже «кандального звона» не стоит считать полновесным аргументом в пользу дореволюционного бытования песни.
Кроме того, если говорить о «бубновом тузе», следует заметить в записях текста песни зафиксировано иное распределение мастей между дамой и тузом, упомянутыми в первом куплете. Так, у Валерия Фрида в «Записках лагерного придурка» есть любопытное примечание:
«У Сергея Довлатова, в “Зоне”, зеки поют:
Цыганка с картами, глаза упрямые,
Монисто древнее и нитка бус…
Хотел судьбу пытать бубновой дамою,
Да снова выпал мне пиковый туз.
Зачем же ты, судьба моя несчастная,
Опять ведёшь меня дорогой слёз?
Колючка ржавая, решётка частая,
Вагон столыпинский и шум колёс.
Этих двух красивых куплетов я нигде не слышал. Подозреваю, что придумал их сам Довлатов. Что ж, честь ему и слава — и не только за это».
Подозрения Валерия Семёновича неосновательны. Повесть Сергея Довлатова «Зона. Записки надзирателя» увидела свет в 1982 году. А значительно ранее в Париже был опубликован «Голос из хора» Абрама Терца. Это произведение получило в 1974 году французскую премию за лучшую иностранную книгу. «Голос из хора» — записи, которые Андрей Синявский (Абрам Терц — его литературная маска) вёл, отбывая срок в мордовском лагере с 1966 по 1971 год. Именно у Терца мы впервые встречаем процитированные два куплета. Скорее всего, Довлатов просто заимствовал их для своей книги, сделав незначительные исправления (например, вместо «стук колёс» — «шум колёс»).
Так всё же — бубновый туз или пиковый? В общем-то, оба по-своему к месту. О значении бубнового туза в арестантской символике мы уже говорили. Что касается пикового, его значение не менее, если не более зловеще: печальное известие, удар судьбы, болезнь, ранение или смерть, траур, финансовые потери, измена, предательство… Короче, как говорят в уркаганском мире, — «крах босякам».
Учитывая то, что игральные карты считаются французским изобретением, есть вполне логичная версия о том, что и символика пикового туза распространилась (не только на Россию) из Франции. У французов до сих пор бытует выражение: «fichu comme l’as de pique» — «проклятый, нечистый, как пиковый туз». Правда, во время Второй мировой войны американские солдаты 506-го парашютного полка 101-й десантной дивизии наносили сбоку на шлемы карты пиковой масти как символ удачи. Пиковый туз считался также эмблемой 53-й истребительной («охотничьей») эскадрильи Люфтваффе. Зато во время войны во Вьетнаме в войсках США распространилась легенда о том, что вьетконговцев приводит в ужас вид туза пик как символа смерти. Появилась даже традиция вкладывать в рот убитых врагов эту карту, разбрасывать пиковых тузов по территории, занятой бойцами Северного Вьетнама. Командование для поднятия боевого духа армии ящиками стало закупать колоды карт, состоящие из одних пиковых тузов.
Что касается дамы бубён и дамы пик, они тоже особы не слишком приятные. Бубновая дама обозначает неверную женщину. О пиковой и говорить нечего: достаточно вспомнить одноименную повесть Пушкина, в эпиграфе к которой Александр Сергеевич поясняет: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга». На самом деле дама пик несёт ещё больше негатива: злая, роковая женщина, приносящая неудачи, которую ассоциировали с ведьмой и нередко называли «старухой»; она символизирует обман, болезнь, злость, ревность, всяческие неудачи. Так что и здесь куда ни кинь, везде аминь.
В письменном виде до нас дошли именно куплеты с бубновой дамой и пиковым тузом — хотя сам я слышал их именно с бубновым тузом и пиковой дамой. «Но это ведь могла быть более поздняя переделка, не так ли?» — могут возразить мне.
Вряд ли. Даже совсем не так. Чтобы убедиться в этом, обратимся для начала к очерку Варлама Шаламова «Сергей Есенин и воровской мир». Вот что рассказывает Варлам Тихонович — не только талантливый писатель, но и многоопытный гулаговский сиделец:
«Уже… всего через три года после смерти поэта — популярность его в блатных кругах была очень велика. Это был единственный поэт, “принятый” и “освящённый” блатными, которые вовсе не жалуют стихов. Позднее блатные сделали его “классиком” — отзываться о нём с уважением стало хорошим тоном среди воров. С такими стихотворениями, как “Сыпь, гармоника”, “Снова пьют здесь, дерутся и плачут”, — знаком каждый грамотный блатарь. “Письмо матери” известно очень хорошо…
Чем же Есенин близок душе блатаря? Прежде всего, откровенная симпатия к блатному миру проходит через все стихи Есенина. Неоднократно высказанная прямо и ясно. Мы хорошо помним:
Всё живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.
…Настроение, отношение, тон целого ряда стихотворений Есенина близки блатному миру.
Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад…
Стремясь как-то подчеркнуть свою близость к Есенину, как-то демонстрировать всему миру свою связь со стихами поэта, блатари, со свойственной им театральностью, татуируют свои тела цитатами из Есенина. Наиболее популярные строки, встречавшиеся у весьма многих молодых блатарей, посреди разных сексуальных картинок, карт и кладбищенских надгробий:
Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.
Или:
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.
Думается, что ни одного поэта мира не пропагандировали еще подобным образом. Этой своеобразной чести удостоился только Есенин, “признанный” блатным миром».
Я уверен, внимательный читатель особо отметил последнее процитированное двустишие. Не правда ли, оно прямо перекликается с «карточным» куплетом «Таганки»/«Централки»? Это строки из стихотворения Сергея Есенина, написанного им за два месяца до смерти — с посвящением «т. Герцог». Листок со стихом вклеен в альбом поэтессы Екатерины Сергеевны Герцог и помечен 20 октября 1925 года:
Сочинитель бедный, это ты ли
Сочиняешь песни о луне?
Уж давно глаза мои остыли
На любви, на картах и вине.
Ах, луна влезает через раму,
Свет такой, хоть выколи глаза…
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.
В данном случае расстановка мастей абсолютно логична и понятна. Согласно символике карточного гадания, пиковая дама означает исполнение желания («Ваше желание исполнится»), а бубновый туз — напротив, несбыточное желание («Задуманное вами не осуществится»).
Что же мы видим? Именно строки о пиковой даме и бубновом тузе были популярны в уголовном мире до такой степени, что их даже кололи на теле! А в песне вдруг взяли и переставили всё с ног на голову? С какого перепугу?! Нет; совершенно понятно, что именно пиковая дама и бубновый туз были в оригинальной, самой ранней версии куплета, и лишь затем последующие исполнители изменили их по своему вкусу — очевидно, учитывая «негативную символику» пикового туза.
Таганский парнишечка: блатарь или «поляк»?
Итак, что же мы выяснили? Во-первых, «старая тюрьма центральная» и «Таганка» в тексте песни, о которой мы ведём речь, — термины взаимоисключающие. Вплоть до 1950-х годов Таганка никогда не была центральной тюрьмой, что подтверждено документально. Её именовали рабочим домом, губернской тюрьмой, исправдомом, домзаком, областной тюрьмой — но только не центральной (исключая несколько последних лет перед разрушением). Значительная часть заключённых ГУЛАГа воспроизводят в песне название «Централка». Таким образом, Централка появилась в первоначальном варианте песни и лишь позднее была заменена Таганкой.
Что касается времени возникновения песни, вопрос остаётся открытым. Существует вариант с упоминанием «кандального звона», «судьбы кандальной» и «бубнового туза», что вроде бы должно отсылать нас ко временам Российской империи, а не Советской Республики. Однако и в СССР с 1943 по 1948 год существовали каторжные работы, «бубновые тузы» — нашивки и даже кандалы — сначала в основном для политических заключённых, затем — и для преступников-«тяжеловесов», которым смертная казнь заменялась каторжными работами. Затем «бубновый туз» сохранился в особых и специальных лагерях. То есть вроде бы чисто теоретически песня могла возникнуть и в этой среде (тем более в ряде версий «дорога дальняя» подразумевает не отправку в «крытку», а как раз этапирование из самой тюрьмы).
Так что придётся искать дополнительные аргументы и факты, которые способны были бы прояснить ситуацию.
И тут мы снова вынуждены обратиться к Яну Полянскому и его «польской версии». А куда денешься? На сегодняшний день это, пожалуй, единственная серьёзная аналитическая попытка создания полноценной теории возникновения «Таганки»/«Централки».
Так вот, Полянский, отстаивая своё предположение о том, что «Таганка» была создана польскими офицерами на основе танго «Тамара», приходит к выводу, что «Таганка» — вовсе не блатная песня! Он пишет:
«В тексте “Таганки” нет ни одного блатного слова, ни одной фени, сам строй песни отличается от блатного жанра, нет оборотов, присущих блатному языку. И посмотрите, какими эпитетами наделяет свою любимую автор текста! Разве это возможно в блатном жаргоне, по фене, — разве это слова пацана?! Текст песни написан культурным, интеллигентным человеком. Поэтому относить эту песню к жанру “блатные”, как написано в Вики, по меньшей мере безграмотно. Кому придет в голову назвать песню, романс “По диким степям Забайкалья” блатной?! “Дорога дальняя, казенный дом” — это уже просто хрестоматийные слова, в которые облекает цыганка нерадостные предсказания. Они пришли на ум камерному сидельцу первыми, когда вспомнилось Цыганское танго».
Откровенно говоря, эти рассуждения нелепы. Даже с точки зрения стилистической: меня совершенно умилил оборот «нет ни одной фени». Вообще-то слово «феня» обозначает уголовный жаргон в целом, поэтому говорить об одной, двух, пяти и так далее «фенях» — безграмотность полнейшая. Я даже оставляю за скобками то, что определение «феня» давно уже в уголовном мире считается лоховским, чаще всего им козыряют разве что малолетки и так называемые гопники. В среде сидельцев на вопрос «Ты по фене ботаешь?» обычно следует стандартный презрительный ответ: «А ты по параше лётаешь?» Так опытный арестант «выкупает» «фуцана» — приблатнённого лопуха, который пытается «гнуть пальцы» (выдавать себя за бывалого арестанта).
Впрочем, в переписке со мной Полянский сообщает: «Я не занимаюсь исследованиями ни истории музыкальных произведений, ни тем более историей УИНов НКВД-МГБ-КГБ. Всё это всплывает попутно, когда меня заинтересует то или иное музыкальное произведение. Я не спец ни по блатному жаргону, ни в части музыкальной грамоты. Потому спорить не берусь».
Однако в том-то и беда, что —
берётся! И выходит ерунда. Ежели человек — не специалист в какой-либо области, не грех бы ему было проконсультироваться со знатоками вопроса, прежде чем выставлять на суд публики свои мудрствования.
Тогда бы он, в частности, с удивлением узнал, что во многих так называемых блатных песнях совершенно не используется уголовно-арестантский жаргон. Например, совершенно нет жаргонных выражений в одной из старейших «истинно воровских» песен — «Судьба» (её особо отмечал Варлам Шаламов в очерке «Аполлон среди блатных») или в более поздней «Волны Охотского моря шумят». Практически отсутствует блатной жаргон и в широко известных «Идут на Север этапы новые», «На Колыме, где тундра и тайга кругом», «Не печалься, любимая» и др. Нередко в песнях гулаговских сидельцев речь идёт о любви, страданиях, расставаниях и встречах. В этом смысле как раз «Таганка» оказывается куда более приблатнённой, чем многие арестантские и воровские песни.
На это вынужден обратить внимание даже сам Полянский, который искренне недоумевает: «Есть некие неясные моменты. С одной стороны, Таганка ждет парнишечку “по-новой”. Он что, ещё на свободе? Он прежде бывал, сиживал здесь? Мне думается, что эти слова привнесены сокамерниками молодого человека, к тому же плохо знавшего русский язык. Ведь в то время в камерах народу было набито, как сельдей в бочке, уголовники сидели вместе с политическими (а польские военнопленные считались политическими заключёнными). Отсюда и ставка на бубновую даму и выпавший пиковый туз — привнесение блатного духа в содержание песни. На самом деле молодой человек сидит в камере: и ночи полные огня, и медленно текущие дни, и кругом решётки… Так что, возможно, поляку помогали сочинить текст и сокамерники».
Здравствуйте, приехали… Выходит, неведомый польский офицер ещё и по-русски плохо говорил! Но при таких исходных данных ничего путного — тем более в стихах — на чужом языке написать невозможно. Это исключено, как говорится, по определению. Но дело даже не в том. С одной стороны, Полянский пытается доказать, что песня — «не блатная», с другой — сам же утверждает, что мифическому поляку её помогали сочинять… блатари-рецидивисты! Отсюда и тюрьма парнишечку ждёт «по-новой» (чисто блатное выражение), то есть он там уже бывал (возможно, не раз). Мы уже не говорим о варианте «Централки», где парнишечка оказывается «потомственным босяком» и повествует, что сидит в камере, где чалились его дед и отец. Так зачем огород городить и доказывать, что песня — не блатная, раз (даже по Полянскому) блатари принимали в её создании активное участие и это отразилось в содержании?
Кстати, о «парнишечке». Его автор «польской версии» тоже не забыл упомянуть:
«…И ещё одна деталь. В “Таганке” юноша именуется “парнишечкой”.
Парнишка (разг.). Мальчик, подросток., уменьш. Парнишечка.
С. И. Ожегов. “Толковый словарь русского языка”
Правда, небезызвестная Эллочка Людоедка парнишей называла всех мужчин, не ориентируясь на Ожегова, но, как мы помним, её лексикон был ограничен 30 словами.
Но “парнишечка” из “Таганки” — далеко не мальчик. Среди эпитетов, которыми он наделяет свою любимую, вовсе не детское: “желанная”. И это дает нам еще одно указание на то, кем мог быть автор текста. Учтём, что исходной мелодией стало польское танго польского композитора. Автор текста был, похоже, хорошо знаком с польской эстрадной музыкой, любил ее. Он был скорее всего поляком! Именно в этом словечке “парнишечка” отчётливо слышу польский акцент».
Этот перл — вообще за гранью фантастики! Если господину Полянскому в слове «парнишечка» отчётливо слышится польский акцент, это — симптом тревожный. Либо речь идёт о слуховых галлюцинациях, либо — о дремучем невежестве. Я склоняюсь к последней версии. Поскольку не могу, отказываюсь понять, как можно отыскать «польский акцент» в слове, которое
в польском языке напрочь отсутствует! Разумеется, как и его уменьшительно-ласкательные формы. Нет у поляков ни «парня», ни «парнишки», ни «парнишечки». Для того чтобы в этом убедиться, не надо большого напряжения ума: достаточно обратиться к русско-польскому словарю. Чаще всего слово «парень», «парнишка» переводятся на польский как chłopiec (хлопец), człowiek (человек, мужчина).
Само же слово «парень» — исконно русское, образовано от диалектного «п
аря» (с тем же значением), которое является уменьшительным от «паробок» (украинское «парубок»), восходящего к «роб» — «мальчик». В то же самое время русское «парень» не исчерпывается значением «мальчик», более того, это, пожалуй, даже не основное его значение. У Владимира Даля в «Толковом словаре живого великорусского языка» оба эти слова толкуются как «отрок, юноша, молодой человек, детина, молодец; холостой». То есть ограничиваться исключительно значением «мальчик» — значит, кривить душой, а проще говоря, мошенничать. У того же Даля, кстати, приводится и глагол «парневать» — «жить, быть холостяком». То же самое — в «Малом академическом словаре АН СССР»: «1. Лицо мужского пола, достигшее зрелости, но не состоящее в браке (первоначально молодой крестьянин); молодой человек, юноша… 2. (с оттенком фамильярности). Нестарый мужчина вообще». Практически те же самые толкования — во всех остальных словарях русского языка.
Правда, может возникнуть возражение: ну да, «парень» — он, может быть, и холостой мужчина, а вот уменьшительно-ласкательные «парнишка», «парнишечка» обозначают именно мальчика, юношу. Оставим в стороне вопрос, почему молодой человек не мог стать лирическим героем «Таганки»/«Централки». Гораздо любопытнее разобраться с тем, действительно ли слово «парнишечка» обозначает малолетку-юнца и имеет ли оно какое-то отношение к блатному жаргону.
Представьте себе — имеет! Начнём с «парня». В уголовном сообществе существует положительная характеристика «порядочного арестанта», которая звучит именно как «хороший парень». Хороший парень — это не просто нейтральная оценка. Это — арестант, близкий к так называемым «чёрным», «братве», «отрицаловке», то есть к осуждённым, которые противопоставляют себя администрации мест лишения свободы, являются приверженцами неформальных преступных традиций, «понятий». В блатном фольклоре, к слову, существует ироническая поговорка: «Кипяток — хороший парень, но без ч
ифира — дурак!» Разумеется, и производные от «парня» расцениваются среди братвы как достойная характеристика: «Это наш парнишка, с ним можно вась-вась».
И всё же обратимся непосредственно к форме «парнишечка», на которой настаивает Павловский. Так, в одной из редакций своей статьи он пишет: «В “Таганке”… речь ведётся от имени молодого человека, “парнишечки” (но вовсе не мальчонки, как поет Шуфутинский), который, попав в “Таганку”, мысленно обращается к своей любимой, прощается с нею». В эссе на портале «Шансон» пассаж о Шуфутинском изъят, однако, как мы помним, автор не только постоянно упоминает исключительно «парнишечку», но и в качестве «железобетонного аргумента» придаёт слову «польский акцент».
Между тем «парнишечка» — лишь одно из определений лирического героя, причём, судя по всему, не основное, если говорить о письменных свидетельствах. Вспомним хотя бы «Записки лагерного придурка» Валерия Фрида: «Меня, несчастного, по новой ждёт». То же самое — в записи, условно датируемой 1960–1970-ми годами. В одной из записей «Централки»: «Меня, преступничка, по-новой ждёт». В расшифровке фонограммы 1970-х годов — «меня, бездомного…». Цитировали мы также и вариант Джаны Кутьиной с портала «Поэтическая речь русских», где вообще отсутствует определение героя.
Однако чаще всего альтернативой «парнишечке» выступает именно «мальчишечка» — как у Юрия Германа в «Жмакине»: «Меня, мальчишечку, давно уж ждёт». В фольклорных записях на том же портале «Поэтическая речь русских» находим исполнение Петра Чусовитина, который освободился из мест лишения свободы в 1988 году:
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, мальчишечку, по-новой ждёт…
«Мальчишечку», а не «парнишечку» упоминает также на этом сайте «инженер Владик Репкин» из Сан-Диего (зафиксировано в 1995 году).
То есть варианты с «мальчишечкой» встречаются как минимум не реже, нежели с «парнишечкой» — а, скорее, даже чаще. И в этом нет ничего удивительного, если обратиться к истории российского уголовного мира. Каторжники и уголовники дореволюционной России «мальчишками», «мальчонками», «мальчиками» называли всякого удалого преступника, сорвиголову, в том числе и взрослого, и даже старого. Это отразилось в «низовых» песнях. Вот что, например, пишет Александр Куприн в очерке «Вор» («Киевские типы, 1895–1897):
«У воров есть и свои собственные песни, навеянные тюремными музами. Песни эти говорят большею частью о суде и о горькой участи “мальчишки, отправляющегося на каторгу…”
Другая песня, с очень трогательным мотивом, похожим на похоронный марш, чрезвычайно популярна. Она начинается так:
Прощай, моя Одесса,
Прощай, мой карантин,
Нас завтра отвозят
На остров Сахалин.
И припев, печальный, почти рыдающий припев:
Погиб я, мальчишка,
погиб навсегда.
А годы проходят,
проходят лета».
Ту же песню вспоминает Куприн и в романе «Яма» (1909–1915). Позднее песня «Погиб я, мальчишка» распространилась по всей России благодаря исполнению известного оперного баса и даже записи её на пластинку в 1912 году. Можно привести в пример и знаменитый «Чубчик кучерявый», который приобрёл особую известность в 1930-е годы благодаря исполнению певцов-эмигрантов Петра Лещенко и Юрия Морфесси:
Пройдёт весна, настанет лето,
В садах деревья пышно расцветут —
А мне, бедному мальчонке,
Цепями руки-ноги закуют…
Если говорить конкретно о «мальчишечке», обратимся к старой уголовной песне «Летит паровоз по широким просторам» (авторство которой некоторые абсолютно неправомерно пытаются приписать Николаю Ивановскому):
А если заметит тюремная стража —
Тогда я, мальчишечка, пропал:
Тревога и выстрел — и вниз головою
Сорвался с барказа
[24] и упал.
Кстати, под влиянием еврейской ветви уголовного арго «мальчишка» в значении «достойный уголовник, каторжанин» был вытеснен еврейским «пацан» (мальчик, подросток). Оно особенно закрепилось в первые годы советской власти, когда в России действовали организованные банды беспризорников под руководством бывших белых офицеров. Подчеркнём, что слово «пацан» в арго означает то же, что до революции значило слово «мальчишка»: любого «честного арестанта», уголовника независимо от возраста — «достойным пацаном» могут назвать мужчину и в 50, и в 70 лет.
Таким образом, использование в «Таганке»/«Централке» определений «парнишечка», «мальчишечка» по отношению к лирическому герою только подтверждает блатные корни песни, её явный уголовный характер.
«Опять по пятницам пойдут свидания…»
В тюремном танго есть ещё одна деталь, которая указывает на то, что песня была написана явно раньше конца 30-х годов прошлого века, поэтому все построения Яна Полонского абсолютно нереальны. Мы имеем в виду строку «опять по пятницам пойдут свидания». Это указание позволяет нам сузить круг поисков. Достаточно лишь проследить правила предоставления свиданий в тюрьмах (и более широко — в местах лишения свободы) России.
Более всего эта строка соответствует порядку предоставления свиданий в царской России. Заключённому предоставлялось одно свидание в неделю (в отдельных случаях — два) продолжительностью 15–30 минут. Это, в частности, подтверждают воспоминания одного из лидеров партии эсеров Владимира Зензинова, который находился в Таганской тюрьме в 1905 году: «Как и другие заключённые, у которых были родные в Москве, я имел свидания… эти свидания происходили в специальной комнате тюремной конторы».
Достаточный либерализм в этом отношении проявляла на первых порах и советская власть. Так, согласно положению Наркомата юстиции «Об общих местах заключения в РСФСР» (1920), свидание заключённым предоставлялось один раз в неделю; то же самое подтвердил Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года (с оговоркой для осуждённых, приговоры в отношении которых не вступили в законную силу: один раз в две недели). Правда, как мы уже знаем, в этот период тюрем как таковых не было. Но, в принципе, и исправительно-трудовые дома (исправдома), и дома заключения (домзаки), и дома общественно-принудительных работ (допры) в сознании обывателя оставались всё теми же тюрьмами.
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, принятый 1 августа 1933 года, тоже не отличался особой жёсткостью по отношению к арестантам. Подследственным свидание предоставлялось один раз в десять дней, а осуждённым в колониях для массовых работ — даже раз в шесть дней.
А вот ситуация второй половины тридцатых годов, а тем более 1939 года совершенно противоречит строке о свиданиях по пятницам. Правда, Яну Полонскому так хочется как-то подкрепить свою забавную версию создания песни именно в 1939 году неведомым польским офицером, что он проявляет чудеса эквилибристики. Исследователь пишет: «На это же время указывают и слова песни “опять по пятницам пойдут свидания”. Единый день свиданий был введен в конце 30-х годов во исполнение приказа НКВД о повышении дисциплины в ИТУ». Правда, автор не уточняет, что это за странный (если не сказать — дикий по сути) приказ и когда именно он издан. Мне, во всяком случае, ничего подобного отыскать не удалось. Впрочем, даже если бы такой приказ и существовал, к теме нашего расследования он не имел бы никакого отношения. Дело в том, что положением 1939 года подозреваемым и обвиняемым свидания с родственниками были запрещены, кроме случаев, когда имелось письменное разрешение органа, ведущего следствие, за которым числился заключённый.
Мне могут возразить — так то же подследственные! А если речь идёт об осуждённых к тюремному заключению? Увы, таковых в 1938–1939 гг. было мизерное количество. К январю 1939 года, например, в тюрьмах находился 342 131 человек, из них следственных — 226 503, кассационных — 32 151, осуждённых к тюремному заключению (по всей стране!) — аж… 2997! Остальные — осуждённые, ждущие этапа (74 489 человек), транзитно-пересыльные (8988) и хозобслуга. Из всех этих категорий свидания предоставлялись только хозобслуге, прозванной на жаргоне иронически-пренебрежительно «придурками», — но песня уж точно не о них.
Что касается тюремных узников, речь идёт, судя по всему, в значительной степени об арестантах спецтюрьмы ГУГБ НКВД СССР — так называемой шарашки для учёных. По крайней мере, никаких документов, регламентирующих порядок свиданий для осуждённых к тюремному заключению, нам найти не удалось. За исключением одного — инструкции о порядке предоставления свиданий с родственниками заключённых спецтюрьмы ГУГБ НКВД СССР, утверждённой народным комиссаром внутренних дел СССР Л. Берией 25 мая 1939 года. Письменное разрешение на такое свидание выдавалось Первым спецотделом НКВД СССР на основании служебных записок заместителя начальника Особого технического бюро НКВД СССР. Свидания проходили в специально оборудованной комнате административного корпуса Бутырской тюрьмы. Количество таких свиданий для одного заключённого «шарашки» в инструкции не устанавливалось, лишь запрещалось выдавать в один и тот же день более шести разрешений. Впрочем, после войны заключённые из «шарашки» стали ездить на свидания не только в Бутырку, но и в другие тюрьмы. Подробно описывает эту процедуру Александр Солженицын в романе «В круге первом», мы в рамках нашего исследования процитируем лишь короткий отрывок, касающийся Таганки:
«С тех пор, как Глеба вернули из далёкого лагеря снова в Москву, на этот раз не в лагерь, а в какое-то удивительное заведение — спецтюрьму, где их кормили превосходно, а занимались они науками, — Надя опять стала изредка видеться с мужем. Но не полагалось жёнам знать, где именно содержатся их мужья — и на редкие свидания их привозили в разные тюрьмы Москвы. Веселей всего были свидания в Таганке. Тюрьма эта была не политическая, а воровская, и порядки в ней поощрительные. Свидания происходили в надзирательском клубе; арестантов подвозили по безлюдной улице Каменщиков в открытом автобусе, жёны сторожили на тротуаре, и ещё до начала официального свидания каждый мог обнять жену, задержаться около неё, сказать, чего не полагалось по инструкции, и даже передать из рук в руки. И само свидание шло непринуждённо, сидели рядышком, и слушать разговоры четырёх пар приходился один надзиратель».
Но вернёмся в 1939 год. Согласитесь, строка «опять по пятницам пойдут свидания» как бы предполагает постоянство и регулярность подобных действий. Если же свидание происходит, скажем, два-три раза в год, подчёркивать, в какой именно день недели ты встречаешься с родственниками, довольно нелепо. Однако, возможно, лирический герой подразумевает свидания вовсе не в тюрьме, а уже в лагере, куда его этапируют после осуждения (и где, возможно, со свиданиями дело обстоит получше)? Текст «Таганки»/«Централки» вполне допускает такую трактовку. Увы, и тут неувязка: даже в лагерях зэкам, согласно «Временной инструкции о режиме содержания заключённых в ИТЛ НКВД СССР» от 2 августа 1939 года, свидания предоставлялись лишь раз в полгода («политикам» — лишь с разрешения начальника ГУЛАГа НКВД, некоторым «менее опасным контрикам» — с разрешения начальника лагеря по обязательному согласованию с Третьим отделом).
Таким образом, 1939 год как время создания тюремного танго совершенно отпадает. Остаётся либо царская Россия начала века (причём довольно короткий период с 1913 года, когда империю охватила эпидемия танго), либо — с натяжкой — период с 1920 по 1933 год, когда в Советской России наблюдался достаточно либеральный порядок предоставления свиданий в местах лишения свободы, вплоть до убийства Кирова в 1934-м, которое повлекло за собой раскручивание витка репрессий и, соответственно, «закручивание гаек» внутреннего распорядка.
На мой взгляд, более всего подходит именно 1933 год (или немногим ранее). К такому выводу подталкивает прежде всего то, что именно в это время появляется и расцветает жанр польского танго, который послужил образцом для неведомых сочинителей-арестантов. Разумнее предположить, что «Цыганка с картами» представляет собой переделку вполне конкретного танго, однако пока подтверждений этому не найдено. Остаётся, правда, «судьба кандальная» и «бубновый туз», которые вроде бы должны нас отослать именно в Россию дореволюционную. Но, во-первых, как мы уже говорили, с 1943 года в СССР были воссозданы каторжные работы — и с кандалами, и с «бубновыми тузами», поэтому речь может идти о варианте песни, переделанном «политиками». Во-вторых, вспомним строки с пиковой дамою и бубновым тузом из стихотворения Сергея Есенина 1925 года. И наконец, то, что «бубновый туз» даже в сталинскую эпоху использовался как общий символ мест лишения свободы (возможно, в том же смысле использованы «судьба кандальная» и «кандальный звон»).
Феномен польского танго
А вот сейчас, дорогой читатель, тебя ожидает лёгкий… как бы это сказать… культурный шок. Во всяком случае, неожиданный поворот в расследовании «таганского детектива», которого ты вряд ли ожидал.
Итак, до сих пор я последовательно опровергал доводы Полянского. Логично предположить, что я отношусь к версии о «польском следе» как к недостоверной и нелепой. Но это не так. Напротив, я считаю
направление мыслей Яна Полянского в целом верным. Он верно уловил очевидную связь «Таганки»/«Централки» с эстетикой, жанровыми особенностями, формой и содержанием довоенного польского танго.
Мы называем это танго польским, хотя есть смысл рассматривать явление значительно шире — и как русское эмигрантское, и как латвийское (Оскар Строк), немецкое, даже скандинавское. Польский музыковед Ежи Плачкевич справедливо замечает, что большинство композиторов и поэтов, которые творили в жанре польского танго, были еврейского происхождения. Поэтому, по большому счёту, можно было бы говорить и о феномене еврейского танго. Эти авторы привнесли особую нотку еврейской печали, тоски «народа рассеяния», свойственную в немалой степени «клейзмеру» — национальной инструментальной музыке небольших ансамблей, где ведущими были скрипка, виолончель, кларнет, цимбалы. Не случайно титул «короля танго» по сей день носит Оскар Давидович Строк, создавший больше трёх сотен произведений этого жанра. Между тем Строк родился в Латвии, творчество его большей частью было связано с Ригой и затем — с Советской Россией.
Всё так. Однако именно Польше мы обязаны изысканным, утончённым, изломанно-болезненным танго, которое резко отличается от классического аргентинского. И стилистика арестантской песни «Цыганка с картами» со всей определённостью указывает: в основе произведения лежит именно польское танго — явление уникальное, которое не существовало до начала 1930-х годов. Одно только это обстоятельство ставит жирный крест на предположениях о дореволюционном прошлом «Таганки».
Танго возникло в Польше, как и в России, незадолго до начала Первой мировой войны. Первые собственно польские произведения подобного рода подражали классическим образцам аргентинского танго. Однако бум танго «местного розлива» начинается чуть позже, с конца 1920-х годов. И довольно быстро в Польше формируется танго особого типа, отличное от аргентинского.
На чём основано аргентинское танго? Поначалу у себя на родине (где оно появилось в 1880-е годы) оно возникло и пользовалось особой любовью в криминальной, порочной среде. Его обожали уличные преступники и сутенёры. Затем оно обрело популярность среди высшей иерархии преступного мира. Последнее замечание относится и к одному из самых популярных образчиков аргентинского танго — «Початок маиса» Анхеля Виллольдо. Его название «El Choclo» к кукурузе (маису) имеет отдалённое отношение. Как рассказала после смерти композитора его сестра Ирена Виллольдо, автор посвятил танго одному из самых свирепых криминальных авторитетов Буэнос-Айреса, носившему эту кличку. Своё прозвище тот получил за светлый цвет волос, который в Аргентине называют «кукурузным» (а в России — «пшеничным»). Он «держал» район Буэнос-Айреса Хунин-и-Лаваль, где находились публичные дома, и собирал дань со всех местных сутенёров. Любопытно, что в русской «низовой» версии текста «E1 Choclo» — «На Богатяновском открылася пивная» (с 1950-х годов более популярен вариант с Дерибасовской) рассказывается как раз история сутенёра («шмаровоза») и его девочек.
В отличие от аргентинского, из польского танго полностью исчезает взрывной надрыв, порывы жестокой страсти, агрессия, душевные бури и пожары. Ежи Плачкевич отмечает: «С каждым проходящим годом особенности польского танго всё меньше и меньше походили на свой аргентинский прототип. Чем больше танго было написано в качестве местной продукции, тем меньше становился интерес к зарубежной. Ритмическая основа польского танго была деликатной и обычно медленной. Оркестровка оставалась в тени первого голоса — запоминающейся мелодии… Танго стало своего рода сентиментальной экспрессией с меланхоличным и даже депрессивным мотивом. Таковыми были темы стихов, и музыка явно соответствовала текстам по настроению. В припевах было что-то, что можно назвать “душераздирающей” эссенцией, и это, я думаю, способствовало их повышенной популярности, а популярность привела, как обычно, к увеличению спроса на новые произведения в этом плане. Другими словами, настроения тоски и ностальгии были на переднем плане в танго, созданных польскими композиторами». Так вот, именно на такую музыку и легли слова «Таганки».
Для нашего очерка крайне важно и то, что жанр польского танго возник… под явным влиянием русской музыкальной культуры. Тот же Ежи Плачкевич пишет об этом (разумеется, как истинный поляк, походя выливая поток грязи на «клятых москалей»):
«Большинство из тех композиторов и поэтов, родившихся в Польше и получивших польское артистическое и музыкальное образование, на самом деле были еврейского происхождения и много лет жили под бременем русской оккупации и влияния. Эти обстоятельства до некоторой степени объясняют их художественный выбор и склонность к ностальгическим краскам в созданной ими музыке».
Полная чушь. В 1930-е Польша была самостоятельным государством, и ежели еврейские поэты и композиторы «жили под бременем русской оккупации и влияния», как это могло объяснить «ностальгические краски» в созданных ими танго? Они что, тосковали по утраченной оккупации и влиянию?! Зачем ностальгировать, обретя свободу от «проклятых оккупантов»?
Конечно, в Польше того времени действительно было немало людей, которые тосковали по утраченному прошлому. К началу 1930-х годов здесь обитало около 140 тысяч русских эмигрантов — в основном «первой волны», то есть бежавших после революции и Гражданской войны: военные, аристократы, духовенство, купечество, интеллигенция… Польша в течение ста лет была западной окраиной Российской империи, здесь русский язык знали почти все, высоко ценили русскую культуру — в том числе русскую песню.
То есть речь идёт не о «бремени», а о благотворности русского культурного влияния, симбиозе польско-русской культуры, в том числе музыкальной. Музыковед Георгий Сухно отмечает:
«Популярность русских песен и романсов в Польше была столь велика, что многие польские композиторы сочиняли “русские танго”, “русские фокстроты”, “русские вальсы”, используя русскую экзотику…»
Варшава становится ярким центром русской эмигрантской культуры. Вот где следует искать корни
экзотического феномена — польского танго. Вот откуда в нём печальное расставание, горькая томная обречённость, постоянные цыганские темы. Всё это вытесняет из польского танго аргентинскую страсть, жестокий надрыв, истерические ноты, настроения любви-вражды, любви-ненависти.
Итак, звалась она «Татьяной»?
Но не будем углубляться в специфику польского танго. Достаточно заметить: Полонский прав в том, что «Таганка» явно создана по принципам этого жанра.
Но вот является ли исходным источником «Таганки» именно танго «Тамара» и попало ли оригинальное танго в ГУЛАГ после оккупации Польши в 1939 году?
Вот здесь есть множество возражений. Кое-что мы уже приводили: мелодия «Тамары» не имеет ничего близкого с «Таганкой»/«Централкой». За исключением того, что первое слово припева является обращением и состоит из трёх слогов с ударением на втором (Тамара — Таганка). Однако таких танго в довоенной Польше и без «Тамары» было достаточно. Например, «Морфина», где к тому же повторяются первая и третья строки. Размер стиха несколько иной — ну, так он не совпадает с размером «Таганки» и в «Тамаре». Или танго «Фернандо» в исполнении Веры Гран, где обращение повторяется в двух подряд начальных строках. Есть у «Тамары» и другие соперники. Например, популярнейшее танго «Марушка» в 1930-е годы на пластинки в Польше записывалось шесть раз.
Полонский, проводя параллели между «Тамарой» и «Таганкой», большое значение придаёт цыганской теме и теме разлуки: «В танго “Тамара” речь ведётся от имени юноши, влюблённого в юную цыганку. Он прощается с нею. Им не суждено больше увидеться, поскольку цыганский табор снимается, и пути влюбленных расходятся. В “Таганке” тоже речь ведётся от имени юноши, “парнишечки”, который, попав в “Таганку”, мысленно обращается к своей любимой, прощается с нею. Песня начинается с упоминания цыганки. Не потому ли, что автор вспомнил и подбирал слова под “Цыганское танго”? В конце говорится, что их любовь останется глубокой тайной. А почему влюбленные из своей любви делали тайну? В “Тамаре” — понятно: у цыган связь девушки из табора с не цыганом была предосудительна, даже недопустима… Но почему влюбленный юноша, находясь в “Таганке”, говорит о тайне их любви? Мне думается, что автор текста “Таганки” просто припоминает и повторяет слова танго. Значит, автор “Таганки” хорошо знает, любит польскую эстраду предвоенных лет».
Прежде всего, насчёт «недопустимости» отношений между цыганкой и гаджё (не цыганом). Такого строгого запрета нет. Разрешаются даже браки с гаджё. Многие русские дворяне брали в жёны девушек из табора. Да и уголовный мир Советской республики был тесно связан с цыганским, вольные красавицы легко сходились с блатарями. Так что ничего «исключительно цыганского», «неестественного» в последнем куплете нет: уголовник, обращаясь к любимой, говорит, чтобы девушка его не ждала, а их любовь останется тайною.
Цыганская тема для европейской музыки тех лет традиционна. К «Таганке» куда ближе польской «Тамары», например, немецкое танго «Zigeuner» («Цигойнер», то есть цыган). Кстати, припев его начинается с обращения, которое легко перекроить и на «Таганку», и на «Централку». К тому же в августе 1937 года пластинку с этой песней выпустил и советский Грампласттрест. То есть эта запись действительно могла теоретически послужить хотя бы какой-то основой для «Таганки» или «Централки» — в отличие от «Тамары», о которой, по утверждению Яна Полонского, советский слушатель не имел понятия.
При желании подобного рода «первооснов» арестантского танго можно найти немало. И всё же при отдаленном гармоническом созвучии все эти произведения не могут претендовать на то, чтобы называться оригиналом, который подвергся переделке и обратился в тюремное танго «Цыганка с картами»!
И вот тут в наших разысканиях вроде бы вспыхивает слабый луч надежды. На портале «Поэтическая речь русских. Народные песни и современный фольклор» я наткнулся на любопытную запись, которая относится к 1984 году. Вспоминает москвич, физик Михаил Левин, 1921 года рождения:
«Песня “Таганка, ночи полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня”: прототип — эстрадная песня 1930-х:
Татьяна, и очи полные огня,
Татьяна, зачем сгубила ты меня…»
Но насколько это сообщение соответствует истине? Мне не удалось отыскать ни малейшего упоминания об этой песне где-либо, кроме как у Левина.
Больше похоже на предположение типа гадание. Нечто похожее мне встретилось во время обсуждения «Таганки» в Википедии. Некто А. Кайдалов задаёт вопрос: «А не кажется ли вам, что сначала текст, вероятнее, был таким: “Цыганка, те очи полные огня, цыганка, зачем сгубила ты меня?” Дальше могу лишь предположить, сейчас подумаю. “Цыганка, я твой навеки фигурант, теперь вся юность и талант в твоих руках”».
Предположение Кайдалова вызвало возмущённые возражения: «Это позор какой-то, и не имеет отношения к песне “Таганка”»; «Да, действительно, это просто пародия… ни за одним застольем “Таганку” в таком исполнении я не слышал».
Между тем ничего возмутительного в подобных версиях нет. Это всего лишь значит, что людям бросается в глаза наиболее вероятный принцип заимствования и переделки текста. В самом деле, первые строки припева «Таганки»/«Централки» прямо ассоциируются с поэтикой «жестокого романса», а уж «очи, полные огня» — типичное стихотворное клише в русской поэтической традиции. То есть воспоминания Левина вполне заслуживают внимания. Причём не только по основаниям, приведённым выше. Есть и другие причины.
Дело в том, что именно в начале 1930-х имя «Татьяна» приобретает в польском танго особую популярность. Так, в 1933 году выходят две пластинки с записями танго «То плачет сердце» и «Татьяна». На этикетках обеих пластинок — любопытные пометки. На песне «Татьяна» — «Танго посв. “Мисс России”», на песне о плачущем сердце — «Танго посв. “Мисс Европе”». Оба посвящения предназначены 18-летней русской девушке Татьяне Масловой.
История чрезвычайно любопытная. Действительно, 27 января 1929 года впервые прошёл конкурс под названием «Мисс Россия» — однако не в СССР, а во Франции. Учредителем выступил парижский журнал «Иллюстрированная Россия». В соревновании могли участвовать русские девушки из любых европейских стран. А титул «Мисс Россия» завоевала Татьяна Маслова (прибывшая в Париж за день до начала конкурса). Причём ещё через месяц в Мадриде Татьяна становится «Мисс Европа», обойдя в последнем туре фавориток из Испании и Франции!
В Париж Татьяна прибыла из Вильно — центра польского воеводства, где она жила и окончила русскую гимназию. Она была дочерью Александра Маслова — царского морского офицера, который сначала служил на подводной лодке «Морж», а затем стал командиром подлодки «Тюлень». По сведениям виленского поэта Александра Дугорина (именно он способствовал продвижению Татьяны на конкурс), Маслов в 1918 году был расстрелян большевиками.
Оба танго, посвящённые «Мисс России» и «Мисс Европе», написали композитор Александр Яшчиньский и поэт Антоний Якштас из Вильно, земляки юной красавицы. «Татьяна» изначально положена на русские стихи, затем Антоний Якштас сделал польский перевод.
К чему я веду? Да к тому, что такое событие, как победа Татьяны Масловой сразу в двух конкурсах красоты за один год, вполне способно было подвигнуть и других авторов на создание танго, посвящённого русской красавице из Польши. В этом контексте, согласитесь, воспоминание Михаила Левина о танго «Татьяна и очи, полные огня» воспринимается уже несколько иначе. Увы, смущает одно: если танго было столь популярным, что арестанты-сочинители взяли его за образец, — почему о нём не сохранилось никаких сведений?
В принципе, примеры подобного рода мне встречались. Долгое время ничего не было известно о так называемом «Сталинградском танго» времён Великой Отечественной — «Когда мы покидали свой родимый край и молча отступали на восток…». А между тем во время войны оно было широко известно, и лагерники на его мотив создали песню «На Колыме, где тундра и тайга кругом». Популярностью пользовалась и песня на слова Александра Хазина «Ты, наверно, спишь, моя Ирина», послужившая основой для блатной «Бывший урка, Родины солдат». Затем хазинскую песню напрочь забыли, и мне пришлось откапывать её среди мемуарной литературы.
В случае с «Таганкой»/«Централкой» поиски пока ничего не дали. Значит, будем продолжать.
«Ночи, полные огня»
Генетическое родство именно с польским танго, с его цыганской ветвью наблюдается только у «Цыганки с картами». Сохранив театральный надрыв, лёгкое позёрство, некое любование своей картинной обречённостью — чувства, так близкие блатной душе, — неведомые авторы нынешней «Таганки» сумели передать атмосферу оригинального жанра, которому подражали и на который равнялись. Ну в самом деле, о каком таком загубленном таланте может идти речь в блатной среде? О таланте «ширмача», «гоп-стопника», «домушника»? Собственно, и в устах мифического польского офицера-сочинителя скорбь о «юности и таланте» совершенно неуместна. Понятно, что строки — явно из другой оперы. Вот в стилистике польского танго надрывные сожаления о погубленной юности и таланте вполне естественны, тем более если виновница — женщина-«вамп» или вольная цыганка.
Впрочем, потерянная юность — вполне в духе блатаря-уркагана. «Дайте в юность обратный билет» — набивает он на правом плече, а на левом завершает: «Я уже заплатил за дорогу!» Или вечная присказка: «Наши юные года пропадают смолода…» Что касается цыганщины, уголовный мир ею буквально пропитан. Цыганская составляющая в нём всегда была значительной. Блатной жаргон полон заимствований из цыганского — «мора», «мандро», «минжеваться» и т. д. Да и чечёточка, «цыганочка» — она ведь тоже от «сынов степей»!
В эту эстетику тоски о потерянной «шикарной» жизни при любых раскладах вписывается и упоминание о «ночах, полных огня». Многие исполнители (в том числе уголовные) не раз указывали на явную несуразность этой строки: «Ночи, полные огня — это веселье, загул, кураж, страсть! — говорили они. — При чём тут тюремная хата?! Стопудово сначала пели — “Где ночи, полные огня”? В смысле — тосковали по прежней радостной жизни, которую потеряли. А потом уже гопота дворовая всё с ног на голову поставила, и вышла галиматья…»
Но были и те, кто возражал против подобных предположений. Дело в том, что издавна в отечественных тюрьмах существует такое неписаное правило — «В тюрьме отбоя нет». То есть формально он существует, однако в камере никогда не гасят электричество. Лампочка-«фикус» (защищённая специальным проволочным каркасом) горит круглосуточно. Вот вам и «ночи, полные огня»…
Забавное толкование я встретил на одном из форумов Рунета. Оно принадлежит некоему Андрею Берлину, который «с учёным видом знатока» поясняет свою версию возникновения песни «Таганка»:
«Написана в конце 40-х или самом начале 50-х пареньком, который реально там сидел… Из текста самой песни: “те ночи полные огня” — ясно, что песня написана после войны, когда в тюрьмах России перестали выключать электрический свет на ночь. До войны и тем более во время войны свет на ночь выключали. Есть легенда, что песню написал один из бывших власовцев (генерал Власов был казнён в этой тюрьме, она тогда ещё не была пересыльной, а стала таковой только в самом конце 40-х в связи с перегрузкой тюрем), но сидевшие там в то время рассказывали мне, что это неправда, этот паренек (его вроде звали Фёдор), был обычным бытовым уголовником, сидел за кражу».
Есть и другие остроумные версии. Так, таганский краевед Владимир Румянцев так поясняет смысл «ночей, полных огня»: «Это потому, что прожектора на вышках горели всё время, зимой особенно. Я ходил в школу по Малым Каменщикам, и это было довольно неприятное зрелище».
Что же, попытаемся рассмотреть представленные аргументы. Прежде всего, утверждение о том, что в советских тюрьмах перестали выключать свет только после войны, совершенно не соответствует действительности. До войны было то же самое. Подобную меру объясняют требованиями безопасности: это облегчает контроль за арестантами и подследственными, позволяет пресекать попытки самоубийств или расправы одних сидельцев над другими. Не могу сказать, как обстояло дело в царской тюрьме, но в тридцатые годы прошлого века этот порядок уж точно существовал.
Об этом вспоминает в мемуарах «Погружение во тьму» писатель Олег Волков. Время действия — 1936 год. Но нам важна не только дата. Отметим восприятие арестантом электрического света, горящего всю ночь:
«…Голые выбеленные стены. Голый квадрат окна. Глухая дверь, с глазком. С высокого потолка свисает яркая, никогда не гаснущая лампочка, в её слепящем свете камера особенно пуста и стерильна; всё жестко и четко. Даже складки одеяла на плоской постели словно одеревенели.
Этот свет — наваждение. Источник неосознанного беспокойства. От него нельзя отгородиться, отвлечься. Ходишь ли маятником с поворотами через пять шагов или, закружившись, сядешь на табурет, — глаза, уставшие от знакомых потёков краски на параше, трещинок штукатурки, щелей между половицами, от пересчитанных сто раз головок болтов в двери, помимо воли обращаются кверху, чтобы тут же, ослепленными, метнуться по углам. И даже после вечерней поверки, когда разрешается лежать и погружаешься в томительное ночное забытье, сквозь проносящиеся полувоспоминания-полугрезы ощущаешь себя в камере, не освобождаешься от гнетущей невозможности уйти, избавиться от этого бьющего в глаза света. Бездушного, неотвязного, проникающего всюду. Наполняющего бесконечной усталостью…
Эта оголённость предметов под постоянным сильным освещением рождает обострённые представления. Рассудок отбрасывает прочь затеняющие, смягчающие покровы, и на короткие мгновения прозреваешь всё вокруг и свою судьбу безнадёжно трезвыми очами. Это — как луч прожектора, каким пограничники вдруг вырвут из мрака тёмные береговые камни или вдавшуюся в море песчаную косу с обсевшими её серокрылыми, захваченными врасплох морскими птицами.
Я помню, что именно в этой одиночке Архангельской тюрьмы, где меня продержали около года, в один из бесконечных часов бдения при неотступно сторожившей лампочке, стёршей грани между днём и ночью, мне особенно беспощадно и обнажённо открылось, как велика и грозна окружающая нас “пылающая бездна…” Как неодолимы силы затопившего мир зла! И все попытки отгородиться от него заслонами веры и мифов о божественном начале жизни показались жалкими, несостоятельными».
Мы даём такую развёрнутую цитату для того, чтобы читатель понял, что электрический свет, который не гаснет всю ночь, действует чаще всего раздражающе и депрессивно. Можно привести и более позднее свидетельство писателя Игоря Губермана, который отбывал наказание в советских местах лишения свободы с 1979 по 1984 год:
«На всю жизнь я запомню тюрьму в Загорске… кошмарно яркая лампа день и ночь горела в крохотной нише, густо побеленной и отсвечивающей поэтому как рефлектор. Помню, как, чуть позже переведенный в тюрьму в Волоколамске, я лежал, когда погасла дневная лампа и загорелась слабая ночная, и блаженно улыбался полумраку, казавшемуся дивным отдыхом.
В эти дни как раз в газетах писали, какому жуткому поруганию достоинства был предан Луис Корвалан в его чилийской тюрьме: ему три дня подряд не гасили в камере свет».
То есть, по сути дела, Губерман приравнивает включённый на всю ночь свет к изощрённой пытке. И не он один. Например, Наталья Радина пишет в материале «Пытки в “Штази” и беларуском КГБ. Сравнительный анализ»:
«Меня больше всего потрясло, насколько одинаковы методы пыток в отношении женщин в Министерстве государственной безопасности ГДР 40 лет назад и Комитета государственной безопасности Беларуси сегодня…
Тюрьма “Штази”: “Людей лишали сна, заставляли стоять, сутками не выключали свет. Не выдавали одеял, и зимой они мучились от холода”.
Тюрьма КГБ: Свет в камерах горел круглосуточно. Закрывать лицо платком или одеялом, чтобы яркая лампочка не светила прямо в глаза, было запрещено. Если мы это делали, могли заглянуть в камеру и приказать открыть лицо. Когда мы с Ириной Халип объявили голодовку в знак протеста против незаконного ареста, по ночам лампу дневного света перестали менять на тусклое ночное освещение. Яркий свет горел 24 часа в сутки, а нам было велено спать лицом к “кормушке”».
А вот информация из другой братской славянской страны: «Экс-премьер Юлия Тимошенко подвергается издевательствам в колонии в Харьковской области, куда она была переведена из СИЗО в Киеве. Об этом заявил защитник Тимошенко депутат Сергей Власенко. По его словам, Юлия Тимошенко не получает в колонии надлежащей медицинской помощи, а в её камере круглосуточно горит свет».
На сайте «Планета Китай. О чём не пишут путеводители» размещён материал «Один день в китайском СИЗО», где автор, который побывал в этом милом заведении, вспоминает:
«22.00. Время отбоя. Я бы хотел сказать, “гасить свет”, но потом вспомнил, что они никогда, никогда, никогда, никогда не выключали свет в камере. Сверхъяркий флуоресцентный свет действует на нервы 24 часа в сутки, так что я в конечном итоге спал с завязанными глазами. Я сделал повязку из рукавов футболки».
Итак, в представлении обычных людей «ночи, полные огня» — это пытка. Однако тюремное танго под этим определением подразумевает вовсе не бездушный и наполняющий усталостью свет, как у Волкова. В «Таганке» это — явно позитивная, положительная характеристика света.
И всё же мы были бы неправы, если бы слепо полагались лишь на приведённые выше свидетельства и оценки.
Как бы ни показалось странным, с точки зрения блатных как раз ночная пора и есть самое время для развлечений. Днём «начальнички» бодрствуют, больше контроля, коридорные вертухаи чаще посматривают в глазок… Ночь в этом смысле куда вольготнее. Так было и прежде, то же самое и сейчас. Ночь — самое время для «шпилева» (азартных игр), для того, чтобы погонять по кругу чифирбак с густым, горьким, поднимающим настроение напитком, для весёлых базаров-разговоров, для серьёзных «разборок по понятиям». И не дай Бог ежели кто-то из арестантов попросит говорить потише! Это — серьёзный «косяк», нарушение традиций… В тюрьме отбоя нет.
Так что в песне всё вроде бы к месту, «по уму». Разве что некоторая несостыковка: сначала — восхищение «огненными ночами», а следом тут же — скулёж по поводу «тюрьма сгубила босяка»…
Очень любопытны в этом смысле наблюдения писателя Эдуарда Лимонова. Вот цитата из его книги «В плену у мертвецов», глава «Разговор с русской интеллигенцией»:
«Ночью в тюрьмах не выключают свет. До свободных людей этот феномен не доходит, как до жирафов. Да им и всё равно. Сколько раз я слышал известную блатную песню: “Таганка, о ночи полные огня! / Централка, навек сгубила ты меня! / Я твой бессменный арестант / Погибли юность и талант / В твоих стенах…” Слышал и не понимал истинного смысла. А когда сам оказался в тюрьме, всё встало на свои места. Ночи, полные освещения, не “огня”, конечно, это автор для рифмы “огня” подсунул, чтобы срифмовать с “меня”. Во всех тюрьмах, в Бутырке и Матроске, в девичьей Шестёрке, в Пятёрке, на Пресне, да повсюду — ночами и днём находятся зэки в жёлтом тумане света, достаточном для того, чтобы старшой в глазок мог обозреть их несчастные тела. У нас в Лефортово, в дополнение к вечному слабому свету (лампочки постоянно меняют) наши зелёные военные унтера требуют, чтобы мы не закрывались с головой. Они боятся, что под покровом одеяла ускользнёт от них зэк, уйдёт из жизни в мир иной, натянув на голову пластиковый пакет или удавку, разгрызёт себе вены под одеялом, взбрыкнет ножками и до свиданья! А правосудие останется неудовлетворённым, облизываться… Я защищаюсь от света следующим образом: складываю полосой вафельное полотенце и кладу его на лоб и глаза. Так и сплю…
Обычно я тотчас засыпаю. Несмотря на то что сокамерники начинают возиться именно после отбоя. Поскольку их лишают телевизора, выключая розетку без церемоний, сокамерники начинают двигаться, производить большой шум…»
Между тем в тюрьмах Европы и США свет на ночь гасят обязательно. Скажем, в американской тюрьме на острове Райкерс-Айленд (14 тысяч арестантов) камеры погружаются во тьму ровно в 23.00. В ливерпульской тюрьме Великобритании выключатель вообще находится в камере, и обитатели сами решают, когда им включать или выключать свет. А норвежский убийца 77 человек Андерс Брейвик жалуется, что свет и телевидение в камере включаются снаружи, и ему приходится просить стражника переключать каналы и гасить свет на ночь.
Так что у каждого своё представление о ночах, полных огня. Мне же кажется наиболее близкой к истине трактовка «таганской» строки, которую дал в эссе «Отечество. Блатная песня» Андрей Синявский. Думаю, он совершенно точно уловил её театрально-пижонский смысл и, приведя припев, начинавшийся со слов
Центральная!
Ах, ночи, полные огня! —
следом откомментировал: «Если сама тюрьма похожа на консерваторию, на оперу, на эстраду, то можно представить, какие гастроли начнутся, выпусти актёров на волю… Огней! Вина! Женщин! Карты! Гитару! Карету! Трамвай! Король я или не король? И пошла писать. Что ни кража, смотришь, — высокое мастерство. Золотые руки. Глаз-ватерпас. Краснознамённый ансамбль. Комедия дель арте…»
Именно так. Как ни крути, «Таганка»/«Централка» — песня типично блатная. Куражная. И опровергнуть это не могут никакие варианты, переделки, домыслы.

Как шкаф превратился в медвежонка, а Азовский банк вошёл в поговорку
«Медвежонок» («Ограбление Азовского банка»)



Вспомню холодную ноченьку тёмную
[25],
В лёгких санях мы неслися втроём.
Лишь на углах фонари одинокие
Тусклым горели огнём.
В наших санях под медвежьею полостью
Жёлтый стоял чемодан,
Каждый в кармане невольно рукою
Щупал холодный наган.
Тихо подъехали к дому знакомому,
Вылезли, молча пошли,
Тихо отъехали сани с извозчиком,
В снежной теряясь пыли.
Двое вошли под ворота угрюмые
Двери без шума вскрывать,
Третий остался на улице тёмной,
Чтобы сигналы давать.
Тихо вошли в помещение мрачное,
Стулья, конторки, шкафы.
Вот «медвежонок»
[26] глядит вызывающе
Прямо на нас с темноты.
Помню, как свёрла стальные и крепкие,
Точно два шмеля жужжа,
Вмиг провертели четыре отверстия
Против стального замка.
Помню, как дверца стальная открылася,
Я не спускал с неё глаз.
Ровными пачками деньги заветные
С полок смотрели на нас.
С полным портфелем обратно мы ехали,
Деньги не смея считать.
Все мы мечтали в ту ночь беззаветную
Жизнь по-другому начать…
Долю тогда я получил немалую,
Тысяч пятнадцать рублей.
Дал себе слово покинуть товарищей,
Выехать в несколько дней.
Решил всё покончить, тюрьму надоевшую,
Сумрак и холод ночей,
Женщин продажных, огни ресторанные,
Лживых и глупых людей.
Всё уже, что мне давно опостылело,
Ласки кокеток, духи,
Ночи бессонные, жизнь безотрадную,
Жизнь под угрозой тюрьмы.
Скромно одетый, с букетом в петлице,
В сером английском пальто,
Ровно семь тридцать покинул столицу,
Даже не глянул в окно.
Поезд помчал меня с бешеной скоростью,
Утром мы были в Москве.
К вечеру Харьков мелькнул огоньками
И скрылся в задумчивой мгле.
Сутки ещё пролетели видением
Грязи
[27], Ростов и Сухум,
Утром подъехали к станции маленькой
С южным названием Батум.
Поезд сердитою мощью подходит,
Хлынула к окнам толпа.
Небо безоблачно, пальмы зелёные,
Лето в конце января.
Здесь наслаждался я жизнью свободною,
Здесь отдыхал от тюрьмы,
Здесь на концерте в саду познакомился
С чудом земной красоты.
Чудные плечи богини Венеры
И дивная прелесть лица,
Полные неги и полные страсти,
Полные неги огня.
Месяц возился я с новой знакомой,
Месяц подарки возил.
Шляпки, косынки, чулки паутинные,
Жемчуг, кораллы дарил.
Помню осенние ноченьки тёмные,
Ночи без звёзд и луны.
С трепетом нежным она отдавалася
И говорила: «Люби».
Но деньги так быстро, как дым, улетучились,
Нужно опять воровать,
Нужно опять с головой окунуться
В хмурый и злой Ленинград…
Помню, приехал, товарищи добрые
Взяли на дело с собой,
Сутки гуляли, а ночью легавые
Нас повязали в пивной.
Со строгим конвоем по пыльной дороге
Ведут до суда нас в тюрьму.
Лет десять строгой нам припаяют
Старая, старая сказка…
Воровская баллада «Медвежонок» — пожалуй, одна из основополагающих в обойме произведений блатного песенного фольклора. Именно ей посвятил весомый фрагмент своего замечательного очерка «Аполлон среди блатных» писатель-лагерник Варлам Шаламов:
«Классическим произведением этого рода является песня “Помню я ночку осеннюю, тёмную”. Песня имеет много вариантов, позднейших переделок. Все позднейшие вставки, замены хуже, грубее первого варианта, рисующего классический образ идеального блатаря-медвежатника, его дело, его настоящее и будущее.
В песне описывается подготовка и проведение грабежа банка, взлом несгораемого шкафа в Ленинграде.
Помню, как свёрла, стальные и крепкие,
Точно два шмеля жужжат.
И вот уже открылись железные дверцы, где
Ровными пачками деньги заветные
С полок смотрели на нас.
Участник ограбления, получив свою долю, немедленно уезжает из города — в облике Каскарильи
[29].
Скромно одетый, с букетом в петлице —
В сером английском пальто,
Ровно в семь тридцать покинул столицу,
Даже не глянул в окно.
Под “столицей” разумеется Ленинград, вернее, Петроград, что даёт возможность отнести время появления этой песни к дореволюционному периоду.
Герой уезжает на юг, где знакомится с “чудом земной красоты”. Ясно, что:
Деньги, как снег, очень быстро растаяли,
Надо вернуться назад,
Надо опять с головой окунуться
В хмурый и злой Ленинград.
Следует “дело”, арест и заключительная строфа:
По пыльной дороге, под строгим конвоем
Я в уголовный иду,
Десять со строгой теперь получаю
Или иду на луну».
Насчёт того, что позднейшие переделки хуже оригинала — здесь с Шаламовым можно было бы поспорить; в послевоенное время (с середины 1940-х и далее) песня подвергалась порою достаточно тонкой шлифовке, в том числе творческой интеллигенцией, неожиданно полюбившей уголовный «шансон». Появилась более точная рифмовка, ярче выписаны отдельные детали:
Свёрла английские, быстрые бестии,
Словно два шмеля в руках,
Вмиг просверлили четыре отверстия
В сердце стального замка.
Однако Варлам Тихонович в определённой мере прав: действительно, постепенно в балладу всё активнее проникают слова и выражения уголовного жаргона, которые в оригинале, судя по всему, не употреблялись. Например, строка «чтобы сигнал подавать» заменена на «чтобы на стрёме стоять», «мы поклялись не замедлить с отвалом» вместо «и поспешил рано утром с вокзала я» и т. п. Всё же в изначальном тексте баллады в меньшей степени использовалась блатная лексика; образ отважного грабителя банков был покрыт неким романтическим флёром.
Шаламов очень точно заметил по этому поводу: «Есть в этом образе “вора-джентльмена” и некая тоска души блатаря по недостижимому идеалу. Поэтому-то “изящество”, “светскость” манер в большой цене среди воровского подполья. Именно оттуда в блатарский лексикон попали и закрепились там слова: “преступный мир”, “вращался”, “он с ним кушает” — всё это звучит и не высокопарно, и не иронически. Это термины определённого значения, ходовые выражения языка».
Град Петра или город Ленина?
Но всё-таки — почему вдруг Шаламов решил, что песня родилась до революции? В своём очерке он привёл только один аргумент: то, что Ленинград назван «столицей», а уже 12 марта 1918 года столицей РСФСР становится Москва, она же с 30 декабря 1922 года (вплоть до 25 декабря 1991-го) была столицей СССР. Таким образом, есть смысл действительно отнести песню к дореволюционным временам. Но тогда, согласно логике Шаламова, Ленинград разумнее всего заменить Петроградом, поскольку это название наиболее созвучно упомянутому в песне Ленинграду. А нам известно, что Петроградом город на Неве стали именовать лишь с 18 (31) августа 1914 года, после вступления России в Первую мировую войну. Было решено, что «Петроград» звучит более по-русски — не какой-то там «онемеченный» Санкт-Петербург. Правда, наименование «Петроград» встречалось изредка и ранее, в произведениях литературы — например, у Пушкина в «Медном всаднике» (1833):
Над омрачённым Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом…
или у Степана Шнырёва, стихотворение которого так и называлось — «Петроград» (1830). «Петроградскими» ещё до повторного «крещения» града Петрова именовались здесь и некоторые учреждения (скажем, Петроградская старообрядческая епархия). Петроградом город оставался вплоть до 26 января 1924 года, когда получил новое имя — Ленинград, в честь усопшего вождя мирового пролетариата.
Вроде бы всё гладко. Однако не совсем. «Столица» в воровской балладе встречается лишь однажды:
Скромно одетый, с букетом в петлице,
В сером английском пальто,
Ровно в семь тридцать покинул столицу,
Даже не глянул в окно.
Это характерно для всех версий песни. Причём в некоторых этот куплет вообще упущен, а у Аркадия Северного звучит иначе:
Прилично одетый, с красивым букетом,
В сером английском пальто,
Город в семь тридцать покинул с приветом
И даже не глянул в окно.
А между тем и в упомянутом варианте речь идёт о Ленинграде, город упомянут даже несколько раз — например, в одном из заключительных куплетов:
Возьмите газету «Вечерняя правда»,
Там на последнем листе
Все преступления Ленинграда
И приговоры в суде.
В исполнении Андрея Макаревича звучит гораздо точнее:
Если раскрыть «Ленинградскую правду»,
Там на последнем листе
Все преступления по Ленинграду
И приговоры там все.
Газета «Ленинградская правда» (в отличие от нелепой «Вечерней правды») действительно выходила в городе. Помимо этого, у Макаревича и зачин связан с городом Ленина: «Помню ту ночь ленинградскую тёмную». Может быть, всё-таки речь идёт именно о Ленинграде?
Более того: питерский исследователь «низовой» песни Игорь Шушарин в переписке со мною даже пытается провести собственное исследование, в результате которого с
точностью до дня устанавливает время ограбления, о котором повествует баллада «Медвежонок»! Исследователь исходит из того, что первая известная нам запись песни относится к 1926 году:
«Учитывая, что в тексте упоминается ЛЕНИНГРАД, от 1923 года мы отказываемся сразу, так как Ильич ещё жив, хотя и тяжело болен. Год 1926-й также отметаем: события песни хронологически завершаются глубокой осенью, а следовательно — её шанс быть написанной в конце 1926 года и тотчас получить столь массовое распространение, чтобы попасть в песенный сборник, крайне невелик. Таким образом, остаются годы 1924-й и 1925-й.
Зачин песни приходится на январь, причём на вторую его половину. Данный вывод мы делаем, исходя из того, что в Батуми герой попадает в конце января (цит. “пальмы зелёные, лето в конце января”), сама ж/д поездка “Ленинград — Москва — Батум” заняла у него трое-четверо суток, а выехал он “в несколько дней” после совершения преступления. Отсюда в сухом остатке получаем месяц “январь”, приблизительно 17-е—23-е числа.
Следующий важный момент — первая строчка песни: “Вспомню холодную ноченьку тёмную”. Тройка грабителей морозной ночью едет в санях на дело. Причём на мороз дополнительно указывает такая деталь, как “медвежья полость”, которая, как известно, служила покрывалом для ног седоков в экипаже. (Цит.: “Медвежью полость в ноги стлал”. Н. А. Некрасов; “Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алёшкой уселся в сани”. Л. Н. Толстой).
Между тем зима 1924/25 гг. в Ленинграде была аномально тёплой — в эту зиму не замерзла даже Нева! Средняя температура января 1925-го составляла всего +0,5 °C. Более того, в течение 14 дней средняя суточная температура января держалась выше 0 °C, а в один из дней вообще достигала +5 °C. Словом, в такую погоду вполне можно обойтись без укрывания ног. Да и использование саней в слякотную питерскую погоду едва ли эффективно.
А вот январь 1924-го, напротив, выдался морозным. Как раз начиная с 17-го января температура устойчиво пошла на понижение — с -6.1 °C до -28.9 °C (26-го числа). Таким образом, мы склонны предположить, что ограбление, ежели таковое имело место быть, случилось именно в январе 1924 года…
Следующая немаловажная речевая характеристика — “снежная пыль”, в которой “терялись” отъехавшие сани с извозчиком. В литературе “снежная пыль” — устойчивое образное словосочетание, означающее “снегопад”. Судя по всему, в ночь ограбления шёл снег. Согласно архивным данным Метеобюро, 17–18 января 1924 года осадков в Петрограде не наблюдалось. А вот в следующие четыре дня мело, и весьма существенно (самый сильный снегопад пришёлся на 21-е число — тогда выпало сразу 8.9 мм осадков!). Затем, вплоть до 28-го января, снегопадов снова отмечено не было.
Таким образом, наша временная выборка ещё больше сужается, сокращаясь до периода 19–22 января 1924 года. К слову, учитывая, что вечером “аномально-снежного” 21 числа пришло известие о кончине Владимира Ильича Ленина, именно ночь с 21 на 22 представляется нам идеальным временем для совершения преступления. Ибо горожане, включая представителей органов охраны правопорядка, в подавляющей массе своей пребывали в глубоком эмоциональном шоке и в скорбном трауре. Кому какое дело нынче до содержимого чужих банковских сейфов, когда… ИЛЬИЧ УМЕР!»
Блистательно и остроумно! Правда, с реальностью эти выкладки ничего общего не имеют, но всё равно замечательна эта игра ума.
Путешествие из Азова в Петербург
Но почему же автор настоящего очерка вдруг безапелляционно заявляет, что выводы вполне серьёзного, добросовестного исследователя Игоря Шушарина неосновательны? Есть ли для такой критики весомые аргументы? Конечно, есть, дражайший читатель. И ещё какие весомые.
Напомню, что в своих изысканиях питерский исследователь исходит из того, что первая известная нам запись песни, о которой идёт речь, относится к 1926 году. И это действительно так. Более того, добавлю: запись эта была обнаружена именно Игорем Шушариным. Речь идёт о сборнике «В Петрограде я родился… Песни воров, арестантов, громил, душегубов, бандитов из собрания О. Цеховницера. 1923–1926 гг.». Именно этот текст мы воспроизводим в настоящем очерке, хотя к настоящему времени, повторимся, количество различных перепевов, переделок, редакций воровской баллады об ограблении банка существует великое множество.
Немного об авторе сборника. Орест Вениаминович Цеховницер (1899–1941) — известный советский литературовед и театровед, в 1936–1937 гг. — учёный секретарь Пушкинского Дома, публикатор и исследователь литературного наследия Владимира Одоевского, Фёдора Достоевского, Фёдора Сологуба, знаток русского народного театра и массовых празднеств. Увы, имя это сегодня вспоминается нечасто, а уж о сборнике «низового» фольклора, выпущенном Цеховницером в Ленинграде, не упоминалось до последнего времени вовсе — пока питерское издательство «Красный матрос» в 2013 году (в котором работает Игорь Шушарин) не выпустило репринтное издание этой книги, за что ему земной поклон.
А теперь — главное. В сборнике Цеховницера воровская баллада проходит вовсе не как «Медвежонок». Она называется… «Ограбление Азовского банка»!
Это обстоятельство очень важно. То есть именно так называли песню её носители. Совершенно исключено, чтобы столь щепетильный и добросовестный филолог, как Цеховницер, вдруг с бухты-барахты прилепил к балладе столь необычное название. Тогда возникает вопрос: при каких делах тут далёкий от Питера Азов и его банк? Может, уголовные барды северной столицы просто изменили место действия уже известной песни и на скорую руку пристрочили его к Ленинграду? И искать надо вообще в другом направлении — ближе к Азовскому морю?
Не будем торопиться. Потому что упоминание именно Азовского банка вкупе со столицей совсем уж накрепко привязывает песню к Северной Пальмире.
Начнём с того, что ни до революции, ни после неё никакого «чисто Азовского» банка в городе Азове не было. Несмотря на свою древность (первое письменное упоминание о золотоордынском городе Азак-Тана относится к 1269 году) и великую историю (достаточно вспомнить об «азовском сидении» донских казаков 1641–1642 годов и об Азовских походах Петра I), к началу XX века Азов как город не существовал вообще. Ещё в марте 1810 года он получил всего лишь статус посада Ростовского уезда Екатеринославской губернии — по нынешним меркам, «посёлок городского типа». В 1885 году здесь насчитывалось всего 16 600 жителей, к 1913 году — 26 500 жителей. Даже в 1926 году, когда Азов всё-таки получил статус города, здесь обитали всего лишь 25 тысяч человек. Конечно, даже в посадах имперской России банки всё-таки действовали. Скажем, Нальчик тоже имел статус посада, однако к 1910 году на его территории расположились несколько банков. Точнее, это были отделения банков, что не меняет сути дела, поскольку такие же отделения разных банков существовали и в крупных городах (скажем, Волжско-Камский банк в Ростове-на-Дону). Отделения «чужих» банков действовали, разумеется, и в Азове. Но вот своего собственного, Азовского — не было.
Однако в конце XIX — начале XX вв. в империи действовали Азовско-Донской коммерческий банк и Петербургско-Азовский банк. Оба они объединены фигурой банкира и коммерсанта Якова Соломоновича Полякова, старшего из трёх братьев Поляковых (двое других — Самуил и Лазарь) — миллионеров, благотворителей, мошенников и прощелыг. Все эти персонажи заслуживают отдельных рассказов, но нам в рамках нашей темы особо интересна личность старшего брата — того самого, которого Лев Толстой вывел в романе «Анна Каренина» под фамилией еврейского нувориша Болгаринова. Помните, Стива Облонский добивался у него аудиенции, чтобы выпросить хорошую должность, и отметился каламбуром: «Было дело до жида, и я дожидался». Яков Поляков являлся вместе со своим братом Самуилом одним из учредителей Азовско-Донского коммерческого банка, который возник в 1871 году в Таганроге и благополучно дотянул до 1917 года, считаясь одним из солидных коммерческих учреждений.
Несколько иная история — с Петербургско-Азовским банком. Дело в том, что курс иностранной валюты в то время определялся Санкт-Петербургской биржей. Азовско-Донскому банку приходилось прибегать к посредничеству столичных банков для сбыта иностранных векселей, покупки и продажи процентных бумаг, переводных операций. За такое посредничество приходилось платить, и платить немало. Посему Яков Поляков стал хлопотать о том, чтобы открыть в Петербурге отделение Азовско-Донского банка. Однако Министерство финансов для посреднических операций с Азовско-Донским банком предложило создать не отделение, а совершенно новый банк. Что и было сделано в 1886 году.
Именно этот банк в обиходной речи поначалу и называли Азовским, что сохранилось по сию пору. К примеру, на архитектурном сайте Санкт-Петербурга о трёхэтажном здании на Невском проспекте, 62 (архитектор Борис Гершович) сообщается: «В 1895 г. дом купил Азовский коммерческий банк, открытый крупным банкиром Я. С. Поляковым… В 1902 г. Азовский коммерческий банк был закрыт. Здание перешло вновь созданному Северному банку». На самом деле Петербургско-Азовский банк был ликвидирован в 1901 году, во время жестокого финансово-экономического кризиса.
После разорения Петербургско-Азовского банка был открыт доступ в столицу империи Азовско-Донскому банку. В 1903 году сюда переместилось из Таганрога его правление, а в 1906-м оно приобрело в собственность участок по Большой Морской улице. Архитектор Фёдор Лидваль сделал проект здания для правления банка — в стиле неоклассицизма. Строительство завершили в 1909 году, а в 1912–1913 годах возвели второе здание, симметричное первому. Название нового банка в российской столице, разумеется, тоже сократили до Азовского.
Но вот беда: в 1917 году вследствие великой
смуты российской «Азовский банк», увы, канул в лету и с тех пор уже больше не всплывал… А это значит одно: название песни, которую записал Цеховницер в середине 1920-х годов, указывает на то, что родилась воровская баллада скорее всего в период с 1886 года (создание Петербургско-Азовского банка в имперской столице) до 1917-го, хотя реально, видимо, до 1914-го — большие сомнения вызывает возможность приятного зимнего отдыха во время Первой мировой войны в приграничном городе, тем более — крупном промышленном центре. Впрочем, Батум мог быть присочинён и позднее — так же, как в одесскую переделку ростовской песни «На Богатяновской открылася пивная» вставлен в конце 1930-х город Нальчик как место, где, побираясь, можно скопить на машину марки Форда (хотя Нальчик и до революции был захудалым посадом, и в довоенном СССР, получив статус города, оставался глухой провинцией).
Во всяком случае, повторимся, в Советской России Азовского банка не существовало. А вот в уголовном фольклоре он существует до сих пор…
Банковские причуды блатного фольклора
Если читатель думает, что под существованием «Азовского банка» мы имеем в виду исключительно воровскую балладу, о которой ведём речь, — он сильно заблуждается. Баллада как раз давно уже переименована и называется «Медвежонок». Между тем «Азовский банк» в криминально-тюремной среде упоминается довольно часто. И особенно — между так называемых «игровых», «шпилевых» (от немецкого das Spiel — игра) — страстных любителей азартных игр. «Азовским банком» называют мифическое, несуществующее богатство, пшик — например, игру без ставок:
— А что на кону?
— Да так, Азовский банк катаем…
В уголовно-арестантской среде нельзя для обозначения подобной игры использовать выражение «просто так» — это значит играть под расплату собственным задом, то есть в случае проигрыша тот, кому не повезло, должен стать пассивным педерастом. Говорят ещё: «Просто — в зад, а так — в рот». Поэтому «просто так» заменяется «Азовским банком» или словосочетанием «без интереса».
Вспоминают игроки Азовский банк и тогда, когда не могут получить с кого-то выигрыш. На одном из сайтов пользователь ibragim1947, рассказывая о тонкостях расчётов между карточными партнёрами, пишет: «Используя эти нехитрые правила, ты застрахован от того, что, проигрывая, ты платишь наличные, а выигрывая, получаешь “деньги” из Азовского банка, из которого, как знают все, игровые деньги получить невозможно». Когда один из участников обсуждения спрашивает, при чём тут Азовский банк, ibragim1947 поясняет: «Если бы ты знал, что такое “Азовский банк”, то не попал бы в данную ситуацию. Синонимы: “от мёртвого осла уши”, “с Пушкина получишь” и так далее». В начале XX века для обозначения подобных ситуаций использовалось выражение «заправить арапа».
Кроме того, речь может идти вовсе не об игре и ставках, а вообще о нереальных обещаниях и баснях про бешеные барыши или ценности: «Ты мне, змей, по делу давай расклад. Хату подломим, там и прикинем, что почём, а пока нехер за Азовский банк тележить!»
Кроме того, упоминание Азовского банка используется не только в азартных играх. Нередко ему придаётся несколько иной смысл. Так говорят о попытках обвинить человека в преступлениях (или неблаговидных поступках), которых он не совершал. Именно в этом значении оно употребляется в романе Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Чёрная свеча»: «Какое золото?! То мокруху шьёте, Георгий Николаевич, то золото. Давайте заодно и Азовский банк на меня грузите».
А порою выражение «вешать Азовский банк» используется в значении — сливать намеренную дезинформацию оперативным работникам колонии через «дятла» — негласного агента из числа арестантов: «Лохам ментовским надо какую-нибудь байду повесить за Азовский банк, пусть нюхом землю роют, пока мы свою тему разрулим». Это примерно то же, что «пустить парашу» или «повесить локш» (просторечное «повесить лапшу на уши»).
А вот теперь задумаемся. Во всех этих выражениях подразумевается несуществующее богатство, преступление или событие! Однако, если ограблению Азовского банка посвящена целая баллада, значит, факт имел место в действительности? Тогда непонятны побудительные мотивы блатных фольклористов, сочинивших присказку о несовершённом преступлении или несуществующем богатстве… Попробуем найти разгадку.
В списках ограбленных не значится
Не знаю, огорчит вас сей факт или обрадует, однако никаких сведений об ограблении Азовского банка в Петербурге ни мне, ни другим исследователям до сих пор найти не удалось. Между тем трудно представить, чтобы столь дерзкое преступление осталось незамеченным прессой тех лет. Впрочем, возможно, плохо искали? Скажем, ограблений филиалов Волжско-Камского банка в начале XX века мне известно минимум три, а попробуйте откопать сведения о них, учитывая, что налёты происходили в разных концах империи!
К тому же надо признать, что некоторую «информацию» об ограблении Азовского банка раздобыть всё же удалось — хотя не среди исторических документов, а на страницах художественных произведений. Например, в повести питерского писателя Владимира Корнева «Датский король» (2005) читаем:
«Художник оказался жертвой обстоятельств; накануне его “добровольной” явки на Шпалерную за телом брата террористами был зверски убит начальник Департамента государственной полиции генерал Скуратов-Минин, за которым они охотились. Социалисты-революционеры заочно “приговорили царского сатрапа” к смерти уже давно, а тут им подвернулся повод привести “приговор” в исполнение. Бескомпромиссный генерал решил принять личное участие в публичном повешении пяти боевиков, совершивших дерзкий налет на Азовско-Донской банк с убийством молоденькой кассирши и двоих охранников-полицейских (решились на столь отчаянное дело, судя по всему, из-за того, что финансовые средства “народных мстителей” кончились и боевой террор мог бы тогда прерваться, а это путало их карты)…
Вскоре после казни генерал был расстрелян в упор во время воскресного моциона прямо на Невском, возле Думы… Уже на следующий день поднятая на ноги городская полиция и жандармерия провели целый ряд арестов подозреваемых и точно установили, что убийство Скуратова-Минина — очередной теракт эсеровской партии».
Увы, мы имеем дело с литературным вымыслом. Действие повести разворачивается накануне Первой мировой войны, и гипотетически ограбление могло иметь место. Однако Корнев мало озабочен историчностью своего произведения. Во-первых, никакого «Департамента государственной полиции» к началу XX века не существовало: он действовал только с 1880 по 1883 год. Затем его сменил просто Департамент полиции. Но это, казалось бы, мелочь. Однако не могло быть и «начальника» Департамента полиции — глава этого ведомства именовался директором. Эту должность никогда не занимал мифический Скуратов-Минин, равно как сия таинственная личность не возглавляла и Отделение по охранению общественной безопасности и порядка в Санкт-Петербурге. Честно говоря, носителя такой пышной двойной фамилии в истории России вообще не было. Соответственно, той же степенью достоверности обладает и сообщение о теракте эсеров в здании Азовско-Донского банка.
Хотя вообще-то господа революционеры были отмороженными на всю голову: им ничего не стоило спланировать и осуществить подобное преступление. Так, дерзкий налёт на отделение Госбанка в Гельсингфорсе 13 февраля 1906 года провернули латышские национал-боевики и финские социал-демократы, зверски убив сторожа Архипа Баландина. После этого один из задержанных преступников устроил бойню в полицейском участке: от его руки погиб комиссар и были ранены несколько других стражей правопорядка.
Вскоре произошло ещё более громкое ограбление: 7 марта 1906 года 20 боевиков ворвались в Московское общество взаимного кредита, разоружили и связали полицейских, а затем вывели из кабинета директора банка Лебедева и заставили его открыть хранилище. Куш оказался феноменальным: 875 тысяч рублей наличными.
Наиболее известно ограбление Тифлисского банка 23 июня 1907 года, в котором участвовали большевистские экспроприаторы. Правда, нападение совершили не на сам банк, а на фаэтон, перевозивший 250 тысяч рублей (по другим сведениям — свыше 340 тысяч). Среди организаторов налёта был легендарный революционер Камо (С. Тер-Петросян). Увы, казалось бы, удачный «экс» оказался почти бессмысленным: большая часть денег перевозилась в 500-рублёвых купюрах, номера которых оказались переписаны. Так что горе-грабители воспользоваться ими не смогли.
После этого большевики и эсеры организуют ещё несколько громких нападений на банки, среди которых, к примеру, налёт на отделение Волжско-Камского банка в Ростове-на-Дону 2 апреля 1909 года: эту операцию тоже возглавил Камо (позднее его выдала России швейцарская полиция).
Однако с правлением Азовско-Донского коммерческого банка в Санкт-Петербурге всё не так просто. Это был четвёртый по размерам операций и третий по значению банк России. О налёте на него, тем более в столице, раструбили бы на весь мир! Как, например, в случае с нападением в Тифлисе. Но в списке «подвигов» эсеров и большевиков подобное деяние не значится.
А может, речь идёт о каком-нибудь другом отделении Азовско-Донского банка? Подобных сведений опять-таки отыскать не удалось нигде, кроме малодостоверной псевдоисторической беллетристики. Хотя упоминание об Азовско-Донском банке встречается в достаточно добросовестном документальном романе Абузара Айдамирова «Буря», в центре которого — фигура легендарного чеченского абрека Зелимхана Гушмазукаева-Харачоевского (1872–1913). Однако здесь речь идёт лишь о планах налёта: «Надо ограбить и какой-нибудь банк в Грозном. Их там четыре… Первый, Азовско-Донской коммерческий банк, расположен в удобном для ограбления месте. Рядом с парком». Однако автор не стал приписывать разбойнику ограбление Азовского банка: у того и так «подвигов» выше крыши.
А вот в романе Бориса Житкова «Виктор Вавич» (1934) рассказано действительно об ограблении Азовско-Донского банка в городе, где живёт один из героев, Санька:
«— Экстренное приложенье! — звонкой нотой пел мальчишка.
Санька совал пятак и уж видел крупные буквы:
“ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ АЗОВСКО-ДОНСКОГО БАНКА”.
И потом жирно цифра — 175 тысяч.
Санька сложил листок, страшно было читать тут, поблизости бильярдной. Санька шел, и дыхание сбивалось, и слышал сзади, сбоку: “и никого, вообразите, не поймали…” “Прожгли автогеном”».
Всё бы замечательно, да вот только, как справедливо отмечает литературовед Андрей Арьев, «на шестистах страницах романа так и не сказано, что это за город, равный по размаху описываемой в нём жизни хоть Петербургу, хоть Москве, но в то же время являющийся образом какой-то глухой вселенской провинции — в чём виден очевидный и эффектный умысел сочинителя». То есть опять фантазёрство. Ну, вспомнился Житкову Азовско-Донской банк — его и помянул. Кто там в сталинской России будет разбираться? Как мы убедились на примере сочинения Владимира Корнева о датском короле, и нынче этот творческий метод довольно популярен.
Кстати, не только у Житкова и Корнева. Ставропольский литератор Иван Любенко тоже отметился. В его романе «Следъ» читаем: «Вчера, в светлый праздник прощёного воскресения, марта восьмого числа, в Ставрополе произошло ограбление “Азовско-Донского Российского Торгово-Промышленного банка”, располагающегося на Николаевском проспекте…» Разумеется, ограбления такого не могло быть, поскольку банка с таким названием в природе не существовало: были отдельно Азовско-Донской коммерческий и Русский Торгово-Промышленный банки. Но глупо предъявлять претензии к художественному вымыслу…
В общем, нет никаких документально подтверждённых сведений об ограблении Азовского банка ни со стороны «пламенных революционеров», ни со стороны «благородного преступного мира». Да и не решилась бы ни одна уголовная банда на масштабный налёт подобного рода. Здесь нужна особая подготовка, чёткий план и небольшая армия дисциплинированных, идейно сплочённых боевиков. Уркаганы на подобное были попросту неспособны. Магазин какой-нибудь, лабаз, лавку — это всегда пожалуйста. А штурм государственного учреждения, да ещё со стрельбой — нет, увольте.
Тут есть, однако, резонное возражение. До сего момента мы разбирались, в общем-то, с вооружёнными грабежами и налётами. Но песня «Ограбление Азовского банка» повествует о краже со взломом! Может, есть смысл поискать именно в этом направлении?
К сожалению, и здесь нас ждёт полный облом. Самое большее, что удалось откопать, — информация о растрате в пинском отделении Азовско-Донского банка, опубликованная 22 января 1910 года в газете «Русское слово»: «Растрата, как выяснено произведённой ревизией, достигает цифры не менее 100 000 руб. Виновник растраты, главный бухгалтер пинского отделения банка Кузнец, бежал за границу, успев ещё “призанять” 15 000 у нескольких состоятельных пинчан. Накануне своего бегства из Пинска Кузнец перевёл 20 000 руб. банковских денег в один из Лейпцигских банков, приехав за границу, и получил их. Из Лейпцига Кузнец, по слухам, уехал в Америку».
Варшавские воры глубоко копают
К чему я всё это веду? Да к тому, что есть большие сомнения по поводу документальности знаменитой воровской баллады. «Взломать» такую громаду, как здание правления Азовско-Донского банка в Санкт-Петербурге, в те времена фактически не представлялось возможным. На это не решились бы даже самые безбашенные уркаганы. Тем более втроём. К этому следует добавить, что российские, «славянские» воры не отличались особой искусностью в таких делах. Здесь можно согласиться с персонажем Бориса Житкова Санькой, который, прочитав о вскрытии сейфа Азовского банка при помощи автогена, рассуждает: «И не уголовщина, конечно, не уголовщина… Именно потому и не уголовщина, что прожигать. У воров специалисты-взломщики, отмычники».
Да, из-за грубой работы «славянских» взломщиков называли «медвежатниками». Первоначальное значение этого слова — охотник на медведей. Но почему же взломщики сейфов получили такое прозвище?
Да всё потому же — по технике вскрытия.
Обратимся к Михаилу Суханинскому — специалисту по вскрытию замков. Вот что он пишет в очерке «Взлом сейфов на фене»: «О значении самого слова “медвежатник” распространяться особо не имеет смысла, в сознании любого человека должны вырисовываться контуры физически развитого мужчины… В дореволюционные времена сейфы изготавливали без применения электродуговой сварки, а значит, применяли для соединения металлических листов стальные заклёпки. Склёпанные швы сейфа шпаклевались и закрашивались, что позволяло им иметь вид монолитного изделия. Мощные удары кувалдой по определённым местам сейфа позволяют создать движение листов металла относительно тех, с которыми они соединены клепками, в результате чего клёпки срезаются, и сейф разваливается на составные части. Существует мнение, что подобный взлом именовался термином “расколоть”. Подобный метод взлома требует от взломщика огромного опыта, глубокого знания конструкции сейфа и недюжинной физической силы. Такое сочетание качеств взломщика, помноженное на немалые суммы денег, добытые подобным путём, могло его возвести в самый высокий ранг уголовной иерархии. Что, по сути, и происходило. Мы знаем, что “медвежатники” были самыми уважаемыми личностями в уголовной среде. В те времена даже обычный кузнец, или “коваль”, имел огромный авторитет среди других гражданских профессий, особенно в деревнях, где он был, как правило, в единственном числе…»
Соответственно, сейф на русском арго называли «медведь», а несгораемый шкаф — «медвежонок». Подобные способы вскрытия и в самом деле походили на медвежью охоту, требующую большой физической силы.
Однако существовала и другая порода взломщиков — так называемые «шнифферы». Они принадлежали почти исключительно к еврейско-польской уголовной элите. «Шниффер» — словечко еврейское, из идиша. Но, как и многие слова идиша, оно имеет корни в немецком языке и является производным от немецкого der Schnitt — разрез, прорез. Отсюда идишское «шнифф» — вырезанное отверстие. Позднее оно трансформировалось в «шнифт» (соединив конечные идишский и немецкий согласные звуки) и расширило своё значение. Шнифом, шнифтом стали называть и ночную кражу (с выдавливанием окна), и само окно, а затем — по принципу схожести — глаз («шнифты выставлю!» — угроза: выдавлю глаза). Само слово указывает на способ вскрытия сейфа: путём выреза отверстия. Впрочем, были и другие способы, но все они рассчитаны не на грубую физическую силу, а на использование технических средств.
Впрочем, позднее, когда сейфы стали более совершенными, «медвежатникам» пришлось повышать квалификацию и вскрывать сейфы другими способами. Что отразилось и в языке: «вспороть медведя» — вскрыть сейф, «медвежья лапа» — специальный ломик… Более того: мне пришлось столкнуться с совершенно противоположным противопоставлением «медвежатника» и «шниффера» в книге «Записки рецидивиста», которую написал некто Евгений Гончаревский по воспоминаниям уголовника со стажем Виктора Пономарёва (как следует из аннотации, «уголовная кличка Дим Димыч, 40 тюрем и зон, более 25 лет отсидки, 8 побегов»). Есть в записках рецидивиста эпизод с ограблением конторы — своеобразная вариация «ограбления Азовского банка», только дело происходит в 1953 году в Одессе, через несколько месяцев после знаменитой мартовской «ворошиловской» амнистии уголовников. Да и грабят далеко не банк, а всего лишь жилконтору:
«В дело пошёл “фомич”
[30], открыли дверь. Взломали дверь кассы, сейф был небольшой, с тумбочку размером. Вынесли его на улицу, подмели пол, акуратно прикрыли дверь. Притащили сейф в старую полуразрушенную хату и стали разбивать. В ход пошли лом и топор, сейф открыли, но попотеть пришлось изрядно. Я удивился, что Володя, имевший за спиной двадцать пять лет, дальше “шнифера” (вора-взломщика) не продвинулся, а я считал его поначалу “медвежатником” классным. Они сейфы не разбивают, работают отмычками, ключами. У Володи в зоне и кличка-то была Фомич».
В общем, можно констатировать, что произошла вот такая метаморфоза, и «медвежатники» потеснили «шнифферов». Во всяком случае, «шниффер» постепенно вообще вышел из обиходной жаргонной речи, а «медвежатник» — остался (хотя Дим Димыч с подельниками орудовал в Одессе, то есть в городе, где была сильна ивритско-идишская ветвь арго).
Однако до революции «шнифферы» без всяких оговорок считались высшей кастой среди взломщиков сейфов. На их счету действительно числилось несколько ограблений крупных банков. Но во всех случаях никто не отваживался ломиться в банк ни с основного, ни с чёрного хода, понимая абсолютную бесперспективность и нелепость такого безумного плана: крупные банки с этой стороны надёжно охранялись. Между тем в воровской балладе прямо указано:
Двое вошли под ворота угрюмые
Двери без шума вскрывать.
Третий остался на улице темной,
Чтобы сигналы давать.
Будучи в Петербурге, взгляните на здание Азовско-Донского банка, и вам не потребуются никакие комментарии по поводу неправдоподобности такой картинки. На самом деле все ограбления крупных банков в России до революции (за исключением вооружённых «революционных экспроприаций») были совершены, во-первых, исключительно с помощью подкопов, во-вторых, высококлассной профессиональной кастой «шнифферов» из числа так называемых «варшавских воров». Прекрасную их характеристику дал в своих записках замечательный русский криминалист, заведующий сыском Российской империи Аркадий Францевич Кошко: «Эта порода воров была не совсем обычна и резко отличалась от наших, великороссийских. Типы “варшавских” воров большей частью таковы: это люди, всегда прекрасно одетые, ведущие широкий образ жизни, признающие лишь первоклассные гостиницы и рестораны. Идя на кражу, они не размениваются на мелочи, т. е. объектом своим выбирают всегда лишь значительные ценности. Подготовка намеченного предприятия им стоит больших денег: широко практикуется подкуп, в работу пускаются самые усовершенствованные и весьма дорогостоящие инструменты, которые и бросаются тут же, на месте совершения преступления. Они упорны, настойчивы и терпеливы. Всегда хорошо вооружены».
Лишь «варшавские воры» остались в криминальной истории дореволюционной России как непревзойдённые взломщики банков. И во всех случаях речь шла о подкопах. Началось, впрочем, даже не с банка. Для «разминки» в начале XX столетия «варшавские» совершили подкоп под крупнейший московский магазин бриллиантов Гордона и выпотрошили его подчистую. Увы, один из счастливчиков, некто Гилевич, тут же бросился проигрывать свою долю драгоценностей в карты и благополучно был сцапан полицией.
В 1911 году умелые шнифферы подрыли «Кассу общества взаимного страхования от несчастных случаев» непосредственно у себя на родине, в Варшаве. Воров так и не нашли.
Одно из самых громких дел «варшавских воров» — знаменитая кража из харьковского «Приказничьего общества взаимного кредита» — опять же подкопом. Взломщики тогда похитили на 2,5 миллиона процентных бумаг и немного наличности. Сам Аркадий Францевич с превеликим удивлением описывал место преступления: «Стальная же комната банка являла весьма любопытное зрелище: два стальных шкафа со стенками, толщиной чуть ли не в четверть аршина были изуродованы и словно продырявлены орудийными снарядами. По всей комнате валялись какие-то высокоусовершенствованные орудия взлома. Тут были и электрические пилы, и баллоны с газом, и банки с кислотами, и какие-то хитроумные свёрла и аккумуляторы, и батареи, словом, оставленные воровские приспособления представляли из себя стоимость в несколько тысяч рублей». Случилось это 28 декабря 1916 года, воры воспользовались двумя днями рождественских праздников, когда банк не работал, и потому до момента обнаружения преступления прошло 48 часов. Однако Кошко с помощниками сумел оперативно раскрыть преступление и взять большую часть «варшавян» при попытке продать процентные бумаги.
И что бы вы думали? Ровно через два года, 28 декабря 1918 года, следы точно такого же взлома были обнаружены в банке 1-го ростовского Общества взаимного кредита! Воры распотрошили гордость делового Ростова — «Стальную комнату», изготовленную в 1899 году берлинской фирмой «Арнгейм», представлявшую собой огромный куб из панцирной брони золингеновской инструментальной стали высшего качества, которой обшивались дредноуты. Одна только массивная дверь в «Стальную комнату» весила полтонны. Согласно протоколу, «грабители путем подкопа проникли в банк, высверлили бетонную стену толщиною в сажень (1,76 м), при помощи газовой горелки, известной науке как “кран Данилевского”, разрезали стальную стену комнаты толщиной в четверть аршина, взломали сейфы и вынесли их содержимое через подземный ход». Лаз длиной в несколько десятков метров вёл в подвал дома напротив. Для справки: «кран Данилевского» разогревает металл до 2000 градусов по Цельсию и способен без проблем расплавить панцирную сталь.
На месте преступления воры оставили кислородные баллоны с манометром, цилиндры с поршнем для выработки водорода, газовую горелку. В подземном ходе валялись несколько тяжёлых мешков с золотыми слитками и драгоценностями. Забавно, что, бросив золото, грабители прихватили с собой заёмные билеты Владикавказской железной дороги — видимо, свято веря в успех Белого дела… Ущерб оценивался в десятки миллионов николаевских золотых рублей — сумма по тем временам за гранью фантастики.
Нескольких «варшавских воров» через некоторое время удалось задержать, но вернуть хотя бы сколько-нибудь существенную часть украденного было уже невозможно. По мнению историка Сергея Кисина, ограбление ростовского банка организовали те же «варшавяне», что двумя годами ранее действовали в Харькове. Я полностью разделяю это убеждение.
Но для чего мы совершили столь глубокий исторический экскурс? Да для того, чтобы убедить читателя: ограбление Азовского банка в Петербурге совершить так, как описано в известной воровской балладе, было абсолютно невозможно! Это — уголовная «параша», не имеющая ничего общего с реальностью. Как справедливо отмечал Алексей Свирский в своих «Очерках арестантской жизни» (1894): «Арестанты — большие хвастуны. Попавши в тюрьму за мелкие кражи, они перед товарищами начинают врать всячески, рассказывать о каких-то взломах и грабежах, которые совершить на самом деле они неспособны». Авторы песни убеждены, будто можно спокойно ночью войти в ворота Азовско-Донского банка, взломать дверь, не привлекая внимания (это в одном из крупнейших банков Петербурга с его охраной!), представления не имеют, как и где хранятся в банке крупные суммы денег, считая, что их можно просто взять из сейфа в кабинете:
Тихо вошли в помещение мрачное,
Стулья, конторки, шкафы.
Вот «медвежонок» глядит вызывающе
Прямо на нас с темноты.
Разумеется, фантастичность подобной истории была совершенно понятна сколько-нибудь опытным жуликам. Но обратимся опять к Свирскому, который сам не раз побывал в российских тюрьмах и знал не понаслышке нравы уголовного мира конца XIX — начала XX веков: «При малейшем удобном случае… арестант старается рассказать какой-нибудь случай из собственной жизни, конечно, вымышленный, в котором он самого себя выставляет таким закоренелым преступником, таким отчаянным головорезом, что неопытному слушателю может сделаться страшно от одного только присутствия в камере такого страшного разбойника… Порядочному арестанту никто не посмеет сказать, что он врёт, хотя слушатели и убеждены, что он говорит неправду и что на действительно отчаянный поступок он не способен. Объясняется это тем, что каждый арестант часто рассказывает о себе всевозможные небылицы; а раз он станет уличать других во лжи, то, само собой разумеется, и ему не дадут соврать. Поэтому, какую бы чушь ни порол именитый враль, все будут слушать его с большим вниманием. В этой наглой лжи арестанты-рассказчики находят для себя нравственное удовлетворение, и их самообман в этом отношении граничит часто с безумием».
Безумный до неправдоподобия «р
оман», чудовищно нелепые россказни о собственных «жиганских подвигах» — это естественные проявления уголовно-арестантского фольклора. Баллада, которая описывает мнимое ограбление Азовского банка в Петербурге, относится к тому же роду сочинений — хотя, несомненно, эту песню можно назвать жемчужиной жанра. Не случайно она прошла испытание временем и дошла до нас во множестве вариантов, переделок, версий, обрастая подробностями уже нового, советского быта. Но нам сейчас важно не это. Мы наконец-то можем понять, почему Азовский банк в уголовном представлении связан с несовершённым преступлением и несуществующим богатством. Да вот как раз из-за песни об ограблении Азовского банка — то есть о краже со взломом, которой никогда не было, и о «сработанных» деньгах, которых никто не похищал!
«Ограбление Азовского банка» — в этом названии скрыта издевательская ирония, сарказм. Это всё равно как американские гангстеры назвали бы песню «Ограбление Форт-Нокс» и расписали бы, как «зимнею ноченькой тёмною» они с отмычками и «фомкой» обчистили это хранилище слитков золота. Ситуация, описанная в питерской песне, бредова и нелепа.
Азовские байки
И всё же — почему блатной фольклор в качестве объекта ограбления выбрал именно Азовский банк? В конце концов, существовали не менее крупные, известные учреждения — хотя бы Русско-Азиатский или Петербургский международный банки, ограбления которых были бы столь же очевидно невозможны, фантастичны и неправдоподобны. Выходит, выбор оказался случаен? Ну, приглянулось питерским жуликам красивое здание Азовско-Донского банка, они сочинили фантастическую балладу, а затем уже возникла известная ироническая поговорка — благодаря популярной песне. Могло такое быть?
Могло. Но на деле всё не так просто и однозначно. Очередное открытие мы вам приберегли на сладкое. Вернее сказать, новую версию-подсказку дал мне уже упоминавшийся питерский собиратель фольклора, литератор Игорь Шушарин. Оказывается, в начале XX века бытовало среди народа русского такое выражение, как… «азовские басни»! Во всяком случае, оно зафиксировано в Москве и, возможно, в Питере.
Так, известный в своё время фольклорист Евгений Захарович Баранов выпустил в 1928 году завлекательную книжку «Московские легенды», которые автор, по его признанию, услышал в московских харчевнях 20-х годов, а потом воспроизвёл по памяти. Среди персонажей легенд — Пушкин и Гоголь, Пётр I и учёный колдун Брюс, жулик Рахманов и чудаковатые купцы-богачи… На одной из страниц этого увлекательного сборника мы и встречаем примечательную фразу, услышанную автором от торговца: «Ты, говорит, азовские басни мне здесь не рассказывай». То есть как и в блатной поговорке: ложь, обман.
Конечно, впору бы возразить: так ведь к концу 1920-х годов песенка об Азовском банке уже, почитай, давно звучала, потому и присказка пошла в народ! Разумно. Но та же самая присказка возникает куда раньше — в романе «Губернатор» (1912) Ильи Дмитриевича Сургучёва, литератора, ныне совсем уж забытого:
«Пристав Ерёма покосился на него, покачал головой и сказал:
— Рассказывайте азовские басни! Запускайте арапа! Мы отлично ваш странный характер знаем!»
Сургучёв — это уже Санкт-Петербург, к Азовскому банку совсем близко. Да и время самое то. Напомним, что здание правления Азовско-Донского коммерческого банка возвели в 1909 году, а второе достроили в 1912–1913-м. То есть выражение «азовские басни» могло возникнуть именно об эту пору — и в связи с нелепыми байками об ограблении Азовского банка. Однако не исключено и другое: «азовские басни» могли существовать раньше, и как раз эта народная присказка дала толчок фантазии неизвестных авторов блатной баллады.
Увы, более точно ничего о происхождении «азовских басен» сказать пока нельзя. Разве что одно: до 1912 года подобной присказки об «азовских баснях» не зафиксировано. Так что — будем продолжать поиски. Одно несомненно: «Азовский банк» и «азовские басни» связаны между собой и смыслом, и топонимическим отсылом. Вряд ли такая перекличка случайна.
«Неправильные» куплеты
Позволю себе небольшое, но важное замечание. Тот текст баллады, который приведён в сборнике Цеховницера и повторён нами в настоящем очерке, по сути, не является блатным, уркаганским. Такая переделка могла существовать лишь в 1920-е — начале 1930-х годов. И наверняка в таком виде бытовала не в уголовной, а в дворовой городской среде.
Позволим себе небольшой исторический экскурс. Издревле на Руси словом «вор» именовали не высшую касту уголовного мира и даже не обычных «крадунов». Банальные разбойники и прочая уголовщина назывались «татями». Помните присказку — «аки тать в нощи»? Вот это — о них. А вот словом «вор» клеймили (и в переносном, и в прямом смысле — выжигая эти буквы на лбу и щеках) политических преступников — мятежников, предателей, а также тех, кто «выступал против порядка правления», избирая объектами преступлений государственные органы и чиновников. К таковым «ворам» можно отнести Пугачёва, Разина, Болотникова и других героических живодёров. Впоследствии обе эти категории большевики подведут под 58-ю «политическую» и 59-ю «бандитскую» статьи. В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года только они две были «расстрельными». А в период Смуты, Семибоярщины и прочих кровавых забав «воров» предпочитали всё больше четвертовать да сажать на кол. Ну, это уже — вопрос вкуса…
В «Списке с скаски, какова сказана у казни вору и богоотступнику и изменнику Стеньке Разину» предводитель казачьего восстания постоянно именуется «вором», а его преступления — «воровством», хотя речь идёт о грабежах и убийствах. Подробно перечисляются злодеяния Стеньки, причём рассказ обильно пересыпается определениями «вор», «воровство», «воровской», «своровали», под которыми разумеются смута, государственное преступление, измена:
«Вор и богоотступник и изменник донской казак Стенька Разин!
В прошлом году, забыв ты страх божий и великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича крестное целование и ево государскую милость, ему, великому государю, изменил, и собрався, пошел з Дону для воровства на Волгу. И на Волге многие пакости починил, и патриаршие и монастырские насады
[31], и иных многих промышленных людей насады ж и струги на Волге и под Астраханью погромил и многих людей побил…»
Или вспомните у Пушкина в «Капитанской дочке» разговор коменданта Белогорской крепости капитана Миронова с Емельяном Пугачёвым: «Пугачёв грозно взглянул на старика и сказал ему: “Как ты смел противиться мне, своему государю?” Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: “Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!”»
В Смутное время после смерти Бориса Годунова, когда в Московское царство хлынули войска из Польши, пытаясь посадить на трон Московии то одного, то второго самозванца, их поддержали жители южных окраин — Северской земли, недовольные центральной властью. Мятежные города, предавшие родную землю, вошли в поговорку: «Елец — всем ворам отец», «Орёл да Кромы — первые воры», «Ливны ворами дивны» и. т. п. Под «ворами» подразумевались исключительно мятежники и предатели.
Со временем слово «вор» изменило своё значение: так стали называть не политического преступника, а обычного, бытового уголовника — от карманника до грабителя. Не в последнюю очередь подобная перемена связана с тем, что значительная часть мятежников, принявших сторону самозванцев, представляла собой отборный уголовный сброд либо безжалостных сорвиголов-«порубежников». Между теми и другими различия были довольно условными. Поэтому вор, разбойник и тать слились в русском сознании в одно целое.
А к началу XX века в преступном мире «вор» стал не просто определением всякого жулика да грабителя, но скорее синонимом профессионального преступника, неким чуть ли не «кастовым» определением. Таким вором был, скажем, Васька Пепел, которого вывел в пьесе «На дне» Максим Горький. Вот как он характеризовал себя:
«Мой путь — обозначен мне! Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже заказал… Я когда маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров сын…
Я — сызмалетства — вор… все, всегда говорили мне: вор Васька, воров сын Васька! Ага? Так? Ну — нате! Вот — я вор!.. Ты пойми: я, может быть, со зла вор-то… оттого я вор, что другим именем никто никогда не догадался назвать меня…»
Конечно, это были ещё не те «воры в законе», которые сегодня представляют собой замкнутый преступный клан. Речь шла скорее о личностной самоидентификации, причислении себя к «цеху» профессионалов, в отличие от случайных людей, попавших в криминальный мир.
К чему я речь веду и зачем такой глубокий экскурс в историю? Для начала вспомним, что Варлам Шаламов (и не он один) относит «Медвежонка» к «классическим произведениям» блатного песенного фольклора. Между тем Варлам Тихонович отбывал срок в ГУЛАГе уже тогда, когда сложился клан «воров в законе» с его жёсткими традициями и неформальными установлениями, среди которых — требования ни при каких условиях не работать, не иметь дома, семьи, имущества, не участвовать в общественно-политической жизни (собрания, митинги, демонстрации и проч.), жить исключительно преступным промыслом и т. д. «Вор» и «блатной» в то время считались синонимами.
А теперь вернёмся к тексту песни из сборника «В Петрограде я родился…»:
Все мы мечтали в ту ночь беззаветную
Жизнь по-другому начать…
Решил всё покончить, тюрьму надоевшую,
Сумрак и холод ночей,
Женщин продажных, огни ресторанные,
Лживых и глупых людей.
Всё уже, что мне давно опостылело,
Ласки кокеток, духи,
Ночи бессонные, жизнь безотрадную,
Жизнь под угрозой тюрьмы.
За исполнение подобной баллады блатные порвали бы уголовного барда на куски! Поскольку в ней отрицаются основополагающие принципы жизни «законного вора» да ещё звучат призывы «жизнь по-другому начать»!
Вариант песни, записанный Цеховницером, мог возникнуть только в 1920-е годы. Наверняка изначальный дореволюционный текст баллады существенно отличался от того, который был опубликован питерским филологом в 1926 году. Ведь и дореволюционные уркаганы ни в коей мере не разделяли такого «фраерского» взгляда на жизнь! Скорее всего, подобные куплеты возникли именно в первое десятилетие Советской власти. Напомним, что именно тогда возникла и активно внедрялась в общественное сознание теория так называемых «социально близких» элементов. Большевики, основываясь на доктринёрски понятом учении Маркса о классовой борьбе, выдвинули тезис о том, что, когда власть перешла в руки эксплуатируемых классов, исчезает социальная подоплёка преступности. Прежде, в эксплуататорском обществе, преступник нарушал закон, тем самым выступая против ненавистной системы, которая угнетала человека. Он не хотел быть рабом и выбирал путь стихийного протеста — путь преступления. Веками мечта народа о справедливости воплощалась в образах «благородных разбойников» — Стеньки Разина, Емельки Пугачёва и т. д.
Теперь, когда социальная справедливость восстановлена, по мере продвижения к социализму будет постепенно исчезать и уголовная преступность. Уркаганы найдут своим силам и способностям достойное применение. Тем более в новом обществе не будет разделения на богатых и бедных. Главное — не наказывать преступника, а помочь ему найти себя, своё место в жизни, реализовать скрытые способности, таланты… Ведь уголовники в большинстве своём вышли из низов народа. Поэтому они социально близки народной власти, с ними легко можно найти общий язык. Они — «свои», в отличие от буржуев, живших всегда чужим трудом, не знавших горя и нужды.
Справедливости ради стоит заметить: возможно, в том идеальном социалистическом обществе, которое рисовали себе пламенные революционеры в своём воспалённом мозгу, преступников действительно было бы проще вернуть в лоно честной жизни. Однако сказка очень скоро была втоптана в грязь. Появились и богатые, и бедные, власть советско-партийной бюрократии не помогала трудовому человеку, а нещадно эксплуатировала его, грабила и унижала. При несогласии — гноила и уничтожала. Но это — несколько иная история.
Для нас же важно другое. На переломе 20–30-х годов XX века в Советском Союзе формируется новая, совершенно особая каста «воров в законе», о которой мы уже упоминали. Я не стану здесь подробно объяснять причины возникновения этого уголовного института, скажу только, что «ворами» становились только профессиональные преступники, прошедшие особый обряд «крещения» или «коронации» (последнее — для воров, которые не были христианами). Песня «Медвежонок» в том виде, в котором она приведена у Цеховницера, конечно, никогда бы не стала блатной. А между тем она — стала таковой! И приведённые в этой главе куплеты были из баллады нещадно вымараны.
Однако до этого «Медвежонку» нужно было пережить «переходный период», который для нас крайне любопытен…
«Помню, в начале второй пятилетки стали давать паспорта…»
Я не случайно называю воровскую балладу «Медвежонком». Не будь сборника Ореста Цеховницера, вряд ли мы знали бы о её первоначальном названии. Сегодня она известна нам либо как «Медвежонок», то есть небольшой сейф, несгораемый шкаф, либо по первой строке — «Помню, пришли ко мне двое товарищей» или «Помню я ночку холодную, тёмную» в разных вариантах.
Некоторые из них чрезвычайно любопытны в рамках нашего исследования. Так, в исполнении Аркадия Северного до нас дошла довольно необычная «советская» версия, которая затем стала очень популярной:
Помню, в начале второй пятилетки
Стали давать паспорта.
Мне не хватило «рабочей» отметки,
И отказали тогда.
Что же мне делать со счастием медным?
Надо опять воровать.
Помню, решил я с товарищем верным
Банк городской обокрасть.
И лишь затем следует: «Помню ту ночь ленинградскую темную…»
Скорее всего, этот текст относится самое раннее к концу 1930-х годов. Во-первых, о второй пятилетке упоминается как о чём-то давно прошедшем. Во-вторых, при этом автор явно грешит против истины, поскольку паспортная система появилась в СССР не к началу второй пятилетки, а ещё во время первой. Напомним, что сроки первой пятилетки были определены на период с 1929 по 1933 год, однако завершили её за четыре года и три месяца. Второй пятилетний план развития народного хозяйства Советского Союза был утверждён XVII съездом ВКП(б) в 1934 году (хотя охватывал период с 1933 по 1937 год).
А единая паспортная система в СССР была введена 27 декабря 1932 года. Именно тогда председатель ЦИК СССР Михаил Калинин, председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов и секретарь ЦИК СССР Авель Енукидзе подписали постановление № 57/1917 «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Все граждане СССР от 16 лет, постоянно проживавшие в городах, рабочих посёлках, работающие на транспорте и в совхозах, обязаны были иметь паспорта. Сельское население страны паспортами не обеспечивалось (за исключением проживавших в десятикилометровой пограничной зоне). Как объяснялось в постановлении, сделано это «в целях лучшего учёта населения городов, рабочих посёлков и новостроек и разгрузки этих населённых мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов». Кроме внутренних общегражданских паспортов, в СССР использовались также общегражданские заграничные паспорта, паспорта моряка, дипломатические паспорта, а также
удостоверения личности военнослужащих.
Забавно, что незадолго до этого, в 1930 году, Малая советская энциклопедия гордо сообщала: «Паспорт — особый документ для удостоверения личности и права его предъявителя на отлучку из места постоянного жительства. Паспортная система была важнейшим орудием полицейского воздействия и податной политики… Советское право не знает паспортной системы».
Суть ухвачена очень точно — «важнейшее орудие полицейского воздействия». Это — одна из главных причин введения паспортов на территории СССР. Хотя ради справедливости стоит отметить, что до введения паспортной системы в Советском Союзе царил полный бардак в этой области. Ещё с введением новой экономической политики возникла необходимость более точного учёта городского населения. Документы выдавались кем угодно на местах, любой формы и содержания, подделать и сфальсифицировать их можно было, как говорится, левой задней ногой, что, естественно, затрудняло работу правоохранительных органов, борьбу с преступностью, экономический учёт и контроль и т. д.
НКВД ещё в 1922 году разработал проект положения о введении единого вида на жительство в РСФСР, но это предложение отклонил Малый Совнарком, а затем и Президиум ВЦИК. Между тем нарком внутренних дел Александр Белобородов бил тревогу и жаловался в ЦК партии: «Потребность в установленном документе — удостоверении личности — так велика, что на местах уже приступили к решению вопроса по-своему. Проекты разработали Петроград, Москва, Турк-Республика, Украина, Карельская Коммуна, Крымская Республика и целый ряд губерний. Допущение разнообразных типов удостоверений личности для отдельных губерний, областей чрезвычайно затруднит работу административных органов и создаст много неудобств для населения».
В конце концов, с 1 января 1923 года ВЦИК запретил дореволюционные документы, а также любые другие бумаги, которые использовались для подтверждения личности, включая трудовые книжки. Вместо них вводилось единое удостоверение личности гражданина СССР. Но и эта мера оказалась бессмысленной и бестолковой. Комиссия Политбюро, которая в 1932 году рассматривала вопрос о паспортизации страны, пришла к выводу:
«Порядок, установленный декретом ВЦИК от 20.VI.1923 г., изменённый декретом от 18.VII.1927 г., являлся настолько несовершенным, что в данное время создалось следующее положение. Удостоверение личности не обязательно, за исключением “случаев, предусмотренных законом”, но такие случаи в самом законе не оговорены. Удостоверением личности является всякий документ вплоть до справок, выданных домоуправлением. Этих же документов достаточно и для прописки, и для получения продовольственной карточки, что дает самую благоприятную почву для злоупотреблений, поскольку домоуправления на основании ими же выданных документов сами производят прописку и выдают карточки. Наконец, постановлением ВЦИКа и Совнаркома от 10.XI. 1930 года право выдачи удостоверений личности было предоставлено сельсоветам и отменена обязательная публикация об утере документов. Этот закон фактически аннулировал документацию населения в СССР».
В таких условиях введение единой паспортной системы являлось вполне целесообразной и необходимой мерой. Если бы не одно «но». Совершенно понятно, что паспортная система не случайно возникла именно в 1932 году, то есть в период коллективизации деревни. Жителям советских деревень, согласно постановлению № 57/1917, паспортов не полагалось вовсе (за исключением колхозов, которые находились в стокилометровой приграничной зоне). Все крестьяне (колхозники и единоличники) обязаны были для выезда из деревни на срок более пяти дней иметь справку от местных органов власти, которая являлась главным документом для получения паспорта. Справка эта являлась действительной не более месяца. То есть фактически крестьянин прикреплялся к земле, становился советским крепостным.
Дело в том, что политика сплошной коллективизации приводила во многих случаях к обнищанию, разорению села. Яркие примеры приводит Елена Осокина в исследовании «За фасадом “сталинского изобилия”». Селяне писали: «Хлеба нет. Кормиться нечем, и жить больше невозможно». «Не могу ни в коем случае прокормить свою семью. Хлеба нет. Дом продал». «Хлеба не имею. Дети доносили последнюю одежду. Скота не имею. Существовать больше нечем». Доходило до того, что в колхозе «12 лет РКК» Макаровского района Саратовской области колхозники питались трупами павших животных, вырытыми из скотомогильников.
Крестьяне бросились спасаться в города. В колхозе «Красный Октябрь» (Оренбургская область) в декабре 1936 года из 106 хозяйств работали не более 25 %. Остальные от работы отказывались: «За что мы будем работать в колхозе, когда ни хлеба, ни денег не получили. Всё лето проработали задаром». В Ярославской области из некоторых колхозов к зиме 1936/37 года ушли на заработки все трудоспособные мужчины. Только в Рыбинском районе в 1936 году вышло из колхозов 362 хозяйства. В Курской области из Никольского района за август-декабрь 1936 года уехала половина трудоспособных колхозников. Выходили на работу не более трети и работали всего по 4–5 часов. В Сталинградской области НКВД зарегистрировало случаи самоликвидации целых колхозов. В Воронежской области в январе 1937 года выборочная проверка 87 колхозов в 16 районах показала, что в работах участвовало от 5 до 16 % трудоспособных.
Собственно, государству в период индустриализации нужна была дешёвая рабочая сила, и оно одной рукой удерживало селянина на земле, но другой — проводило в деревнях наборы на стройки народного хозяйства. Да и на самих стройках, где постоянно не хватало работников, нередко закрывали глаза на отсутствие «открепительной справки» из колхоза, зачисляли пахаря в пролетарии и выдавали ему паспорт. Период индустриализации, который пришёлся на 1930-е годы, связан со стремительной урбанизацией. Только за время первой пятилетки городская рабочая сила пополнилась на 12,5 миллиона человек, из них 8,5 миллиона — мигрировали из сельской местности. Результатом явилась деградация сельского хозяйства, которую отчасти удалось преодолеть лишь к концу 1930-х годов благодаря постепенной механизации колхозов.
Но вернёмся всё же к начальному этапу паспортизации, которая так больно ударила по судьбе уголовного героя баллады «Медвежонок». Вообще-то положение этого человека к началу паспортизации представляется довольно туманным. С одной стороны, ему не выдают паспорт, поскольку герой баллады не имеет «рабочей отметки», то есть не зачислен ни на одно из предприятий. С другой стороны, реплика «надо опять воровать» свидетельствует о том, что этот персонаж всё-таки к тому времени не занимался преступным промыслом, поскольку был вынужден к нему возвратиться. Остаётся одно: бывший уркаган подвизался на случайных подработках, не имея постоянной профессии. А в результате — оказался в рядах изгоев, которых надлежало выбросить из Ленинграда.
Заметим, что поначалу паспорт вводился в городах, объявленных режимными, — Москве, Киеве, Харькове, Минске. Паспортизация служила одновременно способом очистки от всевозможных подозрительных и социально чуждых элементов, в число которых входили «лишенцы» (представители дореволюционных имущих классов), отчасти — интеллигенция, не занятая общественно полезным трудом, уголовники, крестьяне на заработках и т. д. Отказ в выдаче паспорта означал автоматическое выселение из режимного города.
Только за первые четыре месяца 1933 года, когда проходила паспортизация Москвы и Ленинграда, в столице население сократилось на 214 700 человек, в Северной Пальмире — на 476 182 человека. В результате улучшилась не только криминальная обстановка, но и снабжение городского населения — хотя и не слишком существенно. Далее количество городов, где проводились «паспортные зачистки», постоянно увеличивалось, пока не охватило весь СССР от края до края.
Заметим, что далеко не все граждане, которым было отказано в выдаче паспортов, смирились с этим и действительно покинули города. Люди обзаводились липовыми справками, нередко меняли имена и фамилии. Вскоре в уголовном мире появляется преступный промысел, связанный с подделкой паспортов. Многие живут в городах нелегально; именно в это время появляется особенно много прислуги, набранной из бежавших от голода селянок, которые работают «за еду», всевозможных артельщиков и т. д.
В «Медвежонке» подчёркнут ещё один «поворот судьбы»: когда бывшие преступники, которые порвали с уголовным прошлым, но не устроились на работу официально, лишённые права на паспорт, возвращаются к прежнему криминальному ремеслу.
Разумеется, власть тоже не дремлет. Глава НКВД Генрих Ягода и прокурор СССР Андрей Вышинский в 1935 году докладывают в ЦК и Совнарком о создании внесудебных «троек» для нарушителей паспортного режима:
«В целях быстрейшей очистки городов, подпадающих под действие ст. 10 закона о паспортах, от уголовных и деклассированных элементов, а также злостных нарушителей Положения о паспортах, Наркомвнудел и Прокуратура Союза СССР 10 января 1935 г. дали распоряжение об образовании на местах специальных троек для разрешения дел указанной категории. Это мероприятие диктовалось тем, что число задержанных лиц по указанным делам было очень значительным, и рассмотрение этих дел в Москве в Особом Совещании приводило к чрезмерной затяжке рассмотрения этих дел и к перегрузке мест предварительного заключения».
Впрочем, к этому времени, судя по «паспортной» версии «Медвежонка», судьба героя баллады была уже решена. Ведь в этом варианте при повторном ограблении преступников берут не в пивной, всё более драматично:
Помню, подъехали к зданью знакомому,
Только совсем не к тому;
Шли в этом доме не раз ограбления,
Знало о том ГПУ.
Сразу раздалося несколько выстрелов,
Раненный в грудь, я упал
И на последнем своём преступлении
Карьеру вора потерял.
Поскольку в тексте упомянуто ГПУ, время действия этой версии песни — не позднее 1934 года, поскольку в 1934 году Объединённое государственное политическое управление при СНК СССР вошло в состав НКВД СССР как Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). Так что к моменту появления «паспортных троек» в 1935 году наш медвежатник либо уже получил срок, либо «пошёл на луну»…
А к 1937 году эпопея с паспортизацией успешно завершилась. НКВД докладывал в Совнарком: «По СССР выданы паспорта населению городов, рабочих посёлков, районных центров, новостроек, мест расположения МТС, а также всех населённых пунктов в пределах 100-километровой полосы вокруг гг. Москвы, Ленинграда, 50-километровой полосы вокруг Киева и Харькова; 100-километровой Западно-Европейской, Восточной (Вост. Сибирь) и Дальне-Восточной пограничной полосы; эспланадной зоны ДВК
[32] и острова Сахалина и рабочим и служащим (с семьями) водного и железнодорожного транспорта». Тогда-то и появилось знаменитое выражение «за сто первый километр», то есть высылка неблагонадёжных беспаспортных «элементов» за пределы 100-километровой зоны, определённой для проживания обладателей «краснокожей паспортины». Впрочем, к воровской балладе это уже не имеет прямого отношения.
«Мчится карета по улице где-то…»
Раз уж мы коснулись «исторических» вариаций воровской баллады об ограблении банка, мы не можем пройти мимо её, так сказать, «адаптированной» версии. Версию эту, очень популярную, можно условно назвать по первой строке — «Помню, пришли ко мне трое товарищей». Её, к примеру, вспоминает Валерий Левятов в романе «Я отрекаюсь»:
Помню, пришли ко мне трое товарищей,
Звали на дело меня,
А ты у окошка стояла, любимая,
И не пускала меня:
«Ой, не ходите вы, ой, не ходите вы,
Вышел ведь новый закон!»
«Всё знаю, всё знаю, моя дорогая,
Что в августе он утверждён»…
Далее следует ограбление банка, а затем — арест преступников. Песня завершается тем же куплетом, с которого начиналась.
Впрочем, существуют и другие варианты. Приведу один из них, который размещён на сайте «В нашу гавань заходили корабли». Он назван «Мчится карета». Мне тоже запомнилось, что так — «Мчится карета по улице где-то» — звучал зачин в исполнении уголовных бардов, которых мне довелось слушать. Хотя на сайте начало несколько иное, да и текст довольно косноязычен:
Едет карета по улице тёмной,
В ней два легавых сидят.
Я между ними с руками связными,
В спину два дула глядят.
Помнишь, ты, милая, шла ты, строптивая,
Я ж тебя там не бросал.
Годы промчались, и мы повстречались,
Я тебя милой назвал.
Ты полюбила за нежные ласки,
За кличку мою «Уркаган»,
Ты полюбила за крупные деньги,
За то, что водил в ресторан.
Моя дорогая… Моя дорогая,
Ты помнишь, как вместе с тобой
Мы целовались и обнимались,
И я восхищался тобой?
Помню, подъехали трое на санях
И звали на дело меня.
А ты у окошка стояла и плакала,
И не пускала меня.
Ты говорила мне, что очень строгий
Войдёт в силу новый закон.
Я это знал, но тебе не сказал, что
Он в августе был утвержден.
Тебя не послушал, зашёл в свою комнату,
Взял из комода наган.
Слегка улыбнулся и в путь устремился,
Лишь взгляд твой меня провожал.
Помню, подъехали к зданью огромному,
Встали и тихо пошли,
А кони с подельником с места сорвались
И затаились в ночи.
Помню, зашли в это зданье огромное —
Кругом стоят сейфы, шкафы.
Деньги советские, марки немецкие
Смотрят на нас с высоты.
Помню, досталась мне сумма огромная —
Ровно сто тысяч рублей.
И нас, медвежатников, ВОХРа из МУРа
Всех повязала во тьме.
Едет карета по улице тёмной,
В ней два легавых сидят.
Я между ними с руками связными,
В спину два дула глядят.
Все эти переделки старой воровской песни объединяет опять-таки точная привязка ко времени действия: указание на некий «строгий закон», утверждённый в августе. Совершенно очевидно, что речь идёт о знаменитом постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». В народе его именовали «указ семь восьмых», «указ семь-восемь» (седьмое число восьмого месяца), «закон о колосках» (часто с уточнением — о двух, трёх, пяти колосках).
Постановление от 7 августа было принято по инициативе Сталина. Вождь писал Кагановичу и Молотову 20 июля 1932 года:
«За последнее время участились, во-первых, хищения грузов на желдортранспорте (расхищают на десятки млн руб.), во-вторых, хищения кооперативного и колхозного имущества. Хищения организуются главным образом кулаками (раскулаченными) и другими антиобщественными элементами, старающимися расшатать наш новый строй. По закону эти господа рассматриваются как обычные воры, получают два-три года тюрьмы (формально!), а на деле через 6–8 месяцев амнистируются. Подобный режим в отношении этих господ, который нельзя назвать социалистическим, только поощряет их по сути дела настоящую контрреволюционную “работу”. Терпеть дальше такое положение немыслимо. Предлагаю издать закон… который бы:
а) приравнивал по своему значению железнодорожные грузы, колхозное имущество и кооперативное имущество — к имуществу государственному;
б) карал за расхищение (воровство) имущества указанных категорий минимум десятью годами заключения, а как правило — смертной казнью;
в) отменил применение амнистии к преступникам таких “профессий”.
Без этих (и подобных им) драконовских социалистических мер невозможно установить новую общественную дисциплину, а без такой дисциплины — невозможно отстоять и укрепить наш новый строй».
Постановление от 7 августа 1932 года предусматривало за хищение колхозного и кооперативного имущества и грузов на железнодорожном и водном транспорте — расстрел с конфискацией имущества, который при смягчающих обстоятельствах заменялся лишением свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества. Осуждённые не подлежали амнистии.
На самом деле ответственность ужесточалась не столько для того, чтобы сбить уровень преступности в целом, сколько для стабилизации положения в сельском хозяйстве. Ведь последствием коллективизации стал чудовищный голод 1932–1933 гг., который наступил в результате принудительных сталинских хлебозаготовок. Из закромов выгребалось даже зерно, предназначенное для сева. Валовой сбор зерна резко сократился, урожайность зерновых упала почти в полтора раза. Политика по принудительному обобществлению скота привела к тому, что единоличники и колхозники массово бросились забивать живность. С осени 1931 года убыль происходила в основном за счёт колхозных и совхозных стад.
Драконовские меры, которые вводились «указом семь-восемь», были направлены прежде всего против колхозного крестьянства. Сокрытие зерна, забои скота в коллективных хозяйствах расценивались как «хищение кооперативной и колхозной собственности». Не зря постановление назвали «закон о колосках»: на первых порах крестьян хватали и осуждали даже за то, что они после сбора зерновых подбирали оставшиеся на поле колоски. Анализ большинства дел, возбуждённых по «закону семь-восемь», показывает, что среди осуждённых преобладали крестьяне, причём в основном колхозники.
Однако сказанное выше не значит, что постановление не коснулось профессионального уголовного мира. Разумеется, коснулось. По «указу семь восьмых» сажали и железнодорожных воров, и магазинных, и «медвежатников», и прочих уркаганов, которые покушались на государственную, колхозную и кооперативную собственность. Но всё дело в том, что блатным не было смысла особо возбуждаться. То есть поначалу, разумеется, постановление нагнало на них жути: ну как же, за кражу — «вышка»! Однако тревога оказалась, мягко говоря, ложной.
Уже постановление Президиума ЦИК от 27 марта 1933 года смягчает санкции и требует не привлекать к суду по «закону о колосках» «лиц, виновных в мелких единичных кражах общественной собственности, или трудящихся, совершивших кражи из нужды, по несознательности и при наличии других смягчающих обстоятельств». А 11 декабря 1935 года Прокурор СССР Андрей Вышинский обратился в ЦК, СНК и ЦИК с предложением о пересмотре дел осуждённых по постановлению от 7 августа. Верховный суд, Генпрокуратура и НКВД СССР проверили правильность применения постановления в отношении всех лиц, осуждённых до 1 января 1935 года. Было рассмотрено более 115 тысяч дел, более чем в 91 тысяче случаев применение закона от 7 августа признано неправильным, на этом основании свободу получили 37 425 человек, ещё находившихся в заключении.
Впрочем, профессиональные преступники, судя по всему, вряд ли удостоились такой чести. Зато для них важнее другое: на практике по «закону о колосках» мало кому давали десять лет. Это совершенно очевидно: на 1 января 1939 года в лагерях НКВД находилось всего 27 313 лиц, осуждённых по постановлению от 7 августа 1932 года. Даже если предположить, что все они осуждены именно в 1932 году (что само по себе нелепо, ибо многие получили срок и позже), получается совсем незначительное число. При этом следует учесть, что «червонец» давали тем, кому «вышку» заменяли лишением свободы. А это происходило в подавляющем большинстве случаев. Так что вынесение смертных приговоров носило скорее пропагандистский характер.
То есть мы видим, что «суровый закон» на деле оказался не таким уж суровым. Для уркаганов куда страшнее была статья 35 УК РСФСР, вступившая в действие 20 мая 1930 года, то есть двумя годами ранее «указа семь-восемь». Она предусматривала «удаление из пределов отдельной местности с обязательным поселением в других местностях… в отношении тех осуждённых, оставление которых в данной местности признаётся судом общественно опасным». Такое удаление было связано с исправительно-трудовыми работами и назначалось на срок от трёх до десяти лет.
Статья 35 применялась вкупе со статьёй 7 УК РСФСР (или, как говорили в уголовном мире, «через 7-ю»). А статья 7 гласила, что меры социальной защиты судебно-исправительного характера применяются «в отношении лиц, совершивших общественно опасные действия или представляющих опасность по своей связи с преступной средой или по своей прошлой деятельности». То есть запросто можно было влепить десять лет любому человеку — даже не совершившему никакого преступления. Просто подозреваемому в связях с преступной средой или «представляющему опасность по своей прошлой деятельности». А уж реальному преступнику сам Бог велел «повесить червонец на уши». Таких людей называли «тридцатипятниками» (по нумерации статьи) и отправляли этапами на великие стройки социализма под охраной конвоя.
По сравнению с 35-й статьёй «указ семь восьмых», можно сказать, карал «с особой нежностью». И всё же поначалу народец уголовный был напуган перспективой расстрелов за свои «весёлые дела». Что и отразила адаптированная переделка «Медвежонка».
Однако «адаптация оригинала» на этом не закончилась. Выше мы видели, что неизвестные авторы хорошо поработали над «Ограблением Азовского банка». Они перенесли любовную линию из завершающей части баллады в её начало. Возможно, это была даже попытка совместить батумское «чудо земной красоты» и милую, которая плачет у окошка. На что намекают строки
Годы промчались, и мы повстречались,
Я тебя милой назвал.
Далее следует перечисление радостей жизни: нежные ласки, крупные деньги, ресторан — то же самое, что было в Батуме. Но с переносом любовной истории в зачин и основное внимание переносится на личные отношения персонажей, а ограбление следует уже потом, как развязка.
И всё же в этом варианте ограбление хотя бы присутствует! Пусть даже с какими-то нелепыми «немецкими марками»… Это уже — причуды фантазии авторов. В некоторых вариантах, скажем, встречаются и немецкие свёрла наряду со свёрлами английскими. Не в этом суть. А суть в том, что постепенно последующие поколения дворовых сочинителей — видимо, достаточно далёкие от мира профессиональных уголовников — вообще вытравили всякое упоминание о взломе банковского сейфа. И вот сегодня популярность обрела совсем уже куцая версия воровской баллады, не имеющая к оригиналу почти никакого отношения. Она звучит, например, в исполнении Виктора Петлюры и ряда других представителей «русского шансона». Этот вариант можно условно назвать «Помнишь, курносая…»:
Помнишь, курносая, бегали босые,
Мякиш кроша голубям?
Годы промчались, и мы повстречались,
Любимой назвал я тебя.
Ты полюбила меня не за денежки,
Что я тебе добывал.
Ты полюбила меня не за это,
Что кличка моя уркаган.
Помню, зашли ко мне двое товарищей,
Звали на дело, маня.
Ты у окошка стояла и плакала
И не пускала меня.
«Знаешь, любимый, теперь очень строго.
Слышал про новый закон?»
«Знаю, всё знаю, моя дорогая, —
Он в августе был утверждён».
Я не послушал тебя, дорогая, —
Взял из комода наган.
Вышли на улицу трое товарищей —
Смерть поджидала нас там.
Помнишь, курносая, бегали босые,
Мякиш кроша голубям?
Годы промчались, и мы повстречались,
Любимой назвал я тебя.
Всё это напоминает игру в испорченный телефон. Но что поделать: оригинальная воровская баллада уходит в историю, где ей, собственно, и место. Жаль только, что её место занимают убогие поделки про «курносых»…
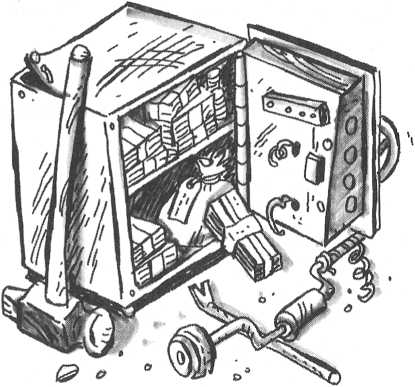
Как под шум амурской волны автора блатного фокстрота назначили лагерным охранником
«Алёша, ша!»



Как-то раз по Ланжерону я гулял,
Только порубав на полный ход;
[33]Вдруг ко мне подходят мусора:
[34]«Заплатите, гражданин, за счёт!»
Алёша, ша —
Бери на полтона ниже,
Брось арапа заправлять — эх-ма!
Не подсаживайся ближе,
Брось Одессу-маму вспоминать!
Вот так попал я на кичу
[35]И здесь теперь салаг учу:
«Сначала научитесь воровать,
А после начинайте напевать» —
А как ведут гулять во двор —
С метлою там гуляет старый вор.
И генерал здесь есть, и старый поп —
Ему как раз сегодня дали в лоб.
А если вы посмотрите в углу,
Там курочку пихают на полу
[36].
А уркаганы — наркоманы, как один,
А вот однажды генерал
Перед шпаной такую речь держал:
«Я ж вас передушу всех, как мышей!»
В ответ он слышит голос кармашей:
[39]
«А генерал, чик-чик-чирик,
Бери на полтона ниже,
Брось арапа заправлять — эх-ма!
Не подсаживайся ближе,
Брось Одессу-маму вспоминать!»
А как-то поп с кадилою ходил,
Ширмачам такое говорил:
«Вам хочу я дать один совет…»
А ширмачи поют ему в ответ:
«Святоша, ша!
Бери на полтона ниже,
Брось арапа заправлять — эх-ма!
Не подсаживайся ближе,
Брось Одессу-маму вспоминать!»
Душа скорбит, а ноги пляшут: полёт в «Дирижабле» Макса Кюсса
«Алёша, ша!» считается классическим образцом одесской блатной песни. История её по сегодняшний день является, пожалуй, одной из самых таинственных, удивительных, романтических, трагических и печальных по сравнению со всеми остальными образцами уличного и уголовно-арестантского песенного творчества.
Обычно у песен существуют два автора: композитор и поэт (оставим в стороне бардов и часть исполнителей «русского шансона», которые выступают одновременно в обеих ипостасях). «Алёша, ша!» — не исключение. К сожалению, имя стихотворца уркаганского текста «Алёши» пока остаётся для исследователей загадкой. Зато с композитором всё куда проще. Здесь никакой тайны нет. Посему с композитора и начнём.
Звали его Макс Авельевич Кюсс. Некоторые исследователи пишут, что он происходил из «литваков» (литовских евреев, которые исповедовали одно из течений в иудаизме). Однако на самом деле Кюсс был прибалтийским немцем, лютеранином и отношения к иудаизму не имел. Лишь в конце жизни, когда гитлеровская Германия напала на СССР, он отказался от своей национальности, посчитав, что немецкая нация покрыла себя позором, и назвался евреем.
Увы, биография маэстро полна лакун, белых пятен, неясных обстоятельств. Согласно послужному списку 1911 года, подписанному Кюссом, он родился в литовском Щавельске (Шауляе) в семье мещан 5 марта 1877 года (в советское время композитор годом рождения назовёт 1874-й, местом рождения — Одессу, а отца «переквалифицирует» в рабочего).
Еще в школе у Макса проявились незаурядные музыкальные способности. Мальчик брал уроки игры на скрипке у частного преподавателя. Через некоторое время Макс Кюсс стал воспитанником военного духового оркестра. Некие меценаты-меломаны дали юному Кюссу рекомендацию в Одесское музыкальное училище, куда он был принят на дирижерское отделение. Но окончить учебу не удалось, пришлось зарабатывать на жизнь игрой в частных оркестрах на свадьбах и других торжествах, помогать семье (по другим источникам, к этому времени Кюсс уже был сиротой).
Впрочем, музыкант самостоятельно освоил игру на кларнете, стал дирижировать, увлёкся композицией. В 1896 году вышло в свет его первое произведение — вальс «Грёзы любви». В 1898-м Кюсс становится дирижером собственного оркестра и женится на Перле Эрлихман — дочери одесского антиквара.
Увы, семейная жизнь музыканта не задалась, хотя тесть материально поддерживал дочь и зятя, а семейство через некоторое время пополнилось сыном и дочерью. Однако Кюсс коммерцией заниматься не желал, а его новая родня категорически выступала против его занятий музыкой. Жизнь Макса состояла из постоянных семейных ссор, упрёков, оскорблений.
Освобождение от этих мучений композитор находит в военной службе. 1 мая 1907 года Кюсс определён в 11-й Восточно-Сибирский стрелковый Её Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк вольнонаёмным капельмейстером. Он пишет для полка марш «Трудная жизнь», за что императрица пожаловала ему золотые с цепочкою часы с изображением государственного герба.
В Приморском крае Макс Кюсс создаёт одно из самых замечательных своих произведений — вальс «Амурские волны». Вокруг этой истории существует множество легенд, но все они имеют достаточно отдалённое отношение к теме нашего рассказа о блатной песне «Алёша, ша!». Поэтому постараемся выделить то, что с этим очерком действительно связано.
Судя по всему, к месту службы Кюсс перевёз и жену с детьми. Однако вдохновительницей и дальневосточной музой капельмейстера стала в новых краях совершенно другая женщина — Вера Яковлевна Кирилленко (именно так, с двойной «л»). Она была женой командира полка, в котором служил Макс Кюсс. Александр Кирилленко — герой Русско-японской войны, тогда он в чине капитана командовал ротой 26-го полка, оборонявшего водопроводный редут, получивший впоследствии название «редут Кирилленко». Всю жизнь Вера Яковлевна любила только своего мужа, это была очень красивая пара, замечательная семья.
Но Вера Кирилленко была известна во Владивостоке ещё и как активная общественница: она являлась членом правления «Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне нижним чинам и их семьям», проводила благотворительные вечера, лотереи, аукционы, средства от которых шли в помощь нуждающимся семьям, больным и раненым, пострадавшим на полях недавних сражений. Не приходится сомневаться, что Макс Кюсс был влюблён в эту замечательную женщину. Именно ей он посвятил и преподнёс удивительный вальс, созданный, по разным сведениям, с 1907 по 1910 год. Первое название этому произведению дала сама Вера Яковлевна — «Залива Амурского волны».
Вера Кирилленко взяла на себя заботы по изданию нот. Матрицу заказали в Петербурге: у полковой типографии такой возможности не было. Кюсс хотел, чтобы на титульном листе была напечатана фотография любимой женщины. Вера Яковлевна согласилась на профильное изображение. Рядом с фотографией было крупно набрано: «Посвящается Вере Яковлевне Кирилленко». Чуть выше — «Колоссальный успех!!!» с тремя восклицательными знаками. А название вальса в типографии кто-то отредактировал — просто «Амурские волны».
Успех действительно превзошёл все ожидания. Вальс исполняли на светских приемах, разучивали, переписывая ноты от руки. Однако общего восторга не разделял полковник Кирилленко. Он посчитал посвящение жене и её фото на изданных нотах оскорбительным для себя. Второе издание вышло уже без фотографии Веры Яковлевны: её профиль заменило изображение Амурского залива. Судя по всему, история не обошлась без объяснения командира полка и музыканта. Известно одно: Макс Авельевич покидает полк «по собственному желанию» и с 1 января 1911 года переводится на остров Русский в должности капельмейстера 33-го Сибирского стрелкового полка. Соответственно настроению Кюсса произведения, написанные после «Амурских волн» на Дальнем Востоке, полны уныния и меланхолии — «Скорбь души», «Разбитая жизнь»…
Правда, один из исследователей творчества Макса Кюсса под ником pradedushka сообщает: «Пожалуй, только танец “Дирижабль”, написанный в 1911 году, в последний год пребывания Макса Кюсса на Дальнем Востоке, и посвящённый другу Эрасту Цорну, выбивался из общего печального, если не сказать, трагического настроя композитора своим темпераментом и весёлым озорным ритмом. Этот танец считался салонным и был в те годы невероятно моден. Ему специально обучались в танцклассах. А на титульном листе нот, где изображен парящий дирижабль, есть пометка: “танец исполняется лёгкими грациозными прыжками!”»
Однако «прадедушку» придётся разочаровать. Действительно, ноты «новейшего салонного танца» отпечатаны во Владивостоке — правда, без указания года. И всё же некоторые исследователи справедливо указывают на то, что «Амурские волны» имеют пометку «Оп. 12», а «Дирижабль» — «Оп. 9». То есть «Дирижабль» создан раньше вальса, их разделяют минимум два произведения (одно из них — полковой марш «Трудная жизнь»). Понятно, что в период тяжёлых душевных переживаний Кюсс салонных танцев с приплясом не сочинял. А когда же?
Определить не так сложно. Достаточно установить, кто таков Эраст Густавович Цорн, которому посвящён «Дирижабль». Человек этот был хорошо знаком всей Одессе. С 1839 года здесь действовала знаменитая танцевальная школа Альберта Цорна и его сына Александра. Правда, Густав Цорн не продолжил семейную традицию, став одним из учредителей Одесского строительного общества, а заодно серьёзно увлекшись теософией. Зато его сын Эраст в 1898 году открыл собственную танцевальную школу. Вот ему-то и посвятил «салонный танец» Макс Кюсс!
Произошло это, судя по всему, ещё до отъезда на Дальний Восток. Возможно, даже в то время, когда композитор подрабатывал на одесских свадьбах и танцах. Во всяком случае, большого значения этому произведению автор не придавал, чем и воспользовался некий дальневосточный прощелыга П. М. Клочков, который с согласия Кюсса отпечатал ноты «Дирижабля», приставил непонятно с какого перепугу своё имя выше имени композитора, а все авторские права оставил за собой, любимым! Хотя он-то каким боком к «опусу 9» относится? Музыку сочинил Кюсс (что пропечатано на обложке), текст отсутствует…
Читатель вправе спросить: зачем мы отвлекаемся на подробности, далёкие от фокстрота «Алёша, ша!»? Ну, не так они далеки… По крайней мере, ясно, что Кюсс не чурался весёлой, шуточной музыки. Просто выбор жанра диктовался обстоятельствами.
Но продолжим следить за биографией Кюсса. Через год после перевода на остров Русский композитор решает бросить службу и вернуться с семьёй в Одессу. С началом Первой мировой войны он находится на Юго-Западном фронте в 5-й Донской казачьей дивизии, а затем, после Февральской революции, служит капельмейстером Отдельного батальона Георгиевских кавалеров. Георгиевские пехотные запасные полки (по одному на каждый фронт) были созданы в Пскове, Минске, Киеве и Одессе 12 августа 1917 года приказом № 800 Верховного главнокомандующего Лавра Георгиевича Корнилова. Так что Октябрьский переворот и последующая Гражданская война застали Кюсса в Одессе.
Вот тут мы наконец добираемся и до «Алёши»…
Как звезда кино привела композитора под красную звезду
Как уже отмечалось, в биографии Макса Кюсса достаточно белых пятен. И одно из них — период с 1917 по 1919 год. Исследователи вскользь упоминают, что в разгар революционных событий Кюсс продолжает служить по своей профессии: «ведь военные дирижеры всегда в чести, в мирное и военное время и при любой власти». Однако на самом деле в Одессе Макс Авельевич уже не состоял на должности военного капельмейстера. По обрывочным данным, он предпочёл работу в Одесском театре оперы и балета. В городе с 1917 по 1920 год власть менялась калейдоскопически (по разным оценкам, от 14 до 19 раз), но в 1918 году от большевистской власти и её террора сюда бежали многие — Иван Бунин, Надежда Тэффи, Аркадий Аверченко, Алексей Толстой… В июне (по некоторым источникам — в апреле) появляется и звезда русского немого кино Вера Холодная: она прибыла из Москвы в составе экспедиции киноателье Дмитрия Харитонова — доснимать «Живой труп» Льва Толстого. Актриса работала и на эстраде, на ее выступления приходили даже легендарные бандиты Григорий Котовский и Михаил Винницкий (Мишка Япончик). Макс Кюсс знакомится с актрисой и увлекается ею, как когда-то увлёкся другой Верой, с которой расстался во Владивостоке… Впрочем, и на этот раз речь шла лишь о платоническом увлечении: Вера Васильевна горячо любила своего мужа — Владимира Холодного, который, увы, с младшей дочерью остался в Москве, поскольку едва оправился от тяжёлого ранения. Но Вера взяла с собою мать, сестру Соню и старшую дочь Женю (затем к ним присоединилась третья сестра Холодной — Надежда).
В белой Одессе возникло замечательное заведение — Дом артиста. Оно заняло здание бывшего кинотеатра в Колодезном переулке. Первый этаж был отдан под бар знаменитого исполнителя песен и цыганских романсов Юрия Морфесси, второй — под кабаре со столиками, с развлекательной программой; третий этаж — казино и карточный клуб. В кабаре царила Иза Кремер — «исполнительница интимных песенок», в которых, как остроумно заметил один из исследователей, сочеталось немного экзотики, немного эротики и немного любования роскошной жизнью. Здесь же выступали сам Морфесси, Александр Вертинский и другие артисты, в том числе Леонид Утёсов. О нём в связи с фокстротом Макса Кюсса есть смысл поговорить особо. Вот что вспоминал сам Леонид Осипович:
«В Доме артиста я был, что называется, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Играл маленькие пьесы, пел песенки… В этой программе были не только те обычные жанры, в которых я себя уже не раз пробовал, но и новые. Я придумал комический хор. Позже я узнал, что такие хоры уже были. Но свой я придумал сам… в отношении музыки мой хор абсолютно ни на кого не был похож. Хористами в нём были босяки, опустившиеся интеллигенты, разного рода неудачники, выброшенные за борт жизни, но не потерявшие оптимизма и чувства юмора. Одеты они были кто во что горазд и представляли из себя весьма живописную компанию. Такие на улицах в то время попадались на каждом шагу. Под стать им был и дирижёр, этакий охотнорядец с моноклем. Дирижировал он своим оригинальным хором так вдохновенно и самозабвенно, что манжеты слетали у него с рук и летели в зрительный зал. Тогда он, обращаясь к тому, на чьем столе или рядом с чьим столом оказывалась манжета, в высшей степени деликатно говорил:
— Подай бельё.
Исполнителями в этом хоре были многие известные тогда и интересные артисты.
Репертуар у нас был разнообразный. Но одним из самых популярных номеров была фантазия на запетую в то время песенку:
Ах, мама, мама, шо мы будем делать,
Когда настанут зимни холода?
У тебя нет тёплого платочка,
У меня нет зимнего пальта».
Вы спросите: при чём тут «Алёша, ша»? Обратимся к статье Л. Левина о блатной песне в энциклопедии «Эстрада в России. XX век», где автор утверждает: песня «Алёша, ша!» обрела популярность в начале 20-х годов прошлого века с лёгкой руки питерского комического «Квартета южных песен» Н. Эфрон. Заметим по ходу дела, что фамилия известной певицы и актрисы пишется несколько иначе — Наталья Григорьевна Ефрон. А уж насчёт столь припозднившейся популярности «Алёши» товарищ энциклопедист и вовсе «загрубил».
Существует и другое мнение. В исследовании «Русская советская эстрада. 1917–1929» Е. Д. Уварова пишет: «“Квартет южных песен” заимствовал шлягеры “Мама, мама” и “Алёша, ша!” у комического “Хора братьев Зайцевых”». Это как раз тот самый хор, о котором рассказывал Леонид Утёсов в своих воспоминаниях — и даже, как мы помним, приводил припев песенки «Одесситка», текст которой создал знаменитый куплетист-эксцентрик Лев Маркович Зингерталь. Если принять версию о том, что «Алёша, ша!», созданный Кюссом как «чистый» фокстрот, быстро превратился в песенные куплеты, которые обрели популярность одновременно с «Одесситкой» Зингерталя, можно достаточно уверенно утверждать, что произошло это летом или в начале осени 1918 года. Свой фокстрот Макс Кюсс сочинил как шаловливо-игривый опус, по настроению близкий «Дирижаблю» (что в целом несвойственно манере композитора). Для подобного мажорно-иронического настроя подходит именно отмеченный нами период. Учтём также, что музыка должна была завоевать признание, затем на неё кладутся эстрадные куплеты (чрезвычайно востребованный в то время жанр). Куплетам тоже необходимо некоторое время, чтобы закрепиться в памяти публики.
А уже в начале апреля 1919 года город занимают красные. Чуть раньше, 16 февраля, в Одессе после екатеринославских гастролей скоропостижно умирает от «испанки» 25-летняя Вера Холодная. Макс Авельевич тяжело переживал эту трагедию и откликнулся на неё печальным вальсом «Королева экрана». То есть Кюссу явно было не до сочинения легкомысленных фокстротов.
Более того: с приходом большевиков Макс Кюсс принимает серьёзное и, казалось бы, неожиданное решение. Он вдруг… добровольно вступает в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии — капельмейстером оркестра 416-го стрелкового Черноморского полка! Почему это решение мы назвали неожиданным? Ну как же… Ведь в белой Одессе Кюсс уходит с военной службы и предпочитает оперный театр. Примем во внимание и то, что Макс Авельевич был абсолютно аполитичным человеком. Особой симпатии к большевикам он не испытывал. Вот выдержка из его поздней служебной аттестации
(когда Кюсс уже служил командиром музыкального взвода 1-го конвойного полка): «Тов. Кюсс с большими музыкальными познаниями, своё дело любит и знает хорошо. Оркестр поставить может. В знании музыкального дела к подчинённым требователен. Как администратор слаб… не твёрд в требованиях, касающихся внутреннего распорядка. Политически отсталый и в этом отношении работает над собой недостаточно…»
Так почему же этот политически отсталый человек сделал столь ответственный шаг? А вот тут, думается мне, сыграла решающую роль как раз любовь и страсть. Имя этой страсти — Вера Холодная. Да, да, та самая звезда немого кино, роковая красавица, которой Александр Вертинский посвятил романс «Ваши пальцы пахнут ладаном» и которая к моменту выбора Кюссом своей революционной судьбы уже покоилась в могиле. На самом деле мы можем лишь предположить связь смерти Веры Холодной и последующего решения Макса Кюсса. Никаких прямых доказательств этого не существует. Есть лишь косвенные аргументы.
Семейная жизнь Кюсса с самого начала не заладилась: не только потому, что жена была значительно старше него, но и потому, что между супругами не было ничего общего, они оказались разными людьми. И Макс Авельевич искал выхода своим нерастраченным чувствам как в музыке, так и в платонической, но яркой страсти к необычным, красивым, удивительным женщинам. По странной, а возможно, мистической случайности, обеих звали Верами — Вера Кирилленко и Вера Холодная…
В случае с «Амурскими волнами» и посвящением вальса чужой жене Кюсс вёл себя, как мы помним, демонстративно, неосмотрительно и в некотором роде даже вызывающе, что едва не привело к публичному скандалу и вынудило композитора в конце концов покинуть Приморский край. В Одессе всё оказалось ещё более драматичным и трагичным.
Дело в том, что после скоропостижной смерти Веры Холодной мгновенно разнеслись слухи о том, что звезда немого кино была связана с красным подпольем, за что её отравила деникинская контрразведка. По мнению многих исследователей, слухи эти небезосновательны. Официальное заключение звучит довольно странно, учитывая то, что последний описанный в газетах случай смерти от «испанки» был зарегистрирован в Одессе в октябре 1918 года.
Согласно «конспирологической» версии, известный русский киноактёр Пётр Инсаров («Апостол») и чекист французского происхождения Жорж де Лафар завербовали в Одессе Веру Холодную и поставили перед ней задачу: войти в доверие к начальнику штаба оккупационных войск на юге России генералу Анри Фрейденбергу и добиться прекращения французской оккупации юга России. Фрейденберг имел огромное влияние на командующего союзными силами Антанты на Юге России бригадного генерала Филиппа Анри д’Ансельма.
27 января 1919 года де Лафар отправляет из Одессы в Москву, на Лубянку, сообщение, где прямо пишет о Холодной: «Дама несколько инфантильна, но отзывчива и мила, по нашему мнению, обязательна… Фрейденберг души в ней не чает, льнёт к ней, хотя держит себя в рамках приличий. Дама эта наша… Влияние её на Фрейденберга безмерно. Апостол предлагает форсировать это дело в том направлении, в котором был разговор». Последняя фраза может толковаться по-разному. Многие считают, что Холодная должна была подкупить Фрейденберга. В то же время есть и те, кто подозревает, будто бы актрисе дали задание соблазнить начальника штаба.
Косвенно влияние Холодной на Фрейденберга подтверждается тем, что генерал постоянно проводил политику, направленную против Добровольческой армии: в частности, запретил проводить её представителям мобилизацию, создавать отдельные воинские команды. Так что версия о расправе деникинцев над звездой экрана выглядит правдоподобно. Добавим сюда также донесение в ставку Главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России Антона Ивановича Деникина от тайной разведывательной организации «Азбука» 21 февраля 1919 года: «Уморили красную королеву. Л. в замешательстве» (под Л., вероятно, имелся в виду сотрудник французской контрразведки Анри де Ланжерон). На следующий день руководитель «Азбуки» Василий Шульгин послал своим подчинённым письменное распоряжение: «Обращаю внимание гг. сотрудников выбирать выражения». Впрочем, эти сообщения можно трактовать по-разному, в том числе как обычную констатацию факта. Однако вот что характерно: сразу после смерти Веры Холодной контрразведка арестовала и расстреляла почти всю одесскую подпольную большевистскую группу «Иностранная Коллегия» во главе с Жанной Лябурб.
Впрочем, взятку за прекращение интервенции союзных войск Фрейденберг мог получить вовсе не от звезды немого кино, а от де Лафара в феврале или марте 1919 года. «Сумма есть сумма», — заметил де Лафар в донесении чекистскому начальству уже после смерти Веры Холодной. Сам Лафар был арестован в конце марта — начале апреля и уничтожен. Однако эвакуация войск Антанты из Одессы 4–7 апреля 1919 года всё же состоялась, причём в панически короткие сроки. А Фрейденберг по возвращении во Францию открыл собственный банк…
Нам в этой истории важно то, что слухи об отравлении деникинской разведкой знаменитой актрисы расплескались по всей Одессе. Сразу же последовал разгром большевистского подполья, который фактически воспринимался как подтверждение этих сведений. Для Макса Кюсса это могло стать шоком. Политические воззрения Веры Холодной его абсолютно не интересовали. А вот расправа над любимой женщиной воспринималась как чудовищное преступление, оправдания которому быть не может. И композитор без колебаний переходит на сторону союзников погибшей актрисы — врагов белого движения. Во всяком случае, такое объяснение звучит вполне логично.
«Хор братьев Зайцевых» имени барона Врангеля
Но мы опять отдалились от «Алёши»… Как уже упоминалось, серьёзные исследователи связывают появление куплетов «Алёша, ша!» с одесским комическим «Хором братьев Зайцевых», который был создан в 1918 году Леонидом Утёсовым. Но любопытная деталь! Да, в утёсовских мемуарах речь идёт о «комическом хоре». Однако никакие «братья Зайцевы» в названии хора не фигурируют. Почему? Вроде бы невинно обыграны «братцы кролики» — отголосок «Сказок дядюшки Римуса» Джоэля Харриса… Что в этом криминального?
Попробуем разобраться. То, что комические куплеты на музыку Макса Кюсса впервые были исполнены именно хором Утёсова в 1918 году, вполне очевидно. Уже к началу 1919 года они на слуху не только у одесситов. Писатель Роман Гуль, участник знаменитого Ледяного похода Добровольческой армии с Дона на Кубань и назад, вообще не был в Одессе в описываемое время: по окончании похода он осенью уехал в Киев, а оттуда в начале 1919 года вместе с другими пленными Русской армии — в Германию. В автобиографическом романе «Конь рыжий» Гуль вспоминает:
«Теперь в Гарце, в клаустальской “Гостинице Павлиньего озера” богатырь старался только забыться, залить всё алкоголем; и когда в бараке ночью с хохотом гремел какие-то песни о “денатурке”, все знали, стало быть, у Жигулина кончился коньяк и дымящийся, нетвёрдый, он веселится, хлеща с Червонцовым денатурат с плавающими в нем для вкусу перчинками.
“Алёша, ша! Возьми полтоном ниже!” — отвечает ему высоким фальцетом спившийся военный чиновник из Тулы Червонцев».
То есть известность «Алёши» как минимум по всей Украине среди самой разной публики неоспорима. Есть и более поздние свидетельства популярности «Алёши» — на сей раз среди эмигрантов, бежавших в 1920 году из Одессы в Турцию. Для справки: после бегства Антанты и взятия города в апреле 1919 года красными Добровольческая армия отбила Одессу уже 23 августа. Но 6 февраля 1920 года советская власть здесь победила окончательно, а Врангель с армией и толпами обывателей погрузились на корабли и направились к турецким берегам. У Ивана Соколова-Микитова в цикле рассказов «На сорочьем хвосте: Письма с моря» (1921) читаем:
«Никогда ещё не достигал таких размеров открытый разврат в Константинополе, ещё и в прежнее время славившемся международным рынком женского тела. Галата переполнена публичными домами, а публичные дома переполнены проститутками, из которых по крайней мере три четверти вывезены из России. Язык Тартуша — русский. На каждом шагу русские кабаки и пивнушки, в которых русские гармонисты наяривают всероссийское “яблочко” и особенно — модного в последние дни, вывезенного из Одессы “Алёшу”:
Алёша, ша!
Возьми полтоном ниже!
Ай-ай! Брось арапа запускать.
Не подсаживайся ближе!
Ай-ай! Брось Одессу-маму вспоминать!»
А «исторический романист русской эмиграции» Иван Лукаш в очерках жизни эвакуированных врангелевцев «Голое поле» (София, 1922) вспоминает, как «Мама, мама, что мы будем делать» пели на причале в турецком Галлиполи белые юнкера в 1920 году, чтобы согреться.
Во время пребывания армии Врангеля в Турции спонтанно возникали любительские театры:
«Отдельные исполнители, певцы и музыканты, находившиеся в рядах Армии, устраивались в кафе и ресторанах, выступая на эстраде с сольными номерами типа кабаре. Репертуар их носил совершенно случайный характер — от песенок Вертинского, цыганских романсов и куплетов до Чайковского и Грига…
В Марковском полку… составилась маленькая труппа кабаретного характера, выступавшая у себя в офицерском собрании. В полку случайно нашлось два-три опереточных артиста, и первым явился пресловутый “хор братьев Зайцевых”, а вслед за ним последовал целый ряд других шаржей и инсценировок, не требовавших сложных условий для постановки. Эта маленькая труппа стала ядром, из которого развилась затем большая труппа полка, свыше 20 человек… На первый план выдвигалось развлечение, и постановки ограничивались небольшими инсценировками, злободневными куплетами, частушками, водевилями и т. д.»
Так вот оно в чём дело! Оказывается, пресловутый «хор братьев Зайцевых» вовсе не канул в лету, а был воссоздан уже силами белогвардейских эмигрантов и пользовался большой популярностью. Чтобы у вас не оставалось никаких сомнений в том, что речь идёт именно о том, что прообразом комического хора Марковского пехотного полка стал именно утёсовский, приведём ещё одну цитату: «Турецкие мальчики, играя в солдатики, подают команды по-русски и, маршируя, лихо поют: “Мама, мама, что мы будем делать…”»
И это не всё. В воспоминаниях, которые относятся уже к жизни русской эмиграции в Германии 1920–1921 годов, дело заходит ещё дальше: «Театр миниатюр “Шалаш” располагался в помещении одного из ресторанов… Позднее на месте “Шалаша”… открылись “Дом артиста” и театр-кабаре, первые спектакли которого прошли с большим успехом; особой популярностью пользовался “Хор братьев Зайцевых”».
Понятно, что Леониду Осиповичу было совсем не с руки лишний раз напоминать о подобном «родстве» своего комического хора с эмигрантской белогвардейщиной.
Лешко Попелюш и Мишка Япончик
Кстати, пока мы совершенно не касались первоначальных куплетов «Алёша, ша!», которые исполнял Утёсов с комическим хором — за исключением разве что припева (см. у Соколова-Микитова). Ясно только, что они уж точно имеют мало общего с тем нынешним каноническим уркаганским текстом, который приведён в начале нашего очерка.
Вот и начнём именно с припева. Почему в нём звучит именно «Алёша», а не любое другое мужское имя? Возможно, оно выбрано произвольно или потому, что окончание так чудесно стыкуется с последующим одесским «ша»? Но таких имён немало — Аркаша, Петруша, Витюша… Но безвестный автор остановился именно на Алёше. И не случайно. Потому что именно имя Алёша (Алёха) в русском языке и фольклоре имело пренебрежительно-иронический оттенок. О чём свидетельствует, например, «Толковый словарь» Даля: «Алёха, Алёша — лгун, хвастун, бахвал, как Иванушка-простачок, Емеля-дурачок, Кузька-плут, Наум-разумник и пр. Алёшки подпускать — шутить, хвастать, лгать».
Краснодарский филолог Вероника Катермина в своей работе «Лингвокультурный потенциал личных имён собственных» тоже перечисляет целый ряд русских имён с «отрицательными, осуждаемыми качествами»: Макар — плут, Мишка — пьяница, Егор — выпивоха-проходимец, Ванька — простодушный, недалекий человек, Филя — простак… В этом ряду Алёша-Алёха занимает особо выдающееся место. Появляются даже словосочетания Алёша Сельский — хвастливый человек (с пометой — «экспрессивное») и Алёша Бесконвойный — странный человек.
Следует уточнить последнее определение. Так, в рассказе Василия Шукшина «Алёша Бесконвойный» автор так характеризует главного героя: «Его звали-то не Алёша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алёшей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость». По-простому, по-народному можно сказать — раздолбай.
В основном же насчёт лгуна и бахвала — в самую точку. Но вот вопрос: отчего к Алёше прилепилась такая нелестная слава? Ведь исконно имя «Алексей» происходит от древнегреческого «алекс» и означает: «защитник, помощник». И сразу приходит на память Алёша Попович — самый молодой из трёх известных русских богатырей. Но тогда уж заодно припомним, что в его характере авторы былин отмечали вспыльчивость и хвастовство вкупе с хитростью и коварством. Врагов Алёша побеждал часто с помощью разнообразных уловок: то прикинется тугоухим и вынудит противника подойти поближе, то отвлечёт его, заставит обернуться назад, и в этот момент — хлоп его по башке! Бывало, былинный герой представал перед слушателем-читателем и в смешном виде. Так с чего вдруг сказители наградили Алёшу Поповича такой несерьёзностью, балабольством да бахвальством?
Ну, во-первых, известный филолог Владимир Пропп не видел в Алёше ничего отрицательного; напротив, считал его ярким выразителем исконно русского нрава, а хвастовство и задиристость — чертами, типичными для любого молодого человека. А во-вторых, фольклорист Лев Прозоров в книге «Время русских богатырей» нашёл некий прообраз Алёши Поповича — в польском эпосе «Великая хроника». Сам эпос целиком не сохранился, однако до наших дней дошли отдельные истории из него. В частности, о том, как некий ткач из рода Попелюшей одолел самого Александра Македонского (!), однако используя при этом не физическую силу, а хитрость и подвох. В честь своего подвига ткач получил прозвище Лешко — обманщик, плут. Кстати, подтверждением этой версии служит и то, что Поповича в русских былинах кличут очень часто слегка панибратски-пренебрежительно: Алёшка — по созвучию с Лешко.
Вот таким образом гордое греческое имя Алексей приобрело в русском языке, в его диалектах насмешливый оттенок. Это характерно и для уголовного жаргона. Выражение «Алёша Бесконвойный» указывает на то, что оно родилось в местах не столь отдалённых, где бесконвойными называли каторжан, сидельцев, которым было предоставлено право передвигаться в пределах определённой территории без сопровождения конвоя. Такой льготы, естественно, добивался лишь тот, кто заслужил доверие начальства, человек безобидный, простак.
Но всё же чаще всего Алёшей, Алёхой звали бахвала и вруна. В известной блатной песне-небывальщине о том, как жулик попал в Турцию и хвастает своими «подвигами», в каждой строфе повторяется рефрен — «с Алёхой!», как бы подчёркивая степень достоверности сказанного:
В Турции дела неплохи —
Турок много, русских нет.
И скажу я вам, ребята,
— с Алёхой! —
Жил я, словно Магомет.
Много турок я пограбил,
Из карманов — Боже ж мой! —
Кошельков по триста на день
— с Алёхой! —
Доставал одной рукой.
Турки думали-гадали,
Догадаться не могли,
Собрались и всем шалманом
— с Алёхой! —
К шаху с жалобой пошли…
И так далее. Интересно, что действие происходит в Турции, а затем герой «с Алёхой» возвращаются в Россию, где неудачно совершают подкоп под магазин, оказавшись в сортире. Кто знает, может, эта песенка родилась как раз в эмигрантском Константинополе и обязана своим появлением легендарному фокстроту с куплетами «Алёша, ша!»?
Как бы то ни было, издевательски-пренебрежительное обращение «Алёша, ша!» в куплетах на мелодию фокстрота Макса Кюсса совершенно естественно и связано с русским (в том числе городским) фольклором. Ещё во времена моего детства и отрочества (1960-е годы) нередко можно было услышать: «Да ладно, алёша, чё ты гонишь?!» — в адрес мальчишки с совершенно другим именем. Кстати, презрительный оттенок у Алёши сохранился, возможно, ещё и оттого, что «алёшками» в XIX веке пренебрежительно называли лакеев. Это отмечено также в художественной литературе, в частности, у Всеволода Крестовского в «Петербургских трущобах»: «Из каких он? — Надо полагать, из алёшек».
Если же говорить непосредственно об Одессе, сохранилось свидетельство о том, что во время Гражданской войны в городе «алёшами» называли отпетых уркаганов — возможно, именно под влиянием утёсовских куплетов. Правда, относится это свидетельство к более позднему периоду — ГУЛАГу первых послевоенных лет. Драматург и киносценарист Валерий Фрид в лагерных мемуарах «58 с половиной, или Записки лагерного придурка» пишет:
«Они препирались часами, пока старый Переплётчиков не уехал домой, в Киев. Он был симпатичный дядька, весёлый. Рассказывал, как он ехал на гражданскую войну вместе с “батальоном одесских алёш” — был такой. Туда знаменитый Мишка Япончик, прототип Бени Крика, собрал все одесское жульё: они же были “социально близкие”. По словам Сашкиного отца, батальон разбежался, не доехав до фронта. Но перед этим один из “алёш” успел обворовать старого Переплётчикова (который тогда был довольно молодым Переплётчиковым)… Минна Соломоновна развеселилась, спела нам подходящую к случаю старую песенку:
Алёша, ша! Держи полтоном ниже,
Брось арапа заправлять.
Не подсаживайся ближе —
Брось Одессу вспоминать!..»
Ради справедливости отметим, что воинство Мишки Япончика, несмотря на множество дезертиров, сбежавших по пути следования, всё же добралось до станции Вапнярка и даже выбило оттуда противника внезапной атакой. Правда, очень быстро сдало позиции и бежало в Одессу, а самого Мишку на полдороге пристрелили красные. Но нас интересует не история Мишкиных боёв, а прозвище, которое получили боевые уркаганы, — «алёши». Оно говорит о том, как быстро куплетный Алёша обрёл свой криминальный флёр.
Фокстрот на службе революции
Но случилось это не сразу. Поначалу во время Гражданской войны песня «Алёша» быстро превратилась в «идеологически выдержанные» красноармейские куплеты. Так, в повести Аркадия Гайдара «Р. В. С.» (1925) один из героев, мальчишка по прозвищу Жиган, рассказывает: «Я, брат, всякие знаю. На станциях по эшелонам завсегда пел. Всё равно хоть красным, хоть петлюровцам, хоть кому… Ежели товарищам, скажем, — тогда “Алёша, ша” либо про буржуев».
Отголоски этих куплетов можно легко выделить из современного уголовного варианта «Алёши» — там, где действуют генерал и поп:
А вот однажды генерал
Перед шпаной такую речь держал:
«Я ж вас передушу всех, как мышей!»
В ответ он слышит голос кармашей:
«А генерал, чик-чик-чирик,
Бери на полтона ниже,
Брось арапа заправлять — эх-ма!
Не подсаживайся ближе,
Брось Одессу-маму вспоминать!»
А как-то поп с кадилою ходил,
Ширмачам такое говорил:
«Вам хочу я дать один совет…»
А ширмачи поют ему в ответ:
«Святоша, ша!
Бери на полтона ниже,
Брось арапа заправлять — эх-ма!
Не подсаживайся ближе,
Брось Одессу-маму вспоминать!
Кстати, любопытная деталь: в большинстве текстов «Алёши» повествование начинается… от лица женщины! Обычно так:
Как-то раз по Ланжерону я брела,
Только порубав на полный ход.
Вдруг ко мне подходят мусора:
«Заплати-ка, милая, за счёт!»
Затем действие вдруг переносится в мужскую камеру следственного изолятора или тюрьмы. Дамочка же навсегда уходит в небытие, поскольку в мужской камере ей делать нечего.
Не кажется ли вам это странным? Мне — кажется. Думаю, объяснение может быть одно: видимо, существовали не только мужские, но и женские куплеты на мотив фокстрота «Алёша, ша!», возникшие в подражание «братьям Зайцевым». Почему же один из этих женских куплетов сохранился в мужских криминальных версиях? Да исключительно потому, что в нём упомянута улица, которая прямо связывает песню с Одессой, — Ланжероновская, или Ланжерон!
Названа улица в честь графа Александра Ланжерона — преемника герцога Армана дю Плесси де Ришелье на посту градоначальника Одессы. Александр Фёдорович оставил о себе добрую память: при нём появилась первая одесская газета, был разбит ботанический сад, а в 1817 году открыт Ришельевский лицей — второй в России после Царскосельского. Именно дом графа с пушками у входа дал название Ланжероновской улице и триумфальной арке Ланжерона, открывающей дорогу на пляж — опять-таки Ланжерон. Вполне возможно, что таинственная сытая незнакомка брела как раз по пляжу.
То есть упоминание Ланжерона в начале песни — фирменный знак Одессы, указание на то, где происходит действие. Реплика «брось Одессу-маму вспоминать» таковым указанием, строго говоря, не является, поскольку вспоминать этот город можно где угодно. Заметим, что «мусоров» могут заменять фраера и даже пьяная братва — совсем уж позднее включение.
Но вот вам вариант, который исполнил в 1975 году известный актёр, певец, собиратель «низовой песни» Иван Московский:
Как-то раз на Ланжероне я баб снимал,
Только порубав на полный ход.
Вдруг ко мне подходит генерал:
«Предъяви-ка, миленький, за счет».
Понятно, почему Иван изменил женскую партию на мужскую. Но для чего ему понадобился невесть откуда возникший генерал? Он ничем здесь не оправдан, а уж его наезд на гуляющую девицу неожидан и, по сути, нелеп. Между тем у меня есть обоснованное подозрение насчёт того, что генерал забрёл в куплет неспроста, а является смутным отголоском ранних версий «Алёши». Укрепил меня в этой мысли «Музыкальный фельетон-1» — концерт Аркадия Северного, записанный в Ленинграде 14 ноября 1972 года «на память Георгию Петровичу Толмачёву».
Северный исполнил «Алёшу» с традиционным женским зачином и привычными «мусорами». Однако кто-то из публики тут же, в продолжение темы привёл другой вариант:
Как-то в Питере по Невскому брела,
Только порубав на полный ход,
Вдруг ко мне подходит старшина:
«Заплати-ка, милая, за счёт».
Скорее всего, питерские носители песни «разжаловали» генерала из ранних версий до старшины потому, что он мог ассоциироваться с милицейским старшиной. А вскоре генерал и вовсе оказался задвинут на задворки истории. К слову сказать, если вставить почтенного вояку в «женскую арию», мы убедимся, что «брела» — «генерал» замечательно рифмуются. Скорее всего, и история с претензиями этого уважаемого чина к шансонетке в куплетах была изложена более внятно. Но до нас, увы, оригинал не дошёл…
Почему мы уделили столько внимания упоминанию генерала в первом куплете? Стоит ли оно того? Думаю, стоит. Поскольку упор на генерале, а потом и на попе достаточно ясно свидетельствуют о том, что «Алёша, ша!» использовался на фронтах Гражданской войны в качестве большевистской песенной агитки. Об этом вспоминал не только Аркадий Гайдар, но и другие современники. Например, известный писатель и поэт Вадим Сергеевич Шефнер — коренной петербуржец. В повести «Счастливый неудачник» он рассказывает о первых послереволюционных годах в Питере — в частности, об Андреевском рынке:
«В той части рынка, где не было навеса, часто выступали певцы. Они пели разные новейшие чувствительные песни, а потом продавали текст, отпечатанный на машинке. Иногда они пели и то, что всем тогда было известно: “Вот поп с кадилою идёт, и он такую речь ведет: «Товарищи, я тоже за Совет», — а пролетарии ему в ответ: «Алёша-ша! Возьми полтона ниже, брось кадило раздувать! Эх, не подсаживайся ближе — Петрограда не видать!»”»
Легко убедиться, сравнив этот отрывок с куплетом из уркаганского «Алёши», что уголовники перекроили обличение попа на свой лад. То же, видимо, произошло и со злосчастным генералом. В революционных куплетах он наверняка был из белых. Но легко предположить, что водевильный генерал мог присутствовать и в более ранних одесских шансонных куплетах, где хитроумная девица поела за его счёт, но не пожелала расплатиться соответствующим образом, то есть «натурой». Во всяком случае, отголоски этой ситуации присутствуют в некоторых вариантах «Алёши».
Тут мне в самый раз повиниться перед читателем. Когда-то, комментируя текст «Алёша, ша!» в сборнике «Блатные песни» (2001), я на основании отрывка из «Счастливого неудачника» Шефнера отнёс «Алёшу» к питерскому песенному фольклору, позднее переделанному в одесский. И был, разумеется, неправ. Увы, никто не застрахован от ошибок. Но в данном случае ошибка была не случайной, поскольку революционный Питер действительно много сделал для продвижения одесского «Алёши» на широкие просторы Совдепии.
Мы уже касались особой роли в этой миссии «Квартета южных песен», который возглавляла актриса и певица Наталья Ефрон (исполнительница роли эсерки Фанни Каплан в фильме Михаила Ромма «Ленин в 1918 году»). Однако не менее популярен был в Питере шансонье и поэт Михаил Николаевич Савояров. Он работал в «рваном жанре»: выступал со сцены в костюме и гриме босяка. Огромное влияние савояровское творчество оказало на Александра Блока, который с 1915 по 1920 год десятки раз бывал на концертах знаменитого «босяка». По мнению ряда исследователей, эксцентрический стиль Савоярова сказался и на послереволюционном творчестве Блока. Например, Виктор Шкловский считал, что поэму «Двенадцать» многие поэты блоковского круга осудили и мало кто понял как раз потому, что поэт создал произведение совершенно несвойственное для себя, ломающее все стереотипные представления о «соловье Серебряного века». Шкловский подчёркивал: «“Двенадцать” — ироническая вещь. Она написана даже не частушечным стилем, она сделана “блатным” стилем. Стилем уличного куплета вроде савояровских».
Но ведь знаменитая поэма создана ещё в 1918 году, какое отношение всё это имеет к одесским куплетам про Алёшу? А вот представьте себе — имеет. Именно Михаила Савоярова многие в мемуарах называли одним из первых исполнителей куплетов «Алёша, ша!». Так, критик Соломон Волков отмечал в книге «История культуры Санкт-Петербурга», что известный российский, а затем американский балетмейстер Джордж Баланчин (тогда ещё Георгий Баланчивадзе) запомнил, как Савояров пел знаменитые куплеты «Алёша, ша, возьми полтоном ниже, брось арапа заправлять…»
И всё же не ошибёмся, если скажем, что одним из первых подхватил куплеты не Савояров — это сделали широкие народные массы. К примеру, Георгий Андреевский, изучающий повседневную жизнь Москвы в сталинскую эпоху, отмечает, что в 1920-е годы существовало множество молодёжных периодических изданий («Молодой ленинец», «Комар», «Самоучка» и пр.), «и писали в них всякие юнкоры под такими псевдонимами, как Алёша-ша, Летучий, Заковыка, Туз, Глаз…» То есть «Алёша, ша» стало к тому времени ходовым выражением.
Не прошла мимо него и художественная литература. Мы уже отмечали упоминание «Алёши» в мемуарах белых эмигрантов; сюда же можно присоединить иронический рассказ Аркадия Аверченко «Аристократ Сысой Закорюкин» (1922), где описан бал у советского сапожника: «Наконец, все гости съехались. Оркестр грянул “Алёша, ша”, и пары закружились».
Примерно в то же время поминает одесские куплеты и Михаил Булгаков, сочиняя прошение трактирщика, направленное в Н-й уездный исполком: «Прошу согласно действующим законам о разрешении открыть на площади Карла Либкнехта пивную-чайную под названием “Красный Алёша-ша”. Примечание: Разрешили ли — мне неизвестно» (фельетон «В ногу», 1924). Любопытен эпитет «красный», то есть советский. Знать, не все «Алёши» являлись таковыми…
Это подтверждает и рассказ «В бухте Отрада» (1924) Алексея Новикова-Прибоя, где подвахтенный машинист Маслобоев — герой сугубо отрицательный — весело заявляет: «Одно только знаю, что идём партизан лупить. Хо-хо, будет горячее дельце. Алёша, ша! Не пикни! Тут сила…»
В нейтральном контексте тема одесского фокстрота звучит в главе «Лёнька Пантелеев» из романа Григория Белых и Леонида Пантелеева «Республика ШКИД»: «Мальчишка курил папиросы “Зефир” и насвистывал насмешливую песенку “Алёша, ша”». Упомянуты куплеты у Юрия Смолича в романе «Восемнадцатилетние» (1938) и т. д.
Тайна «заправленных арапов»: тема карточная
То есть по крайней мере фраза «Алёша, ша!» стала, что называется, «летучей»: её использовали в значении «помолчи», «заткнись», «хватит врать, чепуху молоть». Популярностью пользовался и знаменитый припев в целом:
Алёша, ша —
Бери на полтона ниже,
Брось арапа заправлять — эх-ма!
Не подсаживайся ближе,
Брось Одессу-маму вспоминать!
Правда, как мы убедились, в Питере последнюю строку заменяли и вместо упоминания Одессы-мамы пели «Петрограда не видать». О других топонимических заменах ничего не известно. Можно предположить, что обычно всё-таки поминали Одессу или же ограничивались первыми двумя строками припева.
Обратим внимание на то, что припев этот в «тюремном» варианте текста к месту лишь после четырёх куплетов — первого, второго, а также о генерале и попе. В остальных случаях реплика с Алёшей провисает и выбивается из общей стилистики песни.
Чтобы понять это, нам придётся разобраться с жаргонным «арапом». Чаще всего в «Алёше» используется идиома «заправлять арапа», но у Соколова-Микитова мы также встречали «запускать арапа». И это не всё: в сборнике «Русский шансон» (2005) употреблено сочетание «арапа заливать». Все три идиомы по смыслу фактически одинаковы и означают: лгать, обманывать, «пудрить мозги», дурачить. При чём тут «арапы» (как называли в России темнокожих, негров, различая при этом «белых арапов», то есть арабов)? Неужто чернокожие на Руси отличались особой лживостью и изворотливостью? Тем более в нашем Отечестве к концу XIX — началу XX века (когда впервые отмечены указанные фразеологизмы) их было раз-два и обчёлся. Нет, дело вовсе не в аборигенах знойной Африки.
Выражение «заправлять арапа», равно как и жаргонный термин «арап», большинство исследователей соотносят с карточной игрой. В энциклопедии «Игорный дом» Дмитрия Лесного читаем: «Арап — (шутл.) так в начале XX века в России во время расцвета клубной карточной игры называли людей, которые, навязывая свою помощь неопытному игроку, обманывали его, используя богатый арсенал различных приёмов. Арапы считались чем-то переходным между игроками-профессионалами и шулерами…»
Известный фразеолог Мориц Ильич Михельсон в фундаментальном собрании «Русская мысль и речь» (1904) пояснял:
«Арап (иноск.) — клубный игрок, играющий без денег: выиграет, возьмет; проиграет, не платит (намёк на черные доски с именами неисправных плательщиков).
Ср. Играть на арапа — не имея денег.
Ср. Людей, являющихся в клубы играть в карты с двугривенным в кармане, называют арапами… фраза “он играет на арапа” значит — он играет, не имея денег».
То есть, по Михельсону, «арапами» таких мошенников называли из-за цвета досок, куда заносились имена должников. Замечание справедливое; однако Лесной прав, давая более расширительное толкование «арапа» не просто как должника, но как клубного мошенника. Яркий портрет такого нечистоплотного игрока даёт Александр Грин в рассказе «Карточный арап», показывая, как люди доходят до жизни такой:
«Юнг начал давать деньги в банк и на ответ другим игрокам, бойкость и опытность которых казалась ему достаточной гарантией успеха. Лица эти… не далее как в неделю лишили его трёх четвертей собственных денег. Иногда незаметно платили они за ставки больше, чем следует, а затем делились с получающим разницей. Иногда, после того как карты были уже открыты, на то табло, где сияли выигравшие очки, ловко подсовывалась крупная бумажка и за неё получалось. Иногда банкомёт, смешав, как бы не нарочно, юнговы деньги со своими, разделял их затем не без выгоды для себя и клялся, что поступил правильно. С помощью таких нехитрых приёмов, бывших обычными… карточные пройдохи привели Юнга в состояние полной растерянности и нерешительности.
Переход от воздержанности к запойной игре, а от последней к арапничеству, совершается незаметно, как всё то, где главное действующее лицо — страсть. Окончательно проигравшись или же став в положение, при котором вообще неоткуда достать своих денег, игрок начинает обыкновенно собирать долги… Но вот истребованы, выклянчены и проиграны все долговые суммы… Истрёпанные нервы требуют оглушения. Он… вскорости начинает занимать сам. Сначала ему дают, затем — морщатся, ссылаясь на собственный проигрыш, затем с ругательствами, издёвкой над скулением отбивают охоту вообще просить денег взаймы. Все постоянные посетители знают и его и его привычки… но, большей частью, не знают ни его жизни, ни имени, ни фамилии…
Когда так называемая нравственная стойкость достаточно потускнела; когда всю жизнь заполнила и высосала игра, а задерживающие центры перестают обращать внимание на такие пустяки, как унижение и обида, — арап готов. Он сделан из попрошайничества, уменья словить момент, шутовства, настойчивости и мелкого мошенничества. Научившись быстро вести расчет по всей сложности и учету ставок, он, как настоящий крупье, за 10 процентов помогает любому желающему метать ответ, но медлительному в цифровых соображениях. Геройски распоряжается он чужими деньгами; выхватывает их из рук банкомета или из-под его носа… Он способствует закладу часов и колец карточнику или швейцару. Он достаёт водку. Он даёт “на счастье” рубль в банк и бывает в случае выигрыша необыкновенно привязчив. Он подбрасывает на выигравшее табло лишние деньги.
Он привозит богатых и пьяных игроков. Он пытается из-под локтя собственника стянуть деньги и, если это замечается, говорит, что хотел поправить их, они, мол, намеревались упасть на пол…
Юнг стал арапом».
Дмитрий Лесной в своей энциклопедии уточняет и дополняет Грина:
«“Помогая” банкомёту, арапы следили за ставками и вели расчёты с выигравшими. Если банкомёт выигрывал, они скрывали ставки, сделанные их сообщниками-понтёрами. Если банкомёт проигрывал, они успевали удвоить ставки своих сообщников. Кроме того, они занимались присыпкой — подсыпали деньги к уже сделанной ставке, увидев, что банкомёт проиграл. Ставя пачку денег, они складывали крупные купюры пополам, пропускали за сгиб петлей женский волос, и в случае проигрыша, передвигая банкомёту деньги, вытаскивали пятисотенные и сторублёвые билеты. Иногда арапы просто обсчитывали банкомёта или даже воровали со стола золотые, зажимая их между пальцами, и, делая вид, что чешут в затылке, сбрасывали их себе за воротник».
То есть образ арапа сложнее и многообразнее, нежели просто фигура закоренелого должника. Посему существует версия о том, что «арапами» клубных прощелыг стали называть не только потому, что их за долги заносили на чёрные доски. Как мы убедились, «арапская» деятельность вовсе не ограничивалась тем, что эти люди делали долги и не платили проигрыш. Их «коньком» были разнообразные махинации с деньгами. Вовсе не факт, что именами всех многочисленных клубных «арапов» украшались чёрные доски неплательщиков. Напротив! Это уже крайность; перед такими людьми легко могли закрыться двери игорного клуба, что «арапу», конечно же, было крайне невыгодно. Возможно, корни «арапского» прозвища следовало бы поискать где-то в другом месте?
Тайна «заправленных арапов»: тема нумизматическая
Вполне может быть. И далеко ходить в поисках не надо. Мы не зря подчёркивали, что махинации клубных «арапов» связаны исключительно с деньгами, с жульничеством при расчётах. А в этой области «арапская тема» была известна россиянам задолго до эпохи клубного карточного угара начала XX века. Чтобы удостовериться в этом, придётся совершить небольшой экскурс в русскую нумизматику.
Правда, объектом нашего интереса являются не российские деньги, а голландский дукат. Вообще-то дукатом поначалу в просторечии жители Венеции называли свой золотой цехин: на лицевой стороне монеты по кругу шла надпись («легенда») на латыни: «Это герцогство, коим ты правишь, тебе, Христос, посвящается». От слова «ducatus» (герцогство) и произошло название монеты. Вскоре в подражание венецианцам свои монеты стали называть «дукатами» и другие государства.
Но для нас особо важно другое: голландский дукат выпускался не только в Голландии, но и в России! Правда, в нашем Отечестве это делалось, так сказать, подпольно. Началось всё в 1768 году — во время царствования Екатерины II — и завершилось лишь в 1867-м. Даже после временного прекращения в самой Голландии выпуска дукатов в 1849 году Россия продолжила чеканку питерских подделок, датированных только 1849 годом. То есть без году сто лет (с некоторым перерывом) на Санкт-Петербургском монетном дворе тайно чеканились золотые монеты чужой страны! Причём монеты и по пробе сплава, и по весу полностью соответствовали подлинным голландским дукатам. Правда, во всех официальных бумагах они проходили под условным названием «известная монета», а их штемпели именовались «секретные штемпеля». Фактически речь шла о монетном пиратстве под государственным флагом.
Но на кой шут российским властям понадобилась эта столетняя афера? Первоначальную причину называет известный нумизмат Иван Михайлович Холодковский в своей книге «Палеография монет»: «После того, как Пётр Великий “прорубил окно в Европу”, заграничные наши сношения увеличились, появилась потребность в таких монетах, которые ходили бы без затруднений везде, так как русские монеты ещё не успели войти в обращение соседних с нами государств, а при малом знакомстве иностранцев с нашей монетою и самобытною монетною системой, переживавшими всевозможные эволюции, самый размен русской монеты за границей на иностранную был сопряжён с большим, следовательно, и ущербом для менявшего. Бывшие за границей русские не могли, конечно, не заметить, что голландские дукаты, попавшие в Россию, благодаря торговым оборотам, имели везде за границей торговое обращение, имели определённый курс и играли роль “международной монеты”».
То есть голландский дукат играл в то время роль, сходную с нынешним долларом или евро. Русские рубли с ним сравниться не могли. А денег требовалось много… Они были необходимы, в частности, Российской армии, особенно при финансировании экспедиции российского флота из Балтики в Средиземное море для борьбы с турками, которая закончилась победой в Чесменском сражении. Золотые дукаты использовали для обеспечения должностных лиц за рубежом, зарубежных платежей, выплаты жалования российским войскам в приграничных гарнизонах.
Затем на некоторое время чеканка этих монет прекратилась, однако была возобновлена с началом царствования императора Александра I, который сначала присоединил к империи Грузию (1801–1804) и азербайджанские ханства (1803–1813), а потом занялся покорением Кавказа. Интересно, что счета казначейства Российской армии на бумаге велись в рублях, а в реальности главной единицей денежных расчётов на Кавказе и в Закавказье стал более привычный для этих мест дукат, который «для приличия» именовали золотым червонцем.
Так, генерал Репнин в 1810 году объявил награду за поимку мятежного Шейх-Али-хана — 1500 червонцев. Главе шиитского духовенства Закавказья Ага-Мир-Феттаху была назначена пенсия 2000 червонцев в год (подобные пенсии получали и другие влиятельные «туземцы», которые выказывали лояльность Российской империи). Во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов горцев, особо отличившихся в бою на стороне русской армии, награждали десятью золотыми червонцами.
При Николае I дукаты петербургской чеканки стали широко гулять внутри империи, при этом производство «голландской» золотой монеты приобрело особый размах, поскольку в России были открыты богатые месторождения золота. Добыча золота в России за 1826–1845 годы выросла в среднем с 290 до 1050 пудов в год.
Дукат был наименьшей по достоинству (около трёх рублей в пересчёте), самой доступной золотой монетой. Среди преимуществ тайной чеканки, как пишет В. Уздеников, было «прекращение выплаты лажа при размене российской монеты на иностранную при зарубежных расходах». Риск был оправдан выгодой.
Вот со второй четверти XIX века «липовые» дукаты начинают представлять особый интерес и для нашего с вами исследования. Именно с этого времени «голландские» червонцы в народе стали называть… «арапчиками»! Да-да, именно так. По версии исследователей, название связано с тем, что голландскую золотую монету украшало изображение стоящего воина в латах и шлеме, державшего в руке пучок стрел (поэтому голландский червонец русской чеканки называли ещё «пучковым»). Дескать, рыцарь, изображённый на монете, казался русскому человеку слишком экзотичным, вот и прилепили к нему прозвище «арапчик»!
На мой взгляд, такое объяснение не выдерживает серьёзной критики. Почему вдруг именно со второй четверти XIX века псевдоголландские дукаты получают название «арапчиков»? Если дело в экзотике, это должно было случиться гораздо раньше. Думается, причина возникновения экзотического имени золотого червонца кроется совсем в другом. Для начала вспомним, что в России называли арапами преимущественно чернокожих. Между тем в русском и южнославянском фольклоре существовало некоторое различие: «чёрный арап» действительно обозначал негров, а вот «белый арап» — светлокожих представителей Аравии, арабов. Термином «Арапия» в славянских языках обозначали Аравийский полуостров. Запорожские козаки называли
арабов-исмаилитов, с которыми воевали, «Бисова Арапия» («чёртова Арабия»), иронически переосмысливая топоним «Бессарабия», который на слух воспринимался как «Бес Арабия».
Именно с 1830-х обретает большую популярность топоним «Белая Арапия». Любопытна публикация в «Историческом вестнике» № 5 за 1906 год. Автор заметки Н. А. Крылов пишет: «Полвека назад среди отставных матросов черноморского флота много ещё было в живых, которые помнили поход на белого арапа. Так матросы и пехотный десант с полевыми артиллеристами называли помощь императора Николая Павловича, которую в 1833 г. он оказал турецкому султану против взбунтовавшегося египетского хедива. Белоарапия и белые арапы ещё и до сих пор популярны среди жителей наших южных губерний».
Как раз после этого похода на «Белую Арапию», который оплачивался «липовыми» нидерландскими дукатами, и появилось у этих золотых монет новое прозвище! Египетский поход вообще прочно укрепил образ Белой Арапии в народном сознании, в русском фольклоре. Вспомним комедию Александра Островского «Праздничный сон до обеда». Сваха Красавина сообщает купчихе Ничкиной среди прочих новостей:
«
Красавина: Да говорят, белый арап на нас подымается, двести миллионтов войска ведёт.
Ничкина: Откуда же он, белый арап?
Красавина: Из Белой Арапии».
Белую Арапию как символ диких сплетен и нелепиц встречаем в романе «Новь» Тургенева, где няня Васильевна «рассказывала шамкавшим голосом про всякие новости: про Наполеона, двенадцатый год, про антихриста и белых арапов».
Затем Белая Арапия под влиянием старообрядческого фольклора рисуется в народных преставлениях как вольный, изобильный край. В «Ярмарочных сценах» писателя-народника Александра Левитова раёшник поясняет потешные картинки: «А эфто, господа, город Китай, в Беларапской земле на поднебесной выси стоит». Со временем менялось и её географическое положение: с Аравийского полуострова на юг России и даже ещё далее — в Казахстан.
Так что появление «арапчика» для просторечного обозначения дуката после египетского похода вполне понятно и закономерно. Это слово довольно часто встречается в русской литературе XIX века. Герцен в «Былом и думах» описывает случай, когда деревенский староста при рекрутском наборе пытался дать взятку «арапчиками». «Вчерашний пароход разрешился порядочным мешком целковых и арапчиков. Это третное жалованье гарнизона», — отметил 14 июля 1857 года в своём дневнике Тарас Шевченко, служивший в прикаспийском форте Новопетровском.
Но для нас важно то, как связан «голландский арапчик» с выражением «заправлять арапа», которое использовано в одесских куплетах «Алёша, ша!». Дело в том, что «арапчики» очень скоро приобрели дурную славу. Вот что пишет «Словарь к пьесам А. Н. Островского»: «Арапчик — обрезанный и истёртый червонец (золотая монета). Червонцы стирались не только от долгого обращения, но и потому, что некоторые лица, стремившиеся к лёгкой наживе, намеренно сильно тёрли их о сукно с тем, чтобы после выжигать приставшее к нему золото, а иные просто срезали червонцы по краям. Такие неполновесные червонцы принимались в банках и в казначействах ниже их нарицательной стоимости. Поэтому-то стремились их скорее сбыть с рук: купчиха, под видом щедрости — свахе, а должники — своему же брату-купцу — при отдаче долга». В комедии Островского «Свои люди — сочтёмся» купец сетует на должника, который рассчитался истёртыми «арапчиками»: «ни ног, ни головы» (то есть монета жестоко обрезана, у рыцаря обрублены и голова, и ноги).
Таким образом, уже к середине XIX века (и даже ранее) «арапская тема» напрямую связывается с денежным мошенничеством, жульничеством.
Хотя, конечно, жульничество началось уже с чеканки первого же «липового» дуката. Но тогда, в 1768-м, эта монета не называлась ещё «арапчиком». Однако позднее «арапчик» не избежал международного скандала. Летом 1867 года глава российской миссии в Гааге барон Карл Кнорринг получил от властей Нидерландов извещение о том, что члены российской императорской фамилии, путешествуя по Европе, расплачиваются поддельными голландскими дукатами. К письму прилагался образец подделки и перечислены её отличия от оригинала. В августе 1868-го посол Нидерландов в России вручил министру иностранных дел князю Горчакову официальную ноту по поводу чеканки голландских дукатов на Санкт-Петербургском монетном дворе. Голландцев заверили, что подобное не повторится, и скандал не вышел за пределы дипломатической переписки.
И всё же слаб человек… В 1888 году не утерпел великий князь Георгий Михайлович, страстный нумизмат: в своём «Корпусе русских монет» он таки упомянул о чеканке дукатов в Санкт-Петербурге. Затем в девятом томе энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1893) появилось пояснение: «Голландский червонец — название, данное червонцам, битым на С.-Петербургском монетном дворе, с изображениями на сторонах, подражающими старым дукатам Голландских штатов». То есть «арапчики» оказались вдвойне скомпрометированы
[40].
Таким образом, к концу XIX века дурная слава «арапчиков» как мошеннической монеты была широко распространена по всей России: меж горожан, особливо в купеческой среде, среди дворянства, аристократии — и у жулья всех пород. Скорее всего, именно «арапчик» как «нечистая», мошенническая монета оказал влияние и на возникновение прозвища «арап» — сомнительный человек, который занимается грязными махинациями с деньгами во время карточной игры в клубе.
Тайна «заправленных арапов»: тема разведчиков-налётчиков
Однако далеко не все лингвисты склонны соотносить жаргонное «арапство» с темой клубных карточных мошенников. Они выдвигают свои доводы, которые им кажутся убедительными. И прежде чем мы рассмотрим новые версии, вернёмся всё-таки к тексту «Алёши». Иначе нас могут обвинить в «лингвистическом» уклоне: мол, понесло автора в языкознание, которое к песне отношения вовсе не имеет…
Имеет, дорогие мои, ещё как имеет! Для начала замечу, что в современном блатном варианте песни выражение «заправлять арапа» (равно как «запускать» или «заливать») используется неточно. Вспомним его значение: «врать, обманывать, пытаться одурачить». Однако генерал в песне угрожает карманным ворам: «Я ж вас передушу всех, как мышей!» То есть он не врёт и не дурачит, а откровенно угрожает.
В этом случае явно напрашивается совершенно другой фразеологизм — «брать на арапа», то есть пытаться запугать (чаще всего — при помощи невыполнимых угроз). Как справедливо отмечает известный филолог Валерий Мокиенко: «В действии на арапа непременно есть грубый обман, уловка, ухищрение или нахальство».
Но тот же Мокиенко категорически отрицает всякую связь жаргонного «арапства» с картёжным «арапничеством». Языковед замечает:
«Есть ли в русском языке конструкции с предлогом “на”, имеющие примерно такое же значение, как фразеологизм “брать на арапа”?.. Автор этой книги не встретил ни в русских, ни в славянских материалах сочетаний “брать на цыгана, на грека, на турка” и т. п. Зато в русском языке нашлось два фразеологизма с такой же конструкцией, но без “арабской” линии: “взять на шарап” — “грубой силой, нагло” и древнерусское “поустити на вороп” — “отправить в стремительный набег, налёт с разведывательными целями”».
Далее Мокиенко проводит прямую линию и утверждает, что путём «усекновения лишних букв» и ряда фонетических изменений сочетания на вороп и на шарап приобрели форму «на арапа». Дальше — больше: «запустить», «заправить» арапа (равно как и выражения с иными глаголами) связаны исключительно с «шарапом» и «воропом» и никакого отношения к клубным аферистам не имеют. О затёртых и обрубленных «арапчиках», которых втюхивали вместо полноценной монеты, уважаемый Валерий Михайлович, видимо, и вовсе понятия не имеет.
Действительно, «вороп» и «шарап» встречаются в древнерусских источниках и даже куда позднее — у того же Даля в «Толковом словаре»:
«Вороп (стар.) — налёт, набег, натиск, нападенье, грабеж, разбой. Есть прозвание Воропаев (Ворыпаев)…
Шарап, шерап — условный грабеж; взять на шарап, поднять на шарап… разграбить, расхватать по рукам, что кому попадется. Шарап, ребята! — призыв на расхват, на расхищенье».
Но что любопытно: до начала XX века нигде в письменных источниках нет ни одного сочетания подобного рода со словом «арап»! Да, «шарап» используется достаточно активно, «вороп» остался в далёкой древнерусской истории — а «арапа» нет вовсе! Что это значит? Да лишь одно: фразеологизмов с «арапом» до начала XX века не существовало! Вообще никаких. Так что в этом смысле аргументы Валерия Мокиенко можно поставить на одну доску с прочими байками, далёкими от филологии как науки. Скажем, Леон Арбатский в своём словаре «Ругайтесь правильно» поясняет, отчего народ православный так невзлюбил «арапов»:
«В ярмарочных балаганах среди прочей экзотики зрителям демонстрировали “арапов”… У зрителей эти “арапы” доверия не вызывали; сам факт существования чернокожих людей подвергался сомнению. Отсюда пошло выражение “заправлять арапа”, т. е. “обманывать”, втирать очки».
Увы, и к этой «версии» претензия очевидная: а есть ли хоть какой-то след подобного словоупотребления, особливо ежели говорить о временах, когда «сам факт существования чернокожих людей подвергался сомнению»? Нет такого следа. Всё это, так сказать, полёт вольной фантазии.
Да, выражение «взять на арапа» связано с «взять на шарап», в свою очередь ведущим родословную от древнерусского «воропа». Однако без появления клубных аферистов, а до того — без возникновения темы денежного мошенничества посредством «арапчиков» «шарап» никогда бы не превратился в «арапа» и не родились бы те выражения, которые использованы в одесских куплетах «Алёша, ша!».
Это легко подтверждается языковой практикой. Поначалу клубное «арапничество» совершалось только с деньгами и картами. Это закрепили многие жаргонные словари и другие письменные источники начала XX века. Например, в «Словаре воровского языка» В. Лебедева (1909) читаем: «Арап — игрок-аферист». Кстати, этот же словарь опровергает мнение Мокиенко о том, что сочетание «заправлять арапа» не имеет отношения к картам, ибо далее следует: «Заправить арапа — не заплатить доли участникам шулерской игры»
[41]. Связано это выражение с другим, приведённым следом: «Заправить карты — заранее пометить карты для шулерской игры». Этот термин («заправить стиры
[42], колоду, пулемёт»
[43]) среди шулеров используется до сих пор, равно как «заправка», то есть умышленный проигрыш с целью разжигания азарта у жертвы, втягивания её в игру. Так что идиома «заправить арапа» — чисто картёжная.
Именно появление клубных прощелыг способствовало тому, что древнерусские «вороп» и «шарап» приобрели тёмный арапский оттенок. И случилось это не ранее начала XX века, когда картёжное прозвище «арапы» постепенно «пошло в народ» и стало мыслиться как определение мошенников и аферистов в широком смысле слова.
Ещё в 1903 году Ванька Бец (под этим псевдонимом скрывался одесский литератор Иван Карпович Авдеенко) выпускает «Босяцкий словарь. Опыт словотолкователя выражений, употребляемых босяками», где отмечает: «Арапа запустил — обманул» — уже без всяких сносок на карты и деньги. А в 1968 году вышли воспоминания Ильи Кремлёва «В литературном строю»; где автор пишет о романе «Золотой телёнок»: «В стране в годы Гражданской войны и сразу же после неё подвизалось немало различных самозванцев… жулики и арапы, выдававшие себя за старых революционеров и героев пятого года». Таких примеров можно привести немало.
Кстати, с выражением «арапа заправлять» связано и другое, созвучное ему — «арапа править». Вроде бы похоже, правда? И действительно, в конце концов они стали обозначать одно и то же — врать, пытаться обвести вокруг пальца. Однако так случилось не сразу, и происхождение их неодинаково.
Картёжное «заправлять арапа» в первоначальном смысле (неуплата долга) достаточно очевидно связано со старым русским «заправлять» в смысле — взыскивать долг. В соответствующей статье далевского словаря приводится пример такого словоупотребления: «Он заправил с меня сто рублёв, а я не даю». Скорее всего, сначала идиома звучала как «заправлять с арапа», то есть безнадёжно взыскивать долг, а затем вполне естественно изменилась на «заправлять арапа» — не платить карточных проигрышей. В конце концов, выйдя на широкое языковое просторечное пространство, сочетание приобрело смысл — врать и обманывать вообще.
«Править арапа» — совсем другая история. Слово «править», помимо всего прочего, имело в живом русском языке устойчивое значение — «оправдывать, защищать, выгораживать». Существует даже старая поговорка: «Вора править — за него муку примать». То есть «править арапа» изначально значило — оправдывать мошенника.
О том же косвенно свидетельствует и разговорное применение этой идиомы. Обратимся к третьей книге романа «Тихий Дон», где схваченный большевик Штокман обращается к казакам:
«Мы — коммунисты — всю жизнь… всю кровь свою… капля по капле… — голос Штокмана перешел на исполненный страшного напряжения тенорок, лицо мертвенно побледнело и перекосилось, — …отдавали делу служения рабочему классу… угнетённому крестьянству. Мы привыкли бесстрашно глядеть смерти в глаза! Вы можете убить меня…
— Слыхали!
— Будет править арапа!»
Разумеется, последняя реплика вполне синонимична словам «хватит врать», однако точно так же она воспринимается как требование не защищать большевиков. То есть в годы Гражданской войны и первое десятилетие Советской власти значение «править» как «оправдывать» ещё не потеряло своей актуальности. Не случайно казаки используют не жаргонное «заправлять», а народное «править». Хотя постепенно, разумеется, жаргонное толкование возобладало, и наиболее популярным стало устойчивое словосочетание «заправлять арапа» в смысле — врать.
Да, все «арапские» выражения сегодня, как правило, даются с пометой «жаргонное». Однако ещё в первые два десятилетия XX века эта характеристика не была столь определённой и колебалась от уголовной до разговорной, простонародной. Даже многие словари жаргона, босяцкого языка и пр. не включали в себя ни «арапа», ни связанные с ним фразеологизмы. Обошёл «арапскую» тему в своём солидном словаре «Блатная музыка (Жаргон тюрьмы)» (1908) и знаменитый Василий Трахтенберг. И в одесских куплетах про Алёшу, и в шолоховской казачьей эпопее «арапские выражения» использованы именно как просторечные, а не уголовные. Целиком к воровскому языку эти фразеологизмы отошли позднее, с появлением уркаганского, тюремного варианта фокстрота «Алёша, ша!». Но когда же это произошло?
Арестантские напевы Дмитровлага
В поисках ответа вновь обратимся к судьбе Макса Кюсса — автора упомянутого фокстрота. Мы оставили его в то время, когда он добровольно пошёл служить в Красную армию. А через два года, когда отгремела Гражданская война, композитора постигло несчастье: ушла из жизни его супруга Перла Вольфовна — терпеливая женщина, которая повсюду сопровождала мужа и на которой, по сути, держалась вся семья. Старшая дочь к тому времени вышла замуж и уехала в Сибирь, а Макс Авельевич остался с сыном в Одессе. В 1922 году ему предлагают место преподавателя музыки в клубе 63-х Симферопольских пехотных курсов, и Кюсс переезжает на новое место. Начинается период скитаний: Симферополь, Харьков, Полтава, Артёмовск… В начале 1923 года Кюсс женится на харьковчанке Валентине Минаевой. Они переезжают в Москву, где музыканту предлагают место командира музыкального взвода 1-го конвойного полка. Кюссу с семьёй выделяют жилплощадь в самом центре Москвы, в Благовещенском переулке. В конвойном полку он продержался до середины лета 1927 года. Затем 50-летнему композитору дают отставку с формулировкой: «Подлежит увольнению из армии, как не представляющий ценности». Кюсс играет в парках и на танцплощадках, пишет танго, вальсы, фокстроты… В Москве он женится в третий раз, но и этот брак распадается.
К 1932 году маэстро оказывается в одиночестве. Сын повзрослел и пошёл своей дорогой, скитания по танцплощадкам не особо кормят, в столице Макса Авельевича ничего не держит…
Вот тут наша история вступает, пожалуй, в завершающую фазу. И связано это непосредственно с лагерной темой.
Воодушевлённое успехами прокладки Беломорско-Балтийского канала силами уголовных и прочих несознательных элементов, руководство Страны Советов делает новый шаг в этом направлении. Пленум ЦК ВКП(б) 15 июня 1931 года принимает постановление о строительстве канала, который соединит реки Волгу и Москву (что было особенно важно для обеспечения быстро растущей Москвы питьевой водой). Приказом № 889 от 14 сентября 1932 года для строительства канала Москва-Волга им. И. В. Сталина был создан Дмитровлаг — крупнейшее лагерное объединение ОГПУ — НКВД. Располагался он на севере Московской области в городе Дмитрове. Количество заключённых в лагере в самые «урожайные» 1935 и 1936 годы достигало более 192 тысяч человек. Есть и более фантастическая статистика, согласно которой на 1 января 1933 года общее число заключенных Дмитровлага составляло 1 миллион 200 тысяч человек. Это абсолютный бред, который противоречит не только всем открытым на сегодня документам, но и элементарной логике, поскольку на стройке в то время просто физически невозможно было расположить столько зэков.
Но для нашего исследования интересно другое. В начале 1930-х ГУЛАГ ещё пытался действовать в русле «перевоспитания и исправления» чуждых новому строю элементов. Вот и в Дмитровлаге выходил десяток газет и журналов для «каналоармейцев», в том числе на языках народов СССР, были созданы библиотеки и собственная киностудия, действовали спортивные и образовательные секции. Никита Петров в «Истории ГУЛАГа-2» сообщает:
«Наступил 1935 год. 14 января приказом № 39 объявлялся состав секций лагерного общества “Динамо”: стрелковая, лыжная, конькобежная, хоккейная, автомотосекция, конная, гимнастическая, “защиты и нападения” (борьба), охотничья, шахматно-шашечная, врачебно-контрольная, агитационно-массовый сектор».
Да, чудны дела Твои, Господи: уголовников в лагере обучали… приёмам самозащиты и нападения!
Впрочем, историк Михаил Моруков в книге «Правда ГУЛАГа из круга первого» рассказывает ещё более невероятное:
«А знают ли те, кто сочиняет страшилки про ГУЛАГ, что в 1935 и 1936 годах заключённые Дмитровского лагеря, строившие канал Москва — Волга, участвовали в физкультурных парадах на Красной площади? Представьте, на трибуне Мавзолея Сталин и другие руководители страны, а перед ними демонстрируют свои спортивные достижения лагерники… Кстати, об их участии в парадах и газеты сообщали, в том числе “Правда”».
Вот тут-то бывшие коллеги по музыкальному взводу конвойного полка посоветовали Кюссу наняться вольнонаемным капельмейстером на великую всесоюзную стройку — прокладку водного канала «Волга — Москва»: там, дескать, его способности будут востребованы. Композитор отправился в Дмитров. И действительно, здесь ощущался острый недостаток в музыкантах — тем более такого класса, как Макс Авельевич. Правда, должность капельмейстера не была предусмотрена, однако лагерное начальство махнуло на это рукой и для начала оформило Кюсса… стрелком: «Приказ № 42 от 25 февраля 1933 г. Капельмейстера Управления Кюсс Макса Авельевича назначить на должность стрелка в/охраны с исполнением обязанности капельмейстера, зачислить его в списки Управления и на все виды довольствия с 1 марта с. г.».
Именно маэстро создал первый оркестр Дмитровлага. Уже летом 1933 года состоялся первый выпуск курсантов, отобранных Кюссом из музыкально одарённых заключённых. Однако лагерному начальству требовалась не одна такая музкоманда. Кюссу тут же приказывают немедленно приступить к организации второго духового оркестра.
Ежедневная нагрузка для музыкантов определена приказом — 10 часов в день: «обязательная игра на разводах, во время производства, при выводе на работу и с работы лучших коллективов и бригад». Помимо этого, проведение вечеров самодеятельности, создание хоровых кружков и т. д. Заметим, что каналоармейцы не освобождались от тяжёлого физического труда на стройке. Мириться с этим Кюсс не желал: какая музыка может быть после тачки и кайла?! Доходило до того, что он спорил даже с тогда всесильным руководителем Дмитровлага (прежним начальником беломорского строительства) Семёном Фириным.
Вот именно здесь, в Дмитровлаге, во время долгих постоянных музыкальных занятий, Макс Авельевич наверняка разучивал со своими подопечными-каналоармейцами, помимо прочего репертуара, свои произведения — «Амурские волны», «Разбитую жизнь», «Сердце Востока», «Привет республике» и другие. Нисколько не сомневаюсь, что в числе этих произведений был и фокстрот «Алёша, ша!». Ещё бы! В Гражданскую куплеты на его мотив звучали по всем фронтам, затем они перекочевали на эстрадные подмостки Страны Советов — и теперь заключённые воочию могли видеть композитора, создавшего знаменитого «Алёшу»! Да и у самого Кюсса не было оснований скрывать своё авторство — напротив, был повод гордиться.
Посему не будет большой смелостью предположить, что уркаганский текст если не полностью сложился, то уж точно сформировался в первоначальном виде именно на строительстве канала «Волга — Москва», в Дмитровлаге, причём за основу взяты несколько куплетов времён Гражданской войны (где действуют генерал и поп).
Разбирать подробно современный «тюремный» текст «Алёши» нет никакого смысла. Всё наиболее интересное, любопытное, существенное уже сказано, а в остальном нынешний «Алёша, ша!» не представляет никакой культурно-исторической, тем более эстетической ценности. Разве что добавим, что именно с 1930-х годов выражение «заправлять арапа» и его разновидности стали восприниматься как исключительно блатные, постепенно утрачивая своё «игроцкое» значение и переходя из активного просторечия в уголовный жаргон.
Возвращаясь к судьбе маэстро, отметим, что он не выдержал в лагере больше двух лет. В 1935 году Кюсс возвращается в Одессу, где вместе с будущим главным инспектором военных оркестров Советской армии Семёном Чернецким обучает музыке беспризорных детей. Покидая лагерь, композитор принял своевременное и верное решение. Через некоторое время после назначения вместо «шпиона» Ягоды на пост наркома НКВД Николая Ежова в Дмитровлаге, как и во всей системе комиссариата внутренних дел, прокатилась волна чисток, и Семёна Фирина с «сообщниками» арестовали по обвинению в подготовке переворота силами заключённых. Это произошло 28 мая 1937 года. Фирин на допросах показал, что действовал по указанию Генриха Ягоды:
«Ягода указал, что в лагере надо создать крепкий боевой резерв из лагерных контингентов. Для этого следует использовать нач. строительных отрядов из авторитетных в уголовном мире заключённых, так называемых “вожаков”, чтобы каждый “вожак” в любое время мог превратиться в начальника боевой группы, состоящей из основного костяка заключённых из его же строительного отряда. Ягода говорил, что боевые группы Дмитровлага потребуются для террористических задач — захвата и уничтожения отдельных представителей партии и власти и, кроме того, должны составлять резерв для захвата отдельных учреждений, предприятий и т. п. боевых задач. Поэтому каждый начальник боевого отряда должен подчинить своему влиянию максимальное количество отборных головорезов-лагерников».
14 августа 1937 года Семён Фирин был расстрелян. Затяни Кюсс с отъездом в Одессу на пару лет, его могла бы ждать та же судьба.
Маэстро погиб несколькими годами позже, когда Одессу заняли румынские войска. Композитор отказался с ними сотрудничать и создавать марши для оккупантов. А поскольку урождённый немец к тому же ещё незадолго до этого записал себя евреем, участь его была решена. Он в числе своих новых братьев по крови был расстрелян в январе 1942 года у села Дольник…
Как милый одессит сменил штаны и перестал скрипеть при ходьбе
«Я милого узнаю по походке»



Я милого узнаю по походке,
Он носит брюки галифе,
А шляпу он носит на панаму,
Ботиночки он носит «нариман».
Зачем я вас, мой родненький, узнала,
Зачем, зачем я полюбила вас,
А раньше я ведь этого не знала,
Теперь же я страдаю каждый час,
Днём и ночью страдаю!
Вот мальчик мой уехал, не вернётся,
Уехал он, как видно, навсегда,
Домой он больше не вернётся,
Оставил только карточку свою.
Но я милого узнаю по походке,
Он носит, носит брюки, брюки галифе,
А шляпу он носит на панаму,
Ботиночки он носит «нариман»,
Эх, со скрипом ботинки!
Панама из Одессы и «шашнадцать столовых ножей»
Приведённый выше текст известнейшей залихватской песенки о милом, который оставил подруге свою фотокарточку, а сам на веки вечные смотался в далёкие края, мы приводим по «классическому» ныне исполнению Гарика Сукачёва. Так уж оно вышло, что «Милого» ассоциируют исключительно с блистательным Гариком после того, как он куражно выступил в музыкальном фильме «Старые песни о главном» в ночь на 1 января 1996 года и с надрывом прогорланил залихватские куплеты «разбитной разведёнке» Ладе Дэнс.
Казалось бы, сия уличная песенка совершенно примитивна, да и какое отношение она имеет к блатному фольклору? Разве что в «Старых песнях о главном» ее исполнял «условно освобождённый» (как именуется роль Гарика Сукачёва)… По этому поводу замечу: хотя я занимаюсь не только чисто криминальной песней, но и в более широком смысле «низовой» — уличной, «одесской», музыкальным фольклором беспризорников, «жестоким романсом» и т. д., — конкретно песня о расставании милой парочки всё же связана с творчеством уголовного народа.
Для начала попробуем хотя бы примерно определить, когда и каким образом это произведение появилось на свет.
Практически все исследователи сходятся на том, что первоосновой «милого в галифе и панаме» является старый русский народный романс «Зачем тебя я, милый мой, узнала». Он известен в исполнении многих певиц, например, Елизаветы Шумской, Антонины Неждановой, позднее — Марины Ладыниной в фильме «Сказание о земле Сибирской» и др. Сюжет песенки незатейлив, мелодия минорная:
Зачем тебя я, милый мой, узнала,
Зачем ты мне ответил на любовь?
Ах, лучше бы я горюшка не знала,
Не билось бы сердечко моё вновь.
Терзаешь ты сердечко молодое,
Тебя твоя зазнобушка зовёт…
Проходит только время золотое,
Зачем же мой желанный не идёт?
Я жду, и вот приходит долгожданный,
Целует, нежно за руку берёт…
Ах милый мой дружочек, мой желанный!
И сердце песню радости поёт.
Как говорится, не Шекспир и даже не Асадов. Но чем богаты, тем и рады. Насчёт сочинителя стихов ничего не известно, а вот автором музыки многие почему-то называют российского композитора XIX века Александра Ивановича Дюбюка. Правда, ни в одном самом полном перечне его произведений таковой романс не значится. Более того, в большинстве источников песня названа «народной» без всяких оговорок. Впрочем, Дюбюк музыку написал к романсу или не Дюбюк — всё равно песня по тональности, конечно, отличается от классической «Панамы».
Однако с «Панамой» мы забегаем вперёд. Ещё один вариант, очень отдалённо напоминающий надрывный предмет нашего исследования, был запечатлён на пластинке под названием «Скоро милая уедет», записанной в Санкт-Петербурге в 1913 году. Исполнил эту «мужскую» версию романса дореволюционный тенор Д. Ершов, любивший выступать также как Ершов-Ростан или Д. Ростанов (видимо, в подражание популярному в начале XX века французскому драматургу Эдмону Ростану — автору блистательной комедии «Сирано де Бержерак»).
Надобно заметить, что Ершов с особой охотой исполнял так называемые «каторжные» и «разбойничьи» песни, среди которых и известная «Погиб я, мальчишка» —
Мать свою зарезал,
Отца свово убил,
Младшую сестрёнку
Невинности лишил,
и «Скажи мне, скажи мне, товарищ, попал в рудники ты за что» с не менее жуткими картинами, где каторжанин долго и подробно описывает, как он «был шайки тогда атаманом, имел шестьдесят молодцов, любил нападать на прохожих», а также «крестьянские избы я грабил, молодок с собой забирал» и занимался другими не менее увлекательными делами. На их фоне душещипательный романс «Скоро милая уедет» воспринимается как нежная колыбельная всего с одним трупом в конце:
Ой, скоро, Настя, ты уедешь,
Уедешь, может, навсегда.
В Питер больше не приедешь,
Портрет оставишь для меня.
Найдешь, ты милая, другого,
Ласкать он будет, обнимать,
Вспомнишь про меня, младого,
Не будешь плакать и рыдать.
Оставишь черные ты глазки,
Быть без них не могу я,
Стаканчик яду размешаю,
Отраву до дна выпью я.
Мою могилу ты полюбишь,
Её слезою обольёшь,
Могила скажет — путь забудешь,
Пусть на кресте «любовь» прочтешь…
Милая, как легко убедиться, исчезает без панамы, галифе и ботиночек, зато оставляет «портрет», который неизменно будет упоминаться в последующих версиях.
Несомненно, однако, что наряду с народной русской песенкой и её переложением на рыдающие аккорды мещанского «жестокого романса» существовал и непосредственно уголовный — по крайней мере, кабацкий — вариант уже с «узнаванием» милого, так сказать, по отличительным признакам. Полного текста этой версии до нас, к сожалению, не дошло. Зато один куплет сохранился. Его приводит Александр Куприн в известном рассказе «Гамбринус», опубликованном в одесском журнале «Современный мир» (1907):
«…Другая компания, стараясь перекричать первую, очевидно враждебную, голосила уже совсем вразброд:
Вижу я по походке,
Что пестреются штанцы.
В него волос под шантрета
И на рипах сапоги».
Этот вариант зафиксирован на шесть лет ранее ершовского и уже содержит «портретные характеристики» персонажа. И всё же пока общей, связной картины, характерной для будущей песни, из всех перечисленных источников слепить не представляется возможным.
Первый «канон» появляется лишь в 1917 году. То есть он мог возникнуть, конечно, и раньше, но лишь в этот год с дозволения Военной цензуры в Петроградской типографии и книгопечатне «Энергия» у издательницы А. К. Соколовой выходит текст с нотами под названием «Панама» и уточнением — «Одесская песенка»:
Ах, милого я знаю по походке,
Носит он белые штаны,
Шляпу же носит он панаму,
Ботиночки его всегда скрипят.
Ах, скоро, скоро миленький уедет,
Уедет, быть может, навсегда,
В Одессу больше не приедет,
Наверно, не приедет никогда.
Зачем же я вас, родненький, узнала?
Зачем же я полюбила вас?
Раньше я этого не знала,
Теперь же я страдаю каждый час.
Возьму скорей стаканчик я отравы,
И выпью весь его до дна,
А вы, подружки дорогие,
Скажите, могила где моя?
Мой миленький придёт к моей могиле,
Станет он плакать и рыдать…
А лишь с могилы он вернётся,
Другую он станет целовать.
Указанное издание отыскал замечательный исследователь «низовой» песни петербуржец Игорь Шушарин, с которым нас связывает творческая дружба. Он же сообщил, что песенку в то время исполняла известная певица Мария Александровна Лидарская. Вот с этого момента, с 1917 года, можно вести разговор не просто об источниках «Панамы», а о полноценной песне «Я милого узнаю по походке». Отметим интересный факт: цензура допустила «Панаму» к печати 11 февраля, а спустя две с лишком недели, 27 числа, грянула Февральская революция…
Прозорливый читатель сразу обратит внимание на то, что два последних куплета «одесской песенки» 1917 года явно эксплуатируют тему, традиционную для городского «жестокого романса» начала XX века: самоубийство девушки из-за несчастной любви, измены со стороны «милёнка». Заметим, что в народной песне «Зачем тебя я, милый мой, узнала» финал как раз оптимистический: «дружочек желанный» возвращается, «целует, нежно за руку берёт» — «и сердце песню радости поёт».
«Панама», однако, предпочитает иную линию развития, чрезвычайно популярную в названный период. Несомненно, авторы нового шлягера вдохновились уже известным романсом «Маруся отравилась». Литературовед Сергей Неклюдов относит самую раннюю фиксацию текста «Маруси» к 1912 году, музыковед Глеб Скороходов называет в качестве даты создания песни 1911 год. Оба, впрочем, сходятся на том, что музыку к «Марусе» написал композитор, пианист и дирижёр, руководитель нескольких цыганских и русских хоров Яков Пригожий. Хотя Неклюдов делает оговорку:
«По другим сведениям, пластинка существовала даже в 1910 г., причем речь идёт ещё об одной сюжетной переработке, которая называлась “Маруся отравилась (Житейская трагедия)” или “Обманул Алёша бедную Марусю”, относительно данного текста в недатированном нотном издании сказано: слова Д. А. Богемского, музыка Г. З. Рутенберга, репертуар М. А. Эмской».
Романс мгновенно вошёл в репертуар популярных исполнителей: тенора Семёна Садовникова, Юрия Морфесси, «русско-цыганской» певицы Нины Дулькевич, Марии Эмской и др. «Марусю» записали «Русский народный хор под управлением И. И. Миронова» (1911), «Вокальный квартет бродяг под управлением Гирняка и Шама в сопровождении оркестра», «Дуня, московская шарманщица» (1914) и т. д.
О песенной трагедии с Марусей упоминали в своих произведениях Зинаида Гиппиус, Максим Горький, Самуил Маршак, Леонид Утёсов; пародийно-обличительное стихотворение «Маруся отравилась» написал в 1927 году Владимир Маяковский (вот насколько живучим оказался слезливый романс)…
«Маруся», конечно, трагична от начала и до конца:
Как солнце закатилось,
Умолк шум городской,
Маруся отравилась,
Вернувшися домой.
В каморке полутёмной,
Ах, кто бы ожидал,
Цветочек этот скромный
Жизнь грустно покидал.
Измена, буря злая,
Яд в сердце ей влила.
Душа её младая
Обиды не снесла.
Её в больницу живо
Решили отвезти,
Врачи там терпеливо
Старалися спасти.
«К чему старанья эти!
Ведь жизнь меня страшит,
Я лишняя на свете,
Пусть смерть своё свершит».
И полный скорби муки
Взор к небу подняла,
Скрестив худые руки,
Маруся умерла.
Пришёл и друг любезный:
Хотел он навестить.
А доктор отвечает:
«В часовенке лежит».
Идёт милой в часовню.
Там чёрный гроб стоит.
А в этом чёрном гробе
Марусенька лежит.
«Маруся ты, Маруся,
Открой свои глаза.
А если не откроешь,
Умру с тобой и я.
Маруся ты, Маруся,
Открой свои глаза».
А сторож отвечает:
«Давно уж померла».
Надобно отметить, что примерно в одно время с «Марусей» возникает другой «жестокий романс» — «Вот кто-то с горочки спустился». Современному слушателю он известен преимущественно переработкой, сделанной после Великой Отечественной войны:
Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идёт…
На нём защитна гимнастёрка,
Она с ума меня сведёт.
На нём погоны золотые
И яркий орден на груди…
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути?
Однако первоначальный вариант здорово отличается от воздыханий юной селянки — «зачем ты в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой покой?» На самом деле всё куда драматичнее:
Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идёт.
На нём голубенька рубашка,
Она с ума меня сведёт.
На нём цепочка золотая,
Цветок в петлице на груди —
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути?
Куплю я ленту в три аршина,
Колечки, ветер, развевай!
Садится милый на машину,
Кондуктор, двери закрывай.
А я кричу: «Куда ж ты едешь?
А я остануся одна».
А я кричу: «Куда ж ты едешь?
А я ж завяну, как трава».
Проехал станцию Одесса
И Севастопольский вокзал.
На полустанке становился,
Кричал: «Размилая, прощай!
Забудь мой взгляд, мою походку,
Забудь черты мово лица.
Забудь, забудь, как любовались
С начала года до конца».
«Но как же я тебя забуду,
Когда портрет твой на стене?
Но как же я тебя забуду,
Когда малютка на руке?»
«Портрет мой выброси в окошечко,
Малютку в детский дом отдай,
Сама живи и наслаждайся
И про меня не вспоминай!»
И далее песню часто завершают известным куплетом:
Пойду в аптеку, куплю яду,
Аптека яду не даёт.
Тогда молоденька девчонка
Через мальчишку пропадёт
[44].
Пожалуй, не боясь ошибиться, можно сказать, что современный вариант песенки «Я милого узнаю по походке» представляет собой некую помесь дореволюционных «Вот кто-то с горочки спустился» и «Панамы»: характерный зачин с особыми приметами, упоминание Одессы (в «Горочке», впрочем, не всегда), вздохи о тяжкой доле — и самоубийство несчастной героини. Причём в «Марусе» процесс лишения себя жизни несколько напоминает японское харакири:
И побежала я на кухню,
Схватила ножик со стола.
И в белу грудь себе вонзила,
И вот такая я была.
Однако всякое наложение на себя рук из более поздних вариантов песни исчезает! Как же так? Куда же делся трагический финал?
Дело в том, что катавасия с Марусей и панамой, популярный сюжет расставания и убиения со временем расщепился на две самостоятельные линии. Как говорится, мухи отдельно, котлеты — отдельно. Занимательная история с ножами, больницей и похоронами перекочевала в знаменитую хулиганскую балладу «Аржак» (этому произведению я в своё время посвятил отдельный очерк, вошедший в книгу «На Молдаванке музыка играет»). Правда, там в грудь Аржаку вонзают четырнадцать ножей его недоброжелатели. Зато в последующей советской пародии «Служил на заводе Серёга-пролетарий» жена Серёги Манька «в грудь себе вонзает шашнадцать столовых ножей». А далее — та же больница, раскаяние милого и прочая лабуда.
Брюки превращаются в элегантные галифе
Зато вторая линия — с узнаванием милого, расставанием и портретом-фотокарточкой — сформировалась со временем в отдельное самостоятельное произведение, утратив кровавый финал и превратившись в разбитную залихватскую песенку. Случилось это в среде исполнителей-эмигрантов, судя по всему, в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Во всяком случае, первые известные записи относятся именно к этому периоду. А первым исполнителем «Панамы» большинство исследователей традиционно называют Юрия Спиридоновича Морфесси, которого когда-то сам Шаляпин окрестил «Баяном русской песни».
Грек Морфесси родился в Афинах, но с семи лет жил в Одессе, пел в церковном хоре, затем в юном возрасте его приняли в Одесский оперный театр. Однако оперная судьба Морфесси не сложилась: с 1904 года он переходит в оперетту, затем выступает в Театре цыганской песни, а с 1912 года полностью отдаёт себя эстраде. Его охотно записывают на пластинки, он выступает перед императорской семьёй, в 1915 году в Петербурге открывает элитарное кафе «Уголок». Во время Гражданской войны в 1918 году Морфесси руководит в Одессе Домом артиста, где выступают Надежда Плевицкая, Леонид Утёсов, Иза Кремер, Александр Вертинский…
А в 1920 году Юрий Морфесси эмигрирует. Поёт в Париже, в Риге, в Белграде… В годы Второй мировой войны вступает в артистическую бригаду коллаборационистского «Русского корпуса», записывает пластинку в Берлине, выступает перед Власовым, отступает вместе с немцами. Окончание войны застаёт в баварском городке Фюссенне, где он выступает в лагерях для перемещённых лиц. В 1949 году умирает практически в безвестности.
Но вот в начале 1930-х имя Морфесси в эмигрантских кругах (и даже за их пределами) гремело. Как раз в это время, в 1931 году, он и записывает в Германии на фирме «Parlophon» «усечённую» песенку о панаме:
Я мила друга знаю по походке —
Он носит серые штаны,
Шляпу носит он панаму,
Ботиночки он носит на рипах!
Ты скоро меня, миленький, забудешь —
Уедешь в дальние края,
В Москву ты больше не вернёшься,
Забудешь ты бедную меня!
Зачем же я вас, родненький, узнала,
Зачем я полюбила вас?
Ах, лучше б вас я не встречала
И не страдала б каждый час!
Тот же текст
повторяется и в записи, которую Юрий Спиридонович сделал позднее, в 1933 году, на польской студии «Syrena-Electro». Единственное различие — вместо Москвы, куда миленький не вернётся, фигурирует Варшава.
На самом деле вопрос о первом исполнении «Панамы» в адаптированном варианте следует считать открытым. Во всяком случае, нам известна запись этой песни более ранняя, нежели германская пластинка Морфесси. Так, русские эмигранты Люся и Николай Донцовы в Нью-Йорке выпускают «Одесскую панаму» (именно под этим названием) в июле 1929 года. Причём привносят в песенку явно блатную, уголовную струю:
Зачем же я вас, родненький, узнала,
Зачем я полюбила вас?
Эх, лучше б я этого не знала
И не страдала каждый час.
Я милого узнала по походке,
Он носит белые штаны,
А шляпу носит он панаму,
Ботиночки он носит на рипах.
Вот скоро, скоро я уеду,
Уеду отсюда навсегда,
Эх, в Одессу я больше не приеду,
Забуду её я навсегда.
Вот скоро мы с милым пофартуем,
И будем жить тогда вдвоём.
Эх, квартирки две-три мы обворуем,
Тогда мы на славу заживём.
Зачем же я вас, родненький, узнала,
Зачем же я полюбила вас?
Эх, лучше б я этого не знала
И не страдала каждый час…
Судя по изложению, героиня собирается покинуть Одессу (которую пошло произносит как «Одэсса»
[45]), однако вместе с милым, причём у них уже разработан примерный план дальнейших действий, как «зажить на славу»: для этого необходимо всего лишь обворовать две-три квартирки. И хотя история завершается привычными стенаниями о страдальческой любви, слушатель по отношению к будущему сладкой парочки настроен достаточно оптимистически: всё будет хорошо — если полиция не догонит…
Есть и более ранние источники, которые свидетельствуют о популярности «Панамы» — уже в Советской России, но из них, увы, нельзя с точностью узнать, имеем ли мы дело ещё с дореволюционной песенкой, которая оканчивается «стаканчиком отравы», или уже с более жизнеутверждающей концепцией, когда милый убывает в неизвестном направлении, а героиня ограничивается лишь странным пожеланием, чтобы «не билось сердечко каждый час» (довольно необычный случай аритмии; даже кремлёвские куранты отбивают время куда чаще).
В принципе, у меня нет особого желания загружать читателя перечислением разного рода вариаций и версий незатейливой песенки. Пожалуй, любопытнее всего приглядеться к забавным «капризам моды», которым оказался подвержен носитель панамы. Тем более что некоторые загадочные предметы его туалета заставляют многих слушателей терзаться сомнениями и выдвигать самые смелые — до нелепости — предположения по поводу его одеяния.
Начнём со штанов, поскольку они в песне являются первым опознавательным знаком «милого» — не считая походки, которая во всех вариантах — постоянный и неизменный атрибут. Хотя героиня так и не разъясняет нам, что такого особенного в этой самой походке. Можно лишь предположить (учитывая одесское происхождение песни), что имеется в виду особый «морской походняк», о котором повествует другая, не менее популярная песенка 1920-х годов «Я Колю встретила на клубной вечериночке»:
Ах, сколько страсти он вложил в свою походочку!
Все говорили, он бывалый морячок…
Когда он шёл, его качало, словно лодочку —
И этим самым он закидывал крючок.
То же самое сравнение повторяет и песня 1930-х «В Кейптаунском порту» Павла Гандельмана:
У них походочка,
Как в море лодочка,
А на пути у них — таверна «Кэт»…
Однако нас интересует не походка, привычки или черты характера, а исключительно детали костюма. А тут, разумеется, на переднем плане — именно штаны. Правда, в новейшие времена неизвестные юмористы перекроили первую строку «Панамы» с учётом некоторой феминизации отдельных представителей сильного пола — «Я милого узнаю по колготкам»… Но это глумление над классикой мы не станем принимать во внимание, а перейдём непосредственно к штанам.
Да, как мы уже успели убедиться, продолжительное время песенный персонаж щеголял именно в штанах. В первоначальной версии, озвученной Куприным в «Гамбринусе» (и ещё, собственно, не являвшейся полноценной «Панамой»), расцветочка была пёстрой:
Вижу я по походке,
Что пестреются штанцы.
В одесской «Панаме» образца 1917 года штаны становятся белыми. Видимо, в южном морском городе этот цвет воплощал в себе какой-то особый шик. Можно вспомнить стремление Остапа Бендера в Рио-де-Жанейро, где полтора миллиона человек поголовно ходят в белых штанах.
Заметим, что советская власть довольно быстро сумела воплотить мечту Великого Комбинатора в жизнь. И в 1920-е, и значительную часть 1930-х годов многие советские граждане одевались более чем скромно и тускло. Так, в 1934 году фабрика «Первомайка» выпустила 75 тысяч платьев, 85 тысяч юбок, 65 тысяч брюк, 39 тысяч блузок — и все из грубой белой ткани! Объяснялось это отсутствием красителей для хлопка. Вспомним также описание костюма Ивана Бездомного в самом начале булгаковского романа «Мастер и Маргарита»: «Плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жёваных белых брюках и в чёрных тапочках».
Понятно, что песенный щёголь относился к несколько иной категории граждан, и его белые штаны были не атрибутом нищеты, а в некотором смысле предметом гордости: о них упоминалось задолго до буйного расцвета однотонной сталинской моды. В белые штаны обряжают героя и уже упоминавшиеся Люся и Николай Донцовы, и Софья Реджи, исполнявшая песню в сопровождении Русского Харбинского салонного оркестра под управлением Давида Гейгнера (граммофонная запись 1930-х годов), и, надо думать, многие другие исполнители. Юрий Морфесси, впрочем, упорно настаивает на серых штанах.
Надо думать, этими расцветками дело не ограничивалось. И не только расцветками. Советский поэт-сатирик Аркадий Бухов в 1921 году пишет «паническую пародию» «Евгений Онегин по Луначарскому», высмеивая критику классической русской литературы за «буржуазность» и предлагая свой вариант переделки пушкинского романа в стихах, где заставляет Татьяну исполнять «демократическую» песенку:
Я милого узнаю по походке:
Он носит плюшевы штаны,
Шляпку носит он панаму,
Ботиночки он носит на рантах…
И всё же долгое время одно оставалось неизменным: «милый» носил штаны. Так продолжалось до второй половины 1960-х, когда эти штаны беспардонно стащил с песенного персонажа известный исполнитель-эмигрант Алексей Иванович Димитриевич, более известный как Алёша Димитриевич. Во всяком случае, сие действо запечатлено, в частности, на пластинках, записанных во Франции в 1968-м и в Голландии в 1969 году.
Именно эти исполнения «Панамы» Алёшей Димитриевичем внесли смятение в головы многочисленных слушателей и послужили поводом для многочисленных споров, пылких полемик и совершенно диких предположений. Можно сказать, Алёша внёс разброд и шатание в умы любителей жанра. Посему необходимо ознакомить читателя с одной из версий «Панамы» Димитриевича, к которой нам не раз ещё придётся возвращаться:
Я милого знаю по походке — что ты! —
Он носит брюки, брюки галифе,
А шляпу он носит на панаму-наму-наму,
Ботиночки он носит «нариман».
Зачем я вас, родненький, узнала?
Зачем я полюбила вас? — вас!
А раньше я этого не знала,
Теперь-то я страдаю каждый час,
А раньше ты этого не знала,
Теперь ты страдаешь каждый час.
Вот скоро твой мальчик уедет,
Уедет, мож быть, навсегда.
В Париж он да больше да не вернётся — что ты говоришь! —
Оставил одну карточку свою,
В Париж, Париж он больше не вернётся,
Оставит он карточку свою.
Похожий текст перепел несколько раз в 1969–1970 годах — несомненно, с голоса Димитриевича — и Владимир Высоцкий. Именно в таком виде (разве что с заменой Парижа на Москву) песня стала канонической.
Хотя если представить, как выглядит милёнок в галифе при модных ботиночках, в душу вкрадываются сомнения по поводу того, что такой клоун мог разбить сердце даже самой затрапезной деревенской дурочки.
Разумеется, я далёк от того, чтобы подозревать читателя в невежестве — по крайней мере по поводу фасона брюк галифе. Однако всё же подкину немного информации из истории моды — раз пошла такая тема.
Итак, что собою представляют галифе? Энциклопедия нам подскажет, что галиф
е (от фр. Galliffet) — брюки, плотно облегающие голень и сильно расширяющиеся на бёдрах. Названы они по имени французского генерала, маркиза Гастона Галифе (1830–1909), который ввёл этот нетривиальный фасончик для кавалеристов.
До изобретения маркиза кавалеристы вынуждены были носить так называемые рейтузы — не шерстяные штанишки со штрипками, обычно надеваемые под юбку или брюки, как это сейчас водится, а длинные, узкие, плотно обтягивающие брюки для верховой езды. Слово это происходит от немецкого Reithose — штаны для езды верхом. Можно вспомнить и искажённое немецкое «рейтар» — от слова Reiter, то есть всадник. Рейтары эти зауженные штанишки носили потому, что на них легко было мгновенно натягивать сапоги.
Другим видом подобного рода военных кавалерийских штанов были лосины — парадные мужские кожаные брюки для езды. Название своё они получили потому, что действительно изготовлялись из кожи лося (или оленя), а уж позднее — из замши. Как и рейтузы, лосины были очень узкими. Но, ежели рейтузы, которые всё-таки шились из ткани, надевать было несложно, с кожаными лосинами проблем оказывалось куда больше. Перед тем, как надеть, их смачивали водой, отчего они растягивались. Затем лосины высыхали на теле и плотно обхватывали его. Носить такие брюки — это в некотором роде героизм! Тем более скакать в них. Очень часто плотные и жёсткие штаны натирали кожу вплоть до язв. Император Николай I после парадов по несколько дней проводил в постели и не мог двигаться. Но что поделать — служение Отечеству-с…
Как и рейтузы, лосины русская армия переняла у пруссаков с XVIII века. Неизвестно, сколько бы ещё мучились императоры, гусары, кирасиры и прочие кавалеристы, к тому же выглядела подобная военная мода несколько… как бы это мягче выразиться… педерастически. Но, к счастью, на боевую арену бодрым галльским петушком выскочил, слегка прихрамывая, генерал Гастон Александр Огюст де Галифе.
Вообще генерал отличался нравом энергичным, заводным и даже буйным; был завзятым воякой. По молодости он успел поучаствовать в Крымской войне (1853–1855) и за отличие при штурме Севастополя получил орден Почётного легиона. Затем в составе Второго мусульманского полка погарцевал по Африке и Италии, а в 1862 году с экспедиционным полком судьба занесла его аж в Мексику, где при взятии Гваделупского монастыря какой-то отчаянный гаучо влепил французу пулю в брюхо, и тот всю оставшуюся жизнь носил на повреждённом месте стальную пластину.
Однако в нашей истории свою роль сыграло совсем другое ранение маркиза. Так что, опуская все иные геройства бравого француза, перейдём непосредственно к делу. В 1870 году вспыхивает Франко-прусская война, и произведённый в генералы Гастон Галифе, командир кавалерийской бригады, вновь отличается во время атаки при Флуане под Седаном, вызывая восхищение самого кайзера Вильгельма. Однако же на этом геройства генерала Галифе истощаются: он получает очередное ранение (на этот раз в ногу) и попадает в германский плен, поскольку под Седаном французы капитулируют. Далее генерал малость позверствовал, утопив в крови Парижскую коммуну и покрошив в Алжире восставших арабов, а затем сильно притомился и в 1899 году принял пост военного министра Французской республики.
Но нас в данном случае интересует исключительно второе ранение, полученное генералом в стычке с пруссаками. Бедро неистового Гастона было настолько изуродовано, что появляться в приличном обществе с такой ногой, обтянутой кавалерийскими лосинами, не рискнул бы даже наш геройский рубака-кавалерист. Но генерал Галифе не собирался так просто сдаваться. Ему вполне хватило капитуляции под Седаном. Как гласит предание, однажды полковник Ковенкюр, близкий друг Галифе, принёс ему приглашение на бал, который устраивало французское правительство. Маркиз долго и категорически отпирался. Однако в дело вмешалась дочь полковника Ковенкюра — красавица Анна-Мари, которая смогла переубедить стеснительного героя.
Вот тут и кроется загадка. Дело в том, что именно на правительственном балу кавалерийский генерал появился в брюках необычного покроя: они свободно ниспадали с бедер, но плотно обхватывали ноги от колена книзу. Для того времени это было нечто! Можно сказать, революция в моде. Присутствовавший на балу бомонд несколько опешил и, видимо, не знал, как отреагировать на столь экстравагантную выходку. Однако тон задала та самая Анна-Мари, которая громко заметила, что генералу чрезвычайно идёт такой великолепный фасон, и даже послала ему через весь зал воздушный поцелуй. Публика тут же подхватила и приумножила восторги юной девы… А через некоторое время сорокалетний генерал и милая Анна-Мари сочетались законным браком.
И у меня возникает смутное подозрение: а не сама ли полковничья дочка додумалась до фасона генеральских брюк? Да ещё и убедила военного человека (а люди эти отличаются крайней консервативностью) пойти на столь смелый, если не сказать — отчаянный шаг. Возможно, пообещав в качестве награды своё сердце… Иначе вся эта история просто не имеет логического объяснения. Если, конечно, она была на самом деле.
Ведь всё могло выглядеть куда более прозаично. Галифе вообще отличался тягой к всевозможным реформам в своём ведомстве. Он поднял уровень образования кавалерийских офицеров, улучшил амуницию, уменьшил поклажу кавалеристов и ввёл ряд других изменений, в том числе — новый покрой брюк, получивший его имя. Так что ни к балу, ни к полковничьей дочке галифе могут не иметь ни малейшего отношения. Так, всего лишь симпатичная романтическая легенда.
Но суть-то не в этом. Суть в том, что брюки галифе, о которых сейчас распевают монстры «русского шансона», носились исключительно с сапогами! Такой уж у них фасон, чтобы в эти самые сапоги легко нога проскальзывала. Галифе с ботиночками — это всё одно что лапти при фраке. Не было такой моды ни в начале XX века, ни в Первую, ни во Вторую мировую. Забегая далеко вперёд, замечу, что век XXI, перенеся пристрастие к модели галифе в женскую моду, оказался в этом смысле более раскован. Теперь фасон брюк знаменитого француза носят и с ботинками на высоком каблуке, и даже с туфлями-лодочками. А вот со времён изобретения галифе и вплоть до конца нынешнего тысячелетия подобных вольностей не наблюдалось. Да вы и сами могли убедиться, что в многочисленных версиях-перепевках «Панамы» галифе нигде не встречаются!
Стоит добавить, что в армии допускался такой вид обуви, как ботинки (башмаки) с обмотками. Они, конечно, могли носиться с галифе, однако подобная «мода» была исключительно военной, и ношение онучей с тяжёлыми башмаками при шляпе-панаме — до этого не додумался ни один комик.
Оставим в стороне непростое искусство наматывания обмоток на ногу, что полностью исключало использование этого предмета туалета широкой модой. Но уж точно тяжёлые башмаки с онучами никоим образом не способствовали выработке «шикарной» походки, вид которой приводит в восторг почитательниц сильного пола. Скорее, такой кабальеро был бы встречен иначе: «Гля, то ж Ванька со слободки с хронту на побывку прикандыбил»…
Хотя ради справедливости надобно заметить, что современные брюки-галифе из армейской моды легко перекочевали как в высокую, так и в мейстримную моду. Вот что пишет по этому поводу сетевой пользователь под ником Шопоголик в заметке «Ах, Галифеевы штаны»:
«В наше время мужские брюки галифе смягчились. Их зачастую шьют из тонких материалов. Сегодня их носят так мало похожие на мужественных кавалеристов мальчики, танцующие Electro или Tecktonik. Мужские штаны галифе не сковывают движений, позволяют пластично двигаться. Тренироваться удобно в спортивных штанах галифе. Модные ребята тоже носят галифе разных видов: бриджи, штаны и даже джинсы… Мужские бриджи и шорты галифе являются трендом этого сезона».
Автор, правда, при этом не уточняет, какую обувку носят с гламурными галифе нынешние мальчики, «мало похожие на мужественных кавалеристов». Понятно, что не башмаки с обмотками. Так может, как раз ботиночки «нариман»? И кстати: кто мне объяснит, что же это за такие «корочки» с явным азербайджанским акцентом?
«Нариман» из Питера и кипа под шляпой
Любопытное совпадение. Как только материал к этой главе был уже фактически собран и на следующее утро мне предстояла попытка разгадать тайну «наримана», поздним вечером я удобно расположился перед экраном телевизора, чтобы посмотреть эстрадную программу-конкурс «Голос». Представьте моё изумление, когда темнокожая конкурсантка из Камеруна по имени Маша вдруг запела «Я милого узнаю по походке»! Ну, со всеми атрибутами — брюки галифе, шляпа на панаму, ботиночки «нариман»… Бывают странные сближения, как заметил некогда небезызвестный поэт.
Но главное даже не это. После выступления камерунской Маши один из членов жюри, Александр Градский, вполне справедливо и аргументированно раскритиковал конкурсантку за манеру исполнения. И тут же по ходу дела блеснул эрудицией: «А вы знаете, что это за ботиночки “нариман”? Когда-то существовала такая довольно известная подпольная фабрика, и её продукция пользовалась большим спросом».
Оставив в стороне бедную Машу и её манеру пения, замечу главное: Александр Борисович озвучил одну из самых популярных и самых, пожалуй, нелепых версий, поясняющих происхождение таинственного «наримана». Версия эта в числе прочих кочует по бескрайним просторам Интернета, повторяясь почти слово в слово на всевозможных порталах, сайтах, форумах, блогах доверчивыми, не особо критичными пользователями. Изобретателями подобного рода предположений, «версий», слухов, липовых «аргументов» и выковырянных из носа «фактов» являются разного рода мистификаторы, которым, видимо, доставляет особое удовольствие дурачить простодушный народ.
Один из таких занимательных деятелей — некий блогер Живого Журнала Графъ Iоаннъ Бугаевъ. Самопровозглашённый граф излагает свои многомудрые мысли, прибегая к правилам дореволюционной орфографии. В своей заметке от 28 февраля 2008 года он даёт следующее пояснение:
«…ботиночки он носит “Нариман”. На письме это обозначается именно так! Дело в том, что в районе Бачи (Азербайджанское название Баку) есть очень мощная диаспора т. н. “горских иудеев”… Так вот, в далёкие времена нэпа у этих людей имелась фабрика, названная по имени владельца “Нариман”, коя выпускала обувь. Так вот, по заверениям очевидцев, одесские блатные иудеи предпочитали ботиночки именно этой фабрики».
Разумеется, никаких доказательств существования во времена нэпа обувной фабрики с таким названием, принадлежавшей «диаспоре горских иудеев», милейший Графъ Бугаевъ не приводит. Точно так же повисают в воздухе заверения безымянных очевидцев о предпочтениях «одесских блатных иудеев». Проще говоря, вся история взята с потолка и растиражирована затем недалекими представителями сетевого братства.
То, что мы имеем дело с дешёвой и безосновательной байкой, совершенно очевидно. Хотя бы потому, что Бугаевъ рядом размещает ещё более бредовое толкование одной из строк песни:
«В песне “Я милого узнаю…” в припеве употребляются следующие слова: “…а шляпу он носит на панаму” — поскольку в те годы (нэп) национальность основной массы уголовников была откровенно жидовская, соответственно “панама”, на которой располагается шляпа молодого человека есть не что иное как кипа. Она же ермолка — головной убор правоверных иудеев! Эта мысль, естественно, заставила меня pousser un soupir involontaire
[46] — всем известно моё отношение к представителям этой нации, но, однако, как говорится, из песни слова не выкинешь!»
Несмотря на полный и очевидный бред этой «версии», находится немалое число охотников размножать её и отстаивать с пеной у рта. Да, кипу действительно можно носить под верхней шляпой. Однако ежу понятно, что между ермолкой и панамой нет ни малейшего сходства! Кроме того, выражение «шляпу он носит на панаму» появилось лишь у Алёши Димитриевича в 1968 году, до этого все певцы исполняли строку одинаково — «шляпу носит он панаму» — и никак иначе! И Юрий Морфесси, и Донцовы, и Софья Реджи, и Алла Баянова… То есть речь идёт всего лишь о звуковом искажении, особенностях исполнения Димитриевича. Слава богу, никто не догадался пока выдвинуть версию о том, что герой песни носил панаму фасона «нама-нама»: ведь именно так и звучит у Алёши — «панаму-наму-наму». А что, экзотичненько: пуля дум-дум, муха цеце, панама нама-нама…
На самом деле всё объясняется достаточно просто, стоит лишь более внимательно приглядеться к личности Алексея Ивановича Димитриевича. Так, аранжировщик болгарского происхождения Константин Казанский, французский знакомец Димитриевича, вспоминал: «Все как-то забывают, но Димитриевич плохо говорил по-русски — у него русский был хуже, чем у меня… Ведь он родился в Сербии в 1913 году — его отец был сербским цыганом, который женился на петербуржской цыганке. Димитриевичи жили в России, но совсем недолго — в 1917-м вместе с армией Колчака они уже едут в Сибирь и там в Китай, Японию… Он был в России четыре года, где он мог выучить язык?» Димитриевичи широко гастролировали по миру: Япония, Филиппины, Индия, Греция, Марокко, Испания, Франция, Бразилия — где угодно, только не в России. Петь Алексей Иванович стал лишь в 1963 году, в возрасте 50 лет.
Так что «на панаму» — персональное изобретение этого самобытного, удивительного, уникального в своём роде певца, о котором Михаил Танич когда-то написал:
Кабацкий музыкант Алёша Дмитриевич,
Ему подносят все, и он немного пьян.
И в этом кабаке он, как Иван-Царевич,
И это на него приходят в ресторан…
Любопытнейшее явление русского эмигрантского шансона: наш почитатель этого жанра обожает именно неправильности пения Алёши Димитриевича, Дины Верни, Юла Бриннера и многих других исполнителей. В этом многие находят особый шарм. А некоторые, как мы убедились, умудряются выковыривать из этих неправильностей бог знает какие подтексты. Как говорится, каждому своё.
Но от «ермолочных панамок» вернёмся к загадочным «нариманам». Итак, нет совершенно никаких данных — документов, слухов, отрывков из воспоминаний, цитат, реплик, — указывающих на существование как подпольной, так и легальной «иудейской» бакинской фабрики «Нариман», продукция которой пользовалась бы особой популярностью меж одесских уголовников. Однако версией Графа Бугаева попытки разгадать ботиночную тайну не ограничиваются.
Куда более популярны в этом смысле изыскания некоего Алексея Яцковского — автора-исполнителя «в стиле русского шансона». Опубликованы были эти откровения на его портале «Наша эра» в 2008 году. Здесь он предаётся воспоминаниям о своей юности и дружбе с другим шансонье — Александром Зельдовичем:
«Я выяснил, что же такое нариман, как раз благодаря Сашке. А началось всё…
Но вначале коротенькая предыстория. Когда Сашка только ещё начинал учиться игре на гитаре, я ему показал “три блатных аккорда”, и он с утра до вечера наяривал песенку времён расцвета нэпа:
Я был в Далласе,
В Техасе был я, был.
Носил гамаши
И нариман носил.
В кармане финка,
Ни цента за душой,
Зато бутылка с виски
Не была пустой!
В то время мы с ним были абсолютно уверены, что обувью в этой незатейливой песенке являются “гамаши” (уж больно на “галоши” по звуку похоже), а “нариман” в нашем понятии был чем-то вроде накидки, плаща. Несколько позднее мы услышали “ботиночки он носит нариман” и совсем уже не знали, что и думать. Перебрали массу возможных вариантов, потом плюнули на это дело и забыли.
А вот теперь переходим к сути. Началось все с того, что на Чистых Прудах снесли старое бомбоубежище и на улицу из него выбросили всякий хлам типа старой макулатуры. Так вот Сашка там кое-что подобрал ради спортивного интереса. В числе того хлама, который он приволок с той помойки, были обрывки какого-то дореволюционного питерского журнала без начала и конца, а там была напечатана реклама ассоциации “NARIMAN”, предлагавшей к весенне-летнему сезону нового тысячелетия (речь, очевидно, о 1990-м годе
[47]) новую модель мужской обуви. Там же был приведен рисунок этой обувки.
А вот тут начинается самое интересное. (Для непосвященных поясняю, что в те времена законодательницей мировой моды была Российская Империя, а не Франция с Италией, как сейчас.) Так вот, модель ботинка, разработанная компанией “NARIMAN” полтораста лет назад, сегодня является одной из самых популярных на Западе моделей мужской обуви, излюбленной: аристократами и бандитами, танцовщиками кабаре и сутенёрами, киноактёрами и звёздами шоу-бизнеса. Это та самая модель, которую носил Элвис Пресли и ансамбль Битлз… Список можно продолжать до бесконечности. Так вот — те самые “ботиночки нариман”, когда “милого узнаю по походке”, в сегодняшней мировой классификации называются “Chelsea Boots”… Оригинальный нариман был не одноцветным, а комбинированным — изготовлен из белой кожи с черным мыском и задником (в более дешёвых моделях из кожи были лишь мыски с задниками, а всё остальное из парусины). Помимо этого — у него не было никаких резинок, а на голенище сбоку, с наружной стороны был разрез, застегивающийся на кнопки.
Ну вот, пожалуй, и всё… Ах да! Что такое “NARIMAN”… Это аббревиатура, означающая что-то типа “Общенациональная северная ассоциация российских имперских товаров и одежды (North Association Russian Imperial Merchandise Apparels Nationwide)”. В том же обрывке дореволюционного журнала, найденного Сашкой, “NARIMAN” рекламировал абсолютно разные товары от одежной фурнитуры (пуговицы, крючки, застежки) до обуви, зонтов, плащей и корсетов. Видно, это была не просто обувная фирма, а крупная галантерейная корпорация, специализирующаяся на огромном спектре разных товаров, со штаб-квартирой в Северной Пальмире — Санкт-Петербурге».
Вот такая подробная история — как говорится, с аргументами и фактами! Однако при самом поверхностном рассмотрении она рассыпается подобно карточному домику. Прежде всего, нигде, ни в одном другом источнике (за исключением перепечаток цитированной выше ахинеи) вы не найдёте ни малейших упоминаний о «всемирно известной» «Общенациональной северной ассоциации российских имперских товаров» и т. п. Нигде и никогда. Точно так же абсолютной чушью является безапелляционное утверждение о том, что «в те времена законодательницей мировой моды была Российская Империя, а не Франция с Италией». В какие времена? На переломе XIX—XX веков? Откуда эти нелепые сведения? А ниоткуда. Они высосаны из пальца так же, как и байка о «неизвестном питерском журнале без начала и конца» с липовой рекламой липовой же ассоциации. Вся эта мистификация и ребёнку понятна. Особенно с расшифровкой аббревиатуры. Два питерских школяра, оказывается, настолько здорово владели английским языком, что один из них через 40 лет легко вспомнил длиннющее название неведомой фирмы! Но особливо умиляет совершенно замечательная оговорка перед расшифровкой — «что-то типа»… То есть точно, дословно не скажу, но где-то как-то вроде похоже на…
Поэтому я не удивился, встретив недавно единомышленника (вернее, единомышленницу) на сайте www.diary.ru — пользователя под ником tes3m. Вот что она пишет:
«А мне объяснение насчет “существовавшей до революции” фирмы NARIMAN, название которой представляет собой аббревиатуру, кажется похожим на мистификацию. Где источники, подтверждающие её существование? Аббревиатуры в названиях у нас знаю только появившиеся после революции (ГОЭЛРО, Осоавиахим и т. п.). И зачем дореволюционной петербурской фирме нужно было делать аббревиатуру именно на английском? Английский тогда ещё не стал международным языком. И почему в англоязычных источниках такое название не находится, если уж этот NARIMAN так повлиял на мировую моду? И почему даже на русском языке ничего о такой компании не находится до 2008 года?»
Далее цитируется отрывок из «мемуаров» Яцковского с комментарием:
«В этом первом (2008) упоминании компании “NARIMAN”, найденном мной, говорится об этом названии — “аббревиатура, означающая что-то типа”, а вот те, кто стал повторять, отбросили сомнения и совершенно уверенно расшифровывают это слово как North Association Russian Imperial Merchandise Apparels Nationwide. Даже в Википедии написали, но без ссылок на какие-либо источники…
Автор первоначального поста в качестве источника называет “обрывки какого-то дореволюционного питерского журнала без начала и конца”. И без названия. Ну, допустим, листочки не уцелели, названия журнала мы не знаем, но должны же были еще где-то уцелеть сведения о популярной фирме? Почему они не находятся?
Насчёт того, что что-то должно было сохраниться: журналы, архивы, само собой, а ещё и в художественной литературе популярные и известные названия часто упоминаются. Вот, например, Аверченко пишет:
“Здравствуй, старый петербургский фрак. Я знаю, тебя шил тот же чудесный петербургский маэстро Анри с Большой Морской, что шил и мне. Хорошо шивали деды в старину.
Этому фраку лет семь, и порыжел он, и побелел по швам, а всё сидит так, что загляденье.
И туфли лакированные узнал я — вейсовские”.
Или раньше Салтыков-Щедрин писал:
“— А какое на Верочке платье вчера прелестное было! Где вы заказываете?
— Там же, где и все. Бальные — у Сихлерши, попроще — у Делавос…
— А я слышала, в Хамовниках портниха Курышкина есть.
Соловкина слегка зеленеет, но старается казаться равнодушною.
— Не знаю, не слыхала такой, — говорит она сквозь зубы.
— Не говорите, Прасковья Михайловна! и между русскими бывают… преловкие! Конечно, против француженки…
— Я у русских не заказываю.
— В Петербурге Соловьева — даже гремит.
— Не знаю, не знаю, не знаю.
Соловкина окончательно зеленеет и сокращает визит”.
Или: “Александра Гавриловна мечтает, что, получивши деньги, она на пятьсот рублей закажет у Сихлерши два платья…”»
Критик также отмечает, что и о Сихлерше, и о Генрихе Вейсе можно при желании узнать много интересного, а вот о якобы «знаменитой» «всеимперской» ассоциации «NARIMAN» сведений — ноль. Но тут же уточняет:
«В более позднем посте на ту же тему в качестве доказательства того, что хотя бы после революции, в 1923 г., было известно слово “нариман”, приводится такой отрывок: “Захожу в парадную, навстречу идёт Сережа. Увидел меня и окаменел. Бледный как мел. Трясётся от страха, как будто приведение увидал. Я рассмеялся. Одет я во всё белое — белые брюки, рубашка, длинный белый плащ, белый шарф и ботинки нариман”… (воспоминания Анатолия Мариенгофа, поэта-имажиниста, 1923 год). Но я не нашла этого у Мариенгофа, зато в том источнике, что цитировала выше, тот же, кто рассказывал про журнал без начала и конца, пишет о себе: “Захожу в подъезд, а по лестнице спускается брат Сашки. Увидел меня и окаменел. Стоит бледный как мел, весь трясётся от страха, как будто приведение увидал. Хотя… я действительно был во всём белом — белые брюки, рубашка, длинный белый плащ и ботинки нариман”».
Добавлю от себя: в воспоминаниях Мариенгофа подобного отрывка и впрямь нет. Совершенно очевидно, что и эта «цитата» — очередная проделка некоего мистификатора (не исключаю, что самого Яцковского).
Ах да! Мы упустили из виду ещё один «аргумент» кем-то уважаемого шансонье — ту самую «песенку времён расцвета нэпа», которую с подачи Яцковского наяривал его приятель Сашка Зельдович. Помните:
Я был в Далласе,
В Техасе был я, был.
Носил гамаши
И нариман носил…
Увы и ах… Это «доказательство» тоже не стоит ни цента. Поскольку речь идёт об одной из бесчисленных переделок «блатной пионерской» песни «О Дикий Запад, страна скалистых гор». Она известна в самых разных вариантах. Вот, например, текст, который вспомнила из своего школьного детства москвичка Даша Павловская (родилась в 1981 году) на Калифорнийском слёте КСП 19 июля 1996 года:
Я был ковбоем, техасы я носил,
Носил припасы и револьвер носил,
В кармане финка и цинка за спиной,
Но и бутылка не была пустой.
В других версиях действие переносится во вьетнамские джунгли, в афганскую пустыню и ещё шут знает куда. Но Дикий Запад, конечно, наиболее распространён. При этом нигде нет упоминания о «наримане» и «гамашах» (зато встречаются «техасы», «цинки за спиной» и другие не менее экзотические штуковины — например, один из персонажей был ковбоем и ходил… в «черкесах»!).
Правда, некий amir_mahmudov оставил запись «Ботиночки он носит “нариман”» в своём блоге Живого Журнала. Автор сообщает:
«Когда мне было 16, я учился играть на гитаре. Мой наставник и учитель — Володя Ефремов показал мне три главных аккорда. С утра до вечера наяривал на гитаре, мучая своих близких многочисленными повторениями. Вова не любил блатняк и учил меня плаксивым дворовым песням. А вот в армии моим “учителем” стал Юрка Казаков из города Советск, Кировской области. Бо-о-ольшой любитель жаргонных песенок. У него я услышал старую нэпманскую песню. Прошло 30 лет и естественно весь текст не помню, только пару строк:
Носил он фрак, гамаши
И нариман носил.
В кармане финка,
Ни цента за душой
Зато бутылка с виски
Эх… не была пустой!
Тогда мы с ним были абсолютно уверены, что “нариман” был чем-то вроде шляпы или котелка. Несколько позднее я услышал “ботиночки он носит «нариман»” и совсем не знал что думать. Перебрал массу вариантов, но не нашел никаких доказательств и… забросил это дело».
Вам это ничего не напоминает? Вот именно! Почти дословный пересказ байки Яцковского — только с изменёнными именами. Далее следует пересказ байки о знаменитой «Общенациональной северной ассоциации» NARIMAN с полной расшифровкой, но уже без оговорки «что-то типа» и тоже без ссылки на Яцковского, которая заменена туманным выражением «утверждают источники». То есть «достоверность показаний» Махмудова о песенке про «нариман» и бутылку виски очевидна: грош цена в базарный день.
Впрочем, даже если принять вариант с упоминанием «наримана» за суровую быль, окажется, что исполнение этого текста Яцковским относится примерно к началу 1970-х годов, а Махмудовым — и вовсе к началу 1980-х (запись размещена в 2011 году, автор же сообщает, что пел песню «лет 30 назад»). Другими словами, события происходят после того, как Алёша Димитриевич уже «родил» свои «галифе» с «нариманом». А то, что записи Димитриевича в СССР начала 1970-х годов были известны и популярны, могу заверить лично. В коллекции моего отца в то время уже звучали и Алёша, и Борис Рубашкин, и Иван Ребров, и Юл Бриннер, и Алла Баянова, и многие другие эмигранты. Подпольных поставщиков этой продукции в Ростове было немало, некоторые записи отец привозил после поездок на море — в Сочи, Гантиади, Сухуми и т. д.
Поэтому говорить о варианте с «нариманом» как о произведении «времён нэпа» нет ни малейших оснований. Куда разумнее предположить, что в песне о «Диком Западе» «нариман» появился (если он действительно там появился вообще) с подачи Алёши Димитриевича, ибо до Алёши ни в одной песне о подобном фасоне обуви не было никаких упоминаний.
«Со страшным скрипом башмаки»
И всё же, даже если предположить, что фирменный обувной стиль «нариман» по простоте душевной влепил сербский эмигрант Алёша Димитриевич — что-то ведь должно было его на это натолкнуть! Наиболее разумное объяснение: речь идёт о фонетической путанице. То есть серб не так воспринял на слух и неверно истолковал какое-то другое слово или словосочетание, а в результате получился казус.
Услужливые фантазёры из Сети тут же вываливают массу предположений. Так, например, по мнению некоторых, «милый» носил ботиночки «мареман» («мариман») — так на морском жаргоне называют моряков либо курсантов морских училищ (в отличие от курсантов-речников — «лягушатников»). То есть герой песни щеголяет в морских ботинках, а забугорный шансонье перекроил их почему-то на закавказский манер…
Другой самопальный лингвист пишет:
«Мне кажется более логичным “на риман”. В детстве мы называли ремень “риманом”. “Клёвый у тебя риман”. То есть “ботиночки на риман” — ботинки, застёгивающиеся на ремешок».
Ему, впрочем, тут же возражают: а почему тогда не «на риманах», что было бы правильнее? Или просто — «на ремнях»…
Есть и вовсе экзотические версии. Например, «ботиночки он носит на лиман». То ли имеется в виду пригород Одессы Лиман (Сухой Лиман), то ли милый просто выходит в ботиночках прогуляться вдоль залива — типа по набережной… Или — ботиночки он носит на шипах (также — на липах, то есть на «липучках»; но они-то уж точно появились куда позднее, в конце 1980-х — начале 1990-х годов). Мы можем вспомнить и Аркадия Бухова с его переделкой «Евгения Онегина» 1921 года, где Татьяна поёт: «Ботиночки он носит на рантах».
Однако всё это большей частью — домыслы из воздуха. Между тем есть совершенно очевидное созвучие, которое приводит нас к вполне убедительной разгадке того, каким образом возникла фонетическая путаница. Для этого достаточно вспомнить традиционные тексты, которые звучали до Дмитриевича. Большей частью в них использовано словосочетание «ботиночки он носит на рипах». Так пели и Донцовы, и Морфесси, и многие другие исполнители. «На рипах» легко воспринять фонетически как «нариман»…
Но что же это за таинственные «рипы»? Вспомним «Панаму» 1917 года. Что там сказано по поводу обуви? «Ботиночки его всегда скрипят». Как мы помним, речь идёт о петербургском издании. Однако под названием «Панама» уточняется — «Одесская песенка». Скорее всего, либо сама издательница А. К. Соколова, либо кто-то из неведомых редакторов попросту «перевели» для столичных обывателей малороссийское выражение «на рипах», имевшее хождение в Одессе, а также Новороссии и Малороссии в целом и употреблённое в «Панаме». Дело в том, что до революции, да и в Советской России особым шиком считалось, когда обувь скрипела при ходьбе. Владимир Даль в «Толковом словаре» отмечал: «Сапоги со скрыпом, скрыпучие; скрып — в сапогах, по заказу давальцев, лоскутки кожи, вымоченные в уксусе, пересыпанные серой и вложенные меж стельки и подошвы, кладут и тонкую берёсту; подкладной скрып — особая стелька со скрыпом, которую можно вкладывать в сапог и вынимать; откуда: “К пану идти, скрып дома покинуть”. “Сапожки под скрыпом, а каша без масла”». Также некоторые умельцы под кожаную подошву засыпали сахарный песок. Помните «Шаланды, полные кефали»: «На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки»… Кое-где особым шиком считалось, когда скрипел только один ботинок. Через месяц-другой скрип, правда, исчезал. Ну, так на этой земле ничто не вечно…
Так вот, «рипеть» на малороссийском наречии (украинском языке) значит — скрипеть, соответственно «рип» — скрип. Заметим, что услышанное Куприным в «Гамбринусе» «на рипах» — это уже влияние русского языка, южнороссийское наречие предпочитало форму «на рип
ах». Вот на таких «рипах», поскрипывая при ходьбе, и появляется «милый» в популярной «одесской песенке». А Димитриевич превратил «на рипах» в «нариман».
В принципе, с этим можно согласиться. Однако с одной оговоркой: подобное объяснение не даёт ответа на вопрос, почему появился именно «нариман», а не какое-либо другое созвучное словечко — например, что-то вроде «налипак», «нарыпай» и тому подобное.
Кстати, интересное наблюдение: Владимир Семёнович Высоцкий в своё время несколько раз исполнял «Панаму» «по лекалу» Алёши Димитриевича: и с брюками галифе, и с шляпой «на панаму-наму», и «в Париж он больше не вернётся»… Но в трёх известных вариантах Высоцкий не упоминал никакого «наримана» и упорно пел «ботиночки он носит на рип
ах»…
Впрочем, не один только Димитриевич заменил неясное выражение. Вспомним, что в начале 1920-х годов народ пел «на рантах», позже — «на шипах». Однако эти замены по крайней мере логичны, понятны. С «нариманом» же — совершенно не ясно. Откуда он взялся, если держаться версии о том, что такого фасона обуви или фабрики с подобным названием не существовало? Совершенно очевидна связь с восточным именем «Нариман». А ведь мы вроде бы опровергли все гнусные иудейско-питерские версии о предприятии «Нариман»…
Наконец-то из тумана извлекаем Наримана!
Все, да не все. Пришла пора обратиться уже не к версиям, а к реальным фактам. Нити расследования приводят нас к выдающемуся сыну азербайджанского народа — политику-революционеру и писателю-просветителю Нариману Кербалаю Наджаф оглы Нариманову. Подробно рассказывать о нём не будем — хотя такого рассказа этот человек вполне достоин: он создал первую библиотеку-читальню на азербайджанском языке, прославился как автор романа «Бахадур и Сона» о любви азербайджанского юноши и армянской девушки, первой национальной исторической трагедии «Надир-шах» и т. д.
И всё же для нас более важно то, что Нариманов активно участвовал в российском революционном движении, был членом РСДРП (и даже перевёл программу партии на азербайджанский язык), а после революции занимал в большевистской верхушке значимые посты вплоть до председателя Совета народных комиссаров Азербайджанской ССР.
О том, насколько уважаем и ценим был Нариманов советским правительством, свидетельствует хотя бы тот факт, что после его внезапной смерти в Москве 19 марта 1925 года
постановлением Президиума ЦИК СССР во всех правительственных учреждениях Москвы и всего Советского Союза была прекращена работа. День похорон Нариманова был объявлен траурным днём, отменялись все спектакли, концерты и другие развлекательные представления. На всей территории СССР на пять минут были приспущены государственные флаги. Нариманова похоронили у Кремлёвской стены.
Естественно, именем славного азербайджанца были названы предприятия, улицы, больницы, кинотеатры и даже станция метро. Так вот: в число этих предприятий и учреждений входила и бакинская обувная фабрика имени Нариманова, которая, кстати, находилась в конце проспекта, названного опять-таки во славу того же самого Наримана Кербалая. До сих пор, например, в объявлениях о продаже недвижимости в Баку можно встретить указания: «продаётся 2-комнатная квартира в конце проспекта Нариманова рядом с бывшей обувной фабрикой»…
Когда именно заработало это предприятие, точно выяснить мне не удалось (источники указывают лишь сам факт присвоения фабрике имени политика и просветителя Нариманова). Однако позволю себе предположить, что это вполне могло случиться в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Во всяком случае, именно в это время советское правительство решает создать на юге СССР мощнейший обувной кластер. Центром его становится Ростов-на-Дону, где на базе обувных мастерских имени Анастаса Микояна возникла фабрика. В годы первой пятилетки она получила огромное даже по нынешним масштабам здание. Было закуплено современное оборудование, выписаны заграничные специалисты, со всех концов страны потянулись сюда лучшие закройщики, сапожники, заготовщики. Построили крупные кожевенные заводы в Ростове и Таганроге. Открылся Институт лёгкой промышленности в Шахтах, где стали обучать специальностям модельеров, технологов и т. д. Добавим, что в Ростове существовала крупнейшая армянская диаспора с её вековыми традициями сапожного дела. С тех пор Ростовская область стала успешно конкурировать с Москвой и Ленинградом, занимая стабильное третье место по объемам производства обуви.
В то же самое время советское руководство проводило политику индустриализации Кавказа и Закавказья, и упор при этом делался тоже не в последнюю очередь именно на обувное производство. Так что появление в Баку фабрики имени Нариманова именно в этот период можно считать вполне логичным — в рамках южного обувного кластера.
Кстати, в Ростове с давних пор существует улица Нариманова — на окраине города. Она была частью небольшого посёлка Северный, где жили… кто бы вы думали? Вот именно — работники ростовской обувной фабрики. Отсюда к фабрике вела длиннющая трамвайная линия, на Северном была конечная остановка и кольцо. Позднее обувщики несколькими километрами далее построили посёлок Мирный — трёхэтажные кирпичные коттеджи с отдельными квартирами. А затем возник и новый микрорайон Северный, куда продолжили трамвайную линию. Однако улица Нариманова существует и до сих пор. Я это к тому, что у нас в Ростове имя Нариманова всегда связывалось исключительно с обувным делом. И для меня в зрелом возрасте стало открытием, что почтенный Нариман Кербалай, оказывается, был вовсе не сапожником, а профессиональным врачом…
Таким образом, есть резон в предположении, что «ботиночки нариман» действительно существовали. Только не в тридцатые годы прошлого века (даже если именно тогда стала действовать «наримановская» фабрика), а значительно позже. Во времена первых пятилеток главной задачей являлось не разнообразие модельного ряда и изыски моды, а примитивное обеспечение населения обувью как таковой, без особых излишеств. То же продолжалось и в первые десятилетия после Великой Отечественной войны — по вполне понятным причинам. В конце концов, это привело к тому, что государственные фабрики вообще перестали заботиться о качестве и тупо гнали вал. Я сам — из семьи обувщиков, и мне эта проблема прекрасно знакома. Совершенно естественным следствием такой политики стало затоваривание обувных складов неликвидом, который — вдумайтесь! — затем планомерно уничтожался…
В начале 1960-х годов возникает так называемое «цеховое движение». Именно тогда появляются фабрики по ремонту обуви Министерства бытового обслуживания. Министерство лёгкой промышленности обувь производило, Минбыт её ремонтировал. Позже на фабрики ремонта возложили также индивидуальный пошив по заказам (обычную обувь граждане носить всё чаще отказывались). «Цеховики» как скромные труженики башмачного подполья вскоре становятся пионерами частного предпринимательства в Стране Советов и отвоёвывают себе нехилое место под солнцем. В начале 1970-х государственные фабрики СССР производили 10–12 миллионов пар обуви в год — плюс ещё почти столько же пар шили мастера индпошива. Разумеется, выполнение индивидуальных заказов граждан было мизерным, в основном «цеховики» ставили производство на поток — только качество произведённой ими обуви в разы превосходило бросовый ширпотреб госпредприятий. Поскольку мой отец, Анатолий Ефимович Сидоров, в те времена и позже занимал пост мастера цеха Ростовской фабрики индпошива обуви, я хорошо знаю, о чём говорю. Я всегда ходил в обуви, шитой только на заказ, «по ноге». Прекрасно помню, как высоко ценилась ростовская обувь. Разумеется, не «ушлёпки» фабрики Микояна…
Вот рассказ одного из старых «цеховиков», с которым я в своё время беседовал на эту тему:
«Бытовке», в отличие от Легпрома, план спускался не по валу, а по факту, — пояснил «цеховик» (назовём его Григорий Константинович). — То есть фабрики индпошива и их цеха по городу отчитывались не в парах обуви, а в рублях. Появился стимул: отдай план — и работай на себя!
Хотя товар отпускался по нормам и сверхплановая выручка должна была идти в закрома государства, на практике выходило иначе. Опытный закройщик умеет выкроить из куска кожи больше деталей, чем от него требуют нормативы. В день экономия может составить две-три «кожи» — несколько пар обуви (по крайней мере, моя мать, Ольга Георгиевна, меньше трёх кож в день не экономила). «Мы не воруем, а делаем деньги из воздуха», — шутили закройщики. Сэкономленные кожи продавались «цеховикам», а далее «из воздуха» тачали пары сапожники. Затем «воздушная обувь» продавалась за очень реальные рубли.
Частное предпринимательство было запрещено, ввоз импорта сводился почти к нулю — для нас условия идеальные, — вспоминает мой собеседник. — Управление позволяло нам выпускать массовые партии туфель, сапог, ботинок. Главное — дай план. Но в то же время жизнь заставляла нас выпускать ликвидную обувь. Микояновская фабрика могла затоваривать склады, а потом миллионами пар рубить и сжигать свои «ортопеды». Мы должны были шить лишь то, что можно продать.
Государственные по форме, цеха индпошива обуви были островками капиталистической экономики в бурном океане социалистического бардака. Зарплата рабочих превышала среднюю по стране в несколько раз. Закройщик только официально получал 300–350 рублей, столько же мог сделать «левых» (для сравнения — зарплата инженера составляла 150 рублей с премиями). На фабрике индпошива действовал экспериментальный цех, где разрабатывались перспективные модели, воспитывались собственные модельеры-дизайнеры. Безусловно, свои модельеры были и в цехах индпошива Минбыта.
Уже тогда мы копировали и выпускали модели ведущих западных фирм, — признаётся Григорий Константинович. — По качеству работы наша продукция не уступала западной. Но вот качество товара, фурнитуры, клея оставляло желать лучшего.
Всё это я рассказываю для того, чтобы читатель понял: только в этих условиях и могли появиться «ботиночки нариман». То есть на самом деле речь идёт именно о продукции закавказских «цеховиков», которая могла сбываться и под маркой фабрики имени Нариманова. Так, ростовская «цеховая» обувь разлеталась по всей стране, продавалась на рынках, с машин, в палатках… Это был бренд — «обувь из Ростова», и он сохранялся вплоть до середины девяностых годов прошлого века, пока в Россию не хлынул дешёвый китайский ширпотреб. Так же распространялась и обувь из Закавказья — Армении и Азербайджана. Азербайджанские туфли ассоциировались с крупнейшим обувным предприятием республики — фабрикой Наримана Нариманова. По имени этого просветителя и стали называть качественную азербайджанскую «цеховую» обувь: «Я тебе не фуфло толкаю, это же нариман!» К тому же в Закавказье нравы были проще и свободнее, «цеховые» замашки, судя по всему, легко приживались и на госпредприятиях. Во всяком случае, на одном из интернет-форумов пользователь под ником Ангел Ночи пишет: «Нариман — это ботинки, сшитые на Наримановской обувной фабрике в Азербайджане. Они там в совковое время почти легально левачили по импортным лекалам». Ничего удивительного…
Вот таким образом слава «наримана», видимо, докатилась и до города Парижа, где выступал Алёша Димитриевич. Подробности того, как именно это произошло, сейчас нам уже никто не сообщит (хотя — всегда остаётся хотя бы малая надежда…). Но, во всяком случае, можно считать самой достоверной версией то, что «ботиночки нариман» — изобретение начала 1960-х годов, но никак не ранее.
Вот, собственно, и все результаты моих изысканий. Конечно, можно было бы добавить, что недавно популярная израильская певица Ярдена Арази исполнила «Панаму» в переложении на иврит. Но это уже — совсем другая опера…
Краткая библиография
Абрамович И. Воспоминания и взгляды. URL: http://modern-lib.ru/books/abramovich_isay_lvovich/vzglyadi_vospominaniya_i_vzg-lyadi_2/read/
Адамова-Слиозберг О. Путь. М., 1993
Александров Ю. Очерки криминальной субкультуры. М., 2001
Алин Д. «Мало слов, а горя реченька…» Невыдуманные рассказы. Томск, 1997
Андреев В. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. URL: http://www.coast.ru/referats/librery1/editions/prison/15/06.htm
Андреевский Г. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920–1930-е. М., 2003
Антонов В. Танго со старой пластинки. http://vilavi.ru/pes/060310/060310-1.shtml
Антонов-Овсеенко А. Враги народа. М., 1996
Ашукин Н., Ожегов С., Филиппов В. Словарь к пьесам А. Н. Островского. М., 1993
Банкирские дома в России 1860–1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. URL: http://www.bibliotekar.ru/bank-11/
Баранов Е. Московские легенды. М., 1928
Башарин А. Блатная песня: terra incognita // Массовая культура на рубеже веков. М.; СПб., 2005
Башарин А. Песенный фольклор, ГУЛАГ и исторические источники. URL: http://a-pesni.org/dvor/piter/a-gulag.php
Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. 1931–1934 гг. М., 1934
Бердинский В. История одного лагеря. М., 2001
Бирюков А. Побег двенадцати каторжников // Колымские истории: очерки. Новосибирск, 2004
Блатная лира. Сборник тюремных и лагерных песен. Собрал и составил Я. Вайскопф. Иерусалим, 1981
Блатные песни (составитель и комментатор Фима Жиганец). Ростов-на-Дону, 2001
Босяцкий словарь. Одесса, 1903
Бродский И. На независимость Украины. URL: http://www.anticompromat.org/perestroika/nez_ukr.html
Буковский В. Путин и Агата Кристи. URL: http://ru.rfi.fr/rossiya/20120229-vladimir-bukovskii-putin-i-agata-kristi/
Вергасов Ф. Сталинские железные дороги. Стройки №№ 501, 502 и 503. URL: http://levrakhlis.narod.ru/obol503.html
Вертинский А. Дорогой длинною… М., 1990
Взлом сейфов на языке блатной фени — взгляд со стороны. URL: http://www.liveinternet.ru/users/2350132/post97143516/
Виртуальный музей ГУЛАГа. URL: http://www.gulagmuseum.org/showObject.do?object=331390&language=1
В нашу гавань заходили корабли. Пермь, 1996
Волков О. Погружение во тьму. М., 2007
Воровские профессии. Домушники и шниффера. URL: http://www.aferizm.ru/criminal/imperia/imperia_3.htm
«В Петрограде я родился…» Песни воров, арестантов, громил, душегубов, бандитов из собрания О. Цеховницера. 1923–1926 гг. СПб., 2013
Галлиполи. Книга Памяти Русской Армии генерала Врангеля и участников Белого движения. URL: http://www.gallipoli.ru/?pag
Гернет М. История царской тюрьмы: В 5 т. М., 1960–1963
Гернет М. Преступный мир Москвы. М., 1924
Гернет М. Татуировки в местах заключения г. Москвы. М., 1924
Гинзбург Е. Крутой маршрут. Рига, 1989
Губерман И. Прогулки вокруг барака. Н. Новгород, 1997
ГУЛАГ. 1918–1960. Документы. М., 2002
ГУЛАГ — испытание для христиан СССР. URL: http://www.gazetaprotestant.ru/2010/10/gulag-%E2%80%93-ispytanie-dlya-xristian-v-sssr/
Гурвич Л. Зарешёченные годы. М., 1991
Гуров А. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990
Дёмин М. Блатной. М., 1991
Детков М. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999
Джекобсон М., Джекобсон Л. Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник (1917–1939). М., 1998
Джекобсон М., Джекобсон Л. Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник (1940–1991). М., 2001
Джекобсон М., Джекобсон Л. Преступление и наказание в русском песенном фольклоре (до 1917 года). М., 2006
Дюков М. Путеводитель по русскому шансону. URL: http://knu.znate.ru/docs/index-475543.html
Есипов В. Кто он, майор Пугачёв? // Варлам Шаламов и его современники: сборник. Вологда, 2007
Ефимова Е. Современная тюрьма. Быт, традиции и фольклор. М., 2004
Жаргон преступников (пособие для оперативных и следственных работников милиции). М., 1951
Жигулин А. Чёрные камни. М., 1989
Зензинов В. Пережитое. Нью-Йорк, 1953
Зимородок Е. «Таганка, зачем сгубила ты меня…» // За решёткой. 2006. № 6
Зубчанинов В. Увиденное и пережитое. М., 1995
Каплан Ю. «Побег» Григория Шурмака. URL: http://jewukr.org/observer/eo2003/page_show_ru.php?id=344
Катермина В. Лингвокультурный потенциал имён собственных. URL: ff.unipo.sk/jak/11_2012/katermina.pdf
Клименко А. Дела и судьбы братьев Поляковых // Жизнь-Неделя. 25.07.2002
Козлов А. Наречённый Берлаг. URL: http://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=410
Колесников Г. Лихолетье // Немые крики: сборник. Ростов-на-Дону, 1991
Корецкий Д., Тулегенов В. Криминальная субкультура и её криминологическое значение. СПб., 2006
Кошко А. Среди убийц и грабителей. М., 1997
Краснопёров А. «Блатная старина» Владимира Высоцкого. URL: http://www.bards.ru/press/press_show.php?id=1569
Кресс В. Зекамерон XX века. М., 1992
Кузнецова С. «Бил терпеливо ручкой нагана по голове» // Коммерсантъ-Власть. № 46. 2010.22 ноября
Кучинский А. Нумерованные каналармейцы. URL: http://www.e-reading.me/book.php?book=32088
Лебина Н. Повседневная жизнь советского города. 1920–1930 годы. СПб., 1999
Леви А. Записки Серого Волка. М., 1994
Лимонов Э. В плену у мертвецов. М., 2003
Лукаш И. Голое поле. София, 1922
Лурье Ф. Политический сыск в истории России. 1649–1917 гг. URL: http://www.regiment.ru/Lib/A/53/3.htm
Мажаев А. История песни «Таганка». URL: https://radioshanson.ru/news/istoriya_pesni__taganka
Макеев С. Последний бой Ивана-Пахана // Совершенно секретно. № 6. 2011. 24 мая
Маргулис Н. Народу было 17 лет // Новая Газета. 2005. № 94. 15 декабря
Маркова Е. Воркутинские заметки каторжанки «Е-105». Сыктывкар, 2005
Марцинковский В. Записки верующего. Новосибирск, 1994
Матвеева Е. История одной зечки и других з/к, з/к, а также некоторых вольняшек. М., 1993
Махмудов А. Ботиночки он носит «нариман». URL: http://amir-mahmudov.livejournal.com/18604.html
Махов В. Словарь блатного жаргона в СССР. Харьков, 1991
Миндлин М. Анфас и профиль. М., 1999
Михельсон М. Русская мысль и речь. Своё и чужое. Опыт русской фразеологии. М., 1997
Морозан В. Деятельность Азовско-Донского коммерческого банка на Юге России в конце XIX в. URL: hist.msu.ru/Science/Conf/01_2007/Morozan.pdf
Моруков М. Правда ГУЛАГа из круга первого. М., 2006
Мурзин Н. Сцены из жизни. URL: http://samlib.ru/a/agentxyx/scenes_from_the_life.shtml
Неклюдов С. Почему отравилась Маруся? URL: http://www.ruthenia.ru/document/545633.html
Неклюдов С. Судьба и творчество Варлама Шаламова в контексте мировой литературы и советской истории. URL: http://shalamov.ru/memory/192/
Новиков В. Синявский и Терц. URL: http://www.litru.ru/br/?b=80896&p=1
Осипов В. Религиозная зона. М., 2003
Павловский Я. Тюрьма и песня. URL: http://www.shanson.org/articles/taganka-pesnya
Песенник анархиста-подпольщика. URL: http://www.a-pesni.org.html
Песни узников / Составитель В. Пентюхов. Красноярск, 1995
Петров Н. История Империи ГУЛАГ. URL: http://vif2ne.ru/nvk/forum/arhprint/228540
Плачкевич Е. Танго в Польше. 1913–1939. URL: http://petrleschenco.ucoz.ru/forum/3-340-1
Попов А. Кто пустил курьерский в тундру? // АиФ-Коми. 2011. № 44. 1 февраля
Потапов С. Словарь жаргона преступников: блатная музыка. М., 1927
Поэтическая речь русских. Народные песни и современный фольклор. URL: http://www.daabooks.net/indexkoi.html
Разгон Л. Непридуманное. М., 1989
Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу: В 2 ч. М., 1991
Русский шансон: тексты, ноты, история / составитель и комментатор Фима Жиганец. Ростов-на-Дону, 2005
Саранча Г. Режим содержания заключенных в лагерях ГУЛАГа 1930–1960 гг. на примере исправительно-трудовых лагерей Пермской области (диссертация). URL: http://www.dissercat.com/content/rezhim-soderzhaniya-zaklyuchennykh-v-lageryakh-gulaga-1930-1960-gg-na-primere-ispravitelno-t
Свирский А. Казённый дом. М., 2002
Семин А. «Чужие песни» Владимира Высоцкого. URL: http://v-vysotsky.com/statji/2008/Chuzhie_pesni_VV/text.html
Синдаловский Н. Мифология Петербурга. СПб., 2002
Синявский А. Отечество. Блатная песня. М., 1999
Слова, употребляемые преступниками, с указанием их значения в обычной разговорной речи. Воронеж, 1946
Снегов С. Язык, который ненавидит. М., 1991
Сновский А. Выжить и вспомнить. Красноярск, 2001
Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1990
Солженицын А. В круге первом. М., 1990
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. М., 1990
Солоневич Б. Молодёжь и ГПУ. София, 1937
Солоневич И. Россия в концлагере. М., 1999
Таганцев Н. Уложение о наказаниях, его характеристика и оценка // Журнал гражданского и уголовного права. 1873. № 1
Танков В. Опыт исследования воровского языка. Казань, 1930
Трахтенберг В. Блатная музыка (жаргон тюрьмы). СПб., 1908
Туманов В. Всё потерять — и вновь начать с мечты… М., 2011
Тюремный мир глазами политзаключённых. М., 1993
Тюремные Вийоны. М., 2001
Уварова Е. Русская советская эстрада. 1917–1929. М., 1976
Фоменко В. Записки о камере. Ростов-на-Дону, 1992
Фрид В. 58 с половиной, или Записки лагерного придурка. URL: http://ruslib.org/books/frid_valeriy/58_s_polovinoy_ili_zapiski_ lagernogo_pridurka-read.html
Хабаров А. Тюрьма и воля. М., 2000
Холодковский И. Палеография монет. Н. Новгород, 2011
Чернов М. (Одинцов М. И.) Евангельское движение в Советском Союзе: трудности возрождения и внутренние противоречия, отношения с государством. 1944–1955 гг. URL: https://rusoir.ru/president/president-works/president-works-196/
Шаламов В. Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М., 2004
Шаламов В. Колымские рассказы: В 2 кн. М., 1992
Шурмак Г. Моя тропа. URL: http://zhurnal.lib.ru/s/spiridonow_a_s/shurmak.shtml
Шуфутинский М. Я никакой не мачо. URL: http://news.online.ua/ukr/73970/
Энциклопедия циркового и театрального искусства. URL: http://www.ruscircus.ru/encyc?func=text&sellet=%D1&selword=2559
Юркевич Ю. Минувшее проходит предо мною. М., 2000
Якубович П. В мире отверженных. Записки бывшего каторжника: В 2 т. М.; Л., 1964
Яроцкий А. Золотая Колыма. Железнодорожный, 2003

Примечания
1
Подробнее об этом — в моей книге «Я помню тот Ванинский порт» (М.: ПРОЗАиК, 2013).
(обратно)
2
Крыленко Николай Васильевич — в 1922–1929 гг. занимал должности заместителя наркома юстиции РСФСР и старшего помощника прокурора РСФСР. В 1929–1931 гг. — прокурор РСФСР. В 1931–1936 гг. — нарком юстиции РСФСР, в 1936–1938 гг. — нарком юстиции СССР. Расстрелян как «враг народа».
(обратно)
3
Певень, пивень — петух.
(обратно)
4
Словом «зэ-ка» в документах ГУЛАГа часто обозначали одного заключённого, а «зэ-ка зэ-ка» — группу или общность лагерников. В мемуарах и исследованиях чаще всего используется форма «зэк/зэки» или «зек/зеки».
(обратно)
5
Такой хлеб или ржаные лепёшки назывались «саватейками» (возможно, от реки Саватейка в Новгородской губернии; название могли дать крестьяне, переселившиеся из этого края в Сибирь). Беглецы, соответственно, именовались «саватейниками», а побег с каторги — «саватейки стрелять», «саватейничать».
(обратно)
6
Любопытно, что ещё на жаргоне царской сахалинской каторги голова так и называлась — «арбуз»; «расколоть арбуз» — раскроить голову.
(обратно)
7
Актировать — составлять акт об освобождении от работы, об инвалидности и т. д. В случае тяжёлой, неизлечимой болезни иногда зэков даже «актировали на волю», то есть освобождали. Не было смысла кормить человека, от которого в лагере нет никакой пользы.
(обратно)
8
По другим источникам, Губаря обвиняли в убийствах шести человек, которые в разное время уходили с ним в бега. Доказать людоедство Губаря долгое время не удавалось, поскольку лесные звери объедали останки погибших каторжан.
(обратно)
9
Статья 59 Уголовного кодекса РСФСР — «Бандитизм».
(обратно)
10
Сам Кашкетин был расстрелян 16 января 1940 года как «враг народа».
(обратно)
11
Разумеется, фамилия подполковника — вымышленная, но из очерка Шаламова её выудил Солженицын и вставил в «Архипелаг ГУЛАГ», а затем со ссылками на «Архипелаг» её стали трепать многочисленные «исследователи».
(обратно)
12
ДВК — возможно, аббревиатура от «детская воспитательная колония», хотя официально такие учреждения назывались ВТК (воспитательно-трудовая колония), а позже — просто ВК для несовершеннолетних. С другой стороны, речь может идти о заключённых Димитровградской воспитательной колонии в Ульяновской области, которая тоже обозначается аббревиатурой ДВК.
(обратно)
13
Последний куплет — из мемуаров «Записки лагерного придурка» Валерия Фрида.
(обратно)
14
Не путать с работным домом в Москве, который находился под ведением городского присутствия для разбора лиц, просящих милостыню. Там речь шла не о заключённых, а о призреваемых.
(обратно)
15
Тогдашнее название Таганской тюрьмы.
(обратно)
16
«Русская мысль» — общеевропейская эмигрантская газета, возникла в Париже в 1947 году, с 2006 года выходит в Лондоне, с 2011 года — в журнальном формате.
(обратно)
17
«Так что перейдём к версии, автор которой свои изыскания единственно верными, окончательными и бесповоротными.» — Так в оригинале. Возможно не хватает слова “считает”. (Прим. верстальщика fb2)
(обратно)
18
Позже мне встретился вариант — «страна несбыточных надежд», что звучит не столь нелепо.
(обратно)
19
«Тройка», или Особое совещание — орган внесудебной расправы, выносивший приговоры «контрреволюционерам», вплоть до расстрела.
(обратно)
20
Текст сообщила Л. С. Рыбак-Башкирова, 1924 г. р.
(обратно)
21
Выдающийся советский правовед родился в 1887 году.
(обратно)
22
КТР — осуждённый на каторжные работы, использовалось вместо сокращения «з/к» (заключённый).
(обратно)
23
Инта — город, основанный в 1942 году в 268 км от Воркуты. Интинский лагерь выделен из Воркутинского 17 ноября 1941 года. Смеляков, говоря об «интинской стороне», имеет в виду даже не Воркутинский лагерь, образованный в 1938 году (поэт был освобождён в 1937 году), а Ухтпечлаг, созданный ещё в 1931 году и позднее реорганизованный.
(обратно)
24
Баркас, барказ — на старом жаргоне так называли стену.
(обратно)
25
Перекликается с начальной строкою романса В. Витте «Помню я дивную ночь ароматную», тем более что во многих вариантах уголовной баллады зачин звучит как «Помню я ночку холодную, тёмную».
(обратно)
26
«Медвежонок» — маленький сейф, несгораемый шкаф
(жарг.). От «медведь» — сейф.
(обратно)
27
В других вариантах — Грозный.
(обратно)
28
Послать на луну — расстрелять. Пойти на луну, отправиться на луну: получить «высшую меру социальной защиты» — расстрел. Выражение восходит к известной блатной балладе «Гоп со смыком», где герой поёт, что если умрёт, то отправится к чёрту на Луну (где «найдёт себе жену»).
(обратно)
29
Каскарилья — персонаж советской эксцентрической немой кинокомедии режиссёра Якова Протазанова «Процесс о трёх миллионах» (1926): элегантный мошенник, вор-джентльмен. Роль исполнял артист МХАТ Анатолий Кторов.
(обратно)
30
Фомич, фома фомич, фомка — воровской лом, ломик.
(обратно)
31
Насад — речное плоскодонное беспалубное судно.
(обратно)
32
ДВК — Дальневосточный край.
(обратно)
33
Т. е. поев как следует.
(обратно)
34
Мусор — работник милиции.
(обратно)
35
К
ича — тюрьма.
(обратно)
36
Курочка, курица — у этого слова два значения в арестантском жаргоне. Первое — пассивный педераст (также — петух, кречет, пивень). Соответственно сборище пассивных педерастов называют «курятником». Другое значение — тайный доносчик, стукач (синоним — «наседка»). И тех, и других тюремный народ с одинаковым рвением готов «пихать», то есть использовать их в качестве лагерных женщин. Аркадий Северный (и ряд других исполнителей) на концертах пел — «Там курочка канает на бану», что сомнительно. «Бан» на жаргоне — вокзал, привокзальная площадь. Хотя некоторые современные словари трактуют этот жаргонизм также как место в камере, однако в языковой практике и письменных источниках подобное значение не зафиксировано.
(обратно)
37
Мелодия — по-старому так назывался блатной жаргон (другое название — «музыка», «блатная музыка»). В современном жаргоне «мелодия» — это отделение милиции. Варианты — «с мелодией втыкают кокаин», «А вся братва — а ну, давай, давай! С улыбочкой заваривает чай!» и пр.
(обратно)
38
Торчать — находиться под действием наркотика.
(обратно)
39
Кармаши — карманные воры. Чаще в песне встречается «ширмачи», что одно и то же.
(обратно)
40
Правда, описание штемпелей появилось только в 1945 году, в «Трудах Государственного Эрмитажа», а позднее в запасниках обнаружился планшет со свинцовыми оттисками штемпелей дукатов.
(обратно)
41
Во многих других источниках — просто не заплатить карточный долг.
(обратно)
42
Стиры — карты.
(обратно)
43
Пулемёт — колода карт.
(обратно)
44
В наше время солистка ансамбля казачьей песни «Криница» Ольга Копаева отредактировала текст под «песню расставания» казака со своей любимой, где бравый воин обещает вернуться, разгромив врага.
(обратно)
45
Увы, то же самое можно сказать и об исполнении Марком Бернесом шлягера «Шаланды, полные кефали». Настоящий одессит, конечно, никогда не произнесёт «Одэсса» — только «Одесса».
(обратно)
46
Невольно вздохнуть
(фр.).
(обратно)
47
Судя по контексту, имеется в виду всё-таки 1900-й год.
(обратно)
Оглавление
«Я твой бессменный арестант…»
Как побег двух воркутинских зэков превратился в блатной эпос
«По тундре, по железной дороге»
«Мальчик пишет блатняк»: Григорий Шурмак как «формальный автор»
«Это чувствовать может только загнанный вор»: Пётр Смирнов в борьбе за авторство
«Чтобы нас не настигнул пистолета разряд»
Украинско-иудейская борьба за звание «вертухая»
«Вертухаями» называли не надзирателей, а заключенных?
Когда появились «вертухаи»?
Мочить иль не мочить? Во, блин, в чём заморочка…
«Мы бежали с тобою, замочив вертухая»
Побег — удел «духовитых»
«Вохра нас окружила…»
Охотники за «головками»
Мы бежали с тобою, прихвативши «корову»…
«Кто на смерть смотрит прямо, того пулей не взять»
Марк Ретюнин — романтик, бандит и любитель Шекспира
Меж двух огней: пуля чекиста или пуля фашиста?
Десять дней, которые потрясли ГУЛАГ
Мюнхгаузен «в законе»
Эпоха лагерной «пугачёвщины»
«Мы добрались с тобою до норвежской границы…»
«Мчится поезд Барнаул — Воркута»: «христосики» против «начальничков»
«Мчится поезд Барнаул — Воркута»: дело замученного христианина
«Рано утром проснёшься и раскроешь газету»…
«Мариинское небо»
«По прерии, вдоль железной дороги»
Как Таганка и Централка не поделили цыганку с картами
«Таганка» («Централка»)
О тюрьме так мало песен сложено…
Мошенник, авантюрист и варёный повар
По-польски «Таганка» звучит как «Тамара»?
Быть может, старая — но не центральная!
Централка, я твой навеки арестант…
«Ты, моя родная пятьдесят восьмая», или «Я сижу в Таганке, как в консервной банке»
Судьба кандальная, дамы и тузы
Таганский парнишечка: блатарь или «поляк»?
«Опять по пятницам пойдут свидания…»
Феномен польского танго
Итак, звалась она «Татьяной»?
«Ночи, полные огня»
Как шкаф превратился в медвежонка, а Азовский банк вошёл в поговорку
«Медвежонок» («Ограбление Азовского банка»)
Старая, старая сказка…
Град Петра или город Ленина?
Путешествие из Азова в Петербург
Банковские причуды блатного фольклора
В списках ограбленных не значится
Варшавские воры глубоко копают
Азовские байки
«Неправильные» куплеты
«Помню, в начале второй пятилетки стали давать паспорта…»
«Мчится карета по улице где-то…»
Как под шум амурской волны автора блатного фокстрота назначили лагерным охранником
«Алёша, ша!»
Душа скорбит, а ноги пляшут: полёт в «Дирижабле» Макса Кюсса
Как звезда кино привела композитора под красную звезду
«Хор братьев Зайцевых» имени барона Врангеля
Лешко Попелюш и Мишка Япончик
Фокстрот на службе революции
Тайна «заправленных арапов»: тема карточная
Тайна «заправленных арапов»: тема нумизматическая
Тайна «заправленных арапов»: тема разведчиков-налётчиков
Арестантские напевы Дмитровлага
Как милый одессит сменил штаны и перестал скрипеть при ходьбе
«Я милого узнаю по походке»
Панама из Одессы и «шашнадцать столовых ножей»
Брюки превращаются в элегантные галифе
«Нариман» из Питера и кипа под шляпой
«Со страшным скрипом башмаки»
Наконец-то из тумана извлекаем Наримана!
Краткая библиография
*** Примечания ***