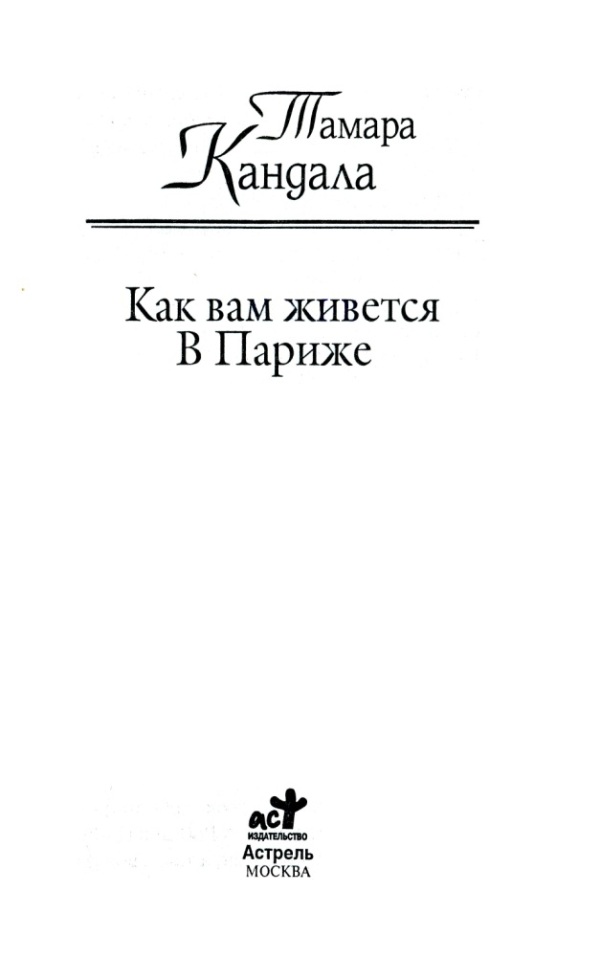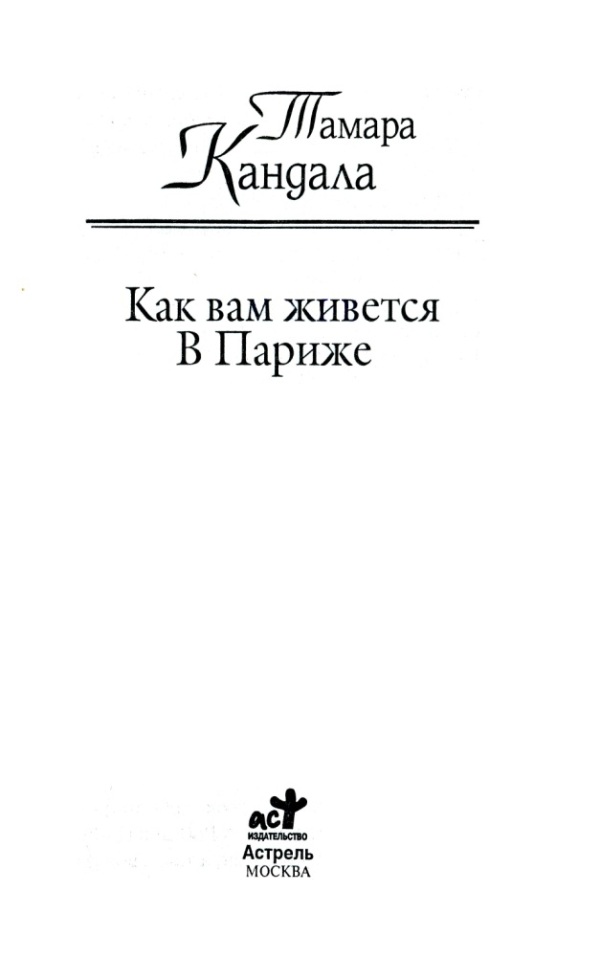
Тамара Кандала
Как вам живется В Париже
КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В ПАРИЖЕ
«Нет повести печальнее на свете…»
В. Шекспир
«Если хочешь быть нормальным — иди в стадо…»
А. Чехов
Есть истории, которые начинаются как водевиль, а кончаются как греческая трагедия.
«Никогда не знаешь, что тебя ждёт за ближайшим углом — проститутка или судьба», — говорила Графиня.
Когда, по прошествии времени, можно позволить себе взглянуть на все события и их участников отстраненным взглядом, отчётливо понимаешь, насколько ничего ни от кого не зависело и как эта самая судьба-кукловод, дождавшаяся тебя за этим самым углом, забавлялась, дёргая за ниточки своих героев-марионеток.
ПАРИЖ
1
Мы сидели с Ксенькой на залитой солнцем террасе нашего любимого кафе «Croix Rouge» в районе Сен-Жермен, в самом сердце картье «гош — кавиар», как его называли сами французы — любимый «рандиссманн» богатых левых интеллектуалов, преуспевающих артистов, художников и диссиденствующих консерваторов. Прямо напротив возвышался сезаровский «Кентавр» — бронзовая статуя недавно почившего знаменитого скульптора, в которой он воспевал мужскую силу своего учителя, Пикассо. Олицетворением этой силы служили две пары внушительных размеров чугунных гениталий, спереди и сзади, которыми он снабдил фигуру рыцаря-кентавра.
Мы пили холодное пенящееся пиво, заедали его зелёными оливками, начинёнными анчоусами, и солёным миндалём, и обсуждали, каким образом некие шутники умудрились нацепить использованный презерватив на самую головку переднего члена коня. Технически это было достаточно сложно, так как находился он на высоте примерно двух с половиной метров и дотянуться до него было дано не всякому.
— Это же надо было, по крайней мере, встать на плечи друг другу, — рассуждала Ксения, — и при этом ещё не разлить содержимое.
— Для этого надо было ещё иметь при себе эту штуку, совсем недавно использованную, — удивлялась я.
— Или попользоваться ею непосредственно на месте, под Кентавром, — предположила Ксенька.
Официант, который знал нас обеих в лицо в силу частого посещения этого места (это было наше обычное место свиданий), поняв, несмотря на русскую речь, что мы обсуждаем, с удовольствием объяснил нам, что какие-то остроумцы проделывают это регулярно.
— Эта штука висит там по нескольку дней, пока старушка, чьи окна напротив, видимо блюстительница нравственности, не вызывает пожарных, чтобы снять «эту гадость», — пояснил он.
— Представляете, — сказала Ксенька, — цель жизни — регулярно цеплять презерватив на конский член!
— А что, цель как цель, — философски заметил седой гарсон, — не хуже других. По крайней мере, вреда от этого никому нет — это тебе не бомбы в метро подкладывать. И бабульке развлечение. Она на эту «гадость» подолгу смотрит, прежде чем вызвать пожарных, — видимо, это ей о чём-то напоминает.
Парижские официанты любят пофилософствовать с клиентом — это, как правило, входит в стоимость чаевых.
Деревья на площади с тем же названием, что и кафе, теряли свою последнюю листву. Пронизанные солнцем в эти последние дни Индийского лета (так французы называют Бабье лето) они цеплялись за свои последние листочки, не желая оставаться голыми на противную долгую зиму. Я их понимала и сочувствовала от всей души.
В этот неправдоподобно прекрасный осенний день мы с Ксенькой наслаждались последними, а оттого ещё более ценными лучами тёплого солнца, холодным пивом и беспечным трёпом. А также предавались нашему самому любимому занятию — обсуждению прохожих, человеческих типов, дефилирующих перед нашим, как нам казалось, проницательным взором.
Мимо, сияя своим знаменитым рыжим каре, прошла Соня Рикель, чей бутик находился за углом. Её горбоносый профиль и впалые щёки напомнили нам молодую Анну Ахматову, наверняка гулявшую здесь когда-то, под руку с Модильяни.
Наискосок от того места, где мы сидели, на углу улицы Севр и бульвара Распай, находился знаменитый арт-нувошный отель «Лютеция», в котором немцы во время войны устроили свою комендатуру. Теперь бар и ресторан этого отеля стали любимым местом встречи всего левобережного бомонда. Сейчас как раз было время аперитива и вся эта джет-сеттовская публика дефилировала туда-сюда.
За соседний с нами столик уселся Марк Леви, один из самых раскупаемых на сегодняшний день французский писатель, умудрившийся продать права на свой первый, очень удачный роман самому Спилбергу в Голливуд. Его интеллектуальное лицо обрамляла модная трёхдневная щетина. Он был со своим сыном-подростком.
Ксенька сразу подтянулась, выпрямила спину и сделала «стойку». Соблазнять его она, конечно, не собиралась — реакция была чисто инстинктивная (хотя о нём было известно, что он в данный момент не женат).
— Господи, как хорошо-то, — сказала Ксения, потянувшись по-кошачьи, — живём себе тут как настоящие парижанки и в ус не дуем.
Она умела наслаждаться моментом как никто, моя Ксения, и реалии жизни были для неё в этом не помехой. Я ужасно завидовала этому её качеству — мне этого было не дано. Меня постоянно что-то глодало и мучило, если не явно, то подспудно.
Вот и сейчас, глядя на мальчика-подростка, я думала о своей дочери примерно этого же возраста, изводившей меня последнее время бесконечными баталиями по любому поводу.
ххх
Иногда мне казалось, что я понимаю, в чём заключается моя проблема в отношениях с жизнью и людьми. Мне свойственно наделять последних неким имиджем, законченным образом, который рождается исключительно в моей голове и никакого отношения к действительности не имеет. Я водружаю над их головой «нимб», ореол из воображаемых достоинств, которых, скорее всего, не хватает мне самой и о которых я начиталась в детстве в сказках. К тому же, потом я требую, чтобы объекты моей любви, или даже просто симпатии, этому образу соответствовали и несли его как крест. Можно представить, какое количество разочарований приходилось испытывать мне на каждом шагу. Живой объект моего псевдо-романтического воображения на «имидж» плевал, вёл себя как ни попадя, и «нимб» всё время сползал с его головы, норовя грохнуться оземь и разбиться. Я упрямо водружала его на прежнее место — он опять кренился, терял равновесие, тускнел и ржавел, порой прямо на глазах.
Когда я поделилась этими своими размышлениями с Ксенькой, она сказала, употребив, как всегда к месту, ненормативную лексику:
— Это точно! Вечно ты при… ваешься к дубу, почему он не берёза, а к берёзе, почему она не роза. Будь проще. А то со своим максимализмом всех вокруг себя распугаешь. Ты своими запросами сжигаешь за собой все мосты.
Терпимость и снисходительность — эти два слова должны стать девизом моей жизни. Должны, но как-то не могут. Как научиться этому? Где взять силы? Вместо этого я всё время в протесте. И это отравляет жизнь мне и моему окружению. Если перечислить всё, что я не выношу, физически и рассудком, можно составить целый справочник. Но другие ведь живут с этим. И ничего! Они, что, глупее? Аморальней? Или просто терпимее и снисходительней? А значит, более развиты душой? Или менее? И где она — граница терпимости? (Дом терпимости, например, не это ли кульминация?) И кому это дано, быть терпимым? Святым или безразличным? Умным или безмозглым? Известно, что равнодушие гораздо полезнее для организма, чем страсти. Эгоисты гораздо здоровее пассионариев. И от этих самых пассионариев одни неприятности — революции, диктатуры, разводы, брошенные дети. Где же разумный компромисс? Золотое сечение?!
Она была права, моя прагматичная подруга, надо быть проще. Сама Ксенька за время нашей долгой дружбы умудрилась стряхнуть со своей головы бесконечное количество «нимбов», которые я ей напяливала, оставаясь при этом очень близким мне человеком и объектом моего восхищения. Почему-то ей я прощала все несовершенства. Более того, они мне казались настолько привлекательными, что часто я даже пыталась, вольно или невольно, ей подражать. В этом, наверное, и есть феномен истинной любви и дружбы, в ней воображение господствует над интеллектом. В конце концов я короновала её званием «лучшей подруги», которому она полностью соответствовала, и успокоилась.
— Я вообще считаю, — Ксения осторожно разгрызла своими белоснежными крепкими зубами миндаль, — нужно научиться извлекать максимум пользы из своих и чужих недостатков и заставлять их работать на себя. А то в жизни всегда так — ждёшь, ждёшь чего-то, а потом, когда это, наконец, получаешь, оказывается, что это совсем не то, чего ты хотела. Учись быть счастливой. А то ты вечно из двух зол норовишь выбрать оба.
И это было правдой. У неё был разумный взгляд на вещи. «Это моё окончательное решение… но не последнее», — любила говорить она по многим поводам. Мне всегда импонировала эта её снисходительность к людям и к самой себе. Тогда как меня всё время раздражало их и, особенно, своё несовершенство.
— Давай-ка выпьем с тобой, подруга, — Ксенька подняла бокал с пивом, — причём, выпьем не за здоровье, а за удачу! Знаешь, на «Титанике» все пассажиры были здоровы…
ххх
— Когда возвращается твой Ихтиандр? — спросила она.
Ихтиандром она называла моего мужа-океанолога. Ещё она его называла Капитаном Немо, Командиром Кусто и полудюжиной других, соответствующих его профессии, прозвищ.
— Скоро, — сказала я. Из суеверия я никогда не называла конкретных дат.
— Надо мне тобой заняться немного, взять на какую-нибудь тусовку, а то так совсем закиснешь.
В данный момент своей жизни Ксения вела обзоры культурной жизни (она говорила культюр-мультюр) для очередного (уже третьего по счёту) глянцевого журнала, посещала премьеры, вернисажи, благотворительные балы. «Гламурничала», как она сама говорила, вовсю, и, ко всему, ей за это ещё и неплохо платили.
— В гламурных интервью самое главное — это правильно дозировать отвращение с восторгом. Это целое искусство. Овладев им, можно идти и в политику, там платят намного больше, не говоря уж о привилегиях, — рассуждала она. — Этому, к сожалению, ни в каких школах не учат.
Но она считала, что и так неплохо устроилась. Журнал был богатый, отношения с владельцем и главным редактором у неё были самые нежные, и она работала «в своё удовольствие».
— К тому же познакомлю тебя со своим новым «кадром». Интересно, что ты о нём скажешь.
Она любила проверять на мне своих новых «кадров».
— И чем он занимается? — поинтересовалась я.
— Продаёт унитазы в Россию, — усмехнулась Ксенька, — но при этом очень начитанный — знает, что «Войну и мир» сначала написали, а потом уже сняли в кино.
Ксения сделала знак официанту, и через минуту на нашем столике стояло по свежей кружечке пива и тарелочка с тонко нарезанными, почти прозрачными кружочками салями.
— А вон идут Сукаян и Мирзаян, — указала она мне кивком головы на проходящую мимо парочку.
— Ну, Ксень! Ну за что ты их так! Злючка.
— Это я злючка?! — расхохоталась она. — Ну и дурочка ты, Шошка. Столько лет живёшь в Париже и таких прикольных людей не знаешь. Это их собственные, настоящие фамилии. Она — Сукоян, он — Мирзоян. У них на интерфоне в подъезде так и написано — Сукоян-Мирзоян. Так и живут всю жизнь вместе, в гражданском браке — ни один не желает взять фамилию другого.
Я сделала пометку в своём блокноте. Такого сама не придумаешь.
Когда, спустя мгновенье, спрятав карандаш и блокнот в сумку, я подняла глаза, то увидела Нику.
Сколько раз я думала потом, что она могла бы пройти другой дорогой или я могла бы её не заметить на другой стороне площади, и этой истории, возможно, не было бы вовсе. Я ещё не подозревала тогда, как судьба может быть настойчива, если она что-то задумала, и как искусно умеет подстраховываться.
Никину прямую спину и гордо посаженную балетную головку трудно было не узнать. Вид у неё, как всегда, был несколько отрешённый. Она остановилась у какой-то витрины, рассеянно теребя в руках мобильный телефон. Потом она набрала какой-то номер, но тут же отключилась, даже не поднесла телефон к уху.
С Никой я познакомилась несколько лет назад, когда, пытаясь приобщить свою дочь к балету, привела её в балетный кружок. Она попала в группу к Нике. Из этой затеи ничего не вышло. Дочь была своенравна и уже тогда умела настаивать на своём. Балет ей не нравился, у неё, как она заявила, были другие интересы. Ника посоветовала не настаивать. «Балет, — сказала она, — это как любовь — насильно мил не будешь». Между нами возникла взаимная симпатия, и мы с тех пор общались время от времени. Ника, также как и я, была полным интровертом, который пытался работать экстравертом. Мы познакомили даже наших мужей. Но так как Никин Робин, очень востребованный хирург, был страшно занят, а мой бесконечно болтался по морям и океанам, встречались мы, в основном, вдвоём. С Ксенией они знакомы не были, хотя друг о друге слышали.
— Посмотри, вон там, на той стороне — это Ника. Окликнуть?
— А! Это и есть твоя Ника, — с некоторой ревностью заметила Ксения. — Ну, давай, зови её.
Ксения, в отличии от меня, была абсолютным природным экстравертом, всегда готовая к новым знакомствам, эмоциональным открытиям и всевозможным приключениям. Её натура в любой момент была готова откликнуться на любой призыв.
— Ника! — позвала я и махнула ей рукой.
Она оглянулась, обвела рассеянным взглядом столики кафе, включая и наш, и, не узнав меня, отвернулась.
ххх
Здесь я должна отвлечься на одно моё свойство вполне метафизического характера — меня никто, никогда и нигде не узнаёт. При этом я никогда не меняла пола, не делала пластических операций и не носила масок. Даже мой муж, периодически теряя меня в больших магазинах, тогда как я находилась в двух шагах от него, не переставал удивляться этому моему свойству.
— Надо же, такая заметная женщина, ты умеешь стать абсолютной невидимкой. Это поразительно! Как если бы ты выставляла перед собой невидимый экран. У нас это называется совершенной мимикрией, что является самым сильным защитным свойством живого организма во враждебной среде, — констатировал он с научной дотошностью. «У них» — это значило в подводном мире, среди рыб, моллюсков и земноводных. — Ты могла бы быть лучшим шпионом всех времён и народов, — добавлял он.
Может, всё дело было всё-таки во «враждебной среде»?
Я окликнула Нику ещё раз, на этот раз привстав и замахав обеими руками.
Она улыбнулась, махнула в ответ и, убедившись, что мы зовём её, подошла.
— Присядь к нам, — сказала я, пододвигая свободный стул. — Познакомьтесь.
Они познакомились. Я отметила, что Ксении она понравилась сразу. Своим опытным глазом она тут же оценила её ненавязчиво-уверенные манеры, быстрый смеющийся взгляд и милоту нежного лица. В джинсах, облегающих её узкие бёдра, и короткой кожаной куртке, она была похожа на подростка.
— Ты как здесь оказалась? — спросила я, зная, что живёт она довольно далеко отсюда — в Нёйи.
— Я здесь каждую среду даю частные уроки, — объяснила она. Вид у неё был явно взволнованный.
— Ты, по-моему, чем-то расстроена? — заметила я.
— Ужасно! — призналась она. — И не знаю, как поступить. Стою перед выбором — доносить или не доносить.
— Ничего себе, выбор, — сказала Ксения.
— Вот именно, — подтвердила Ника. — Я являюсь свидетельницей того, как калечат двух маленьких девочек. Причём, калечит их собственная мать. Эта полуграмотная захолустная дура прочла в своей жизни полторы книжки, из которых целая пришлась на какой-то диетологический опус. Теперь она следует ему фанатически и ставит эксперименты на всей семье. Ну ладно бы только на себе и на муже, но дети… Она кормит их какими-то «проросшими культурами», семечками, вареными овощами и кашами. Они не знают вкуса ни рыбы, ни мяса, ни даже молочных продуктов. Всё это считается смертельно вредным.
Я никогда ещё не видела Нику в таком возбуждённом состоянии, и не слышала, чтобы она так много говорила.
— Из них вырастут инвалиды с хрупкими костями и атрофированными мышцами, — яростно продолжала она. — Это может сказаться и на их умственном развитии.
— А куда смотрят воспитатели и учителя? Их же должны кормить в школе. А муж? — возмутилась я. — У неё французский муж?
— В школе она всех запугала несуществующей аллергией, и дети едят только принесённое с собой. А французский муж вообще не имеет права голоса. Он её боится. Его уже бросила одна жена. Полностью под её пятой.
— Вернее под… под другим местом, — в последний момент удержалась Ксенька. — Сам-то, небось, по ресторанам втихаря отъедается, — предположила она.
— Я не знаю, что мне делать, — повторила Ника.
Мы тоже не знали. С одной стороны — чужая семья, чужие дети. Здесь не принято вмешиваться в чужую жизнь, если только это не входит в ваши непосредственные профессиональные обязанности (я, например, никогда не слышала, чтобы кто-то кому-то делал замечания на улице или в общественных местах, как бы себя люди ни вели. Даже неодобрительный взгляд был редкостью. В крайнем случае, любопытный.) С другой стороны — детей жалко. Если вовремя не вмешаться, им обеспечены проблемы со здоровьем. А нам, промолчавшим, угрызения совести. Получалось, что одна безответственная идиотка-мать не имела никаких проблем в данной ситуации.
— Нужно обратиться к юристу по детским проблемам — он подскажет, как быть, — предложила Ксения.
— Я именно это и собиралась сделать, — сказала Ника. — Но это значит — донести?
— У нас, у бывших советских, идиосинкразия на это слово — комплексы нашего тяжёлого прошлого. Это не донос. Это предупреждение об опасности. Нельзя позволить сектантке калечить будущее поколение, даже если это её собственные дети.
Потом она вспомнила, что у неё есть знакомый юрист из организации «Врачи без границ», порылась в книжке, нашла его телефон и, позвонив, договорилась о встрече. Она предложила Нике пойти туда вместе, на что та с радостью согласилась.
2
Через пару недель Ксенька потащила нас обеих на «тусовочный вернисаж».
Галерея жужжала, гудела, вспыхивала фотовспышками и позванивала бокалами. Над разнокалиберной толпой, активно выпивающей, закусывающей и обменивающейся новостями, витали смешанные пары крепких и тонких духов, плотный сигаретный дым и головокружительный восточный аромат свечей, расставленных по углам.
Две очаровательные русские хозяйки этого однодневного храма искусств передвигались от одной группы к другой, поддерживая светскую беседу и фотографируясь с гостями.
В углу стоял мрачный автор, вывезенная из российской глубинки на время выставки диковина, с всклокоченными чёрными вихрами и одухотворённым выражением лица. Время от времени одна из владелиц брала его за руку и подводила знакомить с «нужными» людьми. Он заученно хмуро, но с явным удовольствием, предоставлял свою персону фоторепортёрам для увековечивания в будущей светской хронике.
В этот самый момент она подвела его к очень любопытной парочке, которую я узнала именно по этим светским хроникам, выуженным мной в Ксенькином журнале. Он был американец, антикварный набоб, полный, невысокого роста, чем-то похожий на Черчилля человек. Недавно он разошёлся со своей женой, с которой прожил тридцать лет и которая свихнулась на пластических операциях. Называют разные цифры. Некоторые говорят, она сделала их тридцать шесть, другие — сорок две. Причём, походить она почему-то хотела исключительно на леопарда. Фотографии, которые она делала с удовольствием, свидетельствовали о её сходстве скорее с неким мифическим животным из фильмов ужасов, чем с благородным хищником. Говорят, что на суде он заявил (по поводу её бесконечных реконструкций лица), что последние двадцать лет у него впечатление, что он живёт в недостроенном доме, в котором постоянно ведутся ремонтные работы. Сейчас он собирался жениться на молодой русской красавице, больше похожей на библейскую Юдифь, чем на сказочную Алёнушку. С ней-то он и пришёл. Одета она была в длинную солдатскую шинель эпохи гражданской войны в исполнении какого-нибудь готье-лагерфельда, которая сидела на ней, как влитая, а на голове, на чёрных крутых кудрях до плеч, каким-то чудом держалась будёновка с красной звездой, вышитой пайетками. Они фотографировались, светски улыбались и Юдифь переводила ему то, что бубнил себе под нос художник.
А на стенах висели «произведения». Это были большие (примерно полтора метра на полтора) чёрно-белые фотографии, изображающие шахтёров, выходящих из забоя после тяжёлой смены. Они были в круглых защитных касках с фонариками на головах и отбойными молотками в руках. Их чёрные от гари лица были суровы, во взгляде читалась тоска и безнадёга, а позы выдавали смертельную усталость. Фотографии были сделаны в суперреалистической манере, казалось, по-собачьи всепонимающие глаза шахтеров заглядывают прямо тебе в душу.
«Специфика» же этого, в общем очень профессионального репортажа, заключалась в том, что шахтёры были… абсолютно голыми, не считая… снежно-белых балетных пачек вокруг талий. И это несоответствие серьёзности изображаемого и хулиганской гротескности приёма сражали наповал. Их болтающиеся из-под пачек перепачканные сажей члены привлекали не меньше внимания, чем их потусторонние чумазые лица. Во всём этом было что-то одновременно трагическое, комическое и оскорбительное.
Я потопталась немного между группами, пытаясь зафиксировать реакцию зрителей. Но здесь, видимо, считалось хорошим тоном обсуждать всё, что угодно, только не развешанное на стенах.
Только одна женщина, в давно не модном хипповом «прикиде», видимо из чужих, с улицы (таких тоже пускают для «колорита»), пыталась высказаться, стоя перед одним из экспонатов.
— Это же издевательство! — обратилась она к стоящему рядом нелепому колобкообразному существу в немыслимой шляпке. — Ну вы бы повесили такое у себя дома?! — доверчиво вопрошала хипповая дама.
Бедная женщина, как говорят французы «mal tombée», то есть напоролась. Колобок была ни кем иным, как культурным обозревателем распространенной русскоязычной газеты в Париже, известная своим острым, как бритва, языком и сварливым характером.
— Это не критерий для искусства: повесить или не повесить дома, — презрительно смерила её взглядом профессионалка от культуры, — вернее, критерий для кухарок, — добавила она и отошла.
— А что же тогда критерий? — растерянно обратилась женщина ко мне как к ближайшему свидетелю.
— К большому моему сожалению, понятия не имею, — честно призналась я и поспешно ретировалась.
И тут же наткнулась на Нику. Она стояла посреди шумной толпы, как в пустыне, и задумчиво обводила взглядом стены с экспонатами. Я всегда удивлялась этому состоянию отрешенности, читаемому на её лице, тогда как, на самом деле, впоследствии оказывалось, что это именно она лучше всех запоминала все мелочи. Древние говорят, что самый высокий дар — это дар благородства и созерцательности.
— Ну, и как тебе всё это? — спросила я.
— Забавно, — ответила она. — Не понятно, кто на кого смотрит и кто кого дурачит. Я вот себя спрашиваю, это настоящие работяги, которых он уговорил быть «объектами искусства» или всё-таки фигуранты?
— Я думаю, фигуранты.
— С фигурантами не получилось бы такого эффекта, — возразила она.
— Ты можешь спросить у художника. За этим он и здесь, — предложила я.
— Не хочу. Искусство должно оставаться тайной.
— Ты считаешь это искусством? — изумилась я.
— В какой-то степени, да. Раз это действует эмоционально… Для меня искусство — это умение передать чувства.
— Ну, знаешь… Я, видимо, не до такой степени открыта всему новому.
Она засмеялась.
— Ты знаешь, меня так редко что-то забавляет, — сказала она немного виновато, — смотри, нас зовёт твоя подруга.
Ксенька изо всех сил делала нам призывные знаки пустым бокалом. Вокруг неё образовался маленький кружок. Мы подошли.
— Вот Сева, — предъявила она нам неопрятного патлатого человека, обвешанного фотоаппаратами и при этом умудряющегося жонглировать бокалом с вином, птифурами и дымящейся сигаретой, — очень известный журналист и фоторепортёр — ему, для интервью, достаточно наговорить алфавит — он сам всё склеит. Но ещё больше он известен своим жалом, которым мы его сейчас и попросим поводить по гостям. А? Поводи жалом, Севочка, расскажи нам, кто есть кто.
— Печень чешется — пора выпить, — провозгласил Севочка и засунув в рот крохотный тостик, забросив следом маслинку, запил всё это вином. Плотоядно облизнувшись, он растянул губы в улыбке.
— Будьте бдительны, — скосил он глаза, — к нам приближается парочка интеллигентных халявщиков. Живут в Москве, но постоянно торчат в Европе, таскаются с тусовки на тусовку. По принципу, всё хорошо, что на халяву.
— Кто такие? — спросил кто то.
— Он эрудит. Исключительная память. Кружит головы девушкам и всем остальным желающим почерпнутым из энциклопедии красноречием. Выучил наизусть всего Брокгауза и Эфрона. Может значительно излагать на все темы, приводит точные цифры. Пишет на заказ трактаты любой ориентации, от коммунистическо-фашистких до либерально-демократических. Не брезгует ничем. Был бы заказчик. Каждого встречного рассматривает как потенциальную добычу. Справедливо полагает, что в жизни может всё пригодиться. Когда им из вежливости говорят фразу, вроде «…будете в наших краях, заходите», они воспринимают её буквально, записывают адрес и через некоторое время (пока не забыли), оказываются в «краях» и заселяются к наивным на неопределённый срок. А она при нём, «играет короля».
В этот момент парочка как раз проходила мимо нашей группы. Они внимательно окинули нас взглядом, но, не сумев ни за кого зацепиться глазами, прошли мимо.
— А вон та стайка силиконовых фей? — переключилась Ксенька. — Я с ними то и дело сталкиваюсь на светских случках. Похожи друг на друга, как будто их отштамповали.
— Ну, так ведь это же профессионалки, — маслено блеснув глазками, сказал с удовольствием Севочка. — А похожи так потому, что поотрезали носы и понакачивали губы по одному и тому же образцу. И каждая старалась отрезать покороче и надуть посильнее. Это у них униформа. Так же как джинсы с эскарпинами на шпильках и сумки от «Прада».
— В каком смысле, профессионалки? — поинтересовалась рыжая красавица Даша, жена «лимузинного короля».
— Бывшее путаньё, — объяснил Сева, — а теперь новый русско-французский бомонд. Нашли себе здесь богатых лохов, напридумывали трагических биографий, а уж изобразить загадочную славянскую душу — это им раз плюнуть. Маня-Лошадь, Катька-Нога, Ольга-Отвёртка. А вон та, самая надутая, с верблюжьей губой и вовсе Надька-Потап!
Она сегодня выгуливает новый каратник, а её товарки делают вид, что его не замечают. А рядом пузатый лох, который на него потратился.
— Ты-то откуда их всех знаешь? — спросила сквозь смех Ксенька.
— Подумаешь, бином Ньютона! Если кто хочет, например, стать её лучшей подругой и быть приглашённым на ближайший «салон» в её неслабые «аппартамэнты», стоит только пройти мимо и ахнуть в его сторону. Я имею в виду, в сторону каратника.
— Ну, ты и злой, Савелий, — сказала Ксения. — А сам, небось, у них ошиваешься постоянно.
— Естественно, — подтвердил Савелий, — а с кем же им ещё делиться секретами и выслушивать комплименты. Зато кормлюсь икрой и шампанским. Её величество Халява — царица всех светских дружб.
— Есть хорошая арабская пословица, — сказал вдруг, молча внимавший до этого разглагольствованиям Севочки, пожилой журналист (может из конкурентного издания?), — если собрался карабкаться на дерево, подумай о том, чтобы хорошо помыть задницу.
Все рассмеялись. И Севочка первым.
— А есть ли здесь люди искусства? — осторожно поинтересовалась Ника.
— А как же! Их тут как грязи. Каждый второй. Если не блядь, значит художник. Вам кого показать? Враждующих классиков или молодую наглую поросль?
— Мне интересны и те, и другие, — серьёзно сказала Ника.
— С удовольствием, — сказал Севочка, обрадованный таким своим успехом. — Вон тот, похожий на старую собаку, с копной седых волос, это вечно модный художник Пукер. Своего рода, гений.
— Гениальный художник? — почтительно уточнила Ника.
— Коммерческий гений. Уникальный нюх — он всегда там, где деньги. А это поважнее таланта будет. Он сам на себя моду организовывает — сначала в Париже, потом в Америке, а теперь и в России. Его художественное кредо, как он сам говорит, придумывать новые примочки и скармливать их богатым снобам, любителям «нового искусства». Действует, в основном, через баб. Умеет их обхаживать, как никто. А те уже поют в уши своим богатеньким «папочкам», чтобы раскошелились.
— Но это же жульничество! Обманывать простаков, которые держат тебя за художника! — встряла примкнувшая к нашей группке хиппушница.
— Ничего подобного. — Севочка с удовольствием опрокинул ещё стаканчик красненького. — Во-первых, он действительно высокий профессионал. А во-вторых, лохов надо учить — пусть образовываются. Потому что, как говорила моя бабушка, если не знать, лучше и не покупать.
— А вон тот, чернобородый, в кожаном пальто до пят, и с выражением скучающего библейского пророка?
— А это его коллега по кисти, пригретый им когда-то, в начале эмиграции, а потом обвинённый им же, став к тому моменту почти классиком, в плагиате. Теперь они заядлые враги. Имейте в виду, здесь почти все со всеми враждуют. Особое свойство русской эмиграции. А «пророк» этот, между прочим, очень хороший художник, из настоящих. Проникновенный. Не ушлый и не циничный. Его спасает провинциализм — он искренне продолжает верить в искусство. Таких мало осталось. Теперь тоже уже выскочил в классики.
Я уже давно следила за неким молодым человеком довольно странного вида. Стрижка «а ля гитлер-югенд», одет в трикотажный костюм с лампасами «а ля командировочный», но с «лейблом», и в высоких шнурованных ботинках. От него ни на шаг не отступала прелестная японская фарфоровая «куколка». Он был очень общителен и всем желающим давал потрогать свои мускулы на правой руке. Севочка объяснил, что это «стебается» очень модный художник. Его последний «прикол» — огромные полотна в стиле Микеланджело, но написанные… шариковыми ручками.
— Тяжёлый труд, между прочим. Целый мешок ручек исписал. Вон, видишь, всем хвастается своим бицепсом, накачанным таким образом.
Галерея продолжала журчать и побулькивать пузырьками разговоров, поцелуев, восклицаний, посверкивать редеющими уже вспышками, позвякивать по-прежнему неутомимо наполняющимися бокалами, но вернисажный энтузиазм уже явно шёл на убыль. Под занавес вплыла высокая полная дама в накрученном блестящем наряде, её неправдоподобно длинные ноги в кружевных чулках возвышались на высоченных каблуках в форме Эйфелевой башни. Норковая шуба в пол и широкополая шляпа завершали опереточную нелепость облика.
— А эта, королева шантеклера в кокаиновых парах, некто Козлик, — кивнула в её сторону головой Ксения, — бывшая жена моего бывшего приятеля. Он, помнится, называл её Ветераном большого минета. Был, между прочим, неплохим писателем, из тех, что пишут кишками и членом и претендуют на «культовость». Теперь вернулся на родину и ушёл в политику — стал фашиствующим большевиком. Никак не может изжить свои комплексы. Да и Козлик уже из козлика превратился в козлиху.
Тут Ксенька замахала, как мельница, руками — в галерею вошёл высокий светловолосый парень приятной наружности. Это и был её «кадр». Он направился в нашу сторону, раскинув в приветствии руки и улыбаясь во весь рот белозубо-сахарной улыбкой. Схватив Ксеньку в охапку, он приподнял её и облобызал. Приземлившись, она нас познакомила. Саша́ с итальянской непосредственностью облобызал и нас с Никой.
— Ну что, — сказал он по-французски, с милым южным акцентом, — если вы здесь уже нааперитивились, может перейдём в соседнее заведение, где кормят. Культура живота намного важнее, чем культура ума. Особенно для итальянца. — Мы с Никой замялись и попытались отойти. Но Ксенька ничего не хотела слышать.
— Не смущайтесь, курочки, — сказала она нам по русски, — он богатый и щедрый. Ему не жалко. Итальянско-русская кровь. Это вам не французские зануды.
И она потащила нас к выходу.
— Позвольте мне хоть взглянуть на шедевры! — воскликнул Саша́, — где я ещё такое увижу!
Он обошёл выставку, внимательно всё рассмотрел, потом подошёл к художнику и долго тряс ему руку, балабоня что-то на смеси французского и итальянского. Художник смотрел нервно и просил перевести. Подошла одна из хозяек.
— Этот человек говорит, что он тоже продаёт произведения искусства, — перевела она художнику.
— Так вы арт-диллер? — обратилась она, уже к Саша́.
— В какой-то степени, — ответил тот.
— И что же вы продаёте? — настаивала очаровательная хозяйка.
— Унитазы!! — громовым голосом объявил Саша́.
Настала неловкая тишина. Неловкая для всех, но только не для него.
— И положил начало этому, между прочим не я, — продолжал он радостно, — а ваш незабвенный Дюшан, да будет земля ему пухом. Разница только в том, что мои клиенты пользуются ими по назначению, а не выставляют в музеях. Сегодня, чтобы стать известным концептуальным художником, надо быть не просто идиотом, а концептуальным идиотом! — заключил он.
Ксенька была в восторге.
— Видишь! — дёрнула она меня за рукав, — я же тебе говорила, что он образованный.
Оставив за собой клубиться редеющую толпу, мы выбрались на улицу.
— Какие будут предложения? — спросил нас Саша́. — Какую будем выбирать кухню?
— Китайскую! Китайскую! — закричали мы хором.
— Очень хорошо, — сказал он. — Я знаю тут, за углом, один симпатичный китайский ресторанчик.
И повёл нас в «Дьепп», дорогущий ресторан на улице Шарон, «très branche»
[1], где можно встретить разных шоу-знаменитостей, арабских шейхов со свитой, русских манекенщиц в последних коллекциях от Дольче-Габана, а также молодую деловую элиту в строгих костюмах.
Мы провели чудный вечер, слопали немыслимое количество китайских пельменей на пару и выпили много вина, что, в тесном союзе с предыдущими аперитивами, и вызвало настоящее веселье. Саша́ вёл себя с нами так, как будто знал нас всю жизнь. При этом он всё время весело кадрился к Ксеньке, доверчиво призывая нас подтвердить её «радиоактивное обаяние». Она пофыркивала на него довольно, урчала как кошка, и трижды объявляла нам, что он больше чем на десять лет её моложе:
— Ну что я буду делать с этой крохой! — корчила она довольные гримасы.
— Не волнуйся, — сказала я, — он сам найдёт, что с тобой делать.
Она и не волновалась.
Потом мы с Никой откланялись и оставили их вдвоём. Ника была на машине и предложила подвезти меня. Моя Булонь была по пути в её Нёйи, и я согласилась.
По дороге я расспрашивала, как у неё дела. Она сказала, что всё нормально, «рутина», как она выразилась. Робин очень много работает, стал ведущим хирургом. Уходит рано. Приходит поздно. По выходным и праздникам часто дежурит. Она преподаёт в частной балетной школе, работает с детьми всех возрастов. Недавно получила интересное предложение от самого Бежара — вести классы в его балетной компании.
— Это очень заманчиво, — сказала она, — но это в Швейцарии, в Лозанне. А Робин в Париже. Мы и так с ним редко видимся, а так и вовсе семья превратится в символическую, — сказала она, — но я всё-таки съезжу, попробую договориться на четыре дня в неделю.
Потом она спросила про Машку, которую помнила белокурым, несколько своенравным ангелом. Я рассказала, что ангел превратился в длинного угловатого подростка в прыщах и с кольцом в пупке, которое делает ее похожей на гранату — дёрни и взорвётся. А внутри у Маши сидит вредный маленький чёртенок, который умудрился поссорить её со всем миром, а особенно, видимо, науськивает против меня. Отца, которого она обожает, дома почти никогда нет (поэтому и обожает) и справиться с ней практически невозможно. «Не думай, что ты такая умная, — сказала она мне, например, вчера, — иметь дело с «понимающим» гораздо важнее, чем с «умным». И намного приятней».
— Ну, ты слышала что-нибудь подобное в устах подростка? — Я вспыхнула, вспомнив, с каким видом она мне это сказала!
— По-моему она абсолютно права, — рассмеялась Ника. — Вообще. Не по отношению к тебе, конечно.
— Да, но она-то говорила именно обо мне!
— Не расстраивайся, это временное, — сказала Ника. — У Маши очень сильный характер и завышенные требования к себе и людям. Жить с этим тринадцатилетнему подростку очень тяжело.
— Почти четырнадцать. Психологи говорят, что ещё года два будет корёжить. Какое счастье, что у тебя нет детей, — сказала я и осеклась, прикусив губу. Я знала, что у Ники были какие-то проблемы. — Извини, — пробормотала я.
— Ничего. У меня теперь их полно, целых два класса и ещё частные уроки — больше дюжины.
Пока она говорила и вела машину, мне было очень удобно за ней наблюдать. Я всегда отмечала в ней этот феномен — спокойное и одновременно очень живое лицо, которое отражает целую бездну чувств. А обещает ещё больше. Как айсберг — семь восьмых под водой. Поражает своей силой. И своим потенциалом. По крайней мере, меня. На мой взгляд, она относилась к тем личностям, в присутствии которых всё маленькое и незначительное становится большим и важным. И было непонятно, как ей это удавалось при её сдержанности в отношении с людьми. Расставаясь с ней, хотелось увидеть её снова, и как можно скорее.
Мы распрощались с Никой у моего дома и, как всегда, договорились видеться почаще.
3
Утром я проснулась от того, что что-то мокрое и холодное тыкалось мне в лицо. Догадаться было не сложно — это была наша собака Долли, трёхлетняя далматинка, обычно свято чтившая сон хозяев. Она неистово колотила хвостом по кровати и укоризненно поддевала меня своим мокрым носом. Я, улучив момент, обхватила её за сильную мускулистую шею и поцеловала в лоб. От неё, как всегда, удивительно вкусно пахло сеном и парным молоком, по крайней мере, мне так казалось, как будто это была не собака, а корова. Она фыркнула и отскочила — не любила фамильярностей.
— Подумаешь… я тоже не люблю, когда меня будят, например, — сказала я ей.
Я посмотрела на часы — было уже десять. Ничего себе! Накануне я заработалась до двух часов ночи, потом не могла заснуть, в три приняла таблетку снотворного, уговаривая себя, как всегда, что это в виде исключения и я ещё не «подсела». Сейчас я с трудом выныривала в действительность.
Наверное, Машка не выгуляла собаку, подумала я, вот она и нахальничает. Утренняя прогулка с Долли была её святой обязанностью, главным условием, которое мы поставили, согласившись взять собаку, которую она выклянчивала у нас целый год. Но иногда она просыпала и убегала в школу, оставив мне объяснительную записку.
Долли нервно гавкнула, напоминая о себе. Я с сожалением покинула тёплую постель, такую несказанно уютную в утренние часы, и поплелась на кухню. Записка была на месте, приклеенная к холодильнику. «Собака выгуляна, но не накормлена — кончился корм. Сегодня задержусь. М.», — говорилось в ней. Тон записки я нашла вызывающим. Правда, покупать корм было моей обязанностью.
— Теперь мне понятны твои справедливые претензии, — сказала я собаке и дала ей хлеба с молоком. — Только не говори Машке об этом безобразии (ну не бежать же было спозаранку в магазин за кормом).
Моя дочь, которая страшно жалела толстых собак и ненавидела их хозяев за то, что они «калечат» животных, держала Долли на строжайшей собачьей диете. Она у нас не знала вкуса сахара, зато уплетала все овощи, фрукты, салаты, бахчевые, лук, чеснок, лимоны и всё остальное. При этом всегда была голодной, но отличалась необыкновенной прытью и поджаростью.
Она мгновенно опустошила миску и подняла на меня вопрошающий взгляд: — И это всё?! — Разочарованию её не было предела. Только тут я поняла, что выглядит она как-то странно. Взгляд её, обычно наивно-вопросительный, превратился в нагло-игривый. Мне даже показалось, что она мне подмигнула. Вглядевшись, я поняла в чём дело. На её белой, в чёрный горох, морде были нарисованы густые соболиные брови вразлёт, сраставшиеся на переносице. Это делало её похожей на престарелую проститутку, пытающуюся соблазнить выгодного клиента. Или на мексиканскую художницу Фриду Калло. Ну, конечно, Машкины штучки и наверняка моим дорогущим шанелевским карандашом, раздражилась я. Но вид у собаки был такой одновременно вызывающий и нелепый, она до такой степени не подозревала о своей метаморфозе, продолжая изображать нормальную собаку, что я расхохоталась.
Выжав в стакан пол-лимона и разбавив сок горячей водой, я добавила ложку мёда и выпила эту смесь с удовольствием. Говорят, помогает от простуд и способствует умственной деятельности. И то и другое всегда для меня актуально. Потом заварила себе крепкий кофе прямо в чашке, как я люблю, сделала тостик с джемом и, поставив всё на поднос, отправилась в гостиную. Там я устроилась с ногами на диване и включила новости по телику.
Там показывали, как беспечное человечество занимается системным самоистреблением, уничтожая, по ходу дела, всё живое на земле отбросами своей жизнедеятельности. Властелины мира вели подковерные игры, в борьбе за нефть, за власть, а человечество катилось своим собственным путём прямиком к глобальной катастрофе. Войны, голод, эпидемии новых болезней (и не только человеческих), наводнения, цунами, землетрясения стали рутиной. Страны сотрясали социальные проблемы, семьи потрясали внутренние конфликты, а индивидуумы страдали сами по себе. Казалось, весь мир превратился в гигантскую русскую рулетку. Жестокость стала обыденностью, а милосердие организованной акцией.
Двойственность ощущения нестабильности вообще и стабильности этой конкретной минуты (в собственной уютной квартире, на мягком диване, с чашкой дымящегося кофе перед теликом, который можно в любой момент вырубить и отключиться тем самым от мировых скорбей) для меня лично,
была близкой к шизофренической.
Но, устроившись поудобнее, я продолжала заниматься мазохизмом и переключилась на имеющийся у меня российский канал.
Там вовсю шёл диспут на тему, надо ли убивать иностранцев в России и не виноваты ли они сами в том, что становятся жертвами. В передаче участвовали журналисты, учёные, депутаты Государственной Думы и просто «население». Для депутата Митрофанова (у него было такое лицо, как будто он его отсидел) вина самих избитых, покалеченных и убитых была очевидна. «Население» его явно поддерживало. Ведущий был не на высоте. Вот уж, воистину, если споришь с идиотом, постарайся удостовериться, что он не делает того же самого.
Год назад, приехав в Москву и включив телевизор, я наткнулась на этого же самого Митрофанова, призывающего немедленно сбросить атомную бомбу на Америку. Причём, он настаивал на том, что сделать это нужно обязательно ночью, пока их генералитет и военное командование «находятся в отключке, наколовшись и нанюхавшись». А наше, по его глубочайшему убеждению, несмотря на количество выпитой водки, всегда находилось в боевой готовности. Не зная в лицо российских избранников и решив, что это юмористическая программа с клоуном, одетым под депутата, я очень веселилась. Пока не поняла, что всё взаправду. Стало страшновато, причём, мне, а не Америке.
Я переключилась на французский платный канал. Там крутили выборочные куски из программы «Куклы»
[2]. Французские остроумцы развлекались вовсю, издеваясь над всем и всеми подряд, не щадя ни своих, ни чужих. Больше всех доставалось дебильной кукле Буша, у которой в консультантах по всем вопросам (политическим, экономическим, военным) была одна и та же кукла — Сильвестра Сталлоне. Последний всё время пенял президентской кукле за то, что тот ковыряет в носу, наложил в штаны и не знает точно, кто президент Соединённых Штатов Америки.
Потом кукла диктора первого, государственного, канала назвала будущую жену принца Чарльза, Камиллу, кобылой с яйцами. Дальше показали куклу агонизирующего Папы Римского в окне своей резиденции, издающего неприличные звуки, вместо воскресного благословения (потом, после его смерти, когда будут выбирать нового Папу и весь христианский мир будет, затаив дыхание, следить за цветом дыма из трубы, где заседал конклав — белый или чёрный, выбрали или нет — эти же куклы остроумно предположат, что дым пойдёт голубой, так как, на этот раз, наверняка изберут Папу-педофила, намекая этим на недавний скандал в одной из епархий). Следующим номером программы был Бен-Ладен в чалме, трясущий своей козлиной бородкой и нагло издевающийся над всем немусульманским миром. И, напоследок, всласть поиздевались над своим собственным французским президентом (за пафосность и бессмысленность его речей) и его женой, кукла которой изображала престарелую уродину в мини-юбке, бегающую по всем светским раутам и обнимающуюся с эстрадными и кинознаменитостями.
«Вот это да! — подивилась я. — Вот это демократия!» Я представила, как вместо Папы они измывались бы над каким-нибудь аятоллой (это было ещё до «карикатурного скандала»), а вместо куклы Буша куклу российского или китайского президента. Скандала было бы не избежать. Похоже, что есть страны, политические режимы и религиозные конфессии которых обладают разной чувствительностью к насмешкам. И всё это у них называется «чисто французским картезианством» и они гордятся этой своей способностью издеваться над всем на свете, не имея (и не желая иметь) ничего святого. Не зря французов так не любят в мире. А с другой стороны, кого любят?! Немцев? Русских? Американцев? Или, может быть, евреев с арабами? Я вспомнила армянское землетрясение и реакцию азербайджанцев на него — радость целого народа по поводу катастрофы, унесший десятки тысяч жизней другого народа.
А как люди умудряются ненавидеть друг друга внутри своих же сообществ!
Эти мои грустные размышления, которыми почти всегда заканчивались утренние просмотры новостей, были прерваны телефонным звонком.
— Она, конечно, очень милая, твоя Ника. Но совсем не так проста, как кажется. — Это была Ксения, которая, как всегда, продолжала по телефону уже начатую с самой собой дискуссию.
— А она простой совсем и не кажется.
— Вот именно. Есть в ней какое-то высокомерие. Как если бы она слегка презирала всех вокруг.
— Ну не выдумывай. Ты же её совсем не знаешь. Она просто сдержанна по натуре. Это тебя кидает из одной крайности в другую.
— А иначе и жить скучно. А у неё, думаю, просто не хватает воображения (это в Ксенькиных устах было серьёзным обвинением).
Я видела Нику совершенно по-другому. Она не была искательницей приключений. Наоборот, она сознательно или бессознательно старалась их избежать. И делала это не от недостатка воображения, а из чувства самосохранения, подозревая в себе те самые залежи нерастраченных чувств, которые и сработали детонатором в последующих событиях.
Но всего этого говорить Ксении я не стала.
— В общем… я хочу сказать, что не к чему придраться, но и ухватиться не за что.
— А тебе зачем хвататься? — удивилась я.
— Ну, так…новое лицо, неохваченный субъект, подруга моей подруги. Вы ведь с ней близкие подруги?
— Ксень! Ну какие мы близкие подруги? Видимся два-три раза в год.
— А мы вот с ней виделись несколько раз только за последний месяц. Пока у тебя была твоя медовая неделя. — Она имела в виду короткое пребывание дома моего мужа. — И, потом, ты знаешь, у нас с ней много общего. У неё ведь тоже не сложилась её артистическая судьба — она мечтала быть балериной, но её карьеру разрушил несчастный случай. Но зато потеряв балет, она, как и я, нашла Францию.
И здесь Ксения была не совсем точна. Ника не просто мечтала, она была балериной, восходящей звездой в «Мариинке», танцующей ведущие партии в «Дон Кихоте» и «Спящей красавице». У неё было всё — успех, овации, поклонники и обещание блестящей карьеры. Она работала с ведущими балетмейстерами страны. Её даже пытался переманить к себе Английский Королевский Балет. И это всё я знала не от неё (она на эту тему говорила очень неохотно), а от знакомого музыкального критика.
Но, и этого я не стала говорить Ксении.
— По крайней мере, ты можешь быть уверена, что она не «faux cul»
[3] и не будет за твоей спиной водить жалом, как большинство твоих «светских» подруг, — уверила я её.
— Я это поняла сразу. Ты же знаешь, я чую настоящих и всегда могу отличить их от лживых сучек. А общаться приходится, к сожалению, не только с теми, с кем хочешь, но и с теми, с кем нужно, — она вздохнула. — Хотела вот приобщить её немного к светской жизни. Ей бы тоже не помешало для её рода деятельности. Но она диковата. Никого до себя особенно не допускает. Живёт с закрытым забралом.
— И правильно делает! — сказала я с чувством. Для меня моё «открытое забрало» всегда было проблемой.
— Послушай! Я тебе звоню по другому поводу. Арсик просит найти ему помещение под офис в Париже. Недалеко от дома. Поможешь поискать?
Мы с семьёй недавно перебрались в квартиру, в которой живём сейчас, на поиски которой я потратила почти два года. С тех пор я считалась у Ксении большим специалистом по недвижимости.
— Недалеко от твоего дома?
— Ну, да. А какого же? У него пока другого нет.
Арсик — это был Ксенькин сын Арсений, которого я знала практически с пелёнок, самая большая удача в её жизни. В данный момент Ксения жила в прекрасной квартире, подаренной ей сыном год назад, где у него была своя спальня и маленькое бюро. Он пользовался ими во время своих коротких набегов в столицу нашей новой родины.
— Он, что, собирается перебираться сюда? — спросила я с надеждой.
— Перебираться — нет, но бывать будет чаще.
— И когда мы его увидим, нашего звёздного мальчика?
— Точно не знаю, но обещал появиться в ближайшее время.
— Ну, естественно, помогу. Может, со временем и переберётся?
— Я тоже надеюсь, — сказала она и, быстро попрощавшись, повесила трубку. Я успела услышать, как где-то в глубине квартиры зазвонил её мобильный.
Господи, подумала я в который раз, бывают же такие дети! Сплошная, ничем не омрачённая радость. Вот уже целых двадцать шесть лет. И рос ведь, как трава, без всяких потуг на воспитание. Ни тебе вредного периода детства, ни трудного переходного возраста. Не говоря уж о том, что в свои младые годы он стал для матери абсолютной финансовой опорой. Может, и правда, что в лотерее с детьми всё решает то, как фишка ляжет. Вернее, как выпадет ген.
Долли сидела, вперившись в меня своим жгучим цыганским взглядом под разлетающимися бровями, как будто собиралась предсказать мне судьбу. На самом же деле она пребывала в нервном ожидании своей порции утреннего кофе. Остатки из моей чашки были вылаканы тотчас, вместе с гущей.
Телефон зазвонил снова. Милый женский голос предлагал переделать в квартире все оконные рамы.
КСЕНИЯ
1
Ксения происходила из знаменитой московской актёрской семьи. Имя её отца было известно всей стране, а после его ранней смерти и вовсе стало легендой. Такой же легендарной была красота её матери. Ксения была единственным ребёнком в семье, и будущее её было предопределено с детства. Она унаследовала изумительную красоту матери и весёлое, лёгкое обаяние отца. Сниматься в кино она начала в пятнадцать лет. В семнадцать она была уже известна всей стране, её именем были исписаны стены в школах и подъездах, а её фотографии висели в кабинах водителей-дальнобойщиков.
Сразу после школы она поступила в «Щуку». И там ей впервые безжалостно дали понять, что театр — это не кино и здесь внешность для актрисы ещё не всё. Что к её редкой красоте хорошо бы ещё немного таланта. Но Ксению, с её целеустремлённостью и опытом победительницы, не так-то просто было сбить с толку. Она считала, что всему можно научиться, и что «не боги горшки обжигают».
Она стала брать уроки у известнейшего театрального педагога, друга своего отца. Это был породистый седовласый старик, ещё вполне крепкий и не потерявший своего мужского обаяния. Кроме школы Станиславского он изучил все существующие современные театральные школы и был своего рода гением. О нём говорили, что он может научить играть стул.
Ксения в своей, в общем-то короткой, хоть и насыщенной жизни, ещё никогда не имела дела с такими людьми. Арсений Петрович был красив той внутренней благородной красотой, которая в те советские времена была уже полным анахронизмом. Своими аристократическими манерами, рокочущим тёплым басом и изысканным чувством юмора он больше походил на английского лорда, чем на советского педагога, пусть и театрального.
— Ну что же, милое создание, — сказал он ей мягко, — я могу научить вас всему, чему можно научиться, но я не смогу вложить в вас то, чего не вложил Он, — Арсений Петрович указал пальцем в небо, — уж не обессудьте.
— Я готова, — сказала Ксения, — я готова на всё!
Сначала он поставил ей голос, научил её владеть им во всех регистрах, обучил тончайшим его модуляциям. Потом объяснил ей, с точки зрения актёрской, все диапазоны человеческих эмоций. Научил пользоваться всей клавиатурой чувств, находить и нажимать в себе соответствующие клавиши, чтобы привести себя в нужное состояние. Научил плакать и смеяться на сцене так, чтобы этому вторил зал. Научил быть гордой и униженной, красивой и уродливой, высокой и горбатенькой, грациозной и неуклюжей, старухой и ребёнком.
Оказывается, существовала виртуознейшая техника игры и этой технике можно было обучиться почти в совершенстве.
Училась Ксения страстно. И так же страстно она влюбилась в своего учителя. Арсений Петрович отнёсся к её буйному чувству достаточно снисходительно, так как давно привык к бесконечным влюблённостям в себя студенток. Роль Пигмалиона ему давно приелась, она стала частью его профессии.
— Ксюша Александа-а-вна, — говорил он ей, слегка картавя, когда она пыталась с ним заигрывать, — вы оча-овательное дитя, но я уже в том возрасте, когда мне пора думать о душе, а не об этом маленьком хулигане, которого я почти усмирил.
Но Ксения не сдавалась. Она со своим опытом всегда получать желаемое встала, как Диана-Охотница, на тропу завоевания. Разница в возрасте более чем в сорок лет её ничуть не смущала.
— Я не выношу этих глупых, наглых и закомплексованных мальчишек, которые меня окружают. А вы… вы в ореоле…
— В ореоле приближающегося конца.
— Не смейте говорить о смерти! — возмущалась она.
— Почему же, — улыбался он, — всякая жизнь есть всего лишь бег к смерти. И чем раньше ты это поймёшь, тем лучше проживёшь отпущенное тебе время.
— Тогда я хочу быть вашей лебединой песней, — заявила она со всей бескомпромиссностью молодости.
— Вот и будь ей, в качестве моей ученицы.
— Мне этого мало. Я люблю вас.
Он долго не поддавался, слишком хорошо зная, чем такие истории кончаются. Даже клеветал на себя, уверяя, что необходимый для любви орган у него уже давно находится в «миролюбивом полёте». Но Ксения не верила и продолжала наступать. Она интуитивно понимала, что голос рассудка в конце концов капитулирует перед зовом плоти. Особенно такой плоти!
В один прекрасный вечер, после урока, Ксения вытащила из его холодильника бутылку шампанского, которую предусмотрительно сама туда же и засунула два часа назад, и заявила, что вчера ей исполнилось восемнадцать и что она собирается отметить это с ним в «интимном кругу». Он достал из своего, огромных размеров, старинного буфета хрустальные бокалы и коробку хорошего шоколада, которую всегда держал, на всякий случай. Разлив игривую жидкость по фужерам, он встал, поклонился и церемонно поцеловав ей руку, поздравил с официальным вхождением во взрослый мир.
— Ну вот! — заявила она, когда они выпили по бокалу, — это будет нашим венчанием. Перед Богом. Я видела, у вас в спальне и икона висит.
— Это икона моей покойной жены. А венчаться я не могу, так как сделал уже это однажды, сорок лет назад.
— Это не важно, — на этот раз она решила ни за что не дать сбить себя с толку, — тогда это будет нашей оргией! И вообще, — произнесла она заготовленную накануне фразу, — девственность ещё не значит непорочность. Иногда это просто невостребовательность. Я хочу, чтобы вы меня её лишили!
Он захохотал. А она уселась к нему на колени, обвила своими тонкими руками его, всё ещё крепкую, шею и стала покрывать поцелуями его лицо.
Перед таким натиском не устоял бы и ангел. Не устоял и Арсений Петрович.
Их связь длилась почти год. И они оба были счастливы. Ксения тем, что добилась своего, а Арсений Петрович… она действительно стала его лебединой песней. Такой бури чувств он не ожидал от себя сам. Она разбудила в нём некую силу, которую он давно уже считал благополучно почившей, и целый калейдоскоп абсолютно новых ощущений, от неловкости — к нежности, и к мучительной страсти.
— После любви с тобой я похож на старого кота, потрёпанного в половых разборках, — говорил он ей смеясь.
— Не смей произносить слово «старый», — требовала она, — у меня на него идиосинкразия.
— Это слово обозначает вовсе не то, что ты думаешь, — иронизировал он. — А у тебя просто ярко выраженный Эдипов комплекс.
— Не смей надо мной смеяться, — обижалась она, понятия не имея, кто такой Эдип, но понимая, что он над ней подтрунивает.
— Отчего же, — возражал он, — одна единственная капля юмора спасает порой от бесчисленных мук и нелепостей.
— Ты гений секса! — пыталась выглядеть она опытной женщиной.
— Секс — это только акт проникновения в чужой организм, как способ доставить друг другу удовольствие. И я, слава богу, не гений. Быть гением очень неудобно, так как ему совсем не на кого положиться.
Их отношения были полной тайной для всех. Это было его условием. Ксения была согласна. Её будоражил сам факт наличия «тайной жизни».
Однажды вечером он позвонил ей и попросил не приходить.
— Я сегодня не в форме, — сказал он, — позвоню тебе завтра утром.
Назавтра он не позвонил, а когда звонила она, трубка отзывалась длинными гудками. На следующий день ей позвонили из Боткинской сообщить, что он в реанимации, с обширным инфарктом и просит её прийти. Она примчалась в больницу, где он лежал в отдельной палате, и, зарыдав с порога, бросилась к нему на грудь.
— Тихо, тихо, девочка, — прошептал он. — Не плачь. Смерть не трагична, трагична жизнь. И умирать совсем не страшно, раз уж умерли такие великие… и разные… А ты подарила мне столько счастья, что сделала мой конец светлым.
— Пожалуйста, не умирай, — всхлипывала она, — не смей умирать! Я не могу второй раз потерять самого близкого мне человека. Как я буду жить без тебя?!
— Ты будешь жить очень хорошо, — тихо сказал он. — Я благословляю тебя на счастье. Но ты должна быть готова в этой жизни не только к победам, но и к потерям. Научись оборачивать поражения в свою пользу. И тогда ты всегда будешь победительницей. Ты ведь любишь быть победительницей, — улыбнулся он ей в последний раз и закрыл глаза.
Она просидела с ним всю ночь, гладя его руку и смачивая влажной салфеткой его пересохшие губы. Он умер в тот момент, когда утром она вышла сполоснуть опухшее от слёз лицо, как бы не желая её пугать этим переходом на ту сторону бытия.
Первые недели после его смерти Ксения прожила как под наркозом, автоматически участвуя в каждодневной жизни, но отказываясь иметь дело с реальностью. Вынырнула она из этого состояния только тогда, когда обнаружила, что беременна.
Мальчик родился в положенный срок и в «рубашке», то есть в родовой плёнке, которая по всем поверьям обеспечивает жизнь, полную счастья и удач. Она назвала его в честь отца, Арсением.
На следующий год она закончила училище и, сдав ребёнка на поруки бабушке и няне, поступила в самый модный по тем временам театр Москвы.
2
Театр! О, театр! Кто только не описывал этого многоголового дракона! Этот рай, ад и чистилище одновременно. Этот храм и бордель, эту школу добра и зла, возвышенного и низкого, чистоты и пошлости, нутряной правды и самого низкого обмана. Этот микрокосм, обитатели которого живут по своим законам, и где, как в капле воды, отражаются все человеческие достоинства и пороки. Это особое содружество взрослых детей с их жестокостью и нежностью, страстной дружбой и, не менее страстной, враждой, способных парить над реальностью и погружаться в бездны мелочного быта, где спасают жизни и тут же коварно предают, где объясняются в любви и вонзают тебе нож в спину практически одновременно. Словом, место где органично уживаются шекспировские страсти и кухаркины низости.
Главный режиссёр — народный, маститый, талантливый — был любимцем всей театральной Москвы. При этом он умел разговаривать с властями и пробивать «непроходные» спектакли. Ксения подозревала, что в определённый период времени он был любовником её матери. Взял он её с прицелом на роль Джульетты в спектакле, который собирался ставить в новом сезоне. Его официальная любовница, «примадонна» труппы, была уже старовата для этой роли. Ксения попала как кур в ощип — в смысле интриг и закулисных боёв она была полным несмышлёнышем. У неё не было выработано никаких бойцовских качеств. В жизни ей всё давалось легко и без борьбы, поэтому характер у неё был весёлый и доброжелательный, и о людском коварстве она читала только в пьесах Шекспира. К тому же, она искренне не представляла, что её можно не любить и шла к людям со своей красотой, как с даром, за который ей положена заслуженная награда.
Получив пару раз, очень чувствительно, по носу, Ксения насторожилась. Она благоразумно решила не встревать ни в какие бои местного значения, не примыкать к враждующим группировкам, сидеть под крылышком у главного и сосредоточиться на своей первой, определяющей для всей её будущей карьеры, роли. Репетиции шли очень успешно. Режиссер был ею очевидно доволен и удивлялся такому профессионализму у столь юной дебютантки — уроки Арсения Петровича не прошли даром.
Премьера была назначена к Новому году и ожидалась как главное событие театральной жизни столицы.
Ксения заранее торжествовала, уверенная в своём успехе. И только Графиня осторожно пыталась остудить её пыл.
Графиня — Софья Аркадьевна Домбровская — была вечным другом семьи. Прозванная так, то ли за роль старой графини, которую она уже второе десятилетие играла в «Пиковой даме», то ли за своё происхождение, которое скрывала, она, казалось, видела всех насквозь и будущее не было для неё загадкой. Ксения помнила её столько, сколько помнила себя. Старейшая, «народная», много раз обласканная властью и столько же раз ею попранная за свой невозможный, ранящий без разбора, язык и крутой характер. Никто точно не знал, сколько ей лет, поговаривали, что уже к восьмидесяти. Она всё ещё продолжала выходить на сцену, играя комических и трагических старух и обладала удивительной памятью. В каждодневной жизни она была достаточно беспомощна и, так и не сумев адаптироваться к советскому быту, довольно неопрятна. Она дымила, как паровоз, прикуривая одну папиросу от другой, и её появлению в любом месте всегда предшествовало облако вонючего дыма.
— Выплюньте вашу проклятую папиросу, — орал на неё Главный театра, в котором она прослужила больше сорока лет, — вы же на смертном одре, а на смертном одре не курят.
— Я не вынимаю папиросы даже когда чищу зубы, — невозмутимо отвечала она. — Она для меня, как соска для младенца, я без неё плачу.
Она была одинока, бездетна и о мужчинах отзывалась с таким презрением, что многие поговаривали о её нетрадиционной ориентации.
— Но были же вы когда нибудь замужем, — приставала к ней Ксенька. — Ну, расскажите!
— О, да. И много раз. Но это было так давно, — играла Графиня в склеротичку. — Смутно припоминаю только последнего — у него место бога в душе занимал оргазм. Он умудрялся мне изменять, уже будучи парализованным, с медсестрой, пока я из-под него горшки выносила.
— И это всё, что вы помните? — не отставала любопытная Ксенька.
— Помню ещё стук его ногтей по паркету, когда он ходил босиком по квартире. С тех пор ненавижу длинные ногти, даже на руках.
С Ксенькой у них случилось взаимное обожание с первого взгляда — младенцем она переставала плакать при одном появлении Графини.
— Послушай, Ксандра, — говорила та ей, когда Ксения достаточно выросла, — можешь пользовать меня вместо раввина и обращаться за советами по всем вопросам. Я уже так стара, что можешь воспринимать мои советы, как голос с того света, что очень удобно.
Она одна была в курсе Ксенькиного романа с Арсением Петровичем. И она же уговорила её оставить ребёнка.
— Рожай! — сказала она. — Таких генов, как у Арсения, ещё поискать. А в личной жизни ребёнок никогда не помеха, наоборот, будет лакмусовой бумажкой для будущих претендентов. Это только дуры-мещанки думают, что машине с прицепом трудно участвовать в автомобильных гонках. Всё зависит от того, какова машина.
Зато Графиня, пожалуй, единственная, кто был не в восторге от выбранного Ксенией пути.
— Театр не должен быть ничьим выбором. Выбирать может только он сам. Театр — это судьба. Гораздо больше, чем любая другая профессия. Здесь ошибка может оказаться роковой — будешь жить с уязвлённой и униженной душой. Превратишься в нищую, мстительную и завистливую стерву. И при этом как законченный наркоман, не сможешь от этого отказаться, — выдавала Графиня филиппики, в надежде пробить броню Ксенькиного упрямства.
— Ну почему в нищую стерву? Меня носили на руках и платили так, что уже в семнадцать лет я могла бы всю семью содержать.
— Не путай кино с театром. Это как сравнивать Божий дар с яичницей. Они тебе, этой ранней славой, перевозбудили орган величия. В кино актрисой можно даже и не быть — достаточно фактуры. А в театре нужен талант от Бога и ещё кое-что.
Тут вступала Ксенина мать, Лилечка, как звали её все, несмотря на возраст.
— Ксенечка, — говорила она робко, зная, что её никто и никогда не слушает, — актёрство может быть хобби, времяпровождением, но никак не делом жизни. Ты понимаешь, что суть этой профессии — это развлекать людей за деньги. Причём, отказаться ты не можешь и выбирать, перед кем представляться, тоже не можешь. Кто заплатил, перед тем и выворачиваешь душу. Это же унизительно. В этой среде двойное освещение становится нормой света, а двусмысленность — нормой смысла. И это невыносимо, — добавляла она трагически. — Ты не знаешь, как страдал от этого твой отец, несмотря на славу. От этого и пить начал.
— И запомни, — вторила Графиня, — публичному человеку ничего не прощают. Ты знаешь, например, что по-югославски сцена — это «позорище». Представляешь, всю жизнь выходить на позорище!
— Выйди лучше замуж за дипломата, — советовала Лилечка, — с ним мир увидишь.
— Мама! Ну где я возьму тебе сейчас дипломата, — злилась Ксенька. — И потом, пока он дослужится до поста, на котором сможет мне мир показывать, я уже сто раз с ним разведусь.
— Ну, видишь, Соня, — сетовала Лилечка, — что у неё в голове. Она ещё и замуж-то не вышла, а уже точно знает, что разведётся.
— А какие кобели эти режиссеры! — не унималась Графиня. — Музы им, видите ли, нужны! А музы должны быть брезгливы. Вон, пришла к нам в прошлом сезоне молодая актриса, просто божественное создание. Просидела целый год на «кушать подано». А тут на днях забегаю к главному, выяснить отношения, а он её оприходует прямо на своём рабочем столе. При этом похож на фавна, насилующего козлицу. Впопыхах забыл даже дверь запереть на ключ. Ему хоть бы что. А она смотрит на меня с выражением кающейся верблюдицы и мычит что-то из своей неудобной позы. Пришлось извиниться и удалиться. По-светски.
Ксения хохотала, уверенная, что всё это не про неё.
— И твоего Главного я хорошо знаю. Тоже кобель. Но по сучьему типу. Это он сейчас тебе роль дал, пока ты ещё купаешься в своей киношной славе. Супостат. — При этом она бросила многозначительный взгляд на Лилечку. Та в ответ потупила взор.
Но все эти разговоры не производили на Ксению никакого впечатления. Она ни на мгновение не сомневалась ни в своих силах, ни в своём «святом призвании».
Тем страшнее разразилась катастрофа на премьере. Тем оглушительней стал её провал.
Поначалу она ничего не поняла. Она просто не слышала никакой реакции зала. Как в вакууме. Как в разряжённом пространстве. После сцены на балконе тишина стала оглушительной. Её охватила паника. В одно мгновение забылись все уроки Арсения Петровича. Здесь, впервые в жизни, она почувствовала себя жалкой, неуклюжей и абсолютно беспомощной. Ей неудержимо захотелось спрятаться, уползти, забиться в тёмный угол. Это было как во сне, когда кошмар становится невыносимым, и ты знаешь, что это сон, но не можешь проснуться. В ней осталось только одно чувство — желание умереть, вот сейчас, сразу, на месте и потом… потом будет уже всё равно. Дальнейшее она помнила смутно. Она действовала как механическая кукла, завод которой запрограммирован на определённое время. В перерыве, перед вторым актом ей пришлось дать дозу коньяка, просто чтобы она не потеряла сознание. Во втором акте в её сценах в зале раздавались уже откровенные смешки, многозначительный кашель и презрительные хлопки.
И здесь завод сломался — она забыла текст. На неё нашло полное оцепенение. Она не слышала ни подсказок суфлёра, ни партнёров. Она стояла посреди сцены, как сломанная игрушка, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Мизансцену обыграл более опытный Ромео — он подхватил её на руки и унёс за кулисы. Спектакль пришлось прервать, сославшись на внезапное недомогание героини.
За кулисами у неё начались рвотные судороги, которые ничем не могли остановить. Домой её привезли в состоянии истерического полубезумия. Пришлось вызвать врача, который сказал, что у неё психический шок и накачал её такой дозой успокоительного, что она проспала почти двое суток.
Очнувшись от этого сна-обморока, она дотащилась до ванной комнаты и, увидев себя в зеркале, ужаснулась. Черты её дивного, известного всей стране лица, были искажены мукой. Орехового цвета глаза, о которых говорили, что они завязаны верёвочкой у неё на затылке, заволокло какой-то грязно-серой дымкой, красиво очерченные губы кривились в нервном тике. И здесь, перед зеркалом, глядя самой себе в глаза, она поклялась, что больше никогда! никогда! её нога не ступит на порог театра, ни в каком качестве, даже зрителя, и что больше ни за что на свете ни её внешность, ни её личная жизнь не станут достоянием публики.
В этот момент произошло рождение другой Ксении. В ней умерло то беззаботное счастливое дитя, которым она умудрилась прожить до своих двадцати с лишним лет, и родилась женщина.
Однако, травма была настолько сильна и так глубоко загнана в подкорку, что когда-то это неминуемо должно было сказаться. Наступит в её жизни момент, когда при совершенно, казалось бы, невинных обстоятельствах, этот слом психики даст себя знать. Иначе я никак не могу объяснить того, что случилось больше чем через двадцать лет, какой демон её обуял, когда она изуродовала жизнь не только себе, но и самому близкому ей человеку.
Но в то момент, у себя в ванной, перед зеркалом, она казалась себе достаточно сильной, чтобы перешагнуть и забыть… перешагнуть и забыть.
«Научись оборачивать поражения в свою пользу… Тогда ты всегда будешь победительницей», — вспомнила она слова Арсения Петровича перед смертью. Он знал, подумала она, он знал… Как он мог это знать? Почему не предостерёг меня? Почему? Но она знала, что её упрёки несправедливы. Он пытался предостеречь её, много раз. Так же, как и Графиня. Но она была глуха. Ослеплена слишком рано пришедшей славой и поклонением. Слишком горда, чтобы допустить, что таланта у неё меньше, чем красоты. Слишком привыкла побеждать.
Ну что ж… сейчас, в свой двадцать один год, она всё начнёт сначала. У неё есть для этого всё, включая трёхлетнего сына. А для красоты в жизни всегда найдётся применение.
3
Так она приземлилась у нас на филфаке. Хорошее знание французского (специализированная французская школа) и четыре года театрального института, плюс, конечно, известность, дали ей возможность оказаться сразу на третьем курсе романо-германского отделения университета.
Будучи самой старшей, самой красивой и самой опытной, она сразу стала кумиром всей группы. Но, принимая обожание всех остальных, в подруги она выбрала меня. А я, я всегда мечтала иметь именно такую подругу — умную, сильную, с радиоактивным обаянием, заботливую, щедрую на чувства и снисходительную. И главное, в отличие от меня, с лёгким нравом, как говорят англичане easy-going, то есть легко парящую по жизни, не создающую проблем ни себе, ни другим. Ксения отвечала всем критериям, по крайней мере, я была в этом уверена. И я была влюблена в неё той любовью, которую в этом возрасте может вызвать только подруга-женщина. Она стала моей богиней, я была готова для неё на всё. Оставшиеся три года в институте мы прожили как сиамские близнецы, расставаясь только для сна.
Это было начало восьмидесятых. Наши вожди мёрли, как мухи, один за другим, а мы учились, гуляли, влюблялись, обманывали и были обманутыми, веселились, страдали и, главное, вся жизнь была впереди.
Ксения познакомила меня с Графиней. Я ожидала увидеть полубезумную старуху из «Пиковой дамы», а оказалась перед лицом монументального колосса, величественного и одновременно полного детского лукавства. С ней интересно было говорить обо всём. Она вмешивалась во все наши споры. Однажды мы ввалившись чуть ли не всей группой к Ксеньке, затеяли модный в то время в студенческих кругах диспут о религии.
— Отличие верующего от атеиста состоит в том, — вмешалась Графиня, — что последний хочет удовольствий здесь и сейчас, тогда, как человек религиозный откладывает наслаждения на потом. Первый хочет удовлетворения своих потребностей быстро и насыщенно, второй же хочет растянуть их навсегда. Так что, выбирайте. Но учтите, здесь и сейчас всё-таки надёжнее.
Потом, гораздо позже, став сочинителем, я пыталась воспроизвести её колоритные высказывания по памяти, по чего-то всегда не хватало. Может быть, моего того, свежего восприятия. Ксенька же цитировала её всю жизнь.
— Ну вот что, деточки, — сказала она как-то, усадив нас перед собой, — молодость, это, конечно, прекрасно, но это также самое время подумать о старости. Вернее, о будущем. В этой стране оставаться нельзя. Ничего хорошего здесь быть не может. Никогда. Это Королевство Кривых Зеркал. Слишком тяжело наследство. А раскаяние не в привычках великих наций и народов. Отсюда надо «валить», как теперь говорят. У моего поколения не было этой возможности. Всё, что я могла сделать в личном плане, это не рожать этому молоху детей. А у вас эта возможность появилась. И вы прекрасно знаете, о чём я говорю — брак с иностранцем, пусть даже фиктивный. Главное зацепиться. И не смотрите на меня так. Это не цинизм. Это здравый смысл. Лазейка в мир. Это вам совет уже почти с того света, — и она ткнула пальцем в небо.
— Соня! Ну как ты можешь учить их такому! — возмущалась Лилечка. — А как же Родина! Своя земля!
— Ты эту землю нюхала? — взъярилась Графиня. — До неё когда-нибудь дотрагивалась? Всю жизнь прожила в центре Москвы, с прислугой. И скажи спасибо, что тебе перепали эти крохи с барского стола, без того, что тебе пришлось кого-нибудь за них продавать. Ты и дочери своей такой судьбы желаешь — пытаться плыть красивым брассом, высоко держа голову?
— Ну, где ж его взять, иностранца?! Он, ведь, в форточку не влетит, — вмешалась практичная Ксенька.
— Это не факт. Если форточку открыть пошире, запросто может и влететь. Главное, имейте эту идею в голове, она будет сама на вас работать.
Нельзя сказать, что мы над этим не задумывались — многие тогда задумывались, — но думалось тогда об этом как-то отвлеченно. А теперь, благодаря Графине, начало обретать конкретные очертания.
— Особенно тебе, Ксандра, — продолжала она, — у тебя сын. Ты не имеешь права бросать его в пасть этому монстру. Потом, когда он вырастет, он сможет сам выбирать, где жить. А сейчас ты несёшь за него ответственность. Я знаю, о чём я говорю, у меня уничтожили всю семью численностью в шесть человек, как царскую. И сама я прожила рабой всю сознательную жизнь. Под властью убогих тиранов. Бегите отсюда. Уезжайте. Уползайте. Вспомните ещё меня добрым словом, старую ведьму. Да и Арсений, был бы жив, сказал бы то же самое. Я-то его хорошо знала, хитреца. Такое чудо себе заделал перед смертью.
— Да, ведь он даже не знал, — грустно сказала Ксения.
— Ничего, ТАМ узнал, — Графиня опять ткнула своим длинным, желтым от курева пальцем в потолок.
Маленький Арсик был всеобщей радостью. Он был ребёнком весёлым, здоровым и причинял минимум неудобств. Им с удовольствием занималась ещё молодая бабушка — Ксенькина мама — и старенькая няня, которая нянчила ещё Ксению. Мы брали его иногда с собой в Серебряный бор, зимой — покататься на саночках, летом — на пляж. Он забавлял всю нашу студенческую братию и разнокалиберных ухажеров.
ххх
На последнем курсе в Ксенькину форточку всё-таки влетел иностранец. Правда не совсем в форточку.
Они столкнулись в дверях студенческой столовки — она входила, он выходил. Вышел и сразу вернулся. Стал за ней в очередь на раздачу. Потом попросил разрешения подсесть к ней за стол. Она разрешила. Так, за котлетами с капустой (для него это уже была вторая порция за день), у них и начался роман.
Оскар был французом ливанского происхождения. Сын богатых родителей, молодой учёный-антрополог, денди и эстет, знавший несколько языков, он за каким-то чёртом приехал к нам в Университет, на истфак, на целых два месяца. К моменту, когда он познакомился с Ксенией, срок его пребывания подходил к концу, он должен был уезжать через неделю. Вместо этого он остался ещё на полгода, пасти свою Дульцинею до окончания учёбы. Сразу после защиты диплома он сделал Ксении предложение.
Подав документы и назначив (через три месяца, по закону) день свадьбы, он укатил к себе в Париж, подготовить родителей к счастливому событию.
Мы остались готовиться к свадьбе.
Тут-то Ксению и вызвали в «органы». Маленький человечек, похожий на хорька, с близко посаженными глазками и ничего не выражающим лицом, принял её у себя в кабинете, на Лубянке, объявив при этом, что встреча носит неофициальный характер… пока.
— Видите ли, Ксения Александровна, вы человек известный, — начал он иезуитски-вежливо, — актриса, понимаете ли…
— Бывшая, — уточнила Ксения.
— Всё равно. Ваше лицо по фильмам всей стране известно. Не будете же вы себя подвергать неприятностям. Государство на вас потратилось, даже дважды, позволив вам закончить два ВУЗа. А вы вдруг решились нас покинуть…
— Любовь, знаете ли, — констатировала Ксения.
— Любовь любовью, но вы уж не порывайте так резко с нами все связи.
Короче, ей предложили помогать «любимым органам» там, во Франции. Она, оторопев от наглости сделанного ей предложения, пыталась выкрутиться, ссылаясь на свою, абсолютно неконтролируемую актёрскую эмоциональность, плохую память и полное неумение хранить секреты.
— Ну-ну, — усмехнулся «хорёк», — вы не так безнадёжны, как хотите казаться. И потом, вам помогут.
— Да на кой чёрт он вам нужен, мой муж! — в отчаянии выкрикнула она. — Он же для вас абсолютно бессмысленная фигура!
— Ну, это нам лучше знать, кто нам нужен. И не забывайте, что он пока ещё вам не муж, — сказал он с гаденькой улыбочкой, — могут визу не дать, могут бумаги затеряться в загсе, да мало ли что ещё…
Ксенька вышла из этого «милого» заведения со смесью тошнотворного страха, брезгливости и растерянности, выпросив неделю на «раздумье».
Посоветовавшись, мы решили, что ей нужно встретиться с культурным атташе Франции, с которым, «на всякий случай», её познакомил Оскар перед отъездом, и который дал ей свою визитную карточку с телефоном, написанным от руки и помеченным крестиком.
— И не бойся, — сказала Графиня, — не такие уж они вездесущие, эти наши доблестные органы. Иначе бы так страну не просрали! Позвонишь из автомата, встретишься в нейтральном месте. Ну не приставили же они к тебе хвоста, на самом деле, у них на таких как ты сейчас хвостов не хватит.
Ксения встретилась не только с культурным атташе, но, с его помощью, и с консулом и рассказала им всё.
— Не волнуйтесь, Ксения Александровна, — сказал ей консул, — сейчас уже не те времена. Соглашайтесь на всё. Желательно, устно. Но если будут очень настаивать что-нибудь подписать, подписывайте, это ничего не значит. Главное, чтобы ему выдали визу и вам дали возможность пожениться. Французский паспорт мы вам выдадим на следующий же день, прямо в посольстве. И ваш сын будет туда вписан.
Времена, действительно, менялись — к власти пришёл «Горби» — страну ждал капитализм под управлением коммунистической партии и ядерная катастрофа в Чернобыле. Ей было не до Ксеньки. От неё отстали так же неожиданно, как и пристали.
Оскар приехал в положенный срок, вместе с родителями. Свадьбу сыграли в «Национале». Гуляли чуть ли не всем факультетом. Ксения, в привезённом Оскаром платье от Диора, была ослепительна. Потом гуляли ещё неделю у Ксеньки дома и по всей Москве.
В воздухе упоительно запахло свободой.
ххх
Графиня подарила Ксении на свадьбу изумительной работы старинное кольцо с редким жёлтым, «коньячным», бриллиантом, работы Фаберже.
— Откуда это у вас? — засияла Ксенька глазами.
— Ну… — неопределённо улыбнулась Графиня, — скажем, я никогда не могла возненавидеть мужчину до такой степени, чтобы вернуть ему его подарки.
Если бы мы только знали тогда, какую роль, через много-много лет, сыграет это кольцо в наших с Ксенькой отношениях!
— Поживи за всех нас, — сказала ей напоследок Графиня. — И запомни, красота — это своего рода избранность, которая тебе дана от природы. Это как талант. Но существует и другая сторона медали — ответственность за эту избранность. Нет ничего более шокирующего, как несоответствие внешности и души. И учти, что с возрастом нутро вылезает на лицо. Помнишь Дориана Грея?
— Но почему вы говорите это мне? — удивилась Ксения.
— Потому, что это может случиться с каждым. И у красивых больше соблазнов. А ты мне очень дорога. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Мы с Арсением-старшим будем за вами оттуда (она сделала свой любимый жест, ткнув пальцем в небо) присматривать. Нам с ним уже давно пора там встретиться.
Ксенька отмахнулась. Она была уверена, что будет счастлива. А Графиню, прежде чем отправиться «туда», пригласила приехать вместе с Лилечкой к ней в гости, в Париж. Но та не успела — она умерла меньше, чем через год после Ксенькиного отъезда.
На следующий день Оскар увёз её в новую жизнь, в сказку, в Париж.
АРСЕНИЙ
1
Когда Арсика привезли в Париж, ему только что исполнилось шесть лет. Но потом оказалось, что он прекрасно помнил свою предыдущую жизнь, в Москве. Помнил бабушку Лилю, старую няню, в складках старой морщинистой шеи которой он любил искать «клад», помнил Графиню, постоянно окутанную вонючим дымом и говорящую с ним басом. Но самым его сильным детским воспоминанием была, конечно, изредка появляющаяся, волшебная красавица мама, которая, как фея из сказки, каждый раз приносила в его жизнь праздник.
Его сразу отдали в дорогую частную школу. Через шесть месяцев он уже свободно говорил по-французски, а начиная со второго класса обучения, стал перескакивать через класс. Оскар, так и не уговорив Ксению родить ещё одного ребёнка, направил на Арсения всю лавину своих нерастраченных отцовских чувств. Он быстро, раньше матери, распознал в нём выдающиеся способности и всерьёз занялся его образованием. Он нашёл школу, где существовал класс для особо одарённых детей и отдал его туда. Там обучение происходило экстерном, год за два.
Ксения вносила свою лепту безалаберным пристраиванием малыша во всякие спортивные секции (причём, делала она это силами безотказной Оскаровой тётушки, которая безропотно везде мальчика сопровождала) и занималась его «эстетическим» образованием, таская за собой по музеям, выставкам и концертам. Сначала она отдала его в школу бокса (чтобы
сдачи мог дать), где он долго не задержался, заявив, что ненавидит бить людей (да и когда его били, ему не очень нравилось). Затем, бросившись в другую крайность, она отдала его в балет (для развития музыкального слуха и осанки), куда он с большой радостью ходил почти целый год (теперь-то мы знаем, почему) и, наконец, в модный art martial.
Экзамены на бакалавра Арсений блестяще сдал в свои неполные пятнадцать лет (то есть на три года раньше положенного срока) и уехал поступать в Гарвард, где оказался самым молодым студентом.
К этому моменту Ксения затеяла развод с Оскаром, но он обязался оплачивать учёбу Арсения столько, сколько тот будет учиться.
Я к тому времени уже несколько лет жила в Париже, с мужем и маленькой дочерью Машей.
Если существует то мистическое родство душ, которое подразумевают все великие дружбы, то это случилось и в моей жизни. Странным в этой истории было то, что «контакт» произошёл между взрослым человеком и ребёнком. Между мной и Арсением.
Мне всегда казалось, что Арсик должен был быть моим сыном, а не Ксенькиным. Этот ребёнок нёс радость. С ним было интересно, даже когда он был совсем маленьким. Мне всегда казалось, что он понимает нечто, недоступное всем остальным. Чувство это было иррациональным, но от этого не менее сильным. Потом, когда у меня появился свой ребёнок, я искала это в нём, но не нашла. И чувство к ней было иное. Свою я любила нутром, а Арсения какой-то очень чувствительной точкой своей души. Тешу себя надеждой, что он отвечал мне взаимностью.
Это он, в свои пять лет, наградил меня именем, которое ко мне прилипло на всю жизнь и которым меня звали большинство моих друзей — Шоша. Это было сокращённым от Шошары, имени, которым звали мою сиамскую кошку в Москве. Она произвела на маленького Арсика неизгладимое впечатление, и моя персона с тех пор ассоциировалась у него с этим полудиким, капризным, но неотразимым существом.
Позже, в Париже, сначала мальчиком, потом подростком, он одаривал меня такими откровениями, которые мне приходилось потом расшифровывать на бумаге. Ксенька «бросала» (как она говорила) меня на него во все сложные моменты их взаимоотношений. Сложность, как правило, заключалась в том, что она, когда у неё случался очередной кризис материнства, пыталась навязать ему нечто, чего он категорически не желал делать. Это совершенно не значило, что я могла заставить его сделать это, но я, по крайней мере, могла объяснить Ксении, почему он не желает этого делать.
— Для него нет никаких авторитетов, — горячилась она, — двенадцатилетний мальчик не может знать, чего он хочет, а чего нет.
Но он знал. И это никогда не было просто упрямством. Он вообще не был упрямым. Но всегда умел настоять на своём.
Но, по правде говоря, кроме этих редких приступов, когда на неё вдруг «находило» (выражение Оскара), она Арсения особенно не донимала, считая, что ребёнок у неё абсолютно благополучный.
— Шош, ты думаешь, когда я вырасту, я буду счастливым? — ошарашил меня как-то вопросом этот беспроблемный двенадцатилетний мальчик.
— Почему, когда вырастешь? А сейчас? Ты что несчастлив?
— Я несчастлив.
— Но почему, — поразилась я, — чего тебе не хватает?
— Сейчас я от всех завишу. А я хочу зависеть только от себя.
— Так не бывает. Ты всегда будешь жить среди людей, а значит, подчиняться каким-то законам.
— А я не собираюсь нарушать законы. Я просто хочу жить, как интересно мне.
— А как тебе интересно?
— Мне интересно выбирать.
— Из чего?
— Каждый раз из разного. И самому. Ну, например, среди каких людей жить.
Он ставил меня в тупик. Мне не хватало моих взрослых аргументов. И к тому же, я понимала, о чём он говорит. Мне самой всегда хотелось того же самого, а именно, возможности выбирать. И очень редко это удавалось.
Я к тому времени, сидя дома с маленьким ребёнком, ни с того ни с сего начала вдруг писать. И замахнулась сразу на жанр довольно специфический — драматургию. При этом театром я никогда особенно не увлекалась, «сырихой» не была по натуре, и никаких знакомых (кроме Ксении и Графини) у меня в этом мире не было. В Москве я бегала, конечно, как и многие студенты, на спектакли-события, которыми, несмотря ни на что, была богата советская действительность, но этим всё и ограничивалось. В Париже все мои попытки приобщиться к французскому театру, как классическому, так и современному, потерпели полное фиаско. Мне, в лучшем случае, было скучно, а в худшем, страшно раздражало. Тот факт, что я начала писать именно пьесы, а не, например, рассказы или повести, остаётся для меня загадкой по сегодняшний день. Может, из протеста? А может, это была попытка рассматривать жизнь как невзаправдушнюю, как вереницу неких приключений, батальных сцен, романтических мизансцен, неожиданных поворотов, авантюрных перепадов и сентиментальных бурь с идеальными героями.
Или же меня подспудно подталкивало тщеславное желание реализоваться сразу в нескольких измерениях? Когда тебя могут не только прочесть, а одновременно сыграть, увидеть и услышать. К тому же, каждый раз по-разному. И ты сам можешь быть этому непосредственным свидетелем, то есть наблюдать за смотрящими — чувство для автора ни с чем не сравнимое. Недаром Набоков говорил, что высшая мечта автора — превратить читателя в зрителя. Драматургу это подвластно и мне повезёт впоследствии это пережить.
Но тогда до этого было ещё далеко, и я складывала написанное в ящик бюро без всяких надежд.
Ксения, у которой с театром были свои сложные отношения, пыталась наставить меня на путь истинный. «Ну что ты мучаешься с этими своими «пиесами»? Драматолог несчастный! Тебя к этому пирогу всё равно никогда не подпустят. Там только свои. И те между собой грызутся. Что здесь, что в России. Напиши что-нибудь в прозе. Напечататься гораздо проще. Сейчас кого только не печатают, — давала она мне дельные советы. — Сочини какой-нибудь любовно-эротический опус на фоне русской тусовки в Париже, только обязательно с узнаваемыми персонажами — у тебя это с руками оторвут. И там и здесь. Поверь мне».
Я верила. Но не умела. При всём желании.
Арсений, которому одному из немногих, я давала читать свои сочинения, сказал мне перед своим отъездом в Америку: «Не слушай никого. Делай только то, что тебе интересно. Тем более, что ты не вынуждена этим кормиться. Когда-нибудь это выстрелит. А если нет, тем хуже для них».
И ещё он меня просил «присматривать» за матерью. У Ксении в этот момент начался бурный роман и она могла наделать глупостей.
Примерно дважды в год Арсений приезжал домой, и я припадала к нему, как к источнику. Мне так не хватало настоящего общения в этой, ещё чужой для меня, стране. Он рассказывал мне про Америку, в которой я никогда не бывала.
— Это страна взрослых детей, — говорил он, — а Нью-Йорк — самая большая площадка для всевозможных игр. И если допустить, что мир, Вселенная — это огромная бесконечная Игра, а Создатель — это тот, кто сдаёт карты, тасуя идеи, религии, разум, свет и тьму, то Америка это самая интересная страна, а Нью-Йорк — самый азартный город на свете. Там правят те же законы, что и везде, те же модели человеческого поведения, и они так же вульгарны и примитивны, но там больше возможностей для игр всякого рода.
— Ты думаешь остаться там после учёбы?
— Понятия не имею. Пока мне там интересно.
Он учился там сразу на двух отделениях — астрофизики (занимаюсь поиском шифров в космосе, говорил он) и философии (чтобы научиться плевать в вечность с чистой совестью).
— Ты знаешь, например, что по некоторым подсчётам средняя продолжительность человеческой жизни равна одиннадцати секундам? Понимаешь? А сколько всего человек успевает за это время! Особенно в нашем веке. А в Америке можно успеть в несколько раз больше.
— Да, — сказала я, — особенно глупостей! Попробуй-ка прожить эти одиннадцать секунд так, «чтобы не было потом мучительно больно»!
Но в следующий свой приезд он пел уже другую песню.
— Шошенька, — вопрошал он меня ласково-язвительно, — ну вот как ты, писатель, то есть предположительно знаток человеческих душ, живёшь, радуешься чему-то, и я не вижу отчаяния в твоих глазах.
— Отчаяния?
— Но ты же не можешь не понимать, как бессмысленна и скучна жизнь, как безнадёжен человек и как беспомощны все попытки сделать его лучше.
— И что ты в связи с этим предлагаешь? Ты знаешь выход?
— Есть только два выхода, которые выходами совершенно не являются.
— А именно?
— Ну, первый, это уйти в буддийские монахи и уехать куда-нибудь на Бирманские острова, подальше от цивилизации.
— Не годится. Для этого надо родиться в этой культуре. Иметь там корни. Иначе это будет выглядеть как модная тусовка для скучающего балбеса или «интересничание». Говорю это тебе как драматолог. Банальный ход.
— Права. Именно поэтому я склоняюсь ко второму — разбогатеть до немыслимых пределов и позволить себе всяческие безобразия.
— Безобразия?
— Я имею в виду то, что называют излишествами, без которых якобы невозможно обойтись. И которые якобы скрашивают существование. Переделывать этот мир бессмысленно по определению — только не участвовать, отгородиться. А на то чтобы отгородиться, нужны средства. Придётся эти средства заработать. А там, глядишь, и втянусь, переживу бунтарский возраст, гормоны прекратят броуновское движение, попривыкну. А привычка — это единственный способ выжить, а иногда, и победить. Сначала привыкаешь к себе. А потом и ко всему окружающему.
— И как ты, интересно, собираешься это сделать? Разбогатеть? По российским схемам? Украсть то, что плохо лежит? Так для этого надо оказаться рядом с тем местом, где это лежит.
— Ну, почему же, сразу украсть. Есть ведь и цивилизованные пути обогащения. Я как раз этому и учусь.
— Неужели этому обучают философов?
— Я поменял философское отделение на экономическое.
— А астрофизическое на менеджерское?
— Нет, астрофизическое оставил. Там есть чему учиться. В отличии от философского. Сколько веков существует эта наука и не ответила ни на один из самой же заданных вопросов.
— Но она учит задавать вопросы.
— Это я прекрасно могу делать и без неё.
— И ты можешь их сформулировать? Мне, например, даже это очень сложно.
— Могу. Правда, мои вопросы очень личные. Ну вот, например, если Бог существует и если правильно в него верить, то почему он мне не покажется? Почему он меня мучает своим отсутствием в пределах досягаемости, хотя бы умственной? Почему я должен верить посредникам — философам или церкви? Для меня вера в Бога — это попытка объяснить то, чего мы не можем понять до конца, а именно — сознание, мироздание, жизнь — тем, что мы понимаем ещё меньше, а именно Богом. Религия ведь ничего не объясняет, а если объясняет, то только «необъяснимым».
Я помолчала, переваривая. На самом деле, я тоже часто думала о том, что если Бог существует и нас создал «по своему образу и подобию», почему он не дал нам чуть больше разума, чтобы Его понять? Но думать мне об этом было трудно, а уж тем более, говорить. Я решила сменить тему.
— Но ты бы мог посвятить себя не только собственному обогащению, а, например, науке, прогрессу… Если уж ты такой умный.
— Мог бы, — сказал он очень серьёзно, — но, во-первых, чтобы стать учёным, одних знаний мало, нужно иметь определенный характер. А, во-вторых, там всё то же самое. Борьба человеческих тщеславий, дураки сидят на месте умных, а слава и деньги достаются совсем не тем, кто их заслужил. Учёный ещё не значит честный — честна математика, а не математик. Так что я уж лучше буду работать на себя, а не на человечество, а там, может, последнему и перепадёт кое-что. Тем более, когда все, и ты в том числе, говорят о прогрессе, то имеют в виду исключительно науку и технику, о душе же каждый должен позаботиться сам.
— Но можно же быть богатым и заниматься наукой, ни от кого не завися. Можно даже пользоваться при этом всеми излишествами и всё-таки делать что-то для пользы людей, — пыталась я вступиться за человечество.
— Ну, да, — сказал он и подмигнул, — и ещё бутерброд с маслом…
Вот так мы с ним беседовали.
На следующий год на каникулы он не приехал. Было некуда. Ксения официально подала на развод. Оскар благородно ушёл из своей собственной квартиры (временно, разумеется), и туда немедленно вселился кузнечик Клод, со всем своим сложным гардеробом от японских дизайнеров и немыслимым количеством обуви. «Так мы будем экономить на плате за мою квартиру и путешествовать», — заявил он Ксении. Она была согласна на всё. Всё, что исходило из его уст, воспринималось как истина в последней инстанции.
В результате Арсению не осталось места в «родительском доме».
2
Никто не знал, откуда он появился, этот обаяшка — растиньяк. Он возник на ее небосклоне, как комета. Он обожал её с такой страстью, боготворил так неистово и громогласно, желал так беспредельно, что все, кому вольно или невольно приходилось быть этому свидетелем, испытывали неловкость. Он потребовал, чтобы она полностью и безраздельно принадлежала только ему. И, значит, развод.
Я умоляла её не разводиться с Оскаром. Подождать. Вынырнуть из омута этой страсти. И подумать головой, а не другим местом. Но она была слепа и глуха ко всем доводам.
Она бурно объяснилась с Оскаром, бросив ему в горячке жестокие слова, что «никогда его по-настоящему не любила», что он «книжный червь», а она «вольный разбойник и не собирается вставать под знамёна посредственности». Она умудрилась вывести этого достойного, выдержанного восточного человека из себя и довести до крайней точки кипения.
Он, по-моему, так ничего и не понял, отнеся всё к её чрезмерной восприимчивости, на грани болезни. И был, как я понимаю теперь, не далёк от истины.
Ксения готова была бросить все ради своей любви. Кроме этого захватывающего чувства ничего на свете для нее больше не существовало. Оно затмило ей свет. При этом она была уверена в абсолютной уникальности своих чувств.
Как же тонка эта граница, между нарциссизмом и самопожертвованием.
— Графиня говорила, что замуж надо выходить столько раз, сколько берут. Мужей надо менять регулярно, как змея кожу, когда она из неё вырастает. Тебе этого не понять — ты допотопный моногам, — счастливо смеялась она.
«Графиня ещё говорила, что любовь зла, до такой степени, что на всех и козлов не хватит», — подумала я, но говорить этого вслух не стала. А сказала следующее:
— Графиня ещё говорила, что бывают кобели по сучьему типу. Мне кажется, это как раз его случай.
Он мне не нравился, этот её Клод. Я чувствовала в нём какую-то червоточину.
Однажды я забежала к Ксеньке, не дозвонившись (телефон был постоянно занят), и Клод открыл мне дверь квартиры совершенно голый. Ничуть не смутившись, он продолжал расхаживать в этом виде и даже предложил мне выпить, насмешливо наблюдая за тем, как я отвожу глаза. Из ванной вышла Ксенька. Выходка Клода ее только позабавила.
В своих эмоциональных реакциях он тоже был экстремален — то плакал от восторга, глядя на Ксению, то визжал от негодования, когда ей случалось ему не угодить. Однажды я была свидетелем, как он, в припадке ревности (которую, если честно, она и спровоцировала вполне сознательно) бросился её душить, извергая сквернословия, которым позавидовал бы любой наш виртуоз мата. Но и это тоже было для неё подтверждением любви.
— Это моя сексуальная игрушка, — говорила она, — я верчу им, как хочу. Он влюблён как котяра.
На мой взгляд, всё было с точностью наоборот — это она была влюблена как кошка, и это он вертел ею, как хотел. Когда я пыталась сказать ей об этом, она только смеялась:
— Ты не знаешь, о чём ты говоришь. В тебе сидит Красная Шапочка, которая знает о сексе только понаслышке. Попадёшь когда-нибудь в пасть к Серому волку.
Вообще тема секса стала для неё в этот период любимой.
— Конечно, — говорила она, блестя глазами, — сексапильный мужик ненадёжен, за ним нужен глаз да глаз. Но «классики» так скучны. Мне надоело получать секс в гомеопатических дозах.
Мой контраргумент в этих наших с ней «философских» спорах состоял в том, что такая тяжёлая зависимость от члена унизительна. Ксенька уверяла, что эта зависимость ничуть не хуже, чем любая другая в любовных отношениях, финансовая или пигмалионо-галатейская, например. И намного более приятная.
— И запомни — равенство полов существует только у гомосексуалистов. А душещипательными беседами занимайся лучше с моим Арсиком. Я думаю, вы с ним находитесь на одинаковом уровне сексуального развития.
К тому же наш Ка-Ка (как я его называла) был довольно известным (в узких кругах) поэтом и культурологом. «Основной признак гениальности — это ощущать себя гением», — провозглашал он. И ещё: «Главный шедевр — есть автор шедевра». Нужно отдать ему должное, он был исключительно забавным собеседником и почти в любом обществе становился центром внимания. Я, правда, подозревала его в баловстве кокаинчиком, уж очень характерно он иногда исчезал и возвращался, специфически шмыгая носом.
А как он разговаривал с вами, этот Клодушка! Как будто вы ему априори были что-то должны. И он снисходительно этот долг вам прощал.
Арсений прореагировал на развод матери с Оскаром вполне спокойно. По крайней мере, внешне. Они со своим приёмным отцом, несмотря на разницу в возрасте, глубоко уважали друг друга. И сумели до конца остаться в очень тёплых отношениях.
— Я знаю, — сказал ему Оскар, — что эта её история закончится достаточно быстро. Но ждать не буду. Это тебе придётся быть рядом с ней, когда он её бросит.
— У меня нет выбора, — сказал Арсений. — А ты и так повёл себя очень благородно. Вопрос с квартирой я решу через некоторое время.
Это говорил семнадцатилетний мальчик.
А сорокалетний подзуживал Ксеньку уехать в какое-нибудь долгое путешествие и, желательно, за казённый счёт.
Ксения в тот момент работала в своём первом глянцевом журнале и освещала для них… сама толком не знала, что (скорее всего, всё ту же «культюр-мультюр»).
Есть такие журналы во Франции, которые никто толком ни читает (так как читать там абсолютно нечего) и не покупает. Для меня полная загадка, как они существуют, причём, существуют неплохо. А интересные, умные журналы не выживают.
Тот, в котором работала Ксения, принадлежал некоему милому существу неопределённого пола и возраста, который был её «подругом».
Она сумела убедить его в необходимости своей поездки по странам Юго-Восточной Азии для изучения местных эротических нравов и традиций и укатила туда с Клодом на несколько месяцев.
Журналу она посылала свои регулярные обзоры, а мне восторженные открытки с видами из Таиланда, Малайзии, Сингапура.
Вернувшись, всё ещё в пылу страсти, она засобиралась официально замуж и объявила, что они готовы к «производству потомства».
Вместо этого случилось непредвиденное. Вернее, непредвиденное Ксенией.
На одной из извилистых тропок к вершинам искусства и славе наш Кло-Кло (так звала его Ксения) повстречал свою новую пассию. Ей, в отличие от Ксенькиных сорока, было двадцать. Она была длиннонога, стройна и принадлежала к той самой золоточешуйчатой молодёжи, у которой отсутствие запретов и комплексов было главным слоганом. К тому же, у неё было ещё одно немаловажное достоинство — она была дочкой крупного издателя, у которого наш поэтический жиголо собирался напечатать свою «Книгу Эро-путешествий», которую он привёз из их с Ксенией медовых странствий. Взмахнув пару раз ресницами и поведя стройным бедром, эта барышня, сама того не подозревая, сбросила Ксенькину жизнь в пропасть.
Ксения пыталась бороться. На свой манер. Сначала, несмотря на «дружеские» доносы, она делала вид, что ничего не знает и, главное, «знать не желает». Но когда, в один прекрасный день, инфантильный Клодушка сам, не выдержав, расплакался на «мамочкином» плече, она решила действовать. И не нашла ничего лучше, чем вступить в сексуальное состязание с раскованной, не знающей никаких эмоциональных преград, девицей. Последняя находила вполне забавным такое положение вещей — разделить ложе с «бывшей тётенькой» (как она, кстати, без тени презрения, называла Ксению) своего «скакуна». Очень даже весело, особенно нюхнув кокаинчика и попотчевав им же тётеньку. А потом «поприкалываться» от души с подружками, рассказывая как «бывшая» старалась угодить.
Кло-Кло, со своей колокольни, был очень даже рад такому повороту событий — всё так хорошо устроилось, никаких драм, «клёвый коммунистический трах» и все, как он искренне верил, довольны.
Я, когда она поделилась со мной этим своим новым опытом, этим «райским адом», пыталась всячески её предостеречь от этого неравного сексуального треугольника. Говорила, что в такие игры можно играть, только будучи на равных со всеми партнёрами. Что одна из участниц просто развлекается, а другая подставляется. Что молодое тело, отсутствие всяческих моральных и сентиментальных преград делает свежеприбывшую совершенно неуязвимой в этом карнавальном блуде. В отличие от влюблённой и от этого очень уязвимой Ксении.
Но она, «приобщённая», ничего не хотела слушать — кошачья грация, безумный блеск глаз.
— Это у тебя комплексы, — насмешничала она, — и старорежимные взгляды на секс. Сексом надо заниматься, а не морализаторствовать на его счёт. У тебя просто недостаток воображения! — завершала она своим коронным.
В этот период своей жизни она предпочла зачислить меня в «синий чулок».
— Вот ты, например, сколько лет живёшь в эротической зоне Европы, сочиняешь «про любовь», а сама, небось ни разу даже в партузном клубе не была.
— А что, есть такие? Официально? — искренне удивлялась я.
— Ещё как есть, Белоснежка ты моя, — в её тоне звучала безнадёжность с лёгкой примесью дружеского презрения. — И чуда, между прочим, ходят многие супружеские пары. — Она расхохоталась. — О, господи! Только представить тебя с твоим Капитаном Немо в таком месте! Дорогого стоит! Обхохочешься! — заливалась она своим русалочьим смехом. — Но, между прочим, могла бы сходить туда и в другом составе. Хотя бы для опыта. Литературного. А то ведь так и помрёшь сексуальным идиотом. Секс нужно уметь организовывать, а не просто трахаться.
Я могла ей возразить на это, что групповым сексом может заниматься любой идиот. А вот попробуй-ка вдвоём найти настоящую близость. Но не стала.
Ксения раз и навсегда решила для себя, что я и Большой секс (её выражение) вещи несовместимые. Я вызывала у неё жалость. Она называла меня «лишенкой».
— И учти, если женщина вовремя не поступится своими принципами, то на её принципы станет всем наплевать, — припечатывала она.
А мне тогда, впервые, стало на неё неловко смотреть, как неловко смотреть на влюблённую женщину, которую перестали любить и которая этого не замечает. Как на некоторую ущербность, которую сам ущербный не сознаёт.
Кончилась эта история плохо. Она стала налегать на виски, «чтобы расслабиться», а потом на снотворные, чтобы уснуть на фоне постоянного перевозбуждения, перемежая всё это дозами кокаина. И однажды не рассчитала дозу.
К счастью, у неё началась сильная рвота, и она, прорвавшись нечеловеческим усилием из оглушительного мрака, умудрилась набрать номер пожарной (во Франции первую неотложную помощь часто оказывают именно pompier). Потом трубка выпала у неё из рук, повесить ее ей так и не удалось, так что там, на посту, им быстро удалось установить адрес и приехать. Дверь вышибли. Её нашли без сознания. Откачали. Она провела в госпитале три дня. Вышла бледная, исхудавшая и полная решимости расстаться со своей «самой большой любовью».
Это далось ей нелегко. Она страдала, как «смертельно раненное животное» (так и говорила). Однако, предоставила зализывать свои раны всё тому же Клоду.
Но у того пропал к ней последний интерес, она превратилась для него в обузу. В один прекрасный день, когда её не было дома, он быстренько собрал вещи и смылся, не оставив даже записки.
«…когда он её бросил,
она так убивалась,
что вечерами
я звонила ей
и молчала в трубку.
При встрече
она шептала:
— Он снова звонил,
Но молчал.
А я слушала её
Это только строки из книги стихов моего друга, на самом деле я ничего подобного не делала. А, может, и зря. Это могло бы как-то пощадить её самолюбие и сгладить травму.
Я думаю, что после её театрального фиаско это стало вторым по силе и глубине шоком в её жизни. И она не простила этого никому — не только участникам, но и свидетелям.
3
Однажды, в разгар Ксенькиного романа, мне позвонил Оскар и попросил встретиться. Ну вот, подумала я, уже соскучился, готов на всё, чтобы вернуть жену и хочет взять меня в сообщницы. Но я ошиблась. Речь шла не о Ксении, а об Арсении.
— Послушай, — сказал мне Оскар, — я знаю, что вы с ним очень близки. Он тебе доверяет… как бы это сказать… морально. Он собирается оставить Гарвард. За год до окончания. Это безумие. Он там у них один из лучших. Ему прочат блестящую карьеру. Но он упёрся, как мул. На все мои доводы лучезарно улыбается и качает головой. Ты должна с ним поговорить. Матери нет, да она ничем и не помогла бы, — закончил он горько.
Арсений прилетел в Париж через несколько дней. Мы встретились с ним в «Каскаде», в Булонском лесу. На открытой террасе ресторана, обогреваемой в это время года газовыми фонарями, вальяжно допивали кофе и заканчивали свои деловые ланчи представители бизнес-элиты, а вокруг, под шум каскадов, прогуливались няни и молодые мамы с детскими колясками.
Я не видела его больше года. Он возмужал и накачал мускулы. Сильная загорелая шея и крупные руки принадлежали уже мужчине, не мальчику. В глазах появилось какое-то новое выражение, которое, условно, я назвала бы взглядом опытной невинности.
— Ну, что ты дуришь! — попыталась взять я лёгкий тон. — Ну, что тебе стоит проучиться ещё год! Всё же оплачено! Доставь удовольствие своим близким.
— Я не моту руководствоваться этим в своей жизни — доставлять удовольствие кому бы то ни было. И мне больше неинтересно учиться — я учусь столько, сколько себя помню. Не хочу больше терять время.
— Не хочу учиться — хочу жениться, — глупо пошутила я.
— Перестань, — сказал он, — нахваталась у Ксении.
Я перестала. Мы помолчали. Обед подходил к концу. Принесли огромный деревянный круг с сырами. И тут наши вкусы совпадали — мы оба любили chèvre и brebis
[5].
Выпив кофе, Арсений расплатился, не дав мне возможности даже сделать движения в сторону кошелька.
— Откуда у тебя деньги? — поинтересовалась я.
— Неважно, — он лукаво сощурил свои, орехового (Ксенькиного) цвета, глаза, — есть люди, которые верят в меня и решили вложить деньги, рассчитывая на будущие дивиденды.
— И ты взял?! — ахнула я. Это было так на него не похоже.
— Не волнуйся. Можно считать, что им повезло, что я взял именно у них. Таких процентов, как у меня, они не получат больше нигде.
— Значит, ты всё-таки решил выбрать именно этот путь — разбогатеть!
— Вот именно.
— Позволь узнать, всё-таки, каким образом?
— Я буду играть на бирже.
— О-о-о! Как оригинально! Хорошо, что не в рулетку! Не ты первый, не ты последний.
— Ну что ты рассуждаешь о том, о чём не имеешь никакого понятия.
— А ты имеешь?!
— Я знаю точно, как это сделать. Риски — просчитываются.
— Другие тоже так думали.
— Я — не другие. Мне нужен год, может полтора, чтобы заработать деньги. А потом я их вложу в собственное дело и буду его развивать.
Он говорил так уверенно, как будто всё это уже было у него в кармане.
— Ты понимаешь, я хочу начать играть в новую игру. В предыдущую я уже всех обыграл.
— Но жизнь — это ведь не площадка для игр, не шахматное поле. А ты не Главный Гроссмейстер.
— Да? А ты, может быть, точно знаешь, что такое жизнь? — спросил он абсолютно серьёзным тоном.
— Жизнь есть некое поручение, которое ты должен выполнить, — попробовала я развить свою новую теорию.
— Кому должен? — удивился он.
— Ну, не знаю… Создателю, себе, своим родителям… тому шансу, что родился именно ты, а не кто-нибудь другой.
— А я считаю, что никому я ничего не должен. В Создателя я не верю — я верю в научный прогресс. И больше склонен поклоняться Энштейну, Стивену Хокинсу и Билу Гейтсу, чем Папе Римскому. Хотя и принимаю идею о том, что человечеству нужна вера — общая вера проще и удобнее индивидуальной совести. Сам про себя пока толком ничего не знаю. А что касается родителей… тут слово «должен» не очень уместно.
— Ну, обществу, наконец, — сморализировала я.
— Обществу? Скажи ещё, человечеству. Ему, между прочим, и так достанется от результатов моей деятельности. Если уж я кому-то что-то и должен, так это Оскару. Это он уже пятнадцать лет кормит меня и оплачивает учёбу. Небось, и тебя это он подослал уговорить меня закончить мою престижную альма-матер. Благородный человек. Мама отлично его отблагодарила (это было единственное замечание, которое он позволил себе по поводу их развода). С ним я обязательно рассчитаюсь.
Мы решили прогуляться вокруг озера. День выдался как на заказ — солнечный и прохладный. По озеру уже скользили несколько лодок с любителями романтических прогулок на вёслах. Если прищурить глаза определённым образом и дать расплыться разноцветным лодочным пятнам на лаковой поверхности озера, получалась мерцающая, абсолютно импрессионистическая картинка начала прошлого века. Я, представив себя на месте Долли, завидовала носящимся вокруг собакам и не могла удержаться, чтобы не потрепать каждую вторую. Арсений беспечно шагал рядом.
— Буколическая картинка, — сказал он наконец. — Прямо-таки всеобщая гармония. Если не знать, что за следующим поворотом обитает целая популяция травести, цель которых ублажать людские пороки за деньги.
— Il faut un peu de tout pour faire un monde
[6] — процитировала я своего мужа. — Пороки всегда были и будут. А их носители служат, в какой-то степени, санитарами человеческой природы. Как ассенизаторы (это была уже моя теория).
— Вот-вот…, — сказал он как-то рассеяно, — и я о том же — о человеческой природе. Всё время чувствовать эту всеобщую ущербность. И себя ощущать ущербной собакой, стерегущей ущербную жизнь.
— Ты о чём? — удивилась я.
Он вздохнул. Помолчал. Потом разбежался и подтянулся на каком-то суку. Вернулся обратно.
— Послушай, Шош, — начал он, как будто решившись на что-то, — я хочу рассказать тебе одну историю. Так… в качестве очередного сюжета для пьесы… Или для жизни… У меня был сосед по студенческой келье, на курс старше меня. Индус. Гений астрофизики. Мы прожили вместе почти два года. Не могу сказать, что дружили, но так, обменивались впечатлениями. Так вот, он сошёл с ума. Однажды я проснулся ночью от ужасного запаха палёной человеческой кожи. Он сидел за письменным столом, держа в правой руке зажигалку, пламенем которой сосредоточено жёг ладонь левой руки. Когда я в ужасе спросил, что он делает, он ответил, что пытается отвлечь свой мозг физической болью, чтобы не пересечь черту.
— Вызывай психушку, — сказал он и потерял сознание, видимо от болевого шока.
— Это произвело на тебя сильное впечатление!
— Дело в том, что я не раз до этого ловил себя на желании сделать то же самое. Когда физически ощущаешь, что ещё немного и всё, перейдёшь границу и обратной дороги не будет.
— Но ты ведь этого не сделаешь?!
— Чего, этого?
— Не будешь жечь себе руки и не перейдёшь границу?
— Именно поэтому я и принял решение развернуться на сто восемьдесят градусов.
— А что с индусом?
Он опять помолчал, как бы размышляя, стоит ли мне рассказывать.
— Как я уже сказал, мы не были очень близки, несмотря на совместное проживание. Слишком велики были нагрузки и слишком занят был каждый своими проблемами. Но однажды, за несколько месяцев до «ночи костров», я застал его за чтением каких-то сказок, не помню, то ли мифов Древней Греции, то ли «Одиссеи». Я удивился и спросил, как он, человек, занимающийся проблемами мироздания и пытающийся проникнуть в тайну бесконечности Вселенной, бесконечно-большого и бесконечно-малого, Биг-Бенда и математической конструкции космоса, может читать это. Он не ответил мне на мой вопрос, но зато сказал примерно следующее: «Я ненавижу человечество, — сказал он, — ненавижу толстых, уродливых, глупых; ненавижу бедных — они завистливы и всегда готовы унижаться; ненавижу богатых — они наглы и безнравственны; ненавижу плебеев и ещё больше ненавижу псевдо-аристократию (а другой и не существует). Не выношу детей — этих орущих, какающих и сосущих монстров, к которым относятся, как к центру мироздания. Я брезгую стариками — они безобразны и воняют, и я чувствую панический ужас от того, что когда-нибудь могу превратиться в одного из них. А те единицы светлых голов, которые встретились мне на пути, вообще не имеют никакого оправдания в своём желании продолжать жизнь в тот момент, когда они поняли, что смертны и что не в их силах изменить что-либо в этом абсурде, называемом жизнью, за который все цепляются из последних сил. Ведь никому нет ни до кого никакого дела. Добро абстрактно, а жестокость и беспредел конкретны. Я живу с омерзительным чувством, что я всё про всех знаю, но самое страшное, что я всё знаю про себя. Это невыносимо. Покинуть этот злобный, зловещий карнавал достойно можно только самому, по собственной воле. К тому же я индус, и, согласно моей религии, должен быть полон терпения, благородства и философского спокойствия. А вместо этого у меня припадки человеконенавистничества, которыми я страдаю всё чаще и острее». — «А как же… что удерживает тебя на плаву?» — спросил я с опаской. — «У меня есть пару конкретных задач, исключительно математического свойства, которые я хочу разрешить для себя. Из любопытства. Не для человечества — оно этого не стоит, не для собственного тщеславия — я понимаю, насколько оно мелко, а исключительно из любопытства», — повторил он. Видимо, в ту ночь, когда он попросил вызвать психушку, он их разрешил, эти задачи. Или, наоборот, понял, что не разрешит их никогда. Этого уже я не узнаю. Когда я навестил его через некоторое время в клинике, он пребывал уже в амёбном состоянии.
— Горе от ума. Одно из наказаний для блестящих умов. Чтобы не пытались проникнуть туда, куда человеческому разуму нельзя, каким бы светлым и продвинутым он ни был. А также наказание за гордыню и нетерпимость!
Рассказ Арсения произвёл на меня двойственное впечатление. Я понимала, как на него могла подействовать такая история. А с другой стороны, мне показалось, что рассказывает он не про «индуса», а, гипотетически, про себя. Но почему такой, одержимый высокой наукой ум, полез вдруг в проблемы среднестатистической личности? Ну что ему до этого? Ведь не писатель же он, не врач, не педагог. Занимался бы своими чёрными дырами в небе, а не на земле.
— Вот, именно, горе от ума, — подтвердил Арсений. — Но какой терпимости можно требовать от человека, которому открылась истина! Пусть даже не открылась, а только приоткрылась, в какой-то мизерной степени. И гордыня тут ни при чём. Гордецы, как правило, эгоцентристы. А эгоцентристы не сходят с ума и занимаются в основном собой, а не вопросами сотворения мира. Как бы то ни было, я оказался очень впечатлительным. Я решил закончить учёбу на том месте, на котором меня застигло это событие.
— Скажи, а что, у вас там, в Гарварде, нет никакой личной жизни? Один космос? — попыталась я переключить его на другой регистр.
Он усмехнулся, отлично поняв, что меня интересует его личная жизнь, а не несчастного индуса.
— В тот раз, когда я услышал его филиппику против человечества, я пытался найти какие-то контраргументы. Бормотал что-то про физические удовольствия — секс, женщин. До этого мы никогда не поднимали с ним эти темы. Даже в шутку. Что было странно. Так как тема «черных дыр» в студенческом сообществе была одной из главных, и вовсе не в связи с космосом. Так вот, в ответ на это он, вдруг спустил штаны и сказал с сардонической улыбкой: «Посмотри на моё хозяйство!» — Я невольно опустил глаза. Его «хозяйство» действительно было микроскопическим. — «Ты думаешь, что вот с «этим» я могу на что-то рассчитывать?!» — и он рассмеялся смехом фокусника-шарлатана, удачно подшутившим над простодушным зрителем. А я стоял, как болван, старательно отводя глаза от его причиндалов и не знал, как на это реагировать.
— О, господи! — сказала я неосторожно. — Может в этом и было всё дело!
— Вот видишь! — Арсений как будто ждал этого моего дурацкого восклицания, — значит ты тоже считаешь, что эта штука и есть тот самый стержень, на который нанизывается всё остальное, включая душу, интеллект? Что эта нелепая штука может удержать от безумия, дать смысл жизни! Так просто? Значит, у кого больше, тот и главнее? И счастливее?
— Ну, не упрощай пожалуйста, — на этот раз я старалась быть максимально осторожной, не зная наверняка, насколько всё это относится к нему лично. — Наверное, для мужчины это важно. Но, поверь, что это не самое важное, даже в сексе.
— Не осторожничай, — сказал он мне с улыбкой, — ко мне это не относится. У меня с «хозяйством» все в порядке. И я, кстати, собираюсь им всерьёз попользоваться. И ориентация у меня традиционная — я гетеросексуален. Так Ксении и перелай. Я знаю, что она волнуется на этот счёт.
Это было правдой. Ксенька не раз заговаривала со мной на эту тему. Она говорила, что для неё было бы катастрофой, если бы её сын оказался «с дурными наклонностями». «Знаешь, на этих их сложных факультетах, где сплошные мальчики…»
— Но мне интересно знать, насколько это важно для женщины, для полноценной жизни, — продолжал он. — Извини, что я говорю об этом с тобой… но мне больше не с кем обсудить это на… человеческом уровне. Ты понимаешь, если бы я обратился с этим к матери, у неё не было бы никаких сомнений, что «вся проблема в размере его члена», — при этом он смешно передразнил Ксеньку. — А ты всё-таки можешь попытаться быть объективной… ну, насколько это возможно.
Я растерялась. Ну как избежать банальностей, высоких слов, низких истин и, вообще, как можно быть объективной в этой области, где всё держится на абсолютной субъективности. Примерно это всё я ему и сказала.
— У меня на этот счёт есть своя теория, — добавила я. — Очень простая, кстати. «Ключ должен быть в замке. Цветок в вазе. Мужчина — в женщине». Но самое главное — это встретиться. И узнать друг друга в толпе человечества.
— Понятно, — сказал Арсений. — У меня к этому примерно такое же отношение. Ну что ж, будем ждать.
— Ну, ты уж, пока ждёшь, совсем не принимай аскезу, — поменяла я тон на более непринуждённый. — Интимные рецепторы надо развивать.
— Не волнуйся! Я уже спал с телами нескольких женщин. Правда, без всяких последствий для души. — Это прозвучало так по-мальчишески, что я рассмеялась.
Он рассмеялся вместе со мной.
ххх
Это была последняя наша «душещипательная» беседа перед долгой разлукой.
На протяжении последующих пяти лет я следила за ним издалека, как за восходящей звездой. Как поэтапно и неуклонно он осуществляет все свои планы. Казалось, что в этот период его жизни Провидение работало на него круглосуточно.
Гарвард он бросил. Переехал в Лондон, так как считал, что в финансовые игры сподручней играть именно там. Он действительно разбогател. И действительно на бирже. И понадобилось ему на это около двух лет. Внимательно изучив рынок, просчитав риски, он купил баснословно растущие в цене акции компаний, крупных и помельче, которые занимались телекоммуникациями, мультимедиа и высокими технологиями. Потом, вовремя поняв, что с такой скоростью их цены дальше подниматься не могут, решил переиграть. И, высчитав «примерно», попал в самое яблочко. Он продал их на самом пике цен, всего за несколько недель до того, как рынок начал рушиться. Хорошо заработал для своих клиентов, рискнувших в своё время доверить свои деньги девятнадцатилетнему мальчику, и пару миллионов для себя. Он вложил эти деньги в авиацию, в процветающую компанию «Marcel Dassault», и открыл свою собственную компанию по продаже маленьких реактивных, так называемых бизнес-самолётов, частным лицам и компаниям, которые нуждались в своём парке именно таких малогабаритных, мобильных, скоростных ковров-самолётов. И это тоже был очень правильный ход.
Из Силиконовой Долины он привёз себе партнёра китайца, и за три с лишним года они увеличили оборот своего предприятия почти в пять раз и открыли свои представительства в Китае и Индии.
Свои двадцать пять лет Арсений отметил покупкой Ксении прекрасной квартиры в Париже, которую она сама выбрала, недалеко от площади Trocadéro, и подарком Оскару спортивного «Мерседеса», о котором тот мечтал. Сам он продолжал жить в Лондоне, где у него была квартира рядом с Holland Park и офис в City, деловом центре города.
За это время мы виделись с ним лишь урывками, в Париж он наезжал довольно редко, носясь по городам и весям, с азартом занимаясь новым для него делом.
ВСТРЕЧА
1
По пустынной улице ветер гнал, кувыркая, чью-то шляпу. Но за ней никто не гнался. Видимо, она улетела с чьей-то головы уже давно. Может, владелец был слишком стар или слишком пьян, чтобы её преследовать. А, может, достаточно богат, чтобы не потрудиться даже нагнуться.
По-пластунски прошуршала кошка с худыми выпирающими лопатками. Ему показалось, что за следующим углом его должна поджидать судьба. Но последняя явно не любит, когда её козни или, наоборот, щедрые подарки, предчувствуют. Он ошибся всего на несколько дней.
Арсений брёл, шаркая ногами, по продуваемой со всех сторон улице этого нормандского приморского городка, и в голове у него крутились злые мысли.
Вчера, в машине, включив радио, он услышал, что на земле родился шестисполовиномиллиардный житель. Шесть с половиной миллиардов. И такое исступлённое одиночество. Такая тягучая тоска. Слишком много людей на этом бедном шарике. Слишком много. Ни пройти, ни проехать. Толпы. Толпы. Обессиленная, выдоенная, отравленная земля, заблудшие, потерянные, никому не нужные души. Люди существуют только для того, чтобы есть, пить, спариваться и рожать, параллельно убивая
себе подобных. Агрессия стала нормой. Дебилизация населения угрожающей. «Много званых, да мало избранных». Он снова и снова возвращался мыслями к своему бывшему сокурснику — этот блистательный, отчаявшийся интеллект, испытывающий отвращение к роду человеческому, имел для этого все основания. А, может, это именно в них обоих был какой то изъян, который мешал им быть счастливыми? Или, как в Библии, «…кто много знает, тот умножает скорбь на томление духа».
Он знал эти свои состояния, это кризисы беспросветного отчаяния, и изо всех сил пытался удержать себя на грани этой разверзающейся бездны. В такие моменты он ощущал почти шизофреническую раздвоенность — безвольная, пустая кукла была накрепко привязана к преуспевающему бизнесмену с безупречной репутацией. Он терял азарт, интерес и волю к жизни. Чувство отвращения ко всему, включая себя, было превалирующим. К тому же, по ночам его томили галлюцинации, абсолютно реальные сны с реальными людьми, которых он никогда не знал и ситуации, в которых он никогда не был и не мог быть.
Иногда ему казалось, что его окружает хаос.
Его врач считал, что он подвержен сильнейшим приступам клинической депрессии и нуждается в такие периоды в медикаментозном лечении. Может быть, это были последствия сильнейшего гриппа, с температурой под сорок в течение целой недели, который он перенёс в Гонконге два года назад. Может быть, просто переутомление. У него были с собой прописанные ему транквилизаторы, но он ненавидел эти лекарства, они приглушали не только тоску, но и все другие чувства, а главное — способность думать и анализировать. Хотя и это его последнее прибежище причиняло ему последнее время больше вреда, чем пользы.
Он чувствовал приближение этих кризисов, поэтому и сбежал сюда, на продуваемое всеми злыми ветрами в это время года и потому довольно пустынное побережье Атлантики. Поселился прямо на берегу серого неприветливого океана, в отеле, где когда-то жил великий Пруст и писал свою гениальную тягомотину, рассчитанную на чтение именно такими длинными зимними вечерами, в то время, когда у человечества ещё не было его главного развлечения — кино и телевидения. Здесь можно было гулять до изнеможения по бесконечным пустынным пляжам, живя жизнью исключительно созерцательной.
Отель был шикарным. Он взял комнату с террасой, выходившей прямо на море, двери которой он открывал на ночь настежь. Шум волн то усыплял, то будил его среди ночи. Тогда он выходил на балкон, накинув на себя толстый махровый гостиничный халат и светился там белым пятном для рыбацких шхун, вышедших в море на рассвете. Здесь, без свидетелей, он мог позволить себе заломить руки и повыть на луну от грызущей его тоски. В свои двадцать шесть лет он чувствовал себя дряхлым стариком и с ужасом пытался иногда представить себе, что он будет делать на земле ещё целых двадцать-сорок, а то и все шестьдесят лет. Но представить это ему не удавалось. Напрягая изо всех сил своё воображение, он не видел себя не только старцем, но и сорокалетним зрелым мужчиной. И это было странно. Ему, с его воображением, привыкшим иметь дело со вселенскими масштабами, никак не удавалось увидеть своего собственного ближайшего будущего. Это его не то чтобы беспокоило, но как-то удивляло.
Он вдруг сообразил, что наступает пятница, впереди длинный week-end с каким-то праздником — выходным во вторник и, значит, большинство французов воспользуются так называемым «мостом», устроив себе четырёхдневные каникулы и ринется из ближайших городов сюда, «на море». Ужас, подумал он, они заполонят здесь всё, будут орать дети, набережные наполнятся «выполняющими прогулки», наверняка затеют какие-нибудь шумные музыкальные мероприятия прямо в городке, все кафе и бары будут полны днём и вечером, словом, придёт конец тому одиночеству, за которым он сюда ехал. Но бежать было некуда — в Париж ринется на праздники вся провинция.
И он решил позвонить мне.
Я воевала с Машкой. Вчера вечером с катка, который был в пятнадцати минутах ходьбы от дома, её привёз какой-то длинноволосый, неопрятного вида тип с серьгой в ухе. Но самое ужасное, что привёз он её на рычащей, со снятым глушителем, зверского вида мотоциклетке.
Я прогуливала собаку, подгадав к Машиному возвращению, и столкнулась с ними в конце нашей улицы, где «тип» ссаживал её с этой адской машины, видно, подчиняясь её же запрету подъезжать на этой мерзости к дому, предполагая мою реакцию.
У меня от страха стало холодно в животе, как будто я проглотила огромный кусок льда. Представив их верхом на этом смертоносном драндулете, вихляющем среди машин, из которых несутся проклятия водителей, дружно ненавидящих эти, не подчиняющиеся никаким правилам мотобомбардировщики, я почувствовала, что у меня начинается медвежья болезнь.
Сделать вид, что они меня не заметили, было невозможно — наша пятнистая красавица Долли привлекала всеобщее внимание. К тому же, она залаяла, узнав свою обожаемую хозяйку.
Маше пришлось нас познакомить. Оказался какой-то Пьер. Я, со всей вежливостью, на которую была способна в эту минуту, сквозь зубы, запретила ему, раз и навсегда, сажать её на эту «штуку».
— Если хочешь провожать её домой, — сказала я балбесу, — провожай пешком. И подняться к нам, кстати, тебе тоже не запрещается.
Теперь, дома, забившись в угол, она смотрела на меня злыми глазами и шипела, что я «не имею права так разговаривать с её друзьями».
В этот момент раздался телефонный звонок, и она, воспользовавшись паузой, улизнула к себе.
— Послушай, Шошка, — голос Арсения в трубке был каким-то ненатуральным, — бери в охапку мою невесту и животину и приезжай со своими двумя душечками разделить мою меланхолию в Кабуре. Твой Подводник наверняка ползает где-то по дну моря и бросил вас на произвол судьбы. А впереди, между прочим, длинный week-end.
— А ты что, разве не в Лондоне? — удивилась я. — Ты хочешь сказать, что был в Париже и не позвонил ни матери, ни мне?
— Ну, вот, звоню же я тебе. А в городе я был всего один день, расписанный по минутам. Садись в машину и приезжай — всего два часа от Парижа. Только Ксении не говори, что я здесь, я сейчас не в том состоянии, чтобы с ней общаться.
— У тебя ничего не случилось?
— Технически, ничего. Так, проблемы с самим собой. Приезжай! А? — тон у него сделался просяще-жалобным. — Я справлялся, собак пускают. Подышите воздухом, побегаете на воле. Твоим двум девочкам здесь будет такое раздолье…
Он прекрасно знал, что я не могу ему отказать, особенно когда он говорил таким голосом. Да и из города, честно говоря, вырваться хотелось.
И вот мы уже всей семейкой катили в нашей серебристой «Равке», как звала её Машка, в Нормандию. Дочь моя была счастлива, все обиды забыты. Из всей взрослой популяции, воспринимаемой ею огульно враждебно, она делала исключение для Арсения, будучи, по-моему, в него немножко влюбленной. Помню, лет в семь, когда девочки начинают засматриваться в зеркало и ходить по дому в маминых туфлях на каблуках, она объявила, что «ладно уж, так и быть, она выйдет замуж за Арсика». С тех пор он и звал её невестой. А она, пообщавшись с ним, немедленно, как маленькая обезьянка, перенимала его манеры. Так, например, его привычку раздражённо поводить плечами в ответ на глупые замечания, она скопировала абсолютно на женский манер, не столько ими поводя, сколько жеманно поигрывая, заканчивая это жест кошачьим почёсыванием правым плечом правого же уха. Получалось женственно и неловко одновременно.
Нормандию я не любила — для меня там было слишком ветрено и недостаточно солнечно. Интересно, что за два дня до этого мне позвонила Ника и предложила поехать с ней на эти же четыре дня в Довиль, который находился на том же побережье, всего в двадцати минутах езды от того места, куда я ехала сейчас. Они с Робином заказали отель, а у него в последний момент что-то случилось в госпитале, и он поехать не мог. Я было согласилась, но выяснилось, что в этот отель с собаками не пускают, а пристроить Долли за два оставшихся дня не было никакой возможности.
— Ну, вот и хорошо, — подумала я теперь, — позвоню ей, встретимся, погуляем вместе.
Видимо, это была первая попытка судьбы закинуть удочку и поймать на неё свои будущие жертвы. Но на этот раз у неё ничего не получилось, наши дороги так и не пересеклись: Ника в последний момент от поездки отказалась.
Я никогда ещё не видела Арсения в таком болезненном состоянии. От него исходили волны отрицательной энергии. Он пытался шутить над своим плачевным состоянием, говорил, что, видимо, «зажрался», что у него началась болезнь богатых — скука и пресыщение, но я видела, как ему плохо. Моя дочь, неожиданно для меня, проявив необыкновенную тонкость чувств, поднимала к нему страдальческую мордочку и гладила по руке. Он отвечал ей шутливым похрюкиванием и вымученной улыбкой.
Я предложила взять напрокат велосипеды, и мы уезжали на весь день, подальше от толп отдыхающих, с целью изнурить его физически, чтобы к концу дня ни на какие мысли уже не оставалось бы сил. Мы колесили по сельским тропинкам, и изумлённые морды чёрно-белых нормандских коров поворачивались нам вслед и мучительно мычали, вторя настроениям нашего главного героя. Долли отбрехивалась, не прерывая бега. Иногда мы останавливались передохнуть и подолгу смотрели в завораживающую зеленоватую туманность, на лиловеющие деревья и плачущие влажные кустарники, которые напоминали мне Подмосковье. Только вместо деревенских покосившихся срубов (я имею в виду семидесятые годы) из них выглядывали — нормандские дома в коричневом коломбаже.
В маленькой деревеньке мы нашли заброшенную, полуразрушенную маленькую церковь. Мы вошли. Тусклый свет падал на каменные плиты и на изгрызенных временем таких же каменных ангелов с лицами, на которых зеленели пятна патины и грязи.
— Так и хочется сравнить себя с таким ангелом, — сказал Арсений. — Но боюсь быть «пафосным», как говорят мои русские клиенты.
Мы совершали набеги на расположенные вдоль тихих сельских дорог маленькие ресторанчики, мнившиеся нам поначалу пустынными, но, оказавшиеся заполненными местным населением, краснолицыми нормандскими крестьянами, евшими и пившими как в последний раз в жизни и нимало о смысле этой самой жизни не заботившимися.
— Жаль, что у меня нет никакой конкретной цели, — сокрушался Арсений, — например, уничтожить врага, или победить болезнь.
— Типун тебе на язык, — возмущалась я, — ты не знаешь, о чём говоришь. Может, и вправду, тебе попробовать уйти на некоторое время от мира. В пустыню, или в горы. Или, наоборот, жениться, завести семью, — пыталась я вложить ему в голову знакомые мне смыслы.
— Я уже пробовал. И то, и другое.
И он рассказал мне, как его партнёр, китаец по происхождению, которого он откопал в исследовательском институте, работающем исключительно на Билла Гейтса в Силиконовой долине, после одного из таких кризисов отвёз его в горы Тянь-Шаня, в заброшенный монастырь, где жил старец, врачующий тело и души. Он прожил там целых два долгих, на его взгляд, месяца.
— И что? — Моё любопытство было не праздным, я втайне давно уже мечтала о таком эксперименте в своей жизни.
— В результате долгого, кропотливого исследования устанавливаешь то, что было ясно с самого начала. А именно — от себя не убежишь, — невесело усмехнулся он. — Выяснилось также, что, несмотря ни на что, я животное общественное, не лишённое тщеславия и желаний, которые нужно удовлетворять, а, значит, буду ещё какое-то время удобрять пастбища продуктом своей мозговой деятельности.
— Далеко не самым ничтожным. А как насчёт семейной жизни?
Два года назад ему показалось, что он влюбился. Почти год он прожил с вызывающе умной и такой же красивой Кати, способной журналисткой, которая в свои неполные тридцать умудрилась пробить на английском телевидении свою собственную программу.
— Но в ней был дефект, в настоящей женщине недопустимый — отсутствие хрупкости, — сказал он и неожиданно добавил: — Как у Ксении. Женщина должна оставлять место для мечты. «Мягкое и податливое одолевает твёрдое и сильное», учит Дао дэ Цзин.
Чувственная Кати, учуяв своим немыслимо изящным носом охлаждение, решила пощадить своё самолюбие и, взяв инициативу на себя, объявила о своём уходе. Он вздохнул с облегчением и опять заскучал.
— Беда в том, что я считаю, что ни для чего нет правильного решения. Каждое наше действие может привести к обратному результату.
— Может, ты напишешь книгу? — взялась я за своё.
— Зачем? — удивился он. — Для кого? Мне нечего сказать человечеству. У меня нет для него никакого важного послания. А если бы даже и было, никто бы не послушал. Населению нужны футбольные идолы и эстрадные звёзды, а не пророки.
Я вздохнула. У меня тоже его не было, послания. Мне просто нравилось рассказывать истории.
— И не принимай, пожалуйста, мои подлые настроения в свой писательский адрес, — спохватился он.
Я изо всех сил пыталась его отвлечь.
— Давай позвоним моей подруге, — предложила я, считая, что Ника в Довиле, — она здесь, недалеко.
— Ну уж нет, — запротестовал он, — очередная, умирающая от тоски дамочка. Это ещё несносней, чем скучающий Чайльд-Гарольд.
Я всё-таки позвонила, но её мобильный не ответил.
Несмотря на засилье отдыхающих, нам удавалось найти достаточно пустынные пляжи, вдалеке от курортных мест. Пока Машка с Долли носились наперегонки по песку, у самой воды, мы с Арсением наблюдали за ними, сидя на скамейке на прогулочной части набережной, и он расспрашивал меня, как я выживаю.
Однажды к нам на лавочку, попросив разрешения, подсел сухопарый красивый старик. Отдохнув минут десять, он, попрощавшись улыбкой, пошёл своей дорогой.
— Какую же надо прожить жизнь, чтобы в старости лицо отражало мысль и благородство, а не пошлость и разруху, — сказал Арсений.
— Может, в этом и есть смысл жизни — иметь в старости благородное лицо?
— Может. Но до неё ещё надо дожить, до старости. Знаешь, судя по рассказам матери и по нескольким оставшимся фотографиям, мой отец принадлежал к таким старикам.
— Но не всегда же он был стариком.
— Не знаю… я почему-то привык думать о нём, как о пожилом человеке. Может, потому, что он умер, когда я ещё не родился. Чего бы я не отдал за несколько часов беседы с ним сегодня.
— Ты хотел бы получить от него совет?
— Нет. Просто поговорить. Послушать. Понять. Погладить по щеке. Убедиться, что он меня любит.
— Тебе не хватало в твоей жизни отца?
— Это не совсем так. Оскар всегда был мне замечательным отцом. Но, глядя на него, я не мог, например, увидеть себя в старости. У меня впечатление, что я знаю только одну часть своей личности. Другая же мне постоянно преподносит сюрпризы. — Говоря это, он хмурился, точно ему было больно.
— В один прекрасный день, — сказала я неожиданно для себя, — случится нечто, что потрясёт тебя до самого основания и полностью перевернёт твою жизнь.
— Ты думаешь?
— Я знаю.
У меня, действительно, иногда случались короткие вспышки некоего предвидения. Но обычно они были настолько мгновенными, что я не успевала их осознать. Зато потом, когда что-то случалось, мне было абсолютно ясно, что это я уже «видела» в этих суматошных всполохах, о которых я, как правило, тут же и забывала. На этот раз никто не мог даже предположить, насколько я была близка к истине.
— Ты поэт, — сказал он с улыбкой, — твоё дело — творить мифы. А я трезвый финансист и руководствуюсь в своей жизни, в основном, логикой и цифрами.
Когда утром, в день нашего отъезда (Арсений уехал накануне, поздно вечером, сказав, что у него на утро билет на самолёт в Женеву, на какой-то аэросалон), после завтрака в торжественном, полностью застеклённом пустынном зале с видом на океан нашего «Гранд-Отеля», я пошла расплачиваться за номер, оказалось, что уже всё оплачено и для меня «месье» оставил конверт. В конверте была записка: «Шошка! Спасибо всей вашей компашке. Вы даёте мне ощущение члена счастливой семейки. А это бесценно, так что не злись за оплаченный номер. Аэросалон в Женеве заканчивается через неделю. Потом вернусь в Париж — погулять у Ксении на юбилее. Там и увидимся. Целую крепко — ваша репка».
Ну, да, вспомнила я, через неделю моей подруге сорок пять. Она уже объявила, что это её последний юбилей, так как ей больше «никогда не будет ни на один год больше». Надо ещё купить подарок. Да и какой-нибудь новый «прикид» к случаю не помешал бы, что-нибудь из моей любимой серии, которую я называю «одел и пошёл», что значит — красиво, удобно и, главное (с разными аксессуарами) на все случаи жизни. Наверняка, она устроит грандиозный пир и созовёт всяких «модных» людей. Тем более, что она сразу при двух таких завидных кавалерах — Саша́ и Арсении. А я, как всегда, без мужа, мне без него было скучно на таких праздничных мероприятиях.
2
Когда Арсений оторвался от компьютера, самолёт уже взлетел. Салон бизнес-класса был полупустым. Он сидел во втором ряду. Хорошенькая стюардесса разносила шампанское. Подойдя к нему, она мило улыбнулась и на щеках у неё заиграли ямочки. Он попросил порцию виски. Она кивнула и пообещала немедленно принести. Он спрятал компьютер в портфель, расслабил узел галстука и, потянувшись, устроился в кресле поудобнее в ожидании напитка. И в этот момент, впереди, в проёме между креслами, он увидел женский профиль. Что-то больно толкнуло его в грудь, и к горлу подступило удушье. Он сглотнул ставшую вдруг вязкой слюну. Такого с ним ещё никогда не бывало. Арсений одним глотком выпил подоспевшую порцию виски и попросил ещё. Переведя дыхание, он ещё раз посмотрел на загадочный профиль, вызвавший у него такую странную реакцию. В нём не было ничего особенного. К тому же в этот момент женщина отвернулась, и он видел теперь только светлые пряди волос и маленькое ухо с серёжкой в виде прозрачной зелёной капли. Он не понимал, чем вызвано это ощущение холода в позвоночнике и почему вдруг стали влажными ладони.
«Сейчас я встану, пройду мимо неё в туалетную кабину и ни разу не оглянусь», — подумал он.
В туалете он ополоснул лицо и сделал несколько глубоких вздохов.
— Да, что это со мной, — сказал он вслух своему отражению в зеркале. — Дал же себе слово не перенапрягаться на ниве бизнеса — это он у меня на службе, а не наоборот.
Решительно выйдя из кабины, он оказался лицом к лицу со спящей в первом ряду женщиной, чей профиль его так растревожил. Игла узнавания вонзилась в его сердце. Он застыл, как вкопанный, не в силах пошевелиться. Наступила какая-то звенящая тишина, как если бы вдруг, одновременно, в самолёте заглохли все моторы. Но хрустальный звон, естественно, присутствовал только в его голове.
В этот момент женщина открыла глаза, посмотрела на него и улыбнулась приветливо. Он стоял перед нею, застывший как в детской игре «замри, умри, воскресни», не в силах ни сказать что-нибудь, ни даже облизнуть пересохшие губы. У него было ощущение, что он находится в полном вакууме и, как во сне, совершенно не владеет своим телом. Он боялся одновременно взлететь и упасть.
Женщина смотрела на него молча улыбаясь и чуть подрагивая ресницами. Вдруг, как в замедленной киносъёмке, её рука сделала плавное движение в его сторону и коснулась его руки. Потом она взяла его за пальцы. Они были ледяными. А её рука оказалась заряженной электричеством, ему показалось, что его пальцы воткнули в розетку — Арсения пронзило током с головы до ног. Но зато, благодаря этому, он смог, наконец, пошевелиться и произнести нечто нечленораздельное в своё оправдание.
— Простите… — почти просипел он, — но мне… мне кажется, что я вас знаю… — И тут же покраснел, как мальчишка, осознав всю банальность произнесённого.
Женщина рассмеялась волшебным смехом (впрочем, всё исходившее от неё ему казалось волшебным).
— Ещё бы тебе меня не знать, Арсик-Барсик-Пускатель Мыльных Пузырей, — сказала она и, потянув за руку, усадила его в пустующее рядом с ней кресло.
— Ника!!! — выдохнул он, — …Неужели это вы?.. Ты?
— Я, я, маленький притворщик, превратившийся в… большого соблазнителя, — и она снова рассмеялась.
— Ты!.. Где?.. Что?.. Как?.. Замужем?
— Отвечаю в обратном порядке — очень даже замужем; хорошо; веду балетную школу; вообще-то в Париже, но вот лечу из Лозанны, где была по приглашению Бежара.
— О, господи! Ты! — не мог прийти в себя Арсений. — Сколько же лет прошло?
— Сейчас скажу точно… Пятнадцать… Сколько же тебе лет сейчас? Подожди, сейчас подсчитаю… Если мне сорок, значит тебе должно быть… двадцать пять.
— Двадцать шесть. То есть мы принадлежим к одному поколению.
— Это ты к чему?
— Ко всему последующему, — засмеялся в свою очередь Арсений.
И они стали взахлёб вспоминать.
ххх
Пятнадцать лет назад, только что оправившись от тяжелейшей травмы, она согласилась подменить своего коллегу, сильно разбившегося на мотоцикле и выбывшего из строя на целый год. Ей досталась смешанная группа — девочки и мальчики десяти-тринадцати лет. Просидев до этого почти два года без работы и истосковавшись по балету, она ухватилась за эту возможность, как за соломинку. Несмотря на то, что школа эта не была профессиональной, и дети там были с самыми разными способностями, это стало для Ники первым, очень важным опытом в её будущей педагогической деятельности.
Заметив в группе неуклюжего, но упорного мальчика, не сводившего с неё завороженного взгляда, она, понимая, что у него не может быть никакого балетного будущего, всё-таки старалась не делать ему замечаний больше, чем другим. Для него же, балетный класс был только возможностью видеть предмет своей отчаянной влюблённости (вернее, первой и, как окажется впоследствии, последней любви). Чего он только не делал, чтобы привлечь её внимание, проявляя чудеса изобретательности и демонстрируя силу чувств и фантазию, которой позавидовал бы взрослый мужчина. Он подкладывал ей в сумку цветы, сорванные на ближайшей клумбе, в большие накладные карманы её пальто — духи, стибренные с маминого туалетного столика, фотографировал её во всех ракурсах, фотоаппаратом, который он потребовал и получил в день рождения. Он подстраивал всяческие невинные ловушки и потом сам же её «спасал», находя «потерявшийся» ключ от нужного зала, исправляя «сломавшийся» магнитофон и так далее. А однажды, он пришёл в класс и объявил, что по дороге, в парке, его укусила белка, и что она, скорее всего, была бешеной.
— Ну, почему ты думаешь, Арсик, что она была бешеной? — спросила Ника.
— Потому, что она за мной гналась, прежде чем укусить, а потом не хотела отцепляться — так и повисла на пальце, — и показал, действительно укушенный и слегка опухший палец. — Да, и чувствую я себя странно, — сказал он, слегка закатив глаза, — мне, пожалуй, надо выйти в туалет.
Из туалета он вернулся минут через десять, бледным, как полотно. Шатаясь на нетвёрдых ногах, он пересёк класс, прислонился спиной к стене и стал тихо с неё сползать. При этом у него пошла белая пена изо рта, периодически надуваемая его дыханием в пузыри, глаза закатились совсем, и он грохнулся в обморок.
Ника наблюдала сначала за этим представлением с большой долей недоверия, подозревая очередной подвох, пытаясь понять, игра это или опасность. Но когда он, падая, ударился затылком о железную гирю, которой мальчики подкачивали мускулы, и, дёрнувшись, вправду потерял сознание, она переполошилась и вызвала пожарных (пожарных во Франции часто вызывают вместо «скорой помощи» — они приезжают очень быстро, их машины оборудованы всем необходимым и в каждом экипаже имеется врач). Те приехали, привели Арсика в сознание, вытащили у него изо рта кусок мыла, при помощи которого он пускал пену и пузыри, и обработали шишку на затылке. Осмотрев укушенный палец, врач выразил предположение, что укус вовсе не был беличьим, а походил на человеческий и совершен был, скорее всего, самим пострадавшим.
— Ну-ну, — сказал молодой врач, — видимо, очень хотелось привлечь чьё-то внимание… и я даже догадываюсь, чьё, — он подмигнул Нике. — Как мужчина мужчину могу тебя понять, но мне было бы стыдно отвлекать пожарных на такую ерунду.
Но Арсику стыдно совершенно не было. Наоборот, он был счастлив, что Ника провела возле него столько времени и в какой-то момент даже по настоящему перепугалась за его жизнь.
Прошёл год, вернулся коллега, которого Ника подменяла, ей пришлось уйти, и Арсений тут же и без всякого сожаления бросил балетную школу. Он ходил грустным и потерянным довольно долго. Пробовал говорить о своей любви с Оскаром, но тот, естественно, не воспринял это всерьёз, и Арсений понял, что у него, в силу полной зависимости в этот период своей жизни от взрослых, нет никакого шанса даже увидеть объект своей страсти. Тогда Арсений сказал себе, что он будет ждать, будучи по-детски уверенным, что Ника всё равно никуда от него не денется и ему остаётся только вырасти поскорее, чтобы соединиться с ней навсегда. А пока он отдался своей новой страсти — авиации.
А Ника… Ника затаилась. Затаилась, чтобы прожить данную ей новую жизнь, в новой стране, так, как этого хотел кто-то — не она.
ххх
Три года назад она приехала в Париж на гастроли, солисткой балетной труппы Мариинского театра. Выступления прошли очень успешно, о ней восхищенно писали критики, предсказывая ей блистательную карьеру, и она была счастлива. За день до окончания гастролей, она ехала в такси на ужин, устроенный в посольстве в их честь. Последнее, что она помнит, как резко вильнул таксист, пытаясь увернуться от неизвестно откуда выскочившего мотоциклиста.
Очнулась она на больничной койке, в светлой палате с большим окном и первое, что она увидела, было склонившееся над ней смуглое красивое мужское лицо.
— Вы кто? — спросила она.
— В настоящий момент — ваш врач. В будущем — ваш муж, — ответило лицо.
И она снова потеряла сознание.
Потом Робин уверял, что это ей приснилось в её искусственном, под действием морфия, сне. Что врач не имеет права делать авансы пациентке. И, не смотря на то, что влюбился он в неё прямо на операционном столе, собирая из мельчайших осколков её колено, предложение он ей сделал только через три недели, в день выписки. И она согласилась. Возвращаться ей было особенно некуда и не к кому. Родителей её к этому моменту уже не было на этом свете, о сцене на ближайшие несколько лет ей можно было забыть (и, в глубине души, она понимала, что наверстать потерянное время ей уже никогда не удастся), а доброту и надёжность Робина она почувствовала и смогла оценить с первой минуты.
И она начала учиться жить заново. До этого она, собственно, толком и не жила. В её жизни была только одна настоящая страсть — танец. Танцевать она начала раньше, чем ходить — так говорила потом её мама. Балету были отданы почти двадцать лет её жизни, а это значило — каторжный труд, железная дисциплина, постоянное преодоление боли и отказ от всего, что не служило главному — танцу.
Ника довольно быстро выучила язык, адаптировалась и, главное, полюбила своего замечательного мужа, который спас ее. И жила… жила…
Единственно, чему она не научилась, это быть счастливой.
А где это, собственно, записано, что кто-то должен прожить жизнь обязательно счастливо? Может, кто-нибудь когда-нибудь заключал контракт с самой судьбой?
ххх
— Знаешь, — сказал Арсений (при этом вид у него был отчаянный), — я тебя так любил, что мне даже не важно было, что тебя не было рядом. В этом возрасте воображение гораздо сильнее реальности.
Нике поначалу казалось, что она просто забавляется, рассматривая и слушая этого молодого человека, в которого превратился тщедушный неуклюжий мальчик. Но она почти физически ощущала, что и в ней засела эта заноза узнавания, тревожащая сердце. И ей вдруг ужасно захотелось в этот момент выглядеть неотразимопривлекательной и стать хотя бы на десять лет моложе.
Так они разговаривали какое-то время, забыв обо всём на свете и заглядывая друг другу в глаза. А потом вдруг замолчали одновременно, взявшись, как школьники, за руки и улыбаясь неизвестно чему. И мир в этот момент рождался для них заново каждое мгновение.
Когда, через некоторое время, они вновь обрели дар речи, они оба были уже другими людьми. Встретившимися. Узнавшими. Обретшими. Из двух блуждающих частиц превратившимися в одно целое, законченное и совершенное.
Нику встречал Робин.
— Познакомьтесь, — сказала она мужу, — это мой бывший ученик.
— Очень приятно, — сказал Робин, вежливо улыбнувшись. — Где вы танцуете?
— В основном, на бирже, — хмыкнул Арсений.
— Вас подвезти? — предложил Робин.
— Спасибо, меня ждёт машина, — с сожалением сказал Арсений.
Они попрощались и разошлись, стараясь не оборачиваться. И только сев в машину и выехав из аэропорта, Арсений сообразил, что не взял никаких Никиных координат.
— Паскаль, — сказал он шофёру, — поезжай за машиной!
— За какой, шеф?
Арсений растерянно огляделся и понял, что не знает, ни какая у них машина, ни даже Никиной фамилии. А муж представился просто Робином.
— Ч… чёрт!!! — сказал он сам себе. — Всё равно найду!
— Найдёте, шеф, такого не было, чтобы вы чего не нашли, если хотите, — сказал Паскаль.
Из чего Арсений сделал вывод, что говорил вслух.
Весь последующий день и всю ночь он думал только о Нике — жадно, фанатически, недоверчиво и противоречиво, — как дети думают об обещанном им чуде. Он абсолютно точно знал, что должен немедленно её разыскать, но при этом точно так же знал, чувствовал, что это случится, произойдёт, что это неминуемо.
Ведь когда Его Величество Провидение чего-нибудь захочет, то оно неумолимо, и не преминёт подстраховаться.
Арсений не успел даже начать поиски, как оно организовало всё само.
3
Никакого пира на свой «последний» юбилей Ксения решила не устраивать. Она умудрилась поссориться со своим Саша́ незадолго до дня рождения и объявила мне, что будет девичник.
— Ты, я и Ника, больше никого не хочу видеть.
— А Арсик? — удивилась я.
— Ну, конечно, Арсик — это моё второе я. Мой единственный постоянный мужчина. К сожалению, такого как он, я в своей жизни так никогда и не встретила, — тяжело вздохнув, сказала она. — Только он один меня по-настоящему любит и понимает. По сравнению с ним все остальные — сборище посредственностей и зануд.
Последняя фраза явно относилась к Саша́, которого, по неизвестным мне причинам, она последнее время обвиняла в занудстве. На её языке это, скорее всего, означало, что ему что-то не нравилось в Ксенькином поведении и он, видимо, — это высказал, а может даже попытался скорректировать. Ксения же, наверняка чуя за собой какой-то промах, отказывалась в этом признаться. В том числе и самой себе. Я всегда поражалась её умению не копаться в себе и с порога отметать все претензии в свой адрес. Нужно отдать ей должное, она и в других не копалась. Смело брала то, что предлагала ей жизнь, без всяких претензий улучшить человеческую породу.
Сына своего она держала за удачливого плейбоя, одарённого, благодаря хорошим генам, от рождения и обладающего, к тому же, всеми главными мужскими достоинствами, как то — умением зарабатывать деньги, мощной харизмой и абсолютной вирильностью. Но главным его достоинством, на её взгляд, был лёгкий характер. Он никогда в жизни её «не амердировал», как она говорила, и, в отличии от других детей, доставлял только радость. Словом, в нём объединились все те качества, которые она всю жизнь безуспешно искала в каждой мужской особи, претендовавшей на партнёрство.
К тому же, она была уверена, что он её боготворит и что это на всю жизнь. Так что никаких соперниц можно не бояться. Благодаря ему она чувствовала себя гораздо увереннее в своём главном качестве — женском.
Ей, действительно, можно было позавидовать, редкая мать могла похвастать тем же.
ххх
Она выбрала, пожалуй, самый известный, старейший в Париже ресторан, описанный во всех путеводителях, как туристических, так и специализированных — «Tour d’Argent», славившийся своей изысканной кухней и богатейшими подвалами (а также и ценами). Он кораблём возвышается на набережной Сены, и из зала, находящегося на третьем этаже, открывается потрясающий вид на Собор Парижской Богоматери, остров Cite и вереницу мостов.
— Арсик сказал, что это будет его подарок, — уточнила она. — Гулять, так гулять!
«Случайности — это всего лишь шрамы судьбы», — прочту я гораздо позже в Никиных блокнотах.
Судьба в этот раз, в лице ничего не подозревающей Ксении, позаботилась о соответствующих декорациях для оперного пролога своей будущей драмы.
Мы сидели втроём за самым востребованным столиком — на самом носу корабля, нависающим над набережной — и открыточный, застывший в веках вид дополнялся разноцветными гирляндами огней ползающих по Сене bateau-mouche с туристами на борту, которым их гиды рассказывали, в том числе, и про ресторан, в котором мы сейчас сидели.
Ника немного запаздывала, и не говоря Арсению, кого мы ждём (она собиралась сделать ему сюрприз), мы в ожидании распивали шампанское за Арсикины успехи (он продал сразу четверых своих «детишек» на последнем авиасалоне) и болтали. Арсений просил Ксеньку, кроме бюро, подыскать ему также приличную квартирку на Левом берегу.
— Зачем тебе квартира, — удивлялась она, — ты же всегда у меня останавливаешься, — у меня места на роту солдат.
— Я уже большой мальчик, хочу жить отдельно, — отшучивался он.
— Ты живёшь отдельно всю жизнь, с восьми лет, мы с тобой и так редко видимся.
— Теперь будем гораздо чаще. Похоже, я буду проводить в Париже намного больше времени.
— Ура! — Ксения подняла бокал, — я пойду к тебе на работу!
— Интересно, в каком качестве?
— В качестве матери президента компании.
— Нужно будет ввести такую должность, — захохотал Арсений.
— Тебе надо открыть своё представительство в Москве — все деньги, говорят, сейчас там, — попробовала дать ему совет Ксения.
— Ну, положим, не все. И, потом, как говорил ещё Лесков, в России легче найти святого, чем просто честного человека. А святые бизнесом не занимаются.
К моей огромной радости за эту неделю перемена в его настроении случилась разительная. Он находился в состоянии какой-то радостной приподнятости, смеялся, острил и сиял глазами. Я отнесла это к его успехам в делах и подумала, что, раз он умеет так радоваться своим финансовым победам, значит его отчаяние не так глубоко и тоска не так уж крепко держит его за горло, как мне показалось всего неделю назад, в Кабуре.
В следующую минуту мы с Ксенией, сидящие лицом к застеклённой панораме и спиной к залу, почувствовали нашими спинами как бы лёгкий бриз, и увидели, как на замедленной киноплёнке (образ, настойчиво преследующий меня на протяжении всей этой истории), Арсения, поднимающегося со своего места и протягивающего руку в пространство. У него было такое выражение лица, будто он увидел вдруг нечто, такое неожиданное и прекрасное, что невольно протянул руку, чтобы это потрогать. Мне даже показалось, что у него задрожали губы.
Я повернулась и увидела Нику.
Она шла по залу, как по облаку, и все головы, как намагниченные, поворачивались в её сторону. Она приближалась к нашему столу, как идут навстречу судьбе, и в её тёмных мерцающих глазах заранее отражались сияние немедленного счастья и боль вечной разлуки.
По крайней мере, такими глазами увидела её в этот момент я.
Потом Ника говорила мне, что ещё в самолёте поняла, что Арсений был сыном Ксении (та не раз упоминала его в своих рассказах). А в этот вечер, вопреки обещанному Ксенькой девичнику, она точно знала, что увидит его.
Она была в тонком обтягивающем трикотажном платье, в туфлях на высокой шпильке (никогда, до этого дня, я не видела её на каблуках), и с волосами, забранными наверх, но упрямо выбивающимися и падающими тонкими прядями вокруг её удивительно тонкого и нежного лица. В ушах у неё были изумительные серьги с зелёными, в цвет платья, камнями в форме слезы. В этот вечер она была красива той хрупкой, нереальной, струящейся красотой, которую можно встретить сегодня только на старинных гравюрах.
У меня перехватило дыхание и почему-то защипало глаза. Я отнесла это за счёт своей повышенной, почти истерической чувствительности, в которую меня ввергла к этому моменту своими историями моя дочь. Но, взглянув на Арсения, я поняла, что он чувствует примерно то же самое — у него в глазах застыло выражение, близкое к мольбе, и мне показалось даже, что он может в этот момент заплакать.
Но никто не заплакал, это было, всё-таки, только моё расстроенное воображение.
Ника подошла к столу и расцеловала Ксению, вложив ей в руки какой-то нарядный свёрток. Потом поцеловала меня. И повернулась к Арсению. Он смотрел на неё не мигая, как бы боясь, что за время, потраченное на моргание, видение может исчезнуть. Ника улыбнулась и протянула ему руку через стол. Он бережно взял её в свою и почему-то посмотрел на мать, как бы призывая её на помощь.
— А это, — защебетала Ксенька, — мой сюрприз. Моя новая любимая подруга, не в ущерб старым, конечно… Познакомьтесь…
— Подожди… — перебил её Арсений, очнувшись. — Я сам попытаюсь угадать имя… Можно? — обратился он к Нике.
— Попробуйте, — сказала она с чуть смущённым смешком. — Только давайте сначала сядем.
Официант, стоящий за её спиной, придвинул ей стул, и мы все сели. Причём, её руку Арсений так и не выпустил из своей.
Дальше они, как будто сговорившись заранее, как дети перед изумлёнными родителями, разыграли перед нами маленькое импровизированное представление.
Арсений сжал Никину руку, закрыл глаза, демонстрируя нам глубокое сомнамбулическое состояние и произнёс голосом чревовещателя.
— Ни… на…, нет… нет… Ни… ка… ну конечно же… Ника! Победа! А полное имя — Никодим.
Ксенька изумлённо ахнула.
Я, несмотря на то, что чувствовала подвох, тоже открыла рот.
— Тоже мне, медиум нашёлся! — рассмеялась, на этот раз счастливым смехом, Ника. — Я тоже знаю, как тебя зовут. Гордая сыном мать поведала нам о подвигах своего Арсения.
— А мне никогда, ни слова о тебе не говорила, — серьёзно сказал Арсений.
— Я готовила сюрприз! — Ксенька была в восторге. — Ну нет, ты видела, я тебе говорила, — продолжала она возбуждённо шептать, дёргая меня за рукав, — он видит насквозь! У него дар провидения. Интуиция.
— А мне кажется, это какой-то фокус, — сказала я недоверчиво.
Все рассмеялись. Каждый своему.
Подошёл шеф-повар принять заказ. Он предложил нам попробовать их фирменное блюдо — утку с апельсинами. Он рассказывал нам про эту утку, как будто она была, по меньшей мере, ему сестрой, безвременно ушедшей. Утка была нумерованной. Я так и не поняла, по какому признаку их нумеровали — количество убитых до неё? Количество съеденных в этом ресторане? Надо спросить, подумала я, но потом забыла. На закуску были салат с лангустинами, фуа-гра и свежая спаржа. Потом подошёл сомелье с картой вин, и Арсений выбрал подобающее ко всем этим яствам вино (он был большим любителем и знатоком хороших вин и только что, до прихода Ники, прочёл нам маленькую лекцию, обратив наше внимание на то, что карта Франции похожа скорее на ресторанную карту вин — Шампань, Коньяк, Бордо и Бургундия…) — Шато-Лафит, 1995 года. Сомелье важно поклонился, одобряя выбор. Вслед за ним официант принёс des amuse-gueules
[7], нечто нежнейшее на вкус, в крохотных розетках.
И пир начался!
За едой Ксенька пыталась рассказать какую-то гламурно-нелепую историю из своих запасов, но на неё прореагировала я одна.
Арсению с Никой было уже не до нас. Они, казалось, отгородились от нас и от всего мира прозрачной, но непроницаемой стеной. Казалось, протяни к ним руку, и она наткнётся на невидимое препятствие.
Впервые в жизни, воочию, я наблюдала феномен так называемой «любви с первого взгляда» (по крайней мере, в тот момент я была уверена, что это их первая встреча). Они ели, пили, участвовали в беседе, но опять же, как дети, которых заставили сидеть за одним столом со взрослыми и не забывать хорошие манеры, только и мечтали сбежать и остаться наедине, в своём, не имеющем никакого отношения ни к нам, ни к реальности, мире.
Ксенька пару раз делала мне «глаза», потом потащила за собой в туалет.
— Ты видела! Наш святой Никусик! — сказала она с нервным смешком. — Такое впечатление, что она только его и ждала! Моего сына! Так спикировала!
— Или он её! — В моём голосе не было никакой иронии.
— Ну, уж! — сказала она ревниво. — Сравнила!
— Что, сравнила? — удивилась я. — Ты что, не видишь как он на неё смотрит? Любая женщина почувствует себя богиней под таким взглядом.
— Ну, это он умеет, — в её тоне была снисходительность, — но в богинях он держит только одну женщину — меня.
Я вздохнула, подивившись её материнской слепоте и наивности. Вполне невинной, как мне показалось тогда.
Когда мы вернулись за стол, уже принесли десерт и зажгли свечи. Арсений и Ника с лицами, подсвеченными их танцующим пламенем, говорили о чём-то, внимательно и страстно заглядывая друг другу в глаза и сцепив руки. Когда мы подошли, они замолчали и расплели пальцы. Мне показалось, что в воздухе было разлито электричество. Они с явным нетерпением ждали, когда мы расправимся со сладким, не прикоснувшись к своему. Не успели мы с Ксенькой проглотить по последнему кусочку влажного, пропитанного кальвадосом, яблочного пирога, как Арсений расплатился и предложил развести нас всех по домам.
На улице он усадил нас с Ксенией в ожидавшую его машину и, дав все указания Паскалю, расцеловал на прощание.
— А Нику я провожу сам, — сказал он.
И они, взявшись за руки, ушли.
— Ну, ты видела что-нибудь подобное! — не могла угомониться Ксения в машине. — Она же на двадцать лет его старше!
— На пятнадцать. А ещё точнее, на четырнадцать, — уточнила я.
— Вот так! У всех на глазах! А как же Робин?!
— Ну, ладно, моя дорогая, не будь ханжой. Вспомни о своих выкрутасах. Тебя тогда с твоим Ка-Ка не могла бы удержать даже атомная война, не то, что Оскар.
— Ну, что ты сравниваешь! «…вода и камень, лёд и пламень»! Я, со своей вечной неуёмностью, и Ника — сама разумность и уравновешенность.
Вот уж действительно, загадка, как люди умудряются видеть в других только то, что им хочется.
Дальше случилось уже нечто совсем непредвиденное — они
исчезли.
Арсений оставил Ксении сообщение на автоответчике, в котором говорилось, что они «живы-здоровы» и «очень счастливы», а также просил не волноваться.
Что нашёл на своём автоответчике Робин, осталось для нас тайной навсегда.
А Ника… «Тот вечер, в ресторане, когда она, сладостно теряя волю и предчувствуя непоправимое, позволила ему увести себя в парижские сумерки, в первый же попавшийся отель, в котором нашёлся номер, и провести там с ним самую упоительную, самую нежную и безумную ночь в своей жизни, потеряв всякое представление о времени и пространстве.
Я знаю, я грешница.
Я завтра раскаюсь.
Ночь, которая оказалась только первой в последующей череде дней и ночей свалившегося на неё необъятного счастья.
— Я погиб навсегда, — сказал ей наутро Арсений». (Из вычитанного в Никиных блокнотах.)
ххх
Ксенька поначалу решила относиться к этому событию, как к «очередному приключению» своего «мальчика», хотя никогда раньше она не была в курсе его личной жизни и его «приключений».
— Знаешь, — рассуждала она, — ему двадцать шесть лет, всю жизнь он сначала учился, а потом работал, как сумасшедший. Это только кажется, что ему всё легко даётся. Конечно, у него выдающиеся способности, но далеко не всем вундеркиндам удалось в жизни так преуспеть. Это тебе не Иркин субтильный очкарик (сын нашей общей приятельницы, оказавшийся в списке Нобелевских лауреатов) и не какой-нибудь новый русский, наворовавший миллионы и гуляющий теперь по буфету. Для того, чтобы достичь того, чего достиг он, способный ребёнок должен стать настоящим мужчиной и высоким профессионалом. И всего этого он добился сам. Так что его маленький сентиментальный вираж вполне понятен, должен же он когда-то развлекаться. Он же мужчина, всё-таки. А с молодыми дурами ему, наверняка, неинтересно. Так что это даже лучше, что она старше, — пусть научит его всему, чему нужно. Это пригодится ему в дальнейшей семейной жизни. Робина, конечно, жалко, — добавила она сочувствующе, — похоже, он её очень любит. А любит, значит, простит и примет обратно, когда она перебесится, — тут же успокоила она себя.
— А если она не захочет к нему возвращаться? — предположила я.
— С чего бы это? То, что случилось с ними, это любовный грипп, падучая страсти. Уж кому-кому, а мне это знакомо.
— Но ты же не вернулась.
— У меня болезнь слишком затянулась. А когда я выздоровела, было уже слишком поздно — Оскара прибрали к рукам. Ты что, не знаешь, как здесь бабы на мужиков кидаются? Нашлась какая-то французская буржуазочка, готовая его облизывать в любое время дня и ночи. Тихая пристань, в отличие от меня. Здесь совсем другая история — Никусик у нас не бунтарка, собственное гнёздышко разрушать не будет, — в её тоне звучали нотки лёгкого презрения. — Она быстро образумится.
Я была совершенно другого мнения по поводу этой истории. Мне она совсем не казалась ни проходящей, ни легкомысленной. Я, со своим напыщенным литературным воображением, видела крыло судьбы, взмахнувшее над будущим всех персонажей этой любовной истории. И крыло это было чёрным.
ЛЮБОВЬ. НЕНАВИСТЬ
1
В последующий месяц я практически потеряла их всех из виду — вернулся мой муж после почти трёхмесячного отсутствия и мы, по выражению Ксении, легли на дно.
Когда я вынырнула на поверхность, было уже поздно — моя подруга сошла с ума.
Я поняла это не сразу, отнеся всё за счет её эксцентричности и обычной материнской ревности. Ксения, никогда в общем особенно своим сыном не занимавшаяся, но, с другой стороны, никогда и не сковывающая его никакими условностями, позволяла расти ему, как траве, как дикому плоду. То, что плод этот оказался в один прекрасный момент экзотическим и, к тому же, полезным растением, стало для неё приятной неожиданностью. И теперь она набросилась на него со своим запоздалым материнским инстинктом. Так размышляла я.
Но всё было далеко не так просто.
В то утро мы с мужем устроили себе grasse mâtiné, то есть «жирное утречко», провалявшись почти до десяти утра в постели, и наслаждались теперь поздним завтраком. Наша залитая ранним весенним солнцем просторная кухня, запах гренок и свежезаваренного кофе давали нам ощущение своего маленького частного рая. Правда на улице что-то пронзительно выло — то ли электрическая пила, то ли ребёнок. Пришлось закрыть балконную дверь. Звук прекратился.
Я разливала по чашкам вторую порцию кофе, когда заверещал телефон. Вздрогнув от неожиданности, я плеснула несколько капель на стол и на руку мужу. Громко чертыхнувшись и наступив не успевшей отскочить собаке на хвост, я ринулась в гостиную.
Задыхающимся голосом Ксения почти рыдала в трубку. Их её всхлипов и восклицаний ничего понять было невозможно.
— Стоп! — сказала я. — Набери побольше воздуху в лёгкие и говори нормально.
Она умоляла меня приехать, немедленно, и дала какой-то странный адрес — площадь, такую крохотную, что я с трудом нашла её потом на карте.
— А номер дома?
— Он не нужен. Меня туда всё равно не пускают. Я буду ждать тебя на улице, на плахе.
— Где? — переспросила я.
— На лавке.
Я помчалась, как сумасшедшая, куда-то в район Монмартра и, зная, что там, наверху, припарковаться совершенно невозможно, бросила машину где-то на подступах и долго бежала по каким-то бесконечным лестницам, пока наконец её не нашла. Она сидела, зарёванная, в малюсеньком скверике. На скамейке напротив расположилась ярко раскрашенная старуха (настоящий персонаж из фильма Феллини), в жабо и стеклянных бусах, которая кормила жирных, наглых голубей.
— Ты не знаешь, что случилось! — Ксения была не похожа сама на себя, с растрёпанными волосами и распухшим от слёз ртом. — Эта ведьма украла у меня сына. Старая сука!
— Ты о ком? — не поняла я, решив почему-то, что это как-то связано со старухой.
— О ком?! О твоей любимой подруге!
— Моя подруга — это ты. Что случилось?
— Она бросила мужа… Он бросил меня… И теперь они живут вместе… вон там — она показала куда-то наверх.
— О, господи! — только и сказала я. — Но ты-то что так убиваешься!
— Ты хоть понимаешь, что это значит?! — причитала она в каком-то неправдоподобном отчаянии, заставив меня вспомнить о её первой, актёрской профессии.
— Ну, в общем, приблизительно, — неуверенно промямлила я, — …два человека полюбили друг друга.
— Каких два человека?! Ты что, идиотка?! — завопила она так, что испуганные голуби поднялись в воздух, а старуха посмотрела на нас с укоризной, сложив рот в куриную попку. — Это мой сын! И какая-то старая сука!
— Уймись. Как тебе не стыдно, — я взяла её за руку, пытаясь успокоить, — ну что ты заладила. Гадость какая.
— Гадость?! А это не гадость?! — Она выдернула руку. — Она ему в матери годится. Опытная и хитрая тварь. А он ничего в бабах не понимает. Окрутила его со всеми его деньгами, молодым телом и книжной романтикой. Змея! Гадюка!
— Перестань, Ксения! Мы не в индийском кино. Твой сын абсолютно взрослый человек и всегда хорошо знает, чего он хочет. И делает так, как решает он. А Ника — благополучная жена завидного, со всех точек зрения, мужа и окручивать кого бы то ни было у неё и в мыслях не было. А разница в возрасте… так я не вижу здесь ничего страшного — кому что нравится. Твой последний «кадр» тоже был намного моложе тебя, и ты не видела в этом никакой проблемы, — напомнила я ей.
Она посмотрела на меня как на сумасшедшую.
— Но он же не был твоим сыном! — аргумент был так же нелеп, как и весок.
— Моим не был, — подтвердила я, — но чьим-то же был. Представь, что его мать так же прореагировала бы на тебя.
— Но… но я же не собиралась за него замуж. И как ты можешь сравнивать! Я даже не была знакома с его матерью. И замужем я в тот момент уже не была (Оскара она бросила раньше, ради Клода). — Разговор явно приобретал абсурдистский характер. — Ты что, на их стороне?! — снова взвилась она. — Все, все против меня!
— Да не на чьей я стороне. Я просто хочу прекратить твою истерику. И давно ты тут сидишь?
— Давно. С тех пор, как я их выследила.
— А почему ты не поднимешься к ним?
— Я поднималась… он меня не пускает… — сказала она как-то неопределённо, — не хочет со мной разговаривать.
— Потому что ты, вместо того, чтобы с ним разговаривать, наверняка закатываешь ему истерики, которых он не выносит, и оскорбляешь женщину, которую он любит.
Она уставилась на меня с выражением человека, обнаружившего у себя на груди змею.
— Ты что, мне враг?!
— Наоборот, я твой друг и поэтому пытаюсь привести тебя в чувство.
— Меня не надо приводить в чувство. В помощи нуждается мой сын. Его надо спасать! — у неё началась следующая, теперь уже патетическая стадия. — Меня, свою мать, он не слушает. С ним должна поговорить ты.
— Я??! С чего бы это! Он пошлёт меня подальше и правильно сделает. В таких делах советов не дают. Даже тогда, когда о них просят. А он, насколько я его знаю, ни в каких советах не нуждается. Он абсолютно сложившаяся личность. А это его личная жизнь, ты понимаешь? Личная! Он же не вмешивается в твою.
— Ты… ты… — зашлась Ксения. — Это ты во всём виновата! Это ты меня с ней познакомила!
— Но не с ним же. Это уж была твоя инициатива. Твой «сюрприз», — не удержалась я.
— Я была слепа! — зашептала она трагически. — Я не могла вообразить такой подлости! — и она снова заплакала.
Я с трудом утащила её оттуда, довела до своей машины и отвезла домой. Пришлось подняться к ней, сделать ей, в виде успокоительного, хороший «дринк» и уложить в постель.
Когда я вышла от неё, было уже почти три часа дня. Я опоздала на важный деловой обед, на который меня пригласил, по моей же просьбе, знакомый актёр, чтобы познакомить с потенциальным продюсером. Такое опоздание было непростительно с моей стороны, и я надеялась успеть хотя бы к концу ланча, на кофе. Свой мобильный телефон я впопыхах забыла дома и позвонить никому не могла, даже от Ксении, так как все нужные мне в данный момент номера телефонов зарегистрированы были в его памяти.
Отъехав от Ксенькиного дома, который находился, на авеню Мандель, я спустилась на набережную Жоржа Помпиду и, переехав на левый берег, стала пробираться к площади Инвалидов, невдалеке от которой было brasserie, в котором меня ждали. На набережной Бранли я застряла, попав в пробку и, решив перехитрить трафик, свернула на первую попавшуюся улицу, чтобы попытаться подъехать к нужному мне месту с другой стороны. Здесь, на маленьких улочках с односторонним движением, я окончательно запуталась и выехала совершенно не туда, куда мне было надо. (В Париже заблудиться плёвое дело даже опытному водителю, так как улицы здесь часто расходятся лучами, прерываются и продолжаются потом в самых непредвиденных местах. Плюс движение на одной и той же улице может неожиданно из двухстороннего превратиться в одностороннее и, как правило, не в твою пользу).
Поняв, что вся спланированная схема дня рухнула окончательно, я смирилась. Обнаружив поблизости «Казино» (это сеть больших продовольственных магазинов, а не игорных домов), я решила воспользоваться хотя бы этой возможностью и запастись провизией для своей вечно голодной семейки.
Толкая перед собой уже почти полностью нагруженную тележку, я забрела, напоследок, в отдел корма для животных. Тут-то я и наткнулась на Робина.
Он стоял в раздумье перед кошачьими консервами, брал в руки то одну, то другую банку, читал внимательно этикетку и потом ставил на место. Скользнув по мне взглядом и, как всегда, не узнав (чёртова Мата-Хари), он отвёл глаза и стал продолжать свои поиски. Но я уже сделала в его сторону короткое движение, которое он, видимо, и засёк краем глаза. Он снова повернул ко мне голову и посмотрел на этот раз уже более внимательно. Теперь в его взгляде читался лёгкий вопрос.
— Робин, вы меня не узнали? — сказала я и, протянув руку, назвала своё имя.
— Ну конечно! Как же! — сказал он с несколько смущённым энтузиазмом. — Простите мою рассеянность. Вот, завёл кота, и не знаю теперь, чем его кормить.
Я так и не была уверена, узнал ли он меня, и, если да, связал ли мой образ с Никой (встречались мы всего несколько раз и не виделись уже года два). Выглядел он довольно бодро. Одет был в серый костюм и синий свитер тончайшей шерсти, пахло от него дорогими духами и едва уловимо лекарствами. Никогда, несмотря на все мои усилия, моему мужу не удаётся выглядеть так элегантно и так уверенно, подумала я с завистью. Правда, под глазами у него были явные тёмные круги, но даже это ему шло, придавая некоторую усталую загадочность. Я, вообще, как наверное и многие женщины, считала врачей (почему-то только мужчин-врачей), а особенно хирургов, какими-то сверхсуществами, почти небожителями и была склонна наделять их особенными чертами характера, не присущими простым смертным.
— Какой породы кот и сколько ему лет? — спросила я.
— Породы неизвестной, возраста неопределённого. Притащил его из госпиталя — он там так орал, что будил мне по ночам всех больных.
— А дома не орёт?
— Дома вылезает в форточку, шляется где-то целыми ночами, потом возвращается усталый, но довольный и жрёт как сволочь, но исключительно только то, что он любит. Вот, стою тут и продумываю меню.
Мы выбрали консервы и пошли вместе в кассу. Была небольшая очередь и пока мы стояли, потом выгружали тележки (он пропустил меня вперёд), вынуждены были поддерживать разговор. Он спросил меня, как себя чувствует мой муж, которому он прооперировал плечо два года назад, и я поняла, что он всё-таки точно вспомнил, кто я. Я сказала, что благодаря его стараниям всё, похоже, в порядке, но что муж, пока он в Париже, хотел бы всё-таки ему показаться.
— Пусть позвонит, я попрошу секретаршу, чтобы она выкроила ему местечко на следующей неделе.
Про Нику никто из нас так и не заговорил. Хотя, для него, наверное, должно было показаться странным, что я ничего про неё не спросила и даже не передала ей привет. Он, ведь, никак не мог предполагать, что я была не только в курсе, но и в самом эпицентре событий.
Ну, не коварен ли пройдоха-случай, чтобы столкнуть меня в один день сразу с двумя жертвами этого любовного цунами.
2
А Ксения вступила на тропу войны. А в войне, как известно, все средства хороши, даже если они, прежде чем разрушить противника, разрушают тебя самого. Она выслеживала их, подкарауливала, как завзятый сыщик, устраивала скандалы, истерики, грозилась что-нибудь сделать с собой, с Никой; потом унижалась перед Арсением, умоляла пощадить её, не доводить до сумасшествия. Словом, вела себя как безумная.
Однажды, проторчав полдня в несчастном скверике перед их домом и дождавшись, когда Ника вышла за покупками, она быстро поднялась и позвонила в дверь квартиры. Арсений, решив, что это вернулась Ника, забыв что-то, открыл, не посмотрев в глазок.
Ксения ворвалась рыдающей фурией, но, поняв, что успокаивать он её не собирается, бросилась ему в ноги, с ультиматумом на устах:
— Выбирай! — трагически выкрикнула она. — Или я, или она!
— Послушай, мама, — сказал он спокойно, подняв её и усадив в кресло, — прежде чем ставить кого бы то ни было перед таким выбором, нужно, как минимум, быть уверенным в своём явном преимуществе. Если ты, конечно, действительно дорожишь выбирающим.
— Ты хочешь сказать… — задохнулась она.
— Что ты останешься в проигрыше. Выбор будет не в твою пользу. Ты же этого не хочешь. Тебе придётся выбрать другую тактику.
— Я вас прокляну!
— Ну, мам… Мы же не в средневековье живём, и ты не ведьма. И, потом, проклиная кого-то, ты рискуешь нанести вред прежде всего самой себе.
— Я не хочу тебя потерять! — опять зарыдала она.
— Ксень, — он взял её за руку и погладил по голове, как ребёнка, — ну, пожалуйста, приди в себя, ты не в театре (она вздрогнула, как от пощёчины). Ни я, ни Ника тебе не враги. Я даже не прошу тебя любить её, просто оставь нас в покое, и тогда ты не только никого не потеряешь, но, наоборот, приобретёшь себе в семью пару счастливчиков, которые умудрились встретиться в этом безумном мире и готовы поделиться своим счастьем со всеми, кто захочет. А с тобой, в первую очередь.
— Перестань разговаривать со мной, как с ребёнком, — опять взвилась Ксения. — Хвост не должен вилять собакой!
Она сама не понимала, почему эти, такие простые его слова, отзываются в ней такой невыносимой болью. Почему, когда он говорит о Нике, она покрывается холодным потом и словно костлявая рука сжимает ей сердце.
— Это ты мой ребёнок, а не наоборот. Тебе нужна нормальная семья, дети, а мне внуки.
— Мне нужна Ника. И больше никто на свете.
— Даже я?!
Арсений промолчал.
— Она старая, ей почти столько же лет, сколько и мне. Она бы могла быть твоей матерью.
— Но она мне не мать. И даже, если бы ей было восемьдесят, это бы ничего не изменило. А ты, если уж ты меня так любишь, должна быть ей благодарна — она, может быть, спасла меня от безумия.
— От какого безумия? Тебя? Да ты самый умный и нормальный из всех, кого я знаю! А ты, ты не знаешь женщин! Бабьё — это жуликоватое племя, — оговорила она себя и всех нас заодно. — Она тобой пользуется. Потом ты мне скажешь спасибо, что я не позволила этой… этой…
Арсений поднёс палец к губам, предостерегая её от непоправимого.
— Мама, потом не будет, — твёрдо сказал он. — Есть только сейчас. И если ты не образумишься и не будешь вести себя достойно, ты меня больше не увидишь вообще.
— Как ты можешь сравнивать! (он и не думал сравнивать). Я люблю тебя больше, чем она… чем ты её… Я готова на всё ради тебя.
— Ради бога! Никаких жертв! Твоя любовь становится разрушительной. Попытайся направить её в мирное русло. И перестань себя растравлять.
В этот момент вернулась Ника.
— Здравствуй, Ксения, — сказала она войдя и протягивая ей руку.
— Будь ты проклята! — бросила ей Ксения в ответ и, толкнув её плечом, выскочила, хлопнув дверью.
Потом как-то Арсений сказал мне, что он всегда знал, что Ксения умела любить людей выборочно, то есть любить в ком-то только то, что её в нём устраивало. Что она могла быть мелочно-несправедлива, но и жертвенно-великодушна одновременно. Но никогда он не мог заподозрить в ней способность на такую цельную слепую ненависть.
ххх
Когда мой муж собрался идти на приём к Робину, я попросила его «очень осторожно» попробовать заговорить с ним о Нике, чтобы понять, в каком он находится состоянии «души и тела» (моё вечное проклятое литературное любопытство к живым людям). Муж просил на него особо не рассчитывать, так как он в этих вопросах крайне неловок, да и вообще… «нечего лезть людям в душу».
Вернулся он расстроенный. Сказал, что Робин был как всегда безукоризнен как врач, исключительно приветлив и доброжелателен, ровно до того момента, пока «я, как медведь, не наступил ему на больное место, спросив, как у них дела с Никой». Он тут же ушёл в себя, отгородился холодной вежливой улыбкой и сухо сказал, что они расстались.
Я вспомнила, как Ника однажды поделилась со мной, что завидует собственному мужу, который, считая что в его профессии это необходимо, обучился гипнозу и самогипнозу, чтобы уметь в нужных случаях снять стресс у больного и у себя. Таким образом, он умел оставаться спокойным и контролировать себя в самых сложных ситуациях.
— Это не значит, что он ничего не чувствует, — уточнила она, — маятник откачивается потом в другую сторону с удвоенной силой. Но это происходит уже без свидетелей.
Однако свидетель этому всё-таки нашёлся — Ксения и тут превзошла самоё себя.
С ней творилось нечто не поддающееся никакому объяснению. Я думаю, что она и сама не подозревала в себе такой экстремальности чувств. Ненависть разрывала ей душу. Она достигла в ней такого накала, что превратилась в чувство почти экзистенциальное. Попытаться объяснить себе происхождение этой зоологической ненависти она не желала. Да и вряд ли смогла бы. Для этого нужно было рыться в глубинах подсознания, искать истоки в каких-то других, близких и далёких, событиях и, наконец, найти в себе мужество быть честной самой с собой. Она этого явно не желала. Смерч ненависти закрутил её и понёс, кувыркая, как былинку. На неё не действовали никакие резоны, достучаться до неё было невозможно.
— Может, ты просто ревнуешь? — предположила я. — Обычная бабская ревность к сопернице. Потому что ты почему-то видишь в Нике соперницу, вместо того, чтобы видеть в ней женщину, которая сумела сделать счастливым твоего сына.
— Ревность? Ты сошла с ума! Не может же львица ревновать к мухе! — был ответ.
Она изменилась даже внешне за эти несколько месяцев — черты лица у неё заострились, под глазами появились тёмные круги (что делает таинственным мужчину и невероятно старит женщину). Она даже разучилась улыбаться, это вечно смеющаяся, иронизирующая над всем и всеми, ничего не принимающая близко к сердцу, роскошная Ксенька. Вместо бывшей ослепительной улыбки на пол-лица у неё появился какой-то лисий оскал.
Говорить отныне она была способна только на одну тему, ничего другое её больше не интересовало.
У меня было ощущение, что над ней проводят чудовищный эксперимент, чтобы пронаблюдать, как человек превращается в монстра.
Арсений полностью отстранил её от своей жизни, сказав, что ему не интересны ни её шантаж, ни приступы материнской любви.
Однажды она устроила мне Большую истерику, приближающуюся к «десятке» по моей шкале. Я пыталась реагировать, по очереди, всеми известными мне способами, но всё было бесполезно. Мне не удалось даже выудить из неё, что, на этот раз, послужило поводом. (Попробуйте добиться у закатившего истерику, что случилось — он выкрикнет вам в ответ всё, что угодно, только не истинную причину.) Она довела себя на моих глазах до ужасного состояния и пригрозила, что если я вызову «скорую», они «просто не успеют доехать». Согласна она была только на звонок Арсению, что, как я поняла, и было целью всего представления.
Я позвонила.
— Послушай, — сказала я, — я не знаю что делать. Она близка к безумию.
— Не надо поэтизировать перебои психического аппарата, — спокойно ответил он. — У неё агрессивно-депрессивный синдром, вызванный банальной ревностью. Оставь её одну. А если ты действительно за неё боишься, вызови «скорую», когда ты будешь уже на улице. Мне больше по этому поводу, пожалуйста, не звони. В любом случае мы с Никой уезжаем. Я надеюсь, что отсутствие раздражителя поможет ей успокоиться.
Как бы не так! Потеряв из поля зрения объект своей ненависти, её, раскрученная с бешеной силой праща отрицательной энергии, сорвалась и полетела в другую сторону. В сторону Робина. Она почему-то решила, что они «должны объединиться в несчастье» и действовать вместе.
Никин домашний телефон Ксения, конечно, знала. Она настойчиво звонила несколько дней, пока не попала на Робина.
Вырвав у него разрешение прийти «по очень важному и неотложному делу», она тщательно, до малейших деталей, продумала свой внешний вид, долго подбирала соответствующие случаю духи и, особенно, нижнее бельё.
В назначенный вечер она явилась к нему полная решимости… сама не зная толком, к чему.
Робин спокойно выслушал её сумбурную обвинительную речь против Ники, предложил выпить, на что она, к сожалению, согласилась. Он, по её просьбе, налил ей хорошую порцию виски, при этом оставив свой стакан демонстративно пустым. Потом он вежливо, тоном врача, разговаривающего с пациентом, поинтересовался, чего именно она от него хочет.
— Нам нужно их разлучить! Во что бы то ни стало! И ты должен вести себя как мужчина, а не как… — договорить он ей не дал.
— А я и пытаюсь вести себя как мужчина, — холодно сказал он, — то есть, в отличие от вас, достойно.
Здесь, видимо, кровь и хорошая доза виски бросилась моей подруге в голову, и она решила прибегнуть к последнему средству, а именно соблазнить его.
Это было роковой ошибкой.
Она расхохоталась своим русалочьим смехом, повела плечом и, сбросив лямку своего лёгкого платья, обнажила грудь.
— Неужели ты не понимаешь, — сказала она хрипловатым шепотом, — что твоя жена ведёт себя, как неудовлетворённая сучка. Может, в этом твоя вина? — добавила она, как ей казалось, игриво-лукаво.
Робин смотрел на неё как на сумасшедшую, но уже совсем не как врач, а с недоумением человека, столкнувшегося с неизвестным ему доселе явлением. Это, видимо, подстегнуло её ещё больше, и она, сбросив туфли, пошла в наступление.
Тут он вышел из транса и достаточно грубо, не рассчитав видимо силы, толкнул её так, что она упала обратно в кресло и, опрокинувшись вместе с ним, оказалась на полу в нелепейшей позе, задрав ноги и растопырив руки.
Он даже не попытался помочь ей встать, предоставив барахтаться на полу, как утопающему на мелководье.
— Убирайтесь, — сказал он сухо, — вы мне отвратительны, — и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь и оставив её выбираться из своего незавидного положения и из квартиры самой.
Потом она говорила, что на неё «нашло затмение». Иначе бы ей не пришло в голову соблазнять этого «сноба-импотента».
— Наверняка, этот извращенец научил её всяким грязным штучкам, которыми она и соблазнила моего мальчика.
3
В этой вечной схватке двух начал, именуемой любовь, всегда бывает главный и подчинённый победитель и побеждённый. В их истории оба участника стремились оказаться именно в положении побеждённого, подчинённого, повергнутого, сдавшегося на милость «победителя». Борьба была за «поражение», за полное растворение в другом, за то, чтобы отдать себя безраздельно во власть избранного. В этом мире, где любовь в основном понимают как желание быть любимым, а не любить самому, они были абсолютным исключением.
Ника часто следила за Арсением исподтишка, изумлённо-восторженно, как следят за полётом совершенной красоты бабочки. Он иногда затихал, как бы зависая в этом полёте, становился задумчивым и молчаливым. В этот момент мысли его казались ей необыкновенно значительными. Если она вдруг прерывала это его состояние каким-нибудь своим глупым вопросом, например, о чём он сейчас думает, то он отвечал ей со значительным видом что-нибудь, вроде «…у тебя так прекрасны подколенные впадины, что ты ими одними можешь кого угодно лишить рассудка».
Они говорили друг с другом очень много и напряжённо, что, говорят, обычно влюблённым не свойственно. Но, может быть, именно в этом и есть отличие любви осознанной (если этот термин вообще применим в этом сочетании) от чувства припадочной страсти, часто принимаемой за любовь.
Арсений чувствовал постоянную потребность делится с ней буквально всем, так как теперь всё, включая мироздание, имело к ней самое непосредственное отношение.
Эта всепоглощающая привязанность к Нике удивляла его самого. До встречи с ней он чувствовал себя личностью полноценной и абсолютно независимой. А сейчас он был только частью её. Но в этом чувстве не было никакой ущербности. Наоборот. Привыкший мыслить аналитически, он представлял себя с Никой сразу двумя сторонами одной монеты, на каждой из сторон которой был высечен их двойной профиль — как ни брось, орёл или решка, они неизменно выпадали вместе.
Ника же, со своей стороны понимала, что он готов для нее на все, и она теперь должна быть очень осторожна в своих желаниях.
Он приобрёл привычку разговаривать вслух в её присутствии, произносить порой целые монологи, как бы ни к кому не обращаясь, отвечая невидимому собеседнику.
— Другие, — говорил он, — сознательно или бессознательно, оценивают нас исключительно по той пользе, которую мы можем принести им конкретно. В этом нет никакой романтики, но зато много практической пользы для человечества в целом и для конкретного индивидуума, в частности. И с чем бы человек ни столкнулся в жизни, на любом уровне — бытовом, социальном, религиозном — первая, архиважная оценка, это конкретная польза ему лично или, если он способен мыслить минимально масштабно, его потомству. В этом, вообще, принцип всего живого. И только когда у человека полностью отключается этот, выработанный многими тысячелетиями инстинкт, речь идёт о настоящей любви.
Он говорил ей, что с тех пор, как он её встретил, у него такое чувство, будто он носит вокруг шеи, на невидимой цепочке, потайной золотой ключик от райского сада, который он может открыть в любой момент. И она, Ника, была не только владелицей, но и создательницей этого крохотного райского островка, размером и ценой в жизнь.
— Осторожно, — говорила она ему. — Мы живём так, как будто нас никто не видит, будучи всё время на виду. Мы разъедаем спокойствие обывателя. Потому что, если признать, что это существует и не случилось именно с ним, есть от чего прийти в отчаяние. Ведь если не испытал этого, то всё остальное бессмысленно.
— Именно это и случилось с моей матерью. И называется это очень простым, хорошо известным даже детям словом — зависть. Чувство, которое, в большой степени, движет миром. Это банально. Но истины вообще банальны. Она тебе завидует. Понимаешь? Что с тобой случилось то, чего не случилось с ней.
Нике эта тема была очень неприятна. Эта жгучая, необъяснимая на её взгляд ненависть глубоко её травмировала. Она вела с Ксенией бесконечные монологи, пытаясь объяснить ей то, что объяснять бессмысленно.
И каждый раз она приходила к выводу, что ненависть эта имеет под собой некую неизвестную, почти мистическую почву. Что она, лично она, Ника, не может вызывать такой удушающей ярости, ни на чём конкретно не основанной и не поддающейся никакому объяснению.
Арсений относился к этому гораздо спокойней.
— Счастье вообще вызывает мало сочувствия. А моя мать проживает жизнь так, как будто сценарий этой жизни поручен некоему истеричному режиссеру. Сейчас у неё момент эпилептической материнской любви, которая сопровождается такой же эпилептической ревностью. И в этой эпилепсии она забыла, что она моя мать, она ведёт себя как самка, у которой увели принадлежащего ей «по праву» самца. Это не значит, что завтра её не отвлечёт от этого какая-нибудь более насущная потребность и она не переключится на неё, благополучно забыв о нас с тобой, как забывают о неприятных, но не трагических событиях.
Ника понимала, что Арсений знает свою мать гораздо лучше, чем она, но не могла отделаться от ощущения, что некий сгусток чёрной физической энергии навис дамокловым мечом над её головой. Над их с Арсением судьбой. И ей было страшно. И она знала, какого рода был этот страх.
Дело в том, что если уж она кого-то любила, то начинала тосковать по объекту своей любви прямо в его присутствии. И чем дальше, тем больше.
Ника всю жизнь помнила свои первые «сознательные» слёзы. Она проснулась среди ночи от потрясшего её во сне ужаса — умер её папа, её солнце, её волшебный мир. И она вдруг всем своим маленьким существом осознала неизбежность того, что это когда-нибудь случится. Она его потеряет. Ей придётся жить без него. Ощущение будущей неотвратимой потери было настолько сильно и невыносимо для её детского сознания, что, чтобы освободиться от этого чувства, она приказала своему сердцу разорваться прямо сейчас и умереть первой, чтобы никогда не пережить этой потери в реальности. Но в шесть лет так просто не умирают. Включились защитные силы организма, и Ника, обливаясь слезами, провалилась в сон-обморок.
С тех пор всё своё детство, всю юность, она жила с этим подспудным животным страхом смерти, который не касался ни её самой, ни матери, а только отца.
И освободилась она от него только тогда, когда это произошло в реальности, в день его кончины. Ей только что исполнилось восемнадцать. На его похоронах она не могла даже заплакать — так велика была боль потери. Больше того, Ника смутно почувствовала нечто, даже похожее на освобождение — она перестала бояться смерти. Самое страшное уже случилось.
И вот теперь, когда она встретила Арсения, это чувство вернулось. Оно было таким же иррационально-детским, огромным, мистическим и тоже касалось только одного человека на свете — Арсения.
И она поняла, что любовь — это и есть страх потери, который равняется страху смерти.
Арсений часто просил её рассказать «про всё самое главное», что произошло в её жизни до него. И она рассказала ему то, чего не рассказывала никому, никогда. Свою главную тайну.
ххх
Многим, включая её мать, казалось, что безграничная доброта отца шла от слабости его характера. Но Ника видела его совсем другими глазами. Это все остальные были по сравнению с ним слабыми и ущербными. А доброта отца шла от какого-то тайного знания, высшей мудрости и, главное, от абсолютного благородства его души. Единственным ориентиром в жизни для него была совесть. Этот человек был абсолютно не способен на зло. Его мозг, его душа, его мысль были устремлены в космос, в тайны мироздания. Самым большим его сожалением было то, что он не смог в своё время получить нужного образования, чтобы оперировать не только философскими, но и математическими, астрофизическими терминами. Он сам выучил два языка (английский и немецкий), чтобы получать информацию из первоисточников, проводил много времени в библиотеках и обитал в каких-то своих мирах, что не мешало ему кормить семью и дюжину своих подчинённых. Он был директором небольшого, но известного всему городу, пошивочного ателье, которое обслуживало известных артистов и ленинградских модниц. При этом он никогда не чувствовал никакого несоответствия между своим призванием и своей «земной» профессией и умудрялся, «витая в облаках» быть, в то же время, виртуозом пошивочного дела. Он чувствовал заказчика «на глаз» и умел наслаждаться как процессом, так и результатом своего труда.
Мать, приехавшую из города Иванова, где она закончила текстильный техникум, каким-то чудом занесло однажды в его «чудошвейку», как он её называл, и он не только взял её на работу, но и через год женился на ней. Он был старше её на пятнадцать лет и мудрее на всю жизнь. Но это совсем не мешало их счастливой семейной жизни. Единственное, что её омрачало, было отсутствие детей.
Ника появилась на свет только на пятнадцатом году их совместной жизни, когда Льву Григорьевичу уже исполнилось пятьдесят. Это событие потрясло его на всю оставшуюся жизнь. Отныне всё его внимание с космических далей переключилось на Нику — это она стала центром вселенной. Мать к тому времени уже сама работала главной закройщицей мастерских Кировского театра. У неё были золотые руки и хорошие связи. Она много работала, вела напряжённую светскую жизнь и воспитание дочери с удовольствием доверила мужу.
Когда Нике исполнилось шесть лет, мать показала её в театре и выяснилось, что у неё абсолютные данные для балета. Так определилась её судьба. Балетная школа, Вагановское училище и потом «Мариинка».
Только потом, когда Ника стала взрослой, она поняла, какой это был дар судьбы, иметь рядом с собой такого человека, каким был её отец. Это он сформировал её как личность, учил смотреть на мир своими глазами, учил видеть главное, отметать второстепенное, перешагивать через мелочи, чтобы идти к большому. Он научил ее относиться к жизни как чуду и вселил уверенность в том, что в её жизни обязательно случится её «личное чудо», надо только уметь ждать. Единственным ориентиром в жизни, также как и единственным моральным критерием для него была совесть.
Она любила отца беззаветно и всецело доверяла ему.
Первым потрясением в её жизни стала неожиданная скоротечная болезнь и смерть матери, Нике тогда не исполнилось и пятнадцати. Красивая цветущая женщина, её мать буквально «сгорела» за три месяца — рак лёгких у неё обнаружили уже в предпоследней стадии.
Вторым потрясением было признание, которое мать сделала ей перед смертью.
Ника узнала, что отец её не был ей отцом «настоящим» (мать употребила именно это слово), то есть биологическим. А «настоящим» её отцом был мировая знаменитость, артист балета, пятнадцать лет назад сбежавший на запад и не подозревающий о существовании Ники.
Она невольно подсчитала — получалось, что ему было двадцать с небольшим, когда он встретился с ее матерью (той было ближе к сорока). Мать, отчаявшись заиметь ребёнка от мужа, завела короткую, но бурную связь с молодым артистом (она в тот момент уже работала в мастерских Кировского театра) и когда поняла, что забеременела, тут же с ним порвала. Он в этом же году, впервые выехав на гастроли на Запад, сбежал, даже не подозревая о будущем ребенке.
— Лёва не знает, что ты не его дочь, — сказала она. — Это бы его убило.
Это едва не убило Нику. Мир рухнул в одночасье. Ей казалось, что у неё вырвали сердце. Она не понимала, как она сможет жить дальше — так страшно лишиться отца и матери одновременно.
Первые несколько дней после похорон она всеми способами избегала отца, а когда они всё-таки оказывались рядом, не могла заставить себя поднять на него глаз. Ей было одновременно мучительно больно и мучительно стыдно, и она не понимала толком, за что. За предательство и ложь матери, за «святое неведение» отца, за саму себя «незаконнорожденную» и прожившую столько лет во лжи. Всего этого было слишком много для её хрупких подростковых плеч. Она всё время плакала, перестала ходить в училище и всячески избегала людей.
Однажды ночью, когда она давилась рыданиями в своей комнате, открылась дверь и вошёл отец. Он зажёг лампу на её ночном столике, как бы для того, чтобы видеть её глаза, когда он будет говорить, и присел на краешек постели. Ника отвернулась к стене.
— Послушай, доченька… — сказал он тихо, мягким голосом, — я всегда знал, что у меня не может быть детей. Но не говорил об этом маме, чтобы не лишать её надежды, чтобы у неё была возможность… ну… сделать вид, что ребёнок от меня. И она сделала то, что любая мудрая женщина сделала бы на её месте… с моего молчаливого согласия… Для меня это абсолютно ничего не меняет. У меня всё равно нет и не будет никого ближе, дороже и любимее тебя. И так будет всегда. Ты должна себя чувствовать совершенно свободной в своих мыслях и действиях. Если она открыла тебе имя твоего родного отца, которого я не знаю, и ты захочешь его найти, я тебе в этом всячески помогу, и…
Ника не дала ему договорить. Ей показалось, что у неё в мозгу что-то лопнуло, взорвалось и она, обливаясь на этот раз, уже слезами любви и счастья, бросилась к нему на шею.
— Мой отец — это ты. И только ты. Мой самый родной отец… и других мне не надо. И так будет всегда, — повторила она его же фразу. — И мне больше никогда и никто не будет нужен. Прости меня за… за мои подлые сомнения. Я буду любить тебя за всех… и за неё тоже… — Она испытала в этот момент тот наивысший, почти мистический момент счастья, которое запомнится ей на всю жизнь, счастье любить и быть любимой, счастье свободы от глупых, навязанных людьми условностей. — Я подлая, я тебя не достойна… Как я могла усомниться?!.. — очистительные слёзы лились потоками, омывая её лицо и душу.
Лев Григорьевич всхлипнул сам, растроганный таким бурным проявлением чувств у своей обычно сдержанной дочери и, хлопнув себя по лысине, сказал: — Сам виноват, старый дурак, давно надо было сказать тебе правду! Можно подумать, что любовь непременно связана с кровным родством.
Он вытер ей своим платком слёзы, поцеловал в лоб и, накрыв с подбородком одеялом, выключил свет и вышел из комнаты.
Но предательство матери она так и не смогла простить. Несмотря на то, что благодаря ему стало возможным её собственное появление на свет. Она так и не поняла, даже спустя много лет, зачем мать сделала ей это признание. Хотела облегчить себе душу? Или надеялась, что она всё-таки свяжется с отцом, чтобы попользоваться его славой и богатством и дать себе дополнительный шанс в балетной карьере? А, может, просто у умирающих случаются какие-то трансформации в сознании, которые толкают их на необъяснимые поступки?
Со своим родным отцом связаться она никогда не пыталась, хотя недостатка в информации о жизни мировой балетной звезды не было. Имя его она так никогда и никому не открыла.
Но Арсений и не спрашивал, понимая, что это до сих пор осталось для неё болезненной точкой, тлеющей где-то в глубинах её существа.
Память ведь только болью и питается.
Иногда Ника просыпалась среди ночи и видела лицо Арсения, склонившегося над ней, и пожиравшие её глаза, в которых было столько же отчаяния, сколько и надежды, столько же неистовой жажды, сколько и собачьей преданности, столько же вызова, сколько и нежности. Она обнимала его, опускала его голову себе на плечо, прижимала к себе изо всех сил и тихонько дула на волосы. Это успокаивало его. Он шептал что-то невнятное, уткнувшись ей в шею, потом губы его становились всё горячее и вскоре переключались на её тело. Страсть их достигала такого накала, что им обоим казалось, что они погружаются в раскалённое тягучее золото, и что очнуться они должны опалёнными, с содранной кожей, что переплетались они не только телами, но и обнажёнными нервами и неутолёнными душами.
— До тебя ничего не было, — говорил он ей очнувшись. — Вообще.
И она могла ответить ему теми же словами.
Ей было хорошо и легко, как бывает легко, когда не надо думать, выбирать. Когда всё вокруг стало само собой разумеющимся. И жить можно только так и никак иначе. Только с ним и ни с кем иным. И как всё, на самом деле, просто. Нет даже никаких угрызений совести. Оставленный муж. Ставшая вдруг неважной профессия. Её любимая балетная школа. Везде без неё обойдутся. И Робин от неё излечится со временем. Он сильный. Арсений говорит, что в таких ситуациях спасает, позволяет оставаться на плаву только благородство души. Любая червоточина души может тебя погубить.
Робин без червоточин. Он отпустил её. Так и сказал — «иди». Не «подумай», не «уходи», даже. А именно это краткое: «иди». Как будто угадал, каким-то шестым чувством понял, что все остальные слова были бессмысленны. Она бы их просто не услышала. Она даже поцеловала его на прощание. Крепко обняла и поцеловала. Как целуют друг друга любящие близкие родственники, провожающие один другого в далёкое и опасное путешествие… Ну… по крайней мере, это была та картинка, которую она выбрала из бесконечной серии всех остальных, гораздо более мучительных.
Она и правда любила его все эти годы. Как любят своих мужей, партнёров, любовников нормальные земные женщины. Тогда как то, что случилось
между ней и Арсением, никакого отношения к обыденной жизни не имело. Ей даже неловко было называть это тем же словом, которым пользовались все остальные. Тем более, что с таким же успехом это можно было обозначить каким-нибудь другим условным понятием, например «болезнь» или «экстаз», «рождение» или «смерть», «падение» или «вознесение». Это всё были только слова. Обозначения. Тогда как проживаемое ими относилось совсем к другой категории, которой она не знала, да, собственно, это было и неважно, как обозначать. Ради одного случая во всей истории человечества стоит ли биться над обозначением? Да и не Петрарка же она, и не Пушкин, в конце концов, чтобы даже пытаться.
Даже друг с другом, в самые непереносимые щемящие мгновения, они с Арсением погружались в звенящее оглушительное молчание. Когда, казалось, они переставали дышать, не только говорить. И оставалось только это смертельно-блаженное замирание сердец.
И было невыносимо страшно. От того, что откуда-то, из каких-то темных глубин приходило знание того, что любовь трагична, в античном понимании смысла. Как трагичны такие глобальные понятия, как ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ, ПРЕДАТЕЛЬСТВО, РАСПЛАТА, БЕЗЫСХОДНОСТЬ. И ещё было страшно от мысли, что этого могло бы не быть вообще. Что это может почему-то оборваться.
Они сливались в эти мгновения настолько, что не понимали, кто из них другой.
ххх
Дождавшись закрытия балетной школы на лето, Арсений увёз Нику в Лондон. Там, в уютной квартире с небольшой террасой, выходившей прямо на Holland park, вне зоны Ксеньки-ной радиоактивной ненависти, Ника почувствовала себя гораздо спокойней. Пока Арсений работал первую половину дня, она гуляла в парке, кормила уток и лебедей, нежилась на солнце на зелёных лужайках. Потом они ходили по музеям, концертам, театрам, благо этого в Лондоне больше, чем может переварить самый требовательный и ненасытный потребитель культурных ценностей.
Арсению пачками приходили приглашения на всяческие презентации, вернисажи, премьеры и приёмы. Он был вхож в несколько самых изысканных лондонских клубов, принимаем в паре-тройке высоких аристократических семей и, в силу своей деятельности, хорошо знаком с целым выводком российских олигархов. Последние покупали у него вертолёты и самолёты в частное пользование и обращались за советами по вопросам инвестиций.
Это был совершенно особый, незнакомый доселе Нике мир. Она наблюдала за представителями этой фауны сначала с любопытством, потом со всё более нарастающим отвращением и, наконец, получив over-dose, наотрез отказалась от всяческого с ними контакта.
Арсений, знавший эту публику лучше, чем Ника, и изнутри, очень забавлялся, наблюдая её реакцию.
— Вот видишь! — констатировал он, принимая позу оратора. — Нет мира под оливами. Прав был мой бедный индийский друг — бедные завистливы и подобострастны, богатые — наглы и ущербны одновременно. А сейчас и вовсе наступило время, когда худшие утратили страх, а лучшие — надежду.
Нику же этот хамский разгул вовсе не забавлял. У неё вызывали протест и брезгливость эти новые бесноватые миллионщики с их беспределом и вседозволенностью практически официально наворованных денег, отсутствием маломальских моральных, этических критериев, а также какого бы то ни было чувства стыда по отношению к тем, кого они обворовали. Не говоря уж об их полной дремучести. Их безвкусные нахальные жёны и высокомерные наглые любовницы, их прихлебатели и холуи, унижающиеся на каждом шагу перед хозяевами и унижающие при первой возможности всех остальных, «не хозяев».
И всё это заявляло себя новой русской элитой. Восхищалось самой собой и требовало восхищения.
— В этой среде до чего не дотронешься, всё fake, подделка — люди, вещи, бизнес, даже горе и праздники. Какие-то увечные. «Коленопреклонённые рабы, жаждущие мирового господства». Как тебе не противно иметь с ними дело? — допытывалась она у Арсения.
— Очень даже противно бывает. Но что делать? — терпеливо объяснял он ей. — На их вкусы постепенно переориентировалась вся английская «люксовая» промышленность, начиная от самых высоких марок одежды и ювелирного искусства, кончая продукцией для гольфа, лошадьми, яхтами и недвижимостью. Русский олигарх переплюнул арабского шейха, говорят англичане. А поскольку клиент, как известно, всегда прав, самым правым оказался тип русского богатого хама. Его здесь одновременно презирают и перед ним лебезят. Их детей принимают в самые дорогие и престижные учебные заведения, несмотря на то, что через какое-то время чинные английские дети начинают вставлять в свою речь русский отборный мат. Здешние власти считают, что конечно же «рашен хам» портит нравы, но зато поддерживает священную корову — экономику. Азиопа она и есть Азиопа. И не забывай, что, как напомнил мне недавно один мой клиент, они держат Запад «за газовые яйца». А мне, если я буду выбирать только симпатичных клиентов, придётся очень быстро поменять профессию, — он изобразил, как он выбирает клиентов. — Хотя, кто знает, может, я это и сделаю. Опять подамся в философы — буду плевать в вечность. Правда, кормить нас тогда придётся тебе.
— Но как ты умудряешься с ними общаться? На их уровне? Я же видела, они относятся к тебе как к своему.
— Ну! Это секрет моего нечеловеческого обаяния, способность к мимикрии, — строил гримасы Арсений (он и вправду обладал, когда хотел, артистическим обаянием). — В России даже физические законы работают с поправкой на страну — а это как раз моя специальность.
— А ты ещё не слышала их любимый тост! — он встал в позу: — «Чтобы мы никогда не усомнились в том, что заплаченное стоит полученного!» Абсолютный перл!
ххх
Так случилось, что в это самое время, в рамках обмена школьников, в Лондоне оказалась моя Машка. Она хоть и хорохорилась, уезжая, говоря, что наконец-то поживёт как «свободный человек, а не как рецидивист, отбывающий срок», скучала, куксилась и звонила домой, узнать «как поживает Долли».
Я позвонила Арсению, попала на Нику и попросила разрешения дать Маше их телефон. Ника искренне обрадовалась, взяла телефон Машиной школы и немедленно ей позвонила.
Не знаю подробностей их первой встречи, не очень представляю, что такого особенного они нашли друг в друге, но между ними возникла симпатия, которая с Машиной стороны (несмотря на лёгкую ревность к Арсению) перешла в полное обожание. После её приезда я только и слышала по самым разнообразным поводам: «А Ника сказала… А Ника считает… А Ника бы так не сделала…»
Сначала их объединила любовь ко всякой живности (моя дочь ещё в малолетнем возрасте решила стать ветеринаром и не отступила со временем от своего решения ни на йоту). Почти всё свободное от Машиных занятий время они проводили в лондонском зоопарке, который считается, между прочим, одним из лучших в Европе. Они нашли себе там любимицу — чёрную гориллу Бетти с совершенно человеческим лицом и нежнейшей, как утверждала моя дочь, улыбкой. Они подолгу простаивали перед её клеткой, так что та начала уже их узнавать и оказывать явные знаки внимания.
Маша, в качестве учебного задания, вела дневник на английском, где подробно описывала и забавно интерпретировала поведение своих любимиц. По приезде она дала мне этот дневник прочесть (всё-таки романо-германское отделение) и там, почти на каждой странице повторилось одно и то же. «…Сегодня Бетти в знак особого внимания всё время показывала нам фиги. Ника так хохотала, что развеселила Бетти, та возбудилась, стала колотить себя кулаками в грудь и трясти клетку, пытаясь пробиться к нам… Ника, к всеобщей радости посетителей, научила заморского попугая говорить по-русски «я рруский… хочу в ррразгул… сррразу… Хохотали все…», и опять бесконечные «… Ника сказала… Ника предложила…» и т. д. И ещё, крупными буквами, обведёнными в рамочку: «Сегодня, при упоминании Мадонны, приходит на ум сначала певица, и только потом Пресвятая Дева». Не знаю уж, сама она до этого додумалась, или это было одно из замечаний Ники.
Когда я спросила её по возвращении, чем её, всё-таки, так очаровала Ника, она заявила с вызовом, что «она настоящая».
— В каком смысле? — пыталась определиться я.
— В том смысле, что большинство людей «fakes», — использовала она новое любимое английское словечко, — а Ника «the real one». И, главное, ей ничего не надо объяснять (это был камешек явно в мой огород). У меня, вообще, новое кредо — если надо объяснять, значит не надо объяснять, — заявило моё чадо.
По воскресеньям Арсений возил их в английские пригороды, на антикварные базары, показывал старинные замки, в один из которых они были даже приглашены на five o’clock tea.
«У сэра был огромный лысый многоэтажный череп, и когда он говорил, у него шевелились одновременно уши и нос», — описала хозяина моя наблюдательная дочь. И ещё: «Аристократизм антидемократичен уже по своему понятию — аристократ сознательно противопоставляется народу — демосу».
Сразу же за этой записью у неё шла ещё одна, довольно длинная, но тщательно заштрихованная, а потом ещё и закрашенная чёрной краской.
Только потом, намного позже, когда все уже всех оплакали, она рассказала мне, что произошло в этом доме.
Сестра хозяина, или его тётушка (Маша так и не поняла, кем она ему приходилась), довольно странная, костлявая, похожая на лошадь особа, говорившая очень мало и каким-то утробно-чревовещательским голосом, очень пристально разглядывала Нику с Арсением, что категорически не принято в английском «хорошем обществе». Там, в этом обществе, принято даже о погоде разговаривать экивоками и никогда не отвечать на вопрос прямо. А уж высказаться категорически по какому-либо поводу (что очень свойственно русским) вообще считалось верхом экстравагантности. Потом вдруг она взяла их за руки и сказала своим замогильным голосом, при этом буквально вперившись в Нику взглядом: «Вы муж и жена, соединённые на небесах… Вы будете любить друг друга вечно… Но продлится это очень недолго…»
Эти три противоречащие друг другу фразы смутили всех, но больше всех хозяина дома. Он даже чай пролил на скатерть и покраснел всем своим холмистым черепом. И только автор этого противоречивого высказывания, тётка-лошадь, ничуть не смутившись, продолжала грызть бисквиты своими крупными жёлтыми зубами.
На обратном пути, в машине, никто к этой теме не вернулся. Казалось, инцидент был исчерпан.
Однако, Маша перед тем, как дать мне прочитать дневник, сразу по приезду из Лондона, эту запись старательно замазала.
ххх
А Ксенька собралась в Лондон.
Когда она объявила мне об этом, я, давшая себе слово больше в эту ситуацию не вмешиваться, не выдержала и решила, что даже если мне придётся лечь костьми на её пути или её связать, я этого не допущу.
Мне, впервые за двадцать пять лет нашей дружбы, было за неё невыносимо стыдно. Я знала её сына лучше, чем она. И я понимала, что он свой выбор сделал и никогда не отступится. Он вообще никогда ни от чего не отступался. Ксения же вошла в штопор и остановить её было невозможно, как сброшенную бомбу. Как камень невозможно вернуть обратно в бросившую его руку.
Я приехала к ней накануне её намеченного отъезда. За первые же десять-пятнадцать минут она умудрилась довести меня до чудовищной мигрени. Она методично складывала вещи в чемодан. Потом также методично их выкладывала. И тут же всё начинала сначала. И при этом говорила… говорила…
— Ну, вот, и куда ты едешь? Где ты будешь жить? В плохой отель ты не захочешь, хороший стоит в Лондоне бешеных денег. Не думаю, что на этот раз Арсений будет оплачивать тебе пребывание.
— Я и не собираюсь в отель! С чего бы это! У меня там сын живёт. Родной!
— И как ты себе это представляешь? Он отсюда сбежал из-за тебя. И ты собираешься жить там с ними под одной крышей? Или ты думаешь, что он выгонит Нику и поселит тебя вместо неё?
— Ну не выставит же он меня за порог! Свою родную мать!
— Ещё как выставит! — мне приходилось быть безжалостной в надежде, что она хоть что-нибудь услышит.
Ксения оставила в покое свой чемодан, села на кровать и закурила сигарету. Курила какое-то время молча. Потом у неё из глаз полились слёзы. Ксенька так не плакала никогда. Она легко могла впасть в истерику, громко рыдать, подвывая, но вот такие тихие слёзы я видела впервые.
— Я не отдам ей его, — сказала она с каким то отчаянным спокойствием, — я положу на это свою жизнь.
— Значит ты положишь жизнь на то, чтобы сломать сразу три жизни, включая свою собственную.
На самом деле в этот момент речь шла уже о четырёх жизнях. Но об этом ещё никто не знал.
— Моя жизнь не стоит ничего, — продолжала Ксения так же спокойно, — Арсений был моим единственным оправданием. Единственным смыслом. Самым главным моим достижением. И я не собираюсь делить его с этой сучкой — я не для неё его растила. Когда я представляю их вместе, я… я готова её убить. Что и проделала в мыслях уже много раз… И не пытайся меня остановить. Я всё равно поеду. Отныне я буду там, где будет он. Я не дам ей проходу. Я отравлю ей существование.
В ней была такая одержимость, такая абсолютная уверенность в своей правоте, что я поняла, что взывать к здравому смыслу в данном случае бессмысленно.
— И потом, — продолжала она, потушив сигарету и тут же закурив новую, — почему ты считаешь, что вообще имеешь право вмешиваться в эту историю? Арсений не твой ребёнок, она, как ты утверждаешь, никогда не была твоей близкой подругой, и из всех участников этого кошмара я одна, опять же как ты утверждаешь, являюсь тебе близким человеком. Значит ты должна быть однозначно на моей стороне.
— Я и пытаюсь быть на твоей стороне.
— Пока что я этого не заметила. — В её тоне и вообще во всём её облике читалась явная враждебность, почти агрессивность. — Хотела бы я посмотреть на твою реакцию, если бы твою Машу соблазнил какой-нибудь мой приятель — плотоядный старец, — добавила она уж совсем некстати. — Знаешь, как старые жеребцы любят малолетних Лолит! Не меньше, чем престарелые сучки молодую плоть.
У неё зазвонил мобильный. Она посмотрела на высветившийся номер и, извинившись, вышла в другую комнату, прикрыв за собою дверь. Я встала и пошла на кухню налить себе воды, чтобы выпить таблетку — голова разрывалась от чудовищной боли и меня уже начало подташнивать, что было признаком наступающей затяжной, ничем не снимаемой мигрени. Проходя мимо библиотеки, я увидела на одной из полок Ксенькин паспорт. И здесь, впервые в жизни, я совершила воровство — я взяла его и положила себе в сумку.
Когда Ксения вернулась, я спокойно сидела на прежнем месте и листала журнал.
— Извини, — сказала она, — мне нужно съездить к себе в редакцию.
Я попрощалась и ушла.
Я понимала, что она не простит мне того, что я сделала. И не найдёт никаких оправданий. Я понимала также, что это может быть концом нашей дружбы. Моей самой длительной человеческой привязанности. Ни моих родителей, ни мужа, ни дочь я не знала так долго, как Ксению. У меня разрывалось сердце. Но я была настроена решительно.
Но Ксения, видимо, думала обо мне лучше, чем я была на самом деле. Она просто не в состоянии была вообразить, что я могла украсть паспорт, решив, что сама засунула его куда-то, или он просто выпал у неё из сумки, где царил вечный кавардак. И уж, конечно, она совершенно не помнила, что положила его на книжную полку.
— Ничего, — сказала она мне по телефону, — я заказала новый, будет готов через неделю. Я поменяла билет.
Это была отсрочка на неделю. И не более того.
И тогда я позвонила Арсению. Я сказала ему, что через неделю Ксения будет в Лондоне, у него в доме, и что остановить её невозможно никакими силами.
Он поблагодарил меня и сказал, что предупредит консьержа, чтобы ей дали ключи от квартиры. Их с Никой к этому моменту там уже не будет.
— В любом случае мы собирались уезжать. Придётся просто ускорить дату отъезда.
Он не сказал мне, куда они собираются, а я не стала спрашивать.
На следующий день возвращалась Маша, и нам самим предстояли сборы. Муж брал нас с собой в экспедицию на всё лето. Мы уезжали на Каймановы острова.
РОЖДЕНИЕ. УХОД
1
В который раз он уже задумывался, а не сумасшедший ли он. И нормально ли это — быть так идиотски-счастливым.
Прежде он всегда руководствовался здравым смыслом. И ему было беспросветно. А сейчас, вот он, свет. Смысл. Жизнь. Ника.
Конечно, встреча двух близких душ — это событие космического порядка. И теперь можно было не притворяться, что жизнь имеет смысл — она действительно приобрела свой первозданный, единственный смысл — быть счастливым. И их сразу двое таких. Ника могла подтвердить.
Он увёз её на какие-то далёкие острова (по её записям в блокнотах невозможно было определить, где они находились).
В моём воображении немедленно возникла какая-то рыбацкая хижина, где они обитали вдали от «цивилизации». С таким же успехом это мог быть шикарный отель где-нибудь на Мальдивах. У Ники в блокнотах не было никаких ни географических, ни бытовых подробностей — только ощущения.
Я видела своим внутренним взором, подхлёстнутым воображением и прочитанными впоследствии строчками из этих блокнотов, как они вдруг начинали танцевать прямо на песке, который вздымался маленькими ритмичными фонтанчиками вокруг их босых ног. Они слышали одну и ту же музыку, совсем не сбиваясь с такта и, становясь всё более и более невесомыми, довальсовывали так до самой воды и бросались в неё и плыли, плыли…
Он изучал её тело, как топографическую карту наслаждений — и изучил в совершенстве. Он знал каждую точку, каждую впадинку и возвышенность. Он научил её не стесняться ни своего тела, ни ощущений, вознося её на олимп наслаждений и оставляя там качаться на волнах, забыв обо всём на свете. И всё это открыл для неё он, почти ещё юноша. Казалось, он овладел наукой любви в каких-то своих прошлых жизнях, предвкушая встречу с ней, с его «инакопланетянкой», как он её называл.
Она имела обыкновение трогать кончиками пальцев его губы, пока он её целовал. Он сходил от этого с ума.
Он говорил ей, что их тела пригнаны друг к другу самим Великим Архитектором, как некие высокосенсорсные шестерёнки в божественном коленчатом вале.
— А если ты мною пресытишься? — спрашивала она.
— Невозможно пресытиться воздухом.
Ника так и записала в блокнотах: «Три недели и три дня абсолютного, полнейшего счастья. Абсолютного естества. Как Адам и Ева, уже вкусившие греха, но ещё не разоблачённые».
А потом их разоблачили. Пришло наказание.
Дорога в ад отклоняется от дороги в рай сначала всего на один миллиметр.
У Ники всё чаще и чаще случались приступы несвойственной ей раньше усталости. Усталость эта была странного свойства — порой даже приятной, но чаще довольно мучительной. Она относила её за счёт полной смены ритма всей её жизни, эмоциональной и физической, за счёт того высокого градуса напряжения, под которым она жила всё последнее время.
Однажды днём на пляже, когда она, искупавшись, нежилась на солнышке и набрасывала в блокноте свои отрывочные мысли и впечатления, у неё носом пошла кровь. (Впоследствии, когда её блокноты попадут мне в руки, я обнаружу засохшие следы этой крови.) Она перешла в тень, запрокинула голову и приложила к носу платок. Кровь остановилась. Перемена климата, солнце, море… ничего страшного, подумала она и решила не говорить об этом Арсению, который отправился в этот день на большую рыбалку.
Когда вечером следующего дня, после ужина, они гуляли по ночному пляжу, Ника вдруг остановилась, присела на песок, упёршись двумя руками о закачавшуюся под ней землю и, так и не удержавшись, упала затылком на подставленные Арсением руки, потеряв сознание.
Он страшно растерялся, наверное, первый раз в жизни не зная, что делать — так и застыл на корточках, с ладонями, наполненными тяжестью Никиной головы, боясь пошевелиться. Потом взял её на руки и отнёс в дом.
Он просидел над ней всю ночь, вглядываясь в её лицо и в какой-то момент понял, что её обморок перешёл в глубокий сон. Тогда, на короткий момент, заснул и сам.
На следующее утро он быстро организовал их переезд на континент, и оттуда они в тот же день вылетели в Лондон. В самолёте Ника дважды теряла сознание, и опять это сопровождалось носовым кровотечением.
В аэропорту Хитроу их уже ждала «скорая».
Всё это, как и последующие этапы Никиной болезни, я восстановила из обрывочных рассказов Арсения, во время наших бесконечных бдений в парке французского госпиталя, где впоследствии лежала Ника.
Когда, через три дня, были готовы результаты анализов, профессор, заведующий отделением, в которое поместили Нику, пригласил Арсения в свой кабинет.
— У меня для вас плохие новости, — сказал он ровным голосом, видимо привыкшим объявлять людям смертный приговор. — У неё лейкемия. В острой форме.
— Что это значит? — не понял Арсений, чьи познания в медицине были очень ограничены.
— Это значит рак крови.
— То есть как?! — не поверил своим ушам Арсений. — Такого не может быть! Ни с того, ни с сего. На ровном месте?
— На ровном месте ничего не бывает молодой человек — на то оно и ровное, — возразил тот, протирая белоснежным платком стёкла своих очков. — Это было, видимо, запрятано где-то очень глубоко в её лимфатических узлах и не проявлялось до поры до времени. Видимо, что-то спровоцировало такую острую вспышку. Если только за последнее время она не попадала под прямое радиоактивное излучение.
Арсений сказал, что насколько ему известно, нет. «Если только моя любовь к ней не является таким излучением», — подумал он при этом.
— Значит должна быть какая-то другая причина для такой резкой вспышки. Лейкемия в такой острой форме — не такое уж распространенное явление. Эта болезнь может развиваться достаточно долго.
— Но какая? Может быть, солнце?
— Не могу знать. Причина может быть как внешней, так и внутренней. Я знаю пациентку всего три дня.
— Но что же делать? Что в таких случаях делают?
— Пересадка костного мозга. Срочная.
— Ради бога! Возьмите мой. Сделайте это немедленно.
— Всё не так просто, молодой человек. А в её случае всё осложняется и довольно редкой группой крови, отрицательным резусом. Количество потенциальных доноров очень ограничено. У нас, в Англии, на них огромная очередь. И не забывайте, это ведь не просто переливание крови, это целая операция. Двойная. Надо, чтобы донор согласился лечь на операционный стол, рядом с больным.
— Но откуда вы знаете? Вдруг подойдёт моя? — Арсений был уверен, что у них с Никой должна быть одна группа крови, какой бы редкой она ни была.
— Это было бы мистическим совпадением, в которые я не очень верю. Мы, конечно же, сделаем вам анализ крови, но очень рассчитывать не советую. Если бы у вас была именно эта редкая группа, вы, несомненно, были бы в курсе. Вы знаете вашу группу крови?
— Точно нет, но кажется нулевая.
— Вот видите. Это значит, что у вас, в отличии от неё, одна из самых распространённых.
— Но, что же делать? — беспомощно взмолился Арсений.
— Насколько я понимаю, мадам является французской подданной?
— Да, у неё французский паспорт.
— Ну вот! Значит у неё там есть история болезни. Лечащий врач, наконец. Все её данные имеются в общей компьютерной базе данных, а это значит, что возможность найти подходящего донора там намного выше. Я уже не говорю, что не будучи официально вашей женой, она не подпадает под вашу страховку и своей здесь у неё тоже нет. Вы знаете, сколько стоят сутки пребывания в нашем госпитале? А операция по пересадке? А длительное лечение и постоянное наблюдение? Это может разорить даже очень богатого человека.
Арсения охватила паника. Ещё вчера, ну неделю назад, он был безоблачно счастлив. Мир не может рухнуть вот так, в одночасье. Какой рак? Откуда? Это всегда было про других. А теперь это случилось с ним (у него с самого начала было ощущение, что болен именно он, а не Ника и теперь этот страшный диагноз поставлен ему). За что это наказание? Им, которые только начали жить?
Нике показывать свои панические настроения он не имел права. Он знал, что её поставили в известность. Она, как ни странно, восприняла это гораздо спокойней, чем он. Так, как если бы ожидала чего-то в этом роде.
— Значит надо вернуться в Париж, — сказала она трезво, — там найдут донора, сделают пересадку, и я выздоровею. Я тебе обещаю поправиться. Я сильная. А французская медицина ещё сильнее. Это известно.
— Ты знала, что у тебя… ммм… странная… редкая кровь?
— Знала. Когда после аварии мне понадобилось переливание крови во время операции, оказалось, что мою формулу найти очень не просто.
— А где тебе делали операцию?
— В госпитале у моего мужа, который тогда ещё моим мужем не был.
— И он нашёл нужную кровь?
— Нашёл. Свою. Но потом ему стало её так жалко, что он решил на мне жениться. Чтобы на будущее у каждого из нас было по собственному донору.
— Ты шутишь?
— Нет. У нас с ним действительно одна и та же, редкая, группа крови. Мы с ним взаимно-потенциальные доноры.
— Но у него нет лейкемии? Или, может, он со своей кровью передал тебе раковые клетки?
— Нет. Он бы об этом знал. И потом это было пятнадцать лет назад.
— Ты думаешь, я могу ему позвонить? Как врачу?
— Безусловно. Я могу позвонить ему сама.
— Нет. Это должен сделать я.
Вернувшись домой, Арсений сразу же позвонил Робину. Он достаточно сумбурно пересказал ему разговор с врачом и сказал, что всё теперь зависит от него, как от донора. Робин попросил у него координаты и телефон госпиталя, где лежала Ника и обещал перезвонить.
Он перезвонил через час и сказал, что в Париже, в госпитале, где он работает, для Ники готова палата в отделении онкологии и перевезти её нужно немедленно.
Через день они были уже в Париже. Через неделю состоялась первая операция.
Ника и Робин лежали в одном операционном блоке, оба под общей анестезией и прямая пересадка длилась больше двух часов. Потом, не зная деталей их частной жизни, их как мужа и жену положили в одну реанимационную палату. Там их и навещал Арсений. «У меня неожиданное прибавление в семействе», — пытался шутить он.
Первое, что сказала проснувшаяся от наркоза Ника, была фраза, что если только её болезнь может вот так свести вместе самых любимых её людей, она не имеет ничего против оставаться больной всю оставшуюся жизнь. Робин сказал, что он, конечно же, к её услугам, но ему было бы гораздо спокойней, если бы эти услуги больше не понадобились.
Его уже через сутки выписали. Нику же оставили на неопределённое время, чтобы понять, как её организм прореагирует на это вмешательство, не будет ли отторжения. Прошла ещё одна неделя. Снова были сделаны все анализы, теперь уже по более глубокой схеме. На этот раз Арсения пригласил к себе в кабинет Робин. Он был, как всегда, прохладно-вежлив, спокоен, но говорил с Арсением участливым тоном, как лечащий врач говорит с близкими своих пациентов.
— Пересадка прошла относительно удачно, — сказал он.
— Почему относительно?
— Потому что это только первый этап. Я бы даже сказал: временная мера.
— Нужно искать новых доноров?
— Нет. Существуют новые методики лечения. Она может быть своим собственным донором.
— Разве это возможно? Но… ведь…
— Попытаюсь вам объяснить… мм… доходчиво. Берётся «забор» её собственной костно-мозговой жидкости. Она обрабатывается специальным образом, радиооблучением, химическим воздействием, так, что поражённые клетки уничтожаются, а здоровые заставляют размножаться. И по истечении определённого времени эта новая оздоровлённая субстанция пересаживается ей обратно. В промежутке между двумя операциями ей должна быть сделана радио или химиотерапия, это уж как решат специалисты. Таким образом не только не возникает никакого отторжения, но эта новая оздоровлённая субстанция должна вытеснить собой поражённую. Я доходчиво объясняю?
— Вполне. Значит, есть надежда на выздоровление?
— Надежда есть всегда. Медицина — это не математика, здесь всё просчитать невозможно. Мы, врачи, — не боги. Но зато можно рассчитывать на какие-то собственные, порой неожиданные ресурсы организма.
— Понятно, — сказал Арсений. — А я? Могу я что-то сделать?
Между ними вдруг повисло молчание. Довольно напряжённое. Как топор в воздухе, который неминуемо должен упасть на чью-то голову.
— Для вас у меня есть ещё одна новость, — наконец обрушил топор Робин, при этом вид у него был достаточно смущённым. — Мне сообщили её по ошибке… так как я всё ещё считаюсь её законным мужем…
— Это… что?…
— Она беременна. Срок около девяти недель.
— Что?!.. — Арсению показалось, что он ослышался и в тот же момент он понял, что нельзя ослышаться с такими подробностями. — Но… но это невозможно. У неё не может быть детей. — Он понимал, как по-идиотски это звучит в данной ситуации — перед лицом её мужа, с которым она прожила пятнадцать лет и который к тому же был врачом. Он опустил голову и закрыл лицо руками.
— Мы тоже так думали, — сказал Робин спокойно. — У неё были серьёзные гормональные проблемы и мы, в силу обстоятельств, решили не настаивать.
Мозг Арсения отказывался понимать. Какие «обстоятельства»? Кто это «мы»? Он настолько считал Нику уже частью себя, что отказывался понимать, что она когда-то могла быть «частью» другого мужчины, с которым у неё могли или не могли быть дети.
— И что же теперь делать? — в который уже раз за это время беспомощно спросил Арсений.
— Это может быть только вашим с ней (он сделал ударение на этих двух словах) решением. Не хочу вам делать больно, но должен сказать, что именно беременность могла спровоцировать глубоко дремлющий лейкоз, который перешёл в острую лейкемию. Но это опять же только предположение.
Арсения вдруг оставили все чувства, кроме одного, абсолютно невыносимого, физического, как если бы он глотнул вдруг раскалённого масла — он может потерять Нику. А это автоматически значило потерять всё.
— Но… если это беременность послужила причиной болезни — прервите её. Немедленно!
— В течении болезни это уже ничего не изменит, — сказал Робин. — Это как цепная реакция, остановить её уже невозможно. Можно только попытаться замедлить процесс. А что касается беременности, боюсь, что её в любом случае придётся прервать — никакой зародыш не выдержит таких нагрузок. Я уж не говорю о химиотерапии, которая, в любом случае, будет фатальна для развития плода.
— А что Ника? Она в курсе? — догадался наконец спросить Арсений.
— Узнала только вчера. Вместе со мной.
— И что она?
— Как вы понимаете, моя ситуация достаточно деликатная, — тон Робина изменился на абсолютно официальный. Голос стал колюче-ледяным. — Оставаясь пока её официальным мужем, я не являюсь отцом ребёнка. Думаю, это нормально, что она захочет обсудить это с вами, а не со мной. А что касается деталей, у вас обоих есть возможность обсудить это непосредственно с её лечащим врачом.
Когда на следующий день Арсений увидел Нику, ему показалось, что всё это был только дурной сон. Она выглядела настолько свежей и безмятежной, что если бы не больничная палата, ни в какую болезнь поверить было бы невозможно.
— Ну вот! — сказала она голосом в котором появилось что-то новое (Арсений никак не мог определить, что). — Отделались лёгким испугом. Я чувствую себя прекрасно и у меня в животе твой сын. И я выношу его и рожу тебе богатыря! — И, помолчав, добавила: — Чего бы мне это ни стоило.
Арсений не испытывал никаких особых чувств по поводу своего возможного отцовства. Все его чувства были сосредоточены исключительно на Нике. Более того, в этом событии содержалась прямая угроза — это новое крохотное существо в её теле было каким-то образом ответственно за её болезнь. Оно разбудило нечто страшное в её организме, что способно было отнять у него Нику. Ни о чём другом он просто больше не способен был думать.
— Никодим, — сказал он осторожно, — ты только выздоровей! Мы потом усыновим и удочерим хоть дюжину детей. Знаешь сколько их, несчастных, уже родившихся в этом мире. Если есть хоть малейший риск….
Она не дала ему договорить.
— Это уже не зависит ни от тебя, ни от меня. Это случилось. Как то, что мы встретились, — Ника говорила спокойно и очень уверенно.
— Я долго говорил с Робином… — попытался возразить Арсений — он считает…
— Я знаю, что он считает, — опять перебила его Ника, — он рассказал тебе… про Киев… про Таню?
— Нет. А что он должен был мне рассказать?
— Ничего. Это совсем другая история. Она меня не касается. — Ника протянула к Арсению руки, он взял их в свои и поцеловал, поочерёдно. — Знаешь, — сказала она, — мне сейчас нельзя возражать — беременным противопоказано волноваться. Представь лучше, какая у нас получится умопомрачительно смешная семейка… — Теперь она притянула его руки к своим губам и так же, поочерёдно, слегка прикусила ему костяшки пальцев. — В конце недели меня выпишут и ты сможешь забрать меня домой.
2
Мы всё это время пребывали в полном неведении. Вернувшись в Париж в начале сентября, все были заняты своими делами.
Муж целыми днями просиживал в лаборатории, изучая свои последние находки, а вечерами таскал меня по джазовым концертам и джем-сейшенам, будучи страстным любителем этого, слишком шумного для меня, жанра.
Маша пошла в школу. Но гораздо больше внимания она уделяла собаке, которую вылизывала и натаскивала к выставке. Наша независимая Долли, видимо соскучившись за лето по своей хозяйке, таскалась за ней повсюду, изнемогая от преданности и терпеливо снося все издевательства, вроде маникюра (или педикюра?), а хозяйка всерьёз раздумывала, не покрыть ли ей собачьи когти красным перламутровым лаком. Я отсоветовала — сказала, что комиссия не поймёт.
Машка уверяла, что у её собаки даже недостатки аристократические.
— Смотри, как она нервничает перед состязаниями, даже побледнела, бедняжка, — говорила она, — прямо как настоящая девушка на выданье из хорошей семьи.
Моя дочь за это лето ещё вытянулась, но при этом чуточку округлилась (особенно в области груди), прыщики исчезли, и она вытащила кольцо из пупка, перевесив его в ухо.
У неё появилась новая тема.
— Вот ты, писатель, — говорила она мне с лёгким презрением в голосе, — пишешь всё, небось, про красивых героинь. Ведь только про них снимается кино и пишутся романы. А что же делать некрасивым? Как им жить? Они ведь никому не интересны.
— Некрасивых людей не бывает, — вступал наш человеколюбивый отец, пока я собиралась с мыслями, чтобы ответить поубедительней. — В человеке всегда можно найти что нибудь замечательное.
— Ещё как бывает! — распалялась она. — Особенно женщины! Посмотри, сколько уродин ходит по улице!
— Лицо — это ещё не всё, — терпеливо объяснял ей отец.
— Вот именно, — радостно соглашалась она, — у них и фигуры уродские.
Себя она, безусловно, причисляла к этой самой категории «уродин». У неё, по утверждению подростковых психологов, наступил период «самоуничижения».
— Красота — это свойство, данное кому-то от природы, как правило совсем незаслуженно, легко меняемое на деньги и успех. Запиши себе где-нибудь эту формулировочку, — сказала она мне небрежно.
Я на это только вздохнула.
— Именно поэтому красота так дорого ценится в этом мире. За неё готовы платить все. То, что красивым само падает в руки, некрасивым приходится добывать большим трудом, — заключала она философски.
— Поэтому ты и должна хорошо учиться, — как всегда, не очень к месту, реагировал отец.
Я же общалась с продюсером, который ещё весной начал пить из меня соки и сейчас, видимо хорошо отдохнув, взялся за своё любимое занятие с новой силой. Но мне, вопреки всему, приходилось иметь с ним дело, так как он был единственным реальным финансовым источником для постановки моей последней пьесы. Пробиться к такому здесь, во Франции, не имея «имени», практически нереально. Меня какими-то хитрыми путями, через большое количество посредников, вывела на него Ксенька, и я смело бросилась ему в пасть.
Основным критерием его жизни была выгода. Любая. На любом уровне. Даже самая минимальная. При своём богатстве он не брезговал ничем. Я была уверена, что он никогда не возвращал случайно переданную ему сдачу в газетном киоске и радовался возможности подобрать и незаметно прикарманить выроненное пожилой дамой из сумки портмоне. При этом одевался он на манер английского денди, вместо галстуков носил цветные шарфы, руки его всегда были тщательно ухожены, с безупречным свежим маникюром. Мы с Валерой решили, что он относится к сексуальным меньшинствам. С одной стороны, это было удобно, так как он не лез под юбку, но, с другой, всё время приходилось быть настороже, чтобы не уязвить случайно его обострённую чувствительность. У него был нюх лисицы и осторожные вкрадчивые манеры.
Мне он делал комплименты вполне сомнительного свойства: «Вы такая милашка, — говорил он, ухмыляясь, — что по идее не должны даже уметь разговаривать».
Мы с моим будущим предполагаемым режиссёром Валерой, таким же «безымянным», как и я, соотечественником, чувствовали себя с ним как кролики перед удавом. У меня вообще было впечатление, что он над нами просто издевается. Мстит за что-то. Но знающие люди говорили, что он не стал бы тратить на нас своего времени, тех жалких крох внимания на кратких рандеву, когда он задавал бессмысленные, на мой взгляд, вопросы и заставлял несчастного Валеру (который был несомненным талантом, категорически не умевшим себя продавать) буквально выворачиваться наизнанку, если бы не было надежды на успех. Для меня, в отличие от Валеры, от этого не зависел хлеб насущный. Я находилась в ситуации гораздо более привилегированной — под крылышком своего неплохо зарабатывающего мужа. Валера же пребывал в положении абсолютно зависимом — его крохотная театральная компания, основанная им с таким трудом, без финансовой поддержки могла развалиться в любой момент.
Нужно сказать, что это он меня подзуживал всё это время на общение с этим профессиональным мучителем, уверяя, что «игра стоит свеч!». Сам Валерка нашёл в моей пьесе какие-то тайные смыслы, которые мне самой были неведомы, и собирался превратить её в «мистическую феерию, которая взорвёт подмостки самых престижных театров». Самое смешное, что я в это верила! Мне было лестно и дико любопытно. Нас с ним сближала одна ярко выраженная черта — склонность к фантазиям, которые порой полностью затмевали собой реальность.
Спустя какое-то время лиса-продюсер предложит мне избавиться от Валеры, как от «лузера», тянущего меня на дно, и «поиграть в мистификацию», а именно — передать авторство моих пьес моей собственной дочери, четырнадцатилетнему подростку. «Это должно выстрелить», — сказал он, — «особенно пикантно будут выглядеть эротические сцены». Я ответила, что от его предложения будет в восторге только один человек — моя дочь (представив себе при этом выражение лица моего малолетнего деспота, услышавшего такое предложение), и отказалась от его услуг.
ххх
Здесь, поскольку в этом повествовании речь, в какой-то степени, идёт о выкрутасах судьбы, я не могу удержаться, чтобы не рассказать историю «лузера» Валеры. Её неожиданный финал изменит всю его жизнь.
— Жизнью человека управляет случай, — любил говорить Валера. — Но хотелось бы знать, кто управляет случаем! — И договорился.
Несколько лет назад Валера написал пьесу. Тогда у него ещё не было своей компании, и он пытался продать текст «на сторону», надеясь на минимальную материальную компенсацию. Он влез в долги и заплатил профессиональному переводчику, чтобы иметь текст на хорошем французском.
В течение какого-то времени он стучался во все двери, пытаясь добиться, чтобы его пьесу хотя бы прочли. Он посылал десятки экземпляров текста по разным адресам, в агентства и лично на имена режиссёров и продюсеров, выуженных им в театральных обозрениях. Всё было бесполезно. Никто не читал. Он не принадлежал к «допущенным», не имел ни имени, ни связей в этом, насквозь семейно-блатном, культурном французском «мильё», и поэтому не имел никаких шансов.
Прошло два года. Однажды, в своей, ставшей уже привычной депрессии, валяясь с банкой пива на продавленном диване в снимаемой им убогой квартирке, он, от полной безнадёги развлекался заппингом, то есть бессмысленно переключал каналы своего старенького, подаренного кем-то телевизора. И неожиданно напал на какой-то дурацкий фильм. Здесь ему показалось, что у него начались галлюцинации — он понял вдруг что смотрит свою историю в исполнении каких-то второстепенных артистов в очередном низкопробном телефильме. Он не мог поверить своим глазам. Дождавшись финальных титров, он убедился, что его имени нигде упомянуто не было.
И он понял, что его элементарно «кинули».
Раскинув мозгами, он также понял, что может подать на авторов фильма в суд и выиграть кое-какие деньги. Фильм был явно малобюджетным, но тем не менее ему могло кое-что перепасть.
По зрелому размышлению он понял, что ему нужен хороший адвокат, чтобы тягаться с адвокатами компании, выпустившей фильм, но хороший адвокат стоит дорого, а денег нет даже для того, чтобы заплатить за первое «рандеву».
Он понял, что и здесь шансы его стремятся к нулю, но всё-таки позвонил одному приятелю, тот, в свою очередь, позвонил своему приятелю — просто так, чтобы рассказать историю.
Через неделю ему позвонил человек, представился адвокатом и, убедившись, что текст пьесы был зарегистрирован во французском авторском обществе на Валерино имя, предложил свои услуги в качестве защитника его интересов. Здесь нужно отметить, что адвокаты, специализирующиеся на профессиональных сварах между «культурными объектами», откликаются гораздо резвее профессионалов от искусства как такового. Валера признался в своих «финансовых затруднениях» и адвокат, очевидно уже готовый к такому признанию, согласился вести дело бесплатно, за 50 % от вырученного гонорара, в случае выигранного процесса. Валера понял, что это грабёж среди бела дня, но так как других предложений у него не было и не предвиделось, согласился.
Процесс против кинокомпании был начат и тянулся уже почти год, когда выяснилось ещё одно непредвиденное обстоятельство. В тот день, когда Валера,
валяясь на своём продавленном диване, совершенно случайно нажал в нужный момент на нужную кнопку на пульте своего телевизора, он был не один, кто совершил это бессмысленное действие.
В этот же самый день и примерно в ту же минуту, в отеле «Ритц», что на Вандомской площади, в своих шикарных апартаментах «Коко Шанель», раскинувшись на атласных подушках королевских размеров кровати, тот же самый жест на своём пульте «Банг&Олуфсен» совершила некая голливудская звезда мировой величины. И внимание его привлекла эта незатейливая второстепенная «продакшн».
Он вдруг увидел в ней «Историю» с большой буквы, из тех, что, по слухам между авторами-любителями, ищут в Голливуде все, начиная от Сильвестра Сталлоне и кончая Спилбергом. Он, видимо, сразу понял, что наняв профессиональных голливудских скрип-райттеров и крепкого режиссёра, из этого материала можно сварганить нечто внушительное.
Через неделю его адвокаты (высокооплачевыемые) подписали договор с компанией, укравшей Валеркину пьесу и выпустившей свой суррогат.
Ровно через год после этого события состоялась мировая премьера кинобоевика с бюджетом в несколько сотен миллионов долларов.
Теперь дело приняло совершенно новый оборот. И Валеркин адвокат, учуяв своим высокопрофессиональным носом лакомую добычу, накинулся на это выгодное дельце с удесятерённой энергией.
Валере кто-то справедливо посоветовал пересмотреть условия контракта, так как речь шла уже о новом, в десятки раз большем деле, и, соответственно, на кону была уже совершенно другая сумма. Они сошлись на 30 % адвокату, с покрытием остальных расходов за Валеркин счёт.
Три месяца назад дело было выиграно в первом слушании. Но кинокомпания, которой в случае окончательного проигрыша и выплаты Валере требуемой суммы (включая бессовестную продажу прав Голливуду), грозило разорение, подала, естественно, на аппеляцию, наняв целую команду высокопрофессиональных адвокатов против одного Валеркиного.
Дело грозило затянуться на многие месяцы, а, может, и годы. И Валера, нюхнув волшебного дыма эфемерных миллионов, продолжал пребывать в бедности и зависимости.
Забегая вперёд, скажу, что дело было всё-таки окончательно выиграно в последней инстанции через шесть месяцев Валеркиным, как оказалось, очень ловким, адвокатом.
Валере, сидевшему к тому моменту почти в долговой яме, достался чистый куш в пару миллионов. В день объявления решения он так переволновался, что прямо из зала суда его, в предынфарктном состоянии, отправили в больницу. Его можно понять. О подобных деньгах он не мог и мечтать, даже если бы ему, каким-то чудом, удалось продать права на свою пьесу напрямую самому Спилбергу.
Но всё кончилось хорошо. Он выжил. Расплатился с долгами, купил себе квартиру в Маре, а остальные деньги вложил в собственную театральную компанию. И тут он пустился во все тяжкие. Имея в обычной жизни абсолютно невинный вид, в стенах собственного театра он превращался в абсолютного разбойника — норовил наголо обрить заслуженных артистов, снять штаны с пожилых мастеров сцены, изуродовать макияжем красивых актрис, вытащить на сцену для «нужд» спектакля какую-нибудь несовместимую живность (петуха и какую-нибудь дворовую псину, например) и заставить их гоняться друг за другом и так далее. Однажды, в процессе постановки пьесы он, по каким-то своим «мистическим» соображениям, целый месяц (февраль) проходил босиком. Деньги, свалившиеся ему на голову, стали постепенно таять в неокупаемых постановках. Но пыл его не охладевал.
В данный момент повествования, после очередного унизительнейшего свидания с нашим монстром-продюссером, я в сердцах, в который уже раз, сказала Валере (который готов был, в его тогдашнем положении, терпеть что угодно, надеясь на результат) и себе, что оно было последним. Моё терпение лопнуло!
Здесь-то и застал меня звонок Арсения.
— Мне нужно с тобой встретиться. Срочно, — сказал он дрожащим, тонким от волнения голосом.
В первый момент, когда я его увидела, я еле удержалась, чтобы не отшатнуться — я увидела молодое лицо, иссушенное горем. И это всего за несколько месяцев!
Когда он сбивчиво рассказал мне всё, что случилось за эти три, с небольшим, месяца и описал мне ситуацию на сегодняшний день, моим первым, очевидно идиотским, вопросом был, знает ли обо всё этом Ксения. Видимо, подсознательно, несмотря ни на что, я всё ещё держала её за самого главного человека в жизни Арсения. Естественно ту Ксению, бывшую, не сошедшую с ума на почве ревности. И опять же, как мне свойственно, принимая желаемое за действительное, верила, что это сумасшествие было временным, проходящим, что разум и логика должны, в конце концов, взять своё.
Ксения была очевидно не в курсе, так как никаких контактов за всё это время между ними не было. Арсений знал, что она приезжала в Лондон, прожила какое-то время в его квартире, и уехала. Я же, позвонив ей пару раз вернувшись в Париж, и не застав, ограничилась тем, что подбросила ей в почтовый ящик украденный мною паспорт. Без всяких объяснений. Анонимно. Так было проще всего.
Сейчас Арсений пытался, как он объяснил, осмыслить сложившееся положение спокойно, со стороны. Чтобы действовать более эффективно, использовать все возможности.
Видимо, именно для таких случаев психическая самозащита личности предусмотрена самой природой. Иначе выдержать всего, свалившегося на него за это последнее время, не было бы никакой возможности. Теперь у Арсения настало, казалось бы, немыслимое в этой ситуации, чувство полной отстранённости, как будто всё это происходило не с ним. Что всё это только дурной сон, вот сейчас он проснётся, и это страшное наваждение исчезнет. Всё опять станет как прежде. Ника. Жизнь. Всё навсегда. Не может же эта мелодраматическая фраза про смерть, которая, единственная, может их разлучить, стать вдруг сбывшейся повседневной реальностью.
— Врачи сказали, что та относительная стабилизация, в которой она находится сейчас, может оказаться очень кратковременной, — констатировал он, нервно потирая свои тонкие запястья. — Она же ведёт себя так, как будто кроме этой проклятой беременности, спровоцировавшей её болезнь, ничего больше не существует. И последняя, в смысле болезнь, рассосётся сама собой. С таким же успехом можно ждать, что рассосётся беременность.
— Материнский инстинкт, — сказала я, — она ждала этого всю жизнь.
— Перестань! — горько прервал меня Арсений. — Никакого такого инстинкта не существует. Это миф. Посмотри на мою мать, например. Она родила меня бездумно, и всю жизнь обо мне заботились другие люди. Её так называемый инстинкт проснулся, когда ей стукнуло сорок пять, а в моей жизни появилась женщина, которую она вдруг посчитала своей соперницей. И ты знаешь, во что это вылилось. Так что оставь пожалуйста.
— Это крайняя, извращённая сторона того же инстинкта! — настаивала я. (Он поморщился.) — И, потом, может Ника права? Может быть, действительно всё обойдётся. Речь всё-таки идёт о её здоровье. Может быть, она чувствует то, что никакими анализами определить невозможно.
— Это позиция слабых — отрицать очевидные факты, — сказал Арсений. — Я больше верю в реальные показатели анализов, чем в чьи бы то ни было ощущения. И если её можно спасти, то только применив все последние достижения медицины в этой области.
— Чего ты ждёшь в этой ситуации конкретно от меня?
— Ей, перед второй, главной операцией, срочно нужна химиотерапия. Она отказывается наотрез. Из-за беременности. Не поддаётся ни на какие ультиматумы врачей. Ни на мои уговоры.
— Ты думаешь, она послушает меня?
— Не знаю. Я в отчаянии. — Он прикусил губу, видимо, чтобы сдержать слёзы. — Может, ты найдёшь аргументы, которые на неё подействуют? Которых не нашёл я?
Это был крик отчаяния. Попытка уцепиться за соломинку. А у меня, как видимо и у всех нормальных людей в момент трагического известия, сработал тот же самый инстинкт самозащиты — сначала не поверить страшным фактам, а потом попытаться их передёрнуть. Мне нужно было время, чтобы переварить всё услышанное. Чтобы понять, какой ад сейчас творится в душе Арсения. И, к тому же, я не представляла, что могу сделать в этой ситуации? И нужно ли? А вдруг, действительно всё обойдётся? В такие моменты гораздо удобнее быть «слабой».
На следующий день была суббота, и мы решили поехать погулять в парке Сан-Клу, который находился практически напротив моей булонской квартиры. Вчетвером, вместе с Машкой, которой договорились ничего не рассказывать ни о болезни, ни о беременности Ники.
Была середина октября. День выдался удивительно солнечным для этого времени года. Всё полыхало красками. Парк с его каскадами, фонтанами и ошеломляющей цветовой гаммой листвой; осеннее красноватое солнце, просвечивающее через голубовато-розовую дымку воздуха, и панорама города-мечты, просматриваемая с террасы парка почти до Монмартра. И даже белые статуи греческих богов и богинь удивлённо взирали на это, последнее перед долгой зимой, буйство красок.
Мы гуляли по дорожкам этого лесопарка, щедро начинённого персонажами нескольких веков французской истории, а также наших знаменитых соотечественников, разглядывали отдыхающих с детьми и собаками и светски перебрасывались ничего не значащими фразами.
Я никогда ещё не видела Нику такой красивой, как в этот день. Она немного похудела, чуть округлившийся живот был заметен только очень внимательному или заинтересованному глазу, была бледна, но в её облике появилось нечто воздушное, неземное, как в мадонне, внемлющей ангелу, принесшему благую весть, с картины итальянского кватроченто. Взор её, казалось, был повёрнут внутрь себя, как будто она всё время к чему-то прислушивалась, движения стали более плавными, а тембр голоса на порядок ниже — и в нём появилась магическая хрипотца. Она улыбалась чуть таинственной улыбкой, как человек, знающий нечто, скрытое ото всех остальных, но не собирающийся ни с кем этим делиться. И всё время держала Арсения за руку, как бы опасаясь потерять этот физический контакт даже на мгновение.
Глядя на них в этот день, я думала, что моя безнадёжная погоня за совершенством завершилась наконец победой. Невозможно было поверить, что эти двое существовали когда-то отдельно. При этом разговаривали они между собой мало, обменивались короткими взглядами и обрывками фраз ведущегося между ними постоянно какого-то главного разговора.
Со мной и Машей она была чрезвычайно приветлива, но, в то же время, вела себя несколько отстранённо. У Машки, которая не умела ещё скрывать своих чувств, на лице появилось выражение растерянности, смешанного с лёгкой обидой. Она так ждала встречи со «своей» Никой! Так надеялась на продление их летнего сообщничества! И вдруг эта непонятная отстранённость!
Ника, почувствовав это, оторвалась наконец от Арсения, обняла Машку за плечи и удалилась с ней по маленькой дорожке в сторону от фонтана, вокруг которого мы в этот момент гуляли.
— Ну, конечно, — сказала я, — Ника не преминет поделиться с ней своей радостью. Ты ведь наверняка её не предупредил.
— Нет, — честно признался Арсений.
Мы помолчали.
— Послушай, — начал он неуверенно, — ты случайно не знаешь, что это за история… в Киеве… с какой-то Таней?
— Понятия не имею. А в чем дело?
— Робин как-то упомянул. Но она отказывается на эту тему говорить. Как если бы у неё было, что от меня скрывать.
— Ну, так спроси у Робина.
— Мне кажется, что это было бы нечестно по отношению к Нике… Если она действительно хочет от меня что-то скрыть…
В этот момент мы увидели несущуюся нам навстречу Машку.
— Ура!.. — кричала она, размахивая своим красным шарфом, как знаменем. — У нас будет ребёнок!..
Про Никину болезнь она в тот день так ничего и не узнала.
Потом мы расположились в одном из ресторанчиков, расположенных прямо в парке, и дружно набросились на еду, запивая её лёгким красным вином. Даже Ника ела с аппетитом и выпила полбокала. К концу нашей трапезы у неё чуть порозовели скулы, а глаза заискрились.
— Мы с Арсением ищем новую квартиру, побольше, с комнатой для ребёнка, — обратилась она ко мне. — Я слышала, ты большой специалист в этом.
— Ну, это положим преувеличение, но я с удовольствием тебе помогу.
Я поняла в этот день, что никогда не смогу затеять с ней разговора по поводу нежелательности её беременности. У меня просто не повернётся язык.
— А почему у Арсика такой несчастный вид? — спросила Машка, когда мы были уже дома. — Как будто у него кто-то умер, а не наоборот, должен родиться.
— Перестань, Маш! Чего тебе только не лезет в голову, — в сердцах сказала я.
— Ну, правда. В Лондоне он был таким счастливым… А Ника стала ещё красивей, чем раньше. Она одна из редких женщин, наделённая красотой справедливо! — выдал свой вердикт мой отпрыск.
3
А в Париже тем временем продолжалась жизнь. В том числе, и культурная. Только что закончил очередные гастроли театр Фоменко (Вот он, настоящий театр! Где даже не важно, что играют. А важно только, как!). Теперь приезжал ещё какой-то. По какому-то хитрому культурному обмену.
Мне позвонил один мой добрый знакомый — писатель, человек умный, язвительный и, на мой взгляд, гораздо более талантливый в публицистике, чем в литературе — и пригласил на «культурную тусовку». Поводом был приезд его давнего приятеля — главного режиссёра этого самого вновь прибывшего театра.
— Захвати свою пьесу. У тебя будет возможность отдать её из рук в руки. И попробуй прочистить ему мозги — он в этом давно нуждается.
— Ты же знаешь, это не по моей части, — заныла я.
— Ничего. Пора учиться. И не забывай, главный принцип «умной» беседы состоит в восхвалении собеседника в доступной ему форме. А также себя — в любой.
Я решила захватить сразу два текста, раз уж такая удача, решив сориентироваться в обстановке и понять, какая ему больше подойдёт «эмоционально».
Когда я пришла вечер уже был в самом разгаре. Гости, разбившись на группки, дискутировали на разные темы.
— Ваша Дума — это готовый хепенинг, со злым клоуном Жириновским во главе, — ярился известный художник. Он сам был похож на клоуна — рыжий-рыжий, с огромным бантом на шее вместо галстука. Я вспомнила, что он был известен тем, что больше чем двадцать лет назад, ещё в советский период, будучи моряком на каком-то судне, ночью, чтобы его не засекли с корабля, спрыгнул в море где-то в водах Швеции. Его, после нескольких часов болтания со спасательным кругом в холодной воде, подобрала рыболовецкая посудина и доставила в ближайший порт, где он и попросил политического убежища. Потом перебрался в Париж и стал художником. — А Церетели, — продолжал он запальчиво, — архитектурный диверсант. Его заслали враги, чтобы он раз и навсегда испоганил облик города. — Он сопровождал жестами и лицом каждое сказанное слово. — Уездная страна. Уездные жители. Уездный гламур.
— Вы, художники, хотите быть отмеченными Богом и, одновременно, вознаграждёнными людьми. А такое удавалось очень немногим, — отвечал ему на это кудрявый молодой человек в круглых очёчках, похожий на близорукого херувима, оказавшийся впоследствии завлитом этого самого театра и «гуру» режиссёра.
— Это вы про этого делягу от искусства? Если уж он отмечен Богом, то каким-нибудь финансовым, но никак не Богом творчества.
— Зависимость артиста от эпохи не должна быть безусловной, — продолжал вещать «херувим», выбиваясь из контекста.
Мне показалось, что я нахожусь на московской кухне в начале восьмидесятых.
Ко мне подошла известная всему русскому Парижу дама в возрасте, покровительница муз, особенно в лице их мужских представителей. Кто только не прошёл в своё время через её гостеприимный дом — художники, режиссёры, артисты, композиторы. Всех кормили за огромным, всегда накрытым столом, а некоторых даже селили, иногда в комнатах для гостей, а иногда и в своей спальне. Но потом её весьма благополучной жизни пришел конец — умер от over dose младший, восемнадцатилетний сын. Муж, преуспевающий финансист, не нашёл ничего лучшего, как уйти к своей секретарше, и успел за каких-нибудь три года завести трёх новых детей. И она оказалась вдруг почти в полном одиночестве. Но изо всех сил старалась держаться на плаву и высоко держать голову.
— Что там случилось у Ксении? — спросила она участливо. — Говорят, у неё какое-то несчастье.
Оказалось, что всей русской «популяции» в Париже было известно, что у Ксеньки «что-то произошло». Никто толком не знал подробностей, но все ей «сочувствовали». Ходили дурацкие слухи о том, что её бросил муж (с которым она уже давно была разведена), или любовник (эта история тоже была уже с бородой), что у неё появилась соперница, и, вообще, что у неё «крыша поехала», и она якшается с «колдунами».
Пришлось объяснять, что ничего особенного не случилось, что у неё просто женился сын, и она, как всякая нормальная русская свекровь, не довольна его выбором.
— А… а… наверняка на какой-нибудь русской стерве, — немедленно вынесла приговор знающая жизнь бывшая муза халявщиков всех мастей.
Я вернулась к группе, где витийствовал известный художник. Там появился новый колоритный персонаж — экспансивная брюнетка, большая, с крутыми бёдрами, тонкой талией и арбузными грудями. Её толстые от природы губы были ярко накрашены, большие влажные коровьи глаза утяжелены большим количеством туши, одета она была по самой последней моде, как если бы только что сошла с подиума. Но несмотря на это, а также на её прекрасный французский, которым она инкрустировала свою русскую речь, от неё так и веяло местечковостью. Она говорила громким голосом и сильно размахивала руками. На мой взгляд, она к этому моменту уже хорошо «приняла на грудь».
О ней было известно, что она живёт в красивом «шато» недалеко от Парижа, с богатеньким французским мужем, с которым всегда и всюду жутко ругается. Сплетничали, что он якобы делился в своём кругу, что она выносима (он говорил «supportable») только первые десять минут после оргазма. Но за эти божественные десять минут он готов был терпеть всё остальное.
— Здесь так дорого жить, — жаловалась она, — как не выйдешь из дома — тыщи как не бывало.
— Мне вас очень жалко! — язвил рыжий. — Вы такая
элехатная! А у меня вот есть знакомые, так они целой семьёй на тыщу живут целый месяц.
— Ненавижу бедность! — заявила владетельница замка. — Она разрушает души.
— Так же, как богатство без зачатков культуры, — художник явно норовил перейти «на личности». — Вы же дикари — научились одеваться в версачи-армачи, но по-прежнему вставляете себе золотые зубы.
— У меня нет золотых зубов! — и она, приблизив вплотную к его лицу своё и дыхнув на него смесью перегара с духами, раскрыла свой ярко-алый львиный зев.
— Это образ! — отшатнулся от неё рыжий обличитель. — Поразительно! Людей мучают комплексы неполноценности и мании величия одновременно. Гремучая смесь. Голландские педофилы, например, объединяются в официально зарегистрированную партию, — прибавил он совсем уж ни к селу ни к городу.
Завлит, видимо, решил выправить ситуацию.
— В России сейчас сложилась ситуация, когда одни идут стеной на других, — вещал «херувим». — И летят брызги, состоящие из интеллигенции, — его меланхоличный тон несколько противоречил его жизнерадостной внешности.
— Да… — тяжело вздохнула девица, явно относя себя к этом «брызгам», — как это верно!
— Вся ваша, так называемая, ин-те-лли-ген-ция давно подстелилась под существующую власть, — продолжал обличать рыжий, — как старая проститутка под клиента. И изо всех сил изображает любовь и преданность.
— Почему, интересно, свобода слова считается обязательным атрибутом демократии, а наличие ума — нет? — многозначительно отреагировал завлит.
— Это вы про меня, что ли? — подскочил ранимый обличитель в бабочке.
— Вы знаете, у моего мужа замечательный винный подвал, — перескочила вдруг на другую, явно более интересную для неё тему, замковладелица, — у него там редчайшие вина! Я буду рада, если вы приедете к нам в гости. Я обожаю собирать интересных людей, — обращалась она при этом исключительно к очкарику, демонстративно повернувшись спиной к «бедному художнику».
— С удовольствием! — немедленно и с явным энтузиазмом откликнулся близорукий херувим. — Хорошие вина — моя слабость. Их нужно запретить пить!
— То есть как? — удивилась барышня. — А что же с ними тогда делать?
— Их можно только вкушать!
— Это точно! — обрадовалась та. — Я уже полподвала откушала!
— А вы сами чем занимаетесь? — вежливо поинтересовался заведующий литературной частью, любитель дорогих вин.
— Я — арт-дилер! — изрекла девица с апломбом.
— Звучит почти как арт-киллер, — пробормотал за её спиной обиженный художник. И добавил в пространство: — Сколько же паразитов вокруг нашей профессии!
— Эти паразиты вас кормят! — снисходительно бросила ему через плечо арт-диллерша.
— Ну, уж нет! Это мы вас кормим… клещей! — припечатал художник.
Я отошла, насладившись сценкой. Ко мне подошёл хозяин дома и, сделав «значительное» выражение лица, взяв за локоток, подвёл к «главному» гостю. Тот в этот момент излагал желающим что-то на тему «основного принципа» современного искусства, утверждая что им является его «медиапригодность».
— Нужно всегда быть приверженным великим принципам — это позволяет лгать с чистой совестью! — провозгласил он.
— А это наша новая Бернарда Шоу — прошу любить и жаловать, — представил меня хозяин. — Утверждает, что ты её любимый режиссёр, — добавил он с явной насмешкой.
Я почувствовала, что краснею. Ничего такого я, естественно, никогда не утверждала, в театре его никогда не была, и имя его мне ничего не говорило.
Это был полный, несколько одутловатый человек с хитрым и умным прищуром маленьких, но очень цепких глаз и с зачёсом поперёк обоих полушарий, чтобы скрыть лысину (представляю, как он у него вставал дыбом от малейшего дуновения). У меня, кстати, есть целая теория по поводу откровенно лысых и вот таких «стесняющихся» — это, как если бы человек невысокого роста всё время ходил на цыпочках.
Он осмотрел меня откровенно оценивающим взглядом, как будто я была коровой, которую ему предлагали купить, и, видимо оставшись доволен увиденным, улыбнулся мне многозначительно.
— И что же вы пишете? — спросил он вальяжным тоном.
— Пьесы… для театра, — ответила я глуповато. — А какой спектакль вы привезли сюда? — поспешила я сменить тему.
— «Чайку», — сказал он как нечто само собой разумеющееся.
— О, господи! Опять «Чайку»! — не выдержала я. — Ну сколько же можно!
— А что вы хотите? У них здесь рефлекс, как у собаки Павлова — русский театр, значит Чехов. А если современный русский театр, значит «чернуха». Вы пишете чернуху?
— Нет, — честно ответила я.
— Ну, в крайнем случае, комедия. Причём, обязательно дурацкая. С паданием со стульев, тортами в лицо и переодеваниями мужчин в женщин и наоборот. Комедия положений, называется, — просветил он меня. — Вы пишете комедии?
— Нет, — ответила я обречённо.
— Ну вот видите! — он состроил гримасу. — А деньги-то у вас есть? Потому, что если есть деньги, неважно, что вы пишете. Поставим хоть медицинский справочник.
Я набрала в лёгкие воздуху.
— И денег у меня нет. А если бы и были, то не дала бы. А если бы и дала, то уж точно не вам. Быть циником — не значит автоматически быть великим, — добавила я, как мне показалось, убийственно саркастически. — Спасибо за содержательную беседу, — сказала я и отошла.
Опять фиаско! Всё-таки это совершенно две разные профессии — создавать и продавать (а уж тем более, созданное тобой лично). Мало кому удастся овладеть в равной степени обеими, успокоила я себя. А, может, прав мой муж, говоря, что глядя на меня, невозможно поверить, что я способна сотворить что-нибудь стоящее.
— Тебе каждый раз придётся доказывать, что наличие длинных ног не обязательно является первичным признаком идиотизма.
ххх
Мой муж говорит, что неврозы шьются на заказ. И Ксения была этому неопровержимым примером.
Я понимала, что она не звонит мне вполне сознательно. Видимо, решила таким образом наказать за мои неуклюжие попытки сказать ей правду. Она, и не без основания, понимала, что я в этой истории не на её стороне.
Но я не могла оставить её в неведении. Речь шла о её сыне, который в данный момент проходил через все круги ада.
Мне успели рассказать, что она выкопала где-то на Алтае и привезла с собой в Париж «целителя» — маленького человека с плоским лицом и неправдоподобно короткими кривыми ногами, который толком не говорил ни на каком языке, кроме своего, никому не известного, — и на скорую руку состряпала из него нечто вроде гуру. Он поил её травами, направлял энергетические потоки и проповедовал некую смесь буддизма, шаманства и искусства сельского фельдшера.
Я решила позвонить ей сама. Она разговаривала со мной вполне нейтральным тоном и согласилась встретиться.
Я ехала по своему любимому Сен-Жермену. Город был насторожен. Везде много полиции. Уже несколько дней в так называемых «неблагополучных пригородах» Парижа бесновалась арабская молодёжь. Почти все в одинаковых куртках с капюшонами, с лицами, замотанными почти до самых глаз платками, они били, крушили и жгли всё на своём пути. Поводом послужил несчастный случай, когда один из двух подростков, спрятавшихся от преследующей их полиции в трансформаторной будке, был убит током. Происшествие переросло в «восстание чёрного пригорода», а попросту говоря, шпаны, которая обвиняла страну, правительство и общество в том, что им не дадены «равные шансы», что ими недостаточно занимаются, что их «лишили возможностей» и т. д. Благополучная Франция волновалась — левые наскакивали на правящих правых, те, в свою очередь, кричали, что это результат политики левых многих предыдущих лет; фашиствующий Лё-Пен потирал руки, понимая что его партии это всё идёт только на пользу, так как средний француз уже озверел от проблем, связанных с нежеланием (или неспособностью) адаптироваться в нормальное общество возрастающей с каждым днём популяции «этнических меньшинств», их детей и внуков. И лозунги вроде «позитивной дискриминации» только раздражали, как ту, так и другую сторону. А тем временем мелкая и крупная наркомафия, настоящие вооружённые банды, контролирующие эти районы и подзуживающие этих безмозглых агрессивных бездельников на бессмысленное варварство, обделывала под шумок свои делишки.
Результат — сотни сожженых автомобилей (причём у самого неимущего населения, у которого нет гаражей), несколько легко раненых (полиция получила строжайшие указания вести себя корректно) и тонны бесконечной демагогической болтовни в масс-медиа.
Им бы на пару лет в сталинский Советский Союз (а можно, даже и не в сталинский, а просто в СССР) с его «равными для всех правами и возможностями», подумала я «politiquement incorrect»
[8], кружа в который раз по одним и тем же улицам в попытках припарковать машину, в пределах досягаемости от места встречи.
Мы сидели на той же террасе нашего любимого кафе, как почти ровно год назад, когда я познакомила Ксению с Никой. Сегодня на увесистом члене Кентавра вместо использованного презерватива красовался алый революционный бант — видимо, сменились шутники.
Господи, сколько же всего произошло за этот год!
Передо мной сидела совершенно другая Ксения.
— Я вычеркнула их обоих из моей жизни, — говорила она, чуть растягивая слова, как под гипнозом. — И теперь это моё решение. Я буду жить так, как будто у меня больше нет сына. Он меня предал. Променял. Я готова была отдать за него жизнь, а теперь не пошевелю пальцем, что бы у него не случилось. И не пытайся меня разжалобить. — Она изящным движением поправила свою рыжую гриву и со вкусом закурила. — И что это вы все так с ней носитесь?! Мало ли на свете больных и убогих. Мой Кумейка говорит, что достаточно только набраться терпения и сидеть на берегу реки, до тех пор, пока течение не пронесёт мимо тебя труп твоего врага. Похоже, я дождалась.
Всё это она говорила в ответ на мой рассказ о Никиной болезни. И об абсолютном, безысходном отчаянии её сына. Вместо моей любимой подруги передо мной находилось некое зомбированное существо, опоённое ядом ненависти. Это была явная «клиника», и я была уверена, что ей требуется немедленное медицинское вмешательство. У неё в мозгу как будто произошло короткое замыкание, в результате которого отключилась целая сфера, отвечающая за чувства.
Я не знала, как себя с ней вести. Если допустить, что она находилась в «твёрдом уме и здравой памяти», я должна была встать и уйти, поставив крест на нашей дружбе. Если же признать, что она психически больна, то ей должна быть оказана медицинская помощь, как любому больному человеку. И тогда на меня ложилась определенная ответственность. Но я также понимала, что управы на неё, в обоих случаях, у меня никакой нет. Да и ни у кого не было.
И я решилась на последнее средство. Я решила нарушить данное Арсению и Нике слово и рассказать ей о ребёнке. Может, это послужит ей «шоковой терапией»? Ведь она утверждала, что хочет внука. И одним из её главных обвинений в Никин адрес было то, что она слишком стара, чтобы родить Арсению ребёнка. Может, это её проймёт? Ну не будет же она желать зла матери своего будущего внука!
Это с моей стороны граничило с предательством. Ника особенно просила меня держать это в тайне от Ксении. У неё был какой-то смутный, почти мистический страх, что в Ксенькиных силах было как-то повлиять на исход её беременности. Она говорила, что иногда чувствует пульсацию её ненависти в своём затылке. Я, конечно, во все эти глупости не верила и успокаивала Нику, уверяя, что такая повышенная чувствительность свойственна всем женщинам в её положении. Но всё же слово дала. И вот теперь готова была его нарушить.
Но судьба-индейка дала мне возможность остаться на этот раз с чистой совестью. Пока я раздумывала, как лучше преподнести ей предательскую новость, случилось неожиданное. Как и тогда, год назад, я увидела Нику. Почти на том же самом месте. Она стояла спиной к нам и рассматривала витрину магазина детской одежды.
Видимо, в моих глазах колыхнулась паника, так как Ксения немедленно повернулась, чтобы проследить направление моего взгляда. Я резко схватила её за руку, чтобы отвлечь внимание, и неловким движением сбросила со стола чашку с остатками кофе. Чашка упала и разбилась, забрызгав коричневыми пятнами Ксенькины бежевые замшевые брюки.
— О… Merde! — вырвалось у неё с диким раздражением. — Merde, merde, merde… Только что из чистки!
— Прости, пожалуйста, — сказала я. — Пойдём в туалет, замоем.
— Замыть замшу?! Такое только тебе может прийти в голову! Нет уж, оставим лучше как есть, в чистке разберутся. До чего ж, ты, право, неуклюжа, — добавила она, уже более снисходительно.
Подняв глаза, я увидела приближающуюся к нам Нику, с отрешённо-счастливой улыбкой на лице. Она уже перешла дорогу и шла по тротуару, на который выходила терраса кафе.
В этот момент мы и встретились с ней глазами. Она приветливо склонила голову, как назло в этот раз узнав меня сразу, сделала мне знак рукой и направилась к нашему столику, так, видимо, и не узнав со спины Ксению.
В этот момент Ксенька повернулась и увидела приближавшуюся Нику. Дальше всё произошло как в замедленном кадре (опять), снятом рапидом неким шутником, забавляющимся столкновением самых неподходящих людей в самых экстремальных ситуациях.
Ксенька, как сомнамбула, стала медленно подниматься со своего места. Узнав её, Ника побледнела, как мел, и схватилась обеими руками за достаточно уже выпирающий живот характерным охраняющим жестом беременной женщины. При этом она не остановилась и не сменила вектора движения, а, как загипнотизированная, продолжала неуклонно двигаться в нашу сторону.
Я тоже встала, наступив при этом на разбитую чашку, которая трагически хрустнула раздавленным фарфором. У меня дрожали ноги и перехватило дыхание. Я понимала, что сейчас должно произойти нечто ужасное, непоправимое и при этом абсолютно неотвратимое.
Ника подошла и остановилась прямо перед нашим столом. На её очень похудевшем лице медленно таяла предназначавшаяся мне улыбка.
Так мы и стояли, все трое, какое-то время молча, как группа соляных столбов, на этой залитой солнцем терраске, и люди, сидевшие за соседними столиками, поглядывали на нас с любопытством.
— Что это у неё там? — очнувшаяся первой, ткнула Ксенька пальцем в направлении Никиного живота.
Ника инстинктивно отпрянула, сделав шаг назад и чуть не потеряла равновесие, наткнувшись на стоявший сзади стул, но удержалась, с помощью чьей-то протянутой вовремя руки, поддержавшей её за локоть.
— Там у неё твой внук! — сказала я каким-то чужим, очень гордым голосом.
— Кто?! — задохнулась Ксения. И вдруг расхохоталась своим прежним русалочьим смехом. — Нет! Вы посмотрите на неё! Внук! — Она сделала шаг в сторону Ники, осколок чашки хрустнул и под её сапогом. Та молча отступила ещё на шаг, по-прежнему прикрывая живот.
И тут Ксения, развернувшись всем телом, сильно размахнулась, и рука её медленно (видимо, у меня в голове всё ещё была рапидная съёмка) и неотвратимо стала приближаться к Никиному лицу. Ника не пошевелилась и не переместила рук.
В это момент меня точно подбросило и я, в каком-то немыслимо нелепом прыжке, в последнюю долю секунды бросилась между ними.
Ксенькин удар, потеряв поступательную силу в ту долю мгновения, когда она, краем глаза, засекла моё движение, пришёлся мне по уху. Было не больно, но в голове зазвенело.
Я увидела огромные тёмные Никины глаза, наполненные ужасом, и сощуренные по-кошачьи, Ксенькины, полные бешеной жёлтой злобы, и в изнеможении опустилась на стул.
Ника повернулась и, не оглядываясь, пошла прочь.
Я об этой сцене никому никогда не рассказывала. Ника, видимо, тоже.
ххх
Как оказалось потом, в тот же самый день Арсений встречался с Робином. По просьбе последнего.
Они сидели в какой-то маленькой забегаловке, ближайшей к госпиталю. И Робин рассказывал. Обычно немногословный, сейчас он просил его не перебивать. Было видно, что этот рассказ стоил ему немалых душевных усилий.
Арсений узнал следующее.
Это был первый год работы Ники в Кировском театре, в Ленинграде. И первые большие гастроли, в Киеве. Успех. Цветы. Пресса — «новое молодое дарование» — и, конечно же, первое романтическое увлечение партнёром. Три последних дня у неё выдались свободными. А у партнёра, как назло, нет. И она приняла предложение своей подруги по труппе — милой Танечки — поехать на эти дни к её родственникам, в «настоящее украинское село».
Поездка оказалась замечательной. Хозяева, поражённые худобой девушек, на их, привыкший к другим канонам красоты, взгляд, казавшейся болезненной, пытались изо всех сил их откормить. А спать положили, по их же просьбе, на сеновале под открытым небом, благо дни стояли тёплые. Целыми днями они с Танечкой гуляли в лесу, собирали грибы и ягоды, которыми тут же и лакомились. И даже искупались в теплой ещё речке.
Арсений напряжённо, не перебивая, слушал и никак не мог понять, какое этот буколический рассказ имеет отношение к происходящему. Что во всём этом было такого уж таинственного? Почему Ника отказывалась говорить с ним «про Киев» и «про Танечку»? Почему Робин смотрит на него так серьёзно, рассказывая эту белиберду!
— Вы понимаете, о чём я пытаюсь вам рассказать? — наконец спросил Робин.
Арсений отрицательно покачал головой. Ему, на секунду, даже пришла в голову Дикая мысль, что может эта «милая Танечка» была лесбиянкой? И приставала к Нике? Но кому это может быть сейчас интересно?
Робин помолчал. А потом, накрыв вдруг своей ладонью руку Арсения, сказал:
— Всё это происходило двадцать восьмого апреля тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. И река, в которой они купались, была Припятью.
Арсений, по-прежнему, ничего не понимал. Он мысленно подсчитал — в этот момент Нике было двадцать лет, а ему шесть, и он с матерью уже жил в Париже. Никаких других ассоциаций у него не возникло.
— Ну, конечно, — сообразил наконец Робин. — Вы были ещё так малы, что эти даты и названия ни о чём вам не говорят. Ну хоть о катастрофе в Чернобыле вы слышали?
— Ну конечно!
— Так вот, она произошла двадцать шестого апреля, то есть за два дня до этих их «римских каникул». Примерно в тридцати километрах от того места, где они находились.
— Это значит… — У Арсения в голове возникла страшная, почти апокалипсическая картина — радостная, ничего не подозревающая Ника в густом радиоактивном облаке. — Но… но ведь это произошло почти двадцать лет назад! — В его голосе была мольба, как если бы сейчас это зависело только от Робина — вынести или не вынести приговор.
— Это значит, что они нахватались радиации, почти как в эпицентре Хиросимы. А последствия могут сказаться сразу, а могут и затаиться в организме, как бомба замедленного действия. Радиация — штука очень коварная. И до сих пор ещё до конца не изученная.
— Но как же их не предупредили? Ведь прошло уже целых два дня с момента взрыва!
— Вы забыли, где они жили. «Империя зла» — это был не просто образ. И, в первую очередь, это касалось своего собственного народа. Катастрофу пытались скрыть, как от своего населения, так и от всего мирового сообщества, как можно дольше. Вместо того, чтобы немедленно давать людям дозы йода и объяснить им, что они должны оставаться в домах, укрытиях, они вывели детей на первомайскую демонстрацию. Если бы не международный резонанс, жертвы бы насчитывались уже сотнями и сотнями тысяч.
— Так значит Никина болезнь сегодня — это последствия тех страшных двух дней!
— С большой долей вероятности, — сказал Робин.
— А то лечение, которое ей проводят — оно эффективно?
— Тот факт, что она отказалась делать химиотерапию, в несколько раз снижает эффективность лечения.
— Я пытался с ней говорить. Она не слышит никаких доводов. Отказывается наотрез. Из-за ребёнка.
— Я знаю. Теперь по поводу ребёнка… Я должен предупредить вас… как врач.
Арсений сцепил руки так, что у него побелели косточки пальцев — он был готов к худшему.
— Я не буду приводить вам страшную статистику уровня детской смертности, никогда не виданные доселе аномалии новорожденных в первые годы после катастрофы. Но расскажу вам историю Танечки, той самой, с которой была в эти дни Ника. Она вскоре вышла замуж и родила ребёнка. Ребёнок родился с такими ужасными отклонениями, что его не хотели даже показывать матери. Но она настояла. И решила забрать это непонятное существо домой, хотя ей предлагали оставить его в больнице при роддоме. Такая вот мужественная женщина. Через несколько месяцев ребёнок, к счастью, умер. Через несколько лет она забеременела опять. И решила рискнуть. Родилась девочка. На этот раз без явных патологий. Они проявились гораздо позже, к пяти годам. Она несколько раз приезжала с девочкой к нам, в Париж. Я показывал её самым лучшим педиатрам. Не буду вводить вас в детали, но у ребёнка оказались изменения на хромосомном уровне — поражено большинство внутренних органов. Девочка полный инвалид. Помочь ей невозможно. Медицина в таких случаях бессильна, она ограничивается только ослаблением постоянных болей, с помощью всё большего количества лекарств.
Он замолчал. Выпил залпом заказанный им коньяк. Потом продолжал.
— Поэтому, когда у Ники случились подряд два выкидыша, и я клещами вытянул из неё эту историю, я подумал, что это даже к лучшему. И вот теперь…
— Вы хотите сказать, что Ника может умереть ради того, чтобы дать жизнь больному ребёнку? Оставив его потом без матери?.. Но почему вы не рассказали мне об этом раньше?! Сейчас уже слишком поздно. У неё слишком большой срок. И время для химиотерапии уже потеряно. Она и по поводу второй операции сомневается, боится, что это тоже может повредить ребёнку.
— Поздно было уже в тот момент, когда она приняла решение. А решение она приняла в тот момент, когда узнала, что беременна. Я достаточно хорошо знаю свою бывшую жену, чтобы понять, что её решение было бесповоротно. На все случаи. Недаром ведь она ни разу не согласилась сделать экографию, чтобы понять, как идёт развитие ребёнка. И не забывайте, что она с самого начала, как никто, отдаст себе отчёт в том, о чём вы только что узнали. Но учтите, если она не согласится на следующую, двойную операцию, шансов выкарабкаться у неё не останется совсем. На данный момент анализы у неё такие же плохие, как и перед первой пересадкой. Ребёнку это повредить не должно, так как вся радио и химическая обработка её костно-мозговой жидкости будет проводиться вне её тела, а введённая потом обратно в её позвоночник, она будет оздоровлять её организм естественным путём. Я решил рассказать вам всё это для того, чтобы вы тем не менее были готовы ко всему.
Потом Робин сказал, что он должен идти, и, попрощавшись, направился к выходу. Арсений нагнал его в последний момент, когда тот был уже у самой двери.
— Мне очень жаль, — сказал он, положив руку на его плечо, — что случилось так, что мы любим с вами одну женщину. Именно вас мне не хотелось бы заставлять страдать.
— Мне бы тоже было гораздо проще, если бы вы оказались «злодеем», — криво усмехнулся Робин. — Я бы вас просто убил.
ххх
Через несколько дней Ника легла в госпиталь. Она решилась всё-таки на эту вторую операцию — пересадку её собственного, оздоровлённого костного мозга. Она была уже на шестом месяце беременности. Несмотря на все заверения, она понимала, что вся эта процедура была достаточно опасна, как для матери, так и для ребёнка. Для неё требовались пять-шесть недель, в течение которых пациент должен был находиться в полной изоляции от внешнего мира, то есть в специально обработанном, практически герметически закупоренном стерильном помещении со строго определённой температурой. Естественно, к ней никого не пускали, даже ближайших родственников. Единственная возможность общения с ней была через толстое, звуконепроницаемое стекло её палаты, где посетителей ей было видно только до плеч, и исключительно знаками.
Несмотря на всё это, Арсений выглядел гораздо более уравновешенным по сравнению с последним разом, когда я его видела. Только глаза были красными и
воспалёнными. Он сказал мне, что совершенно перестал спать — не помогают никакие таблетки.
Мы сидели с ним в маленьком садике при госпитале, на жёсткой коричневой лавке. Под ногами была каша из последних, уже сгнивших листьев, смешанных с грязью почти недельных холодных дождей. Я пыталась говорить ему в утешение что-то банально-ободряющее.
— Знаешь, — сказал он мне, — за эти шесть месяцев Никиной болезни я понял про жизнь гораздо больше, чем за предыдущие двадцать шесть лет. До этого я был просто претенциозным сосунком. Я повзрослел сразу на несколько жизней.
— Тебе должно быть очень страшно, — сказала я. По крайней мере, мне за него было очень страшно.
— Нет, «страшно» — слово очень неточное. — Он помолчал. — Знаешь, нас учили на факультете астрофизики — каждое явление стоит подозревать в вероятности более чем одного толкования. Это относится и к жизни. Даже самые страшные, трагические события можно толковать по-разному.
— Что ты хочешь сказать? — я понимала, что он, как паучок, готов уцепиться за тончайшую паутину, сотканную им же и висеть на ней, сколько будет надо.
— Я попытаюсь поделиться с тобой одной теорией. Она не моя, а английского астрофизика Дэвида Бома. В ней действуют иные законы времени и пространства, позволяющие объяснить многое. Она достаточно сложна, но я попробую объяснить её тебе в популярной форме.
— Ну да, я профан, конечно…
— Я не хотел тебя обидеть. Сегодня даже в науке все профаны, в том что не относится к узкой специализации. Так вот, одной из самых сенсационных идей нашего времени стала эта самая бомовская теория о мире и вселенной, как необъятной голограмме. В которой «всё пронизывает всё». Где каждая частица, помимо себя самой, содержит всю голограмму в целом и неразрывно связана с остальными частицами, из которых состоит единая ткань мира. В этой Суперголограмме есть абсолютно всё — энергия, материя, измерения. В ней есть все войны и революции с их победами и поражениями; есть этот зимний пейзаж с этой скамейкой, на которой мы сидим; есть Гитлер, Сталин и Моцарт с Толстым, все сумасшедшие гении и террористы, все боги и антихристы; есть Никина болезнь, а также моя мать, с её припадочной правдой. Ты понимаешь, о чём я тебе говорю? Есть всё, видимое и невидимое простым глазом. При этом прошлое, настоящее и будущее существует одновременно. И наше сознание лишь частица этого фантома. Частица, вмещающая целое. Капля воды, из которой состоит океан. Понимаешь?
— Пытаюсь… Может быть, этим и объясняется способность «вспоминать» случившиеся не с нами, не здесь и не сейчас? И нагни сны? И то, что уходя, мы продолжаем жить в сознании других, порой ярче, чем живые.
— И это в том числе. В ней действуют иные законы времени и пространства, чем можно объяснить и многие паранормальные явления. Нострадамуса. Бабку Вангу. Вольфа Мессинга. Провидцев и «вспоминающих внезапно» древние языки, о существовании которых «вспомнящие» даже не имели понятия. Достаточно самого крошечного смещения в нашем разуме, вызванном шоком, болезнью, чем угодно, и, вдруг кому-то дано увидеть то, что невидимо другим. Всё это объяснимо, если допустить, что наша память всего лишь проявляет плёнку.
— Мне это знакомо. Правда, тут же забывается.
— Это срабатывает механизм мировой самозащиты. Представляешь, какой бы бардак случился, если бы все могли видеть голограмму в целом. Жизнь потеряла бы всякий смысл. В первозданном значении этого слова. Лучше уж пусть потеряет «смысл» или разум случайно увидевший. Как это случилось с моим индийским сокурсником, например.
— Но если кто-то умеет «увидеть» будущее, значит можно, наверное, на него повлиять?
— Никоим образом. Способность «видеть» совсем не означает умения влиять на течение событий. Наоборот, ты чувствуешь себя ещё более беспомощным, — он помолчал. — И, знаешь что, ты знай это, но пожалуйста не пытайся себе этого представить. Иначе с тобой может случиться то же, что и с моим индийским другом, о котором я тебе рассказывал. А он был намного более подготовлен к умственным потрясениям.
— Зачем же тогда знание, если ты не можешь этого понять?
— Чтобы победить тот самый страх. Страх смерти. Ужас потери. Для этого же и существуют все религии мира. И все философские учения. Остаётся только выбрать, что из них тебе ближе.
— А… Ника? Ты делился с ней этой теорией?
— С Никой я делился всем.
— Может быть, именно поэтому она так и упрямится в… в этой ситуации, что считает, что всё уже существует в Голограмме? Может быть она «видит», что всё кончится хорошо?
— А, может быть, наоборот.
Der Weltenplan vollzicht sich unerbittlich (Всемирный план осуществляется неумолимо) — фраза-мантра Рудольфа Штейнера, отца антропософии.
ххх
У меня есть отвратительная черта характера, в которой я полностью отдаю себе отчёт — я злопамятна. Но есть и другая сторона той же медали — я помню и благодарна до конца жизни не только за добро (даже за самое хлипкое), сделанное мне, но также и за попытку его сделать.
Кто-то сказал, что злопамятность — это своеобразный внутренний санитар, который ограждает нас от ненужных, а порой и вредных для нашего окружения людей, иногда на чисто интуитивном уровне.
И память у меня как у жирафа — доходит долго (по длинной шее) и застревает навсегда (в маленькой головке).
Всё вышеизложенное относится к следующему событию.
В этот день дождь, с самого утра, лил с библейской неукротимостью. Ксенькин звонок застал меня в машине. Мы с Машей возвращались от ветеринара, возили к нему собаку (у неё болело ухо).
— Не хочешь заехать ко мне, выпить чаю? — предложила она совершенно нормальным голосом, совсем как раньше.
Я уточнила, что я с Машей и собакой. Это её не смутило.
Был почти полдень. Но она, похоже, только недавно встала. В шёлковом белом халате, надетом на такую же пижаму, она позёвывала, готовя нам цветочный ароматный чай.
Где-то в глубине квартиры что-то шуршало и издавало странные звуки. Оказалось, что это был её Кумейка.
— Он что, у тебя живёт? — удивилась я.
— А где же ему ещё жить? Я ни с кем им делиться не собираюсь. Ты только посмотри, что он со мной сделал! Привёл в порядок душу и тело. У меня ощущение, что я помолодела на двадцать лет.
Выглядела она и вправду очень хорошо. Правда, на мой взгляд, набрала килограммов пять, но это, похоже, совсем ей не мешало. Хотя в прошлом она боролась с каждым лишним граммом.
— Ксения, ну пожалуйста, покажи своего колдуна! — взмолилась любопытная Машка.
— Да нет, он не любит быть на людях — это его отвлекает.
— От чего? — удивилась Маша.
— От главного! — отрезала Ксения.
— А… а… а… — пришлось смириться моей дочери.
В этот момент в комнатах послышался шум и что-то разбилось.
— Пошёл, пошёл вон отсюда… — заверещал кто-то визгливым детским голосом, — Шайтан проклятый!
Раздался собачий лай и рычание.
Машка, первая сообразившая, что Долли что-то натворила и, воспользовавшись этим, как предлогом, выскочив из кухни помчалась в глубину квартиры. Мы последовали за ней.
В спальне, на Ксенькиной огромной кровати лежало нечто, закрывшееся с головой одеялом. А наша собака пыталась это одеяло стащить, полная решимости увидеть, что под ним лежит.
Из-под одеяла высунулась большая растрёпанная голова с плоским лицом и сильно раскосыми глазами.
— Убирайте шайтана, — потребовала голова.
Долли обрадовалась, решив что с ней играют, и громко, заливисто залаяла.
Это было так смешно, что мы все, включая Ксению, расхохотались.
Возле кровати, на светлом паркете, валялись осколки разбитой фарфоровой чашки и темнело пятно разлитого кофе (опять разбитая чашка и разлитый кофе, пронеслось у меня в голове).
— Это он разбил, хвостой, хвостой, — проверещала голова.
Машка бросилась собирать осколки, а я, ухватив собаку за ошейник, выпроводила её из комнаты.
— Он что, спит с тобой в одной постели? — не удержалась я, когда мы оказались с Ксенией вдвоём на кухне.
— Бестактный вопрос, — холодновато ответила она. И прибавила: — Так нужно.
— Ну что ж, если это способствует твоему равновесию…
— Вот именно! — отрезала она.
На кухню вошла Маша, выбросила осколки в помойное ведро под раковиной, вытащила оттуда совок со щёткой и опять вышла.
Я всё это время безотчётно ждала и боялась какого-нибудь вопроса или замечания на болезненную тему. Как-то не верилось, что после всего она пригласила меня на чай просто так.
И дождалась.
— Так значит, эта сучка собирается родить моему сыну больного ребёнка?
— Я не буду разговаривать с тобой в этих… терминах и в этом тоне.
Она посмотрела на меня каким-то странным презрительным и одновременно угрожающим взглядом.
— Оставим в покое мой тон. Так, да? Или, нет?
— С чего ты взяла, что это будет больной ребёнок?
— А что ещё она может родить с её диагнозом? Раковым больным должно быть запрещено законом рожать детей. А мой сын идёт у неё на поводу… вернее ползёт. А я держала его за настоящего мужика. Как горько так ошибаться в людях! Особенно в близких, — и она опять посмотрела на меня этим новым странным взглядом. — А ты, значит, ходишь у них в близких поверенных, — констатировала она.
Я не знала, что сказать. Сидела и молчала, как дура.
— Ну, что ж! Придётся прибегнуть к услугам моего Кумейки.
— В каком смысле? — обалдело спросила я.
— То, чего не могут, или не хотят, сделать врачи, ему вполне по силам.
— Ты сошла с ума! По настоящему! — в ужасе воскликнула я, тут же представив себе кривоногого Кумейку, с кинжалом за поясом, прокравшегося в Никину палату. — Я предупрежу Арсения! И врачей в госпитале — ей выделят охрану.
Ксенька рассмеялась. Закончив смеяться, она посмотрела на меня, как на дебилку.
— Ему для того, чтобы… мм… скажем… нейтрализовать врага, совершенно не нужно передвигаться.
— Это кто твой враг?! Шестимесячный эмбрион в животе смертельно больной женщины?
— Вы все, — спокойно ответила она.
Она позвонила мне на следующий день, в семь часов утра.
— У меня пропало кольцо, подарок Графини, — сказала она ровным голосом, — вчера.
— То есть, как? — не поняла я спросонья.
— Вчера утром оно ещё лежало на столике, возле кровати. Я положила его туда накануне вечером, поленившись запереть в сейф… — она замолчала.
— И что дальше? — спросила я, чувствуя как холодеет в груди.
— А то, что вчера, до вашего прихода, оно ещё было на месте. Я его видела утром.
— И что? — опять тупо спросила я.
— А потом оно исчезло. После вашего ухода, — в её голосе не было ни капли сомнения.
— Может быть, оно упало? Собака могла сбросить его хвостом. Ведь разбила же она чашку, — предположила я слабым голосом.
— Я вчера весь день потратила на поиски — его нигде нет. В квартире, кроме вас, чужих никого не было.
— Ну, не думаешь же ты, что его могла взять я, — ужаснулась я вслух этой дикой мысли.
— Ты — нет. А твоя дочь могла, — вывод её звучал категорично, как приговор судьи к высшей мере.
— Ты сошла с ума! Ты не понимаешь, что ты говоришь, — выдохнула я, — Маша этого сделать не могла. Думай уж лучше на меня.
— Очень легко обвинять в сумасшествии того, кто расходится с тобой во мнениях, последнее время ты только этим и занимаешься. А своих детей, как выясняется, мы знаем очень плохо. Они теперь в её возрасте поголовно балуются наркотиками. А на них нужны деньги. Ты же сама мне рассказывала, что она связалась с каким-то подозрительным типом.
— Он подозрителен мне только тем, что гоняет на мотоцикле.
— Ты должна обыскать её комнату, — сказала она непререкаемым тоном.
— У нас это не принято, — ответила я, пытаясь попасть ей в тон.
— Ну, так введи это в обычай. Я хочу получить своё кольцо обратно, — сказала она жёстко и повесила трубку.
Это было уже слишком. Я физически почувствовала, как кровь бросилась мне в голову — мою дочь заподозрили в воровстве!
Я встала и поплелась на кухню. Маша допивала свой чай и едва надкушенный тост, с которого Долли не сводила заворожённого взгляда, сиротливо лежал на тарелке. Я тоже налила себе чаю и села напротив.
— Кто это звонил в такую рань? — спросила Маша.
— Ксения…
— Что-нибудь случилось?
— У неё пропало кольцо. Очень дорогое.
— И она звонила по этому поводу нам? В семь утра?
— Вот именно. Оно пропало с прикроватного столика. Вчера, после нашего ухода.
— Ты хочешь сказать, что она подозревает тебя? Или меня?
— Она подозревает тебя.
Маша помолчала. Я не могла заставить себя поднять на неё глаза. Наконец она сказала, почти шепотом:
— Кольца я не брала. И не видела. А о твоей подруге не хочу слышать больше никогда в жизни.
Она встала и, позвав собаку на прогулку, вышла из кухни. Через несколько минут я услышала, как за ними хлопнула входная дверь.
Свою комнату Маша никогда не закрывала на ключ. Проходя мимо, я повернула ручку и поняла, что она не заперта и на этот раз. Но входить не стала.
Ксения позвонила на следующий день.
— Ну что?
— Она сказала, что кольца не брала и не видела. И я ей верю.
— А я нет, — отрезала Ксенька. — Ты обыскала её комнату?
— Нет. Я этого делать не буду.
— Тогда я приеду и сделаю это сама. Выбирай.
У меня не было выхода. С некоторых пор я знала, что она способна на всё.
— Хорошо, — сказала я, — я это сделаю. Но я прекращаю с тобой общаться.
— Мне нужно кольцо, — спокойно ответила мне на это моя подруга.
И я потащилась в Машину комнату.
Первое, что я увидела с порога, было это самое проклятое кольцо. Оно лежало на письменном столе в прозрачном целлофановом пакетике.
И тут на меня нашло затмение — на какое-то мгновение я поверила, что моя дочь воровка. Я не прощу себе этого никогда в жизни.
У меня потемнело в глазах и я разрыдалась, сев на пол прямо на пороге комнаты. Господи, пронеслось у меня в голове, всё пропало. Как я буду теперь с этим жить? Мой мир, который я так тщательно строила и всеми силами оберегала, рухнул в одно мгновенье. У меня было чувство такой страшной потери, как если бы самый близкий человек внезапно умер прямо на моих глазах.
Собака проскользнула в комнату мимо меня, скорчившейся на пороге и, встав на задние лапы, стала внимательно обнюхивать целлофан, видимо, неплотно закрытый.
Я поднялась и приблизилась к письменному столу. И только тут я заметила записку, на которой лежал пакет. Я поднесла её к глазам и начала читать сквозь слёзы.
«Мама, — было нацарапано в ней Машиным почерком, — я знала, что ты придёшь в мою комнату с обыском. И была права. Кольцо я нашла вчера вечером в Доллиных экскрементах. Так как, в отличии от тебя и твоей подруги, поняла, куда оно могло деться. Если ты мне не веришь, значит у нас с тобой есть огромная проблема. А на твою подругу мне плевать навсегда! М.»
У меня от счастья чуть не разорвалось сердце. А в следующее мгновенье, от стыда. Мне никогда ещё не было за себя так мучительно стыдно. Как будто это меня только что схватили за руку, пойманную на воровстве при всём честном народе.
Открыв пакет, я увидела, что кольцо вымазано чем-то коричневым и, понюхав, поняла, чем.
И здесь я совершила один из самых трусливых поступков в своей жизни. Я положила записку на место, на неё пакет и, постаравшись замести все следы моего пребывания, вышла из комнаты.
Вечером, вернувшись из школы, зажав двумя пальцами проклятый пакет, Маша зашла в мою комнату, где я сидела за компьютером.
— Вот оно, ваше кольцо! — сказала она брезгливо. — Я нашла его вчера в Доллиных какашках. Потому что знала, где оно должно быть (она сделала ударение на этих двух словах, давая мне понять, что именно они были самыми важными).
— Ну и хорошо, — сказала я спокойным голосом (тщательно подготовившись к этому заранее). — Я знала, что оно найдётся где-нибудь. Иначе и быть не могло.
Я тут же отвезла пакет, в том виде, в каком он был, Ксении, написав ей, уже от себя, краткое письмо с объяснениями (добавив, что мне всё равно, верит она в них, или нет) и объявлением о разрыве наших отношений. Я вручила это всё ей молча, прямо на пороге её квартиры, потом, повернувшись села обратно в лифт, дверцу которого я предусмотрительно оставила незакрытой, и уехала. Она даже не попыталась меня задержать.
Это был последний раз, когда мы виделись по личному поводу. В дальнейшем нам пришлось ещё увидеться несколько раз, но исключительно в силу обстоятельств, требующих нашего взаимного присутствия. Это был конец нашей двадцатипятилетней дружбы.
Должна признаться, что для меня это было большой потерей. Думаю, что она отнеслась к этому гораздо проще.
Неужели и это всё заранее существовало (существует и всегда будет существовать) в этой бесчеловечной Суперголограмме?
4
Дальше наступает самая грустная часть моего повествования. Я принималась писать ее несколько раз, каждый раз бросая от беспомощности, понимая, что не в моих это силах выразить словами невыразимое. Да и вправе ли я пытаться выразить чувства других в трагические, экстремальные моменты их жизни пером на бумаге, глядя на происходящее со стороны. Оставив попытки лирических отступлений и каких бы то ни было эмоциональных свидетельств, я решила описать в этой части только факты, прибегнув к хроникёрскому стилю репортажа.
Нике сделали первую часть операции — забор её собственного костного мозга. И теперь она ждала второй, главной части — обратной подсадки.
Арсений буквально валился с ног. Он проводил там, у её окна, почти всё время. Они общались записочками, причём его, перед тем как попасть к ней, предварительно обрабатывались. Иногда мне удавалось вытащить его поесть в ближайший пищеблок или посидеть в маленьком парке при госпитале.
Он пребывал в каком-то пограничном состоянии, в который, говорят, погружают пациентов для медицинского гипноза (я даже подумала, не поработали ли с ним) — между сном и реальностью, в котором чувства переставали существовать, застыв на точке, когда их ещё можно было вынести; минута превращалась в бессчетное множество часов и, наоборот, день пролетал как мгновение.
— Когда-то, много лет назад, я был счастлив. А Ника была здорова, — сказал он мне как-то, когда мы сидели с ним всё на той же коричневой лавке под окнами Никиной палаты. И, помолчав: — Вечность — это разделённые чувства. — И вдруг, схватив меня за руку, и с отчаянием в глазах: — Ты думаешь я могу умереть… если умрёт она?.. Имею право?
— Нет! Нет! И нет! — я понимала, что вопрос был риторическим, что он не спрашивает совета, а говорит с самим собой. — Что бы ни случилось, это твоя жизнь. И ты должен прожить её до конца.
— До счастливой старости? — усмехнулся он. — И кому это ведомо, где он, этот конец?
— Я уверена, что Ника поправится — материнство очень сильный стимул, включатся все силы её организма.
Он посмотрел на меня с выражением взрослого человека, понимающего, что есть вещи, которые ребёнку объяснить невозможно. Да и незачем. В его глазах была такая тоска, что казалось, он видит не только обозримое будущее, но и намного дальше.
— А ребёнок? Неужели тебе не интересно, каким он вырастит?
— Нет. Не интересно. Я анормален. Я не хочу детей. Во всяком случае, своих. Я готов был усыновить и воспитать некоторых из тех несчастных, которые уже родились в этом бессмысленном, коварном и жестоком сообществе, называемом человечеством, но никак не добавлять в него своих.
— Но ты не можешь говорить об этом всерьёз! — взмолилась я. — Сегодня не кончают жизнь из-за любви!
Он опять посмотрел на меня этим своим отстранённым взглядом.
«Жизнь есть только сон, увиденный во сне», — процитировал он кого-то. И потом: — Самое смешное, что я с самого начала знал, что мы с ней не жильцы на этом свете, каждый в отдельности. А уж вместе, тем более.
И я подумала, кто я такая, чтобы судить? Чтобы искать резоны и объяснения тому, что было выше моего понимания, тому, что мне, к счастью (или к несчастью), не дано было пережить самой. Это было явление не из обыденной жизни.
И я, уже в который раз, подумала, что та его история про «индийского друга», не была ли она его собственной историей? Я ведь действительно тогда на время потеряла его из виду. А Ксения — тем более. Может, это он жёг себе руки? Может, это его увезли в психиатрическую клинику, где он провёл несколько месяцев в вегетативном состоянии? И потом, вылечившись (или подлечившись), рассказал свою историю, но про «другого»?
И я его спросила. Не свою ли собственную историю он мне рассказал? Ну, за исключением анатомических подробностей.
Он посмотрел на меня удивлённо.
— Ну, знаешь, у тебя такое воображение, что ты могла бы писать сценарии к индийским фильмам. Ты что же, воображаешь, что я просидел несколько месяцев в психушке? Да и руки у меня целые — посмотри, — и он протянул мне руки, ладонями вверх. И при этом улыбнулся так обезоруживающе, что мне и вправду стало неловко за мои вымыслы.
На ладонях же у него, тем не менее, были шрамы странного происхождения.
Мы посидели некоторое время молча, думая каждый о своём. Потом он вдруг хмыкнул.
— Хочешь я расскажу тебе о моем первом сексуальном опыте? Тебе, как собирателю дурацких историй, должно быть интересно.
Я кивнула. Ещё бы! И приготовилась услышать душещипательную историю с дефлорацией.
— Мне было шестнадцать лет. Уже в Гарварде. После вечеринки меня затащила к себе студентка. Когда случилась первая фаза сексуального акта, она была очень удивлена: «Но ты же совсем не шевелишься! Ты что, уснул?» Дело было в том, что я и понятия не имел, что надо ещё и «шевелиться». Я вошёл в неё и просто ждал, когда «это» случится.
Как мы хохотали! Прямо под окнами Никиной палаты.
ххх
Моменты с привкусом вечности.
ххх
Шанс представился неожиданно.
В один из этих тяжёлых дней, когда я только что вернулась из госпиталя от Ники, раздался звонок. Говоривший представился главным художественным руководителем национального театра в столице одной из наших бывших Советских республик и назвал своё, известное всему театральному миру, имя. Он сказал, что прочёл мою пьесу и влюбился в неё (так и сказал «влюбился»), и хотел бы её поставить в своём театре. Прямо в этом сезоне.
— Ну, что ж, валяйте, ставьте, — сказала я развязным тоном, думая, что меня кто-то нагло разыгрывает. — Не забудьте только пригласить меня на премьеру!
Голос хмыкнул. Потом попросил взять ручку, записать его номер телефона и перезвонить. Что я и сделала.
Код действительно соответствовал названной стране и городу. И ответил тот же голос.
Выяснилось, что Б.С. (художественный руководитель театра и, одновременно, один из самых востребованных актёров всего «постсоветского» пространства) был всего неделю назад проездом (с какого-то международного фестиваля) в Париже, в компании друзей-актёров, один из которых, услышав, что тому нечего читать в самолёте, вручил ему мою пьесу (уже не помню даже, как у него и оказавшуюся). Результатом был этот звонок. Как в романе, ей богу.
Мы согласовали условия и он сказал, что хочет выпустить спектакль ровно через три месяца.
Я спросила, могу ли я приехать познакомиться с ним лично и с труппой. Он любезно предложил вставить этот пункт в контракт, также как и приглашение нас с мужем на премьеру.
Забегая вперёд скажу, что «сказка стала былью». Ровно в указанный срок (что в мире театра граничит практически с чудом) всё и случилось — премьера в одном из самых красивых театров Европы, полный зал, цветы, овации, я на сцене вместе со всеми участниками спектакля и растроганный до слёз муж, снимающий всё это на плёнку. Ну чем не индийское кино!
ххх
Нике сделали вторую часть операции — подсадили её собственную, оздоровлённую субстанцию, исключительно хорошо прореагировавшею на химическую и радиообработку. Теперь она должна была вытеснить все больные клетки и остановить болезнь. Было похоже, что и Никин организм «правильно» реагирует.
Сказали, что через неделю к ней начнут пускать посетителей.
В этот день Ника особенно хорошо выглядела и была в явно приподнятом настроении. Мне удалось уговорить Арсения пойти поспать и принять душ — он выглядел гораздо хуже Ники. Пообещав ему продежурить всё это время за окном и не спускать с неё глаз, я практически его вытолкала из госпиталя.
Я показывала Нике через стекло книгу, которую она просила меня принести — мой любимый «Александрийский квартет». Теперь книге предстояло пройти обработку, не знаю уж чем, и только потом попасть Нике в руки. Она смотрела на меня, улыбаясь, и горделиво поглаживала свой шести-с половиной-месячный живот.
И вдруг лицо её изменилось, черты резко исказились от боли, в расширившихся зрачках отразился ужас и она, закрыв почему-то ладонями уши, закричала. Через звуконепроницаемое стекло я крика не слышала, но поняла, что он ужасен.
Я ринулась за медсестрой. Сбежались врачи, и её немедленно увезли на каталке в двери, на которых было написано, что посторонним вход категорически запрещён.
На мои вопросы никто не отвечал. Звонить Арсению? Жалко. Он, наверное, только что прилёг. Да и что он мог сделать? Куда не пустили меня, не пустят и его. Значит, ждать. Я решила подождать пока одна.
Наконец из-за дверей, куда её увезли появился человек в белом халате, в котором я узнала ассистента-стажёра. Я буквально повисла у него на руке и потребовала ответа.
— Начались роды, — сказал он.
— Как! Ей ещё рано! Ведь ребёнок не выживет!
— Сейчас речь идёт о её жизни, а не о жизни ребёнка. У неё сильное кровотечение.
Я стала набирать номер Арсения. Но в этот момент он сам показался в конце коридора. Он махнул мне рукой, показав жестами, что теперь он чистый (делал вид, что обнюхивает свои подмышки и потом, растянув рот в обезьяньей гримасе, удовлетворённо бил себя кулаками в выпяченную грудь).
Увидев Никину палату пустой, он ринулся в те двери, куда её увезли.
Через некоторое время я увидела бегущего по коридору Робина, на ходу закатывающего рукава рубашки. Ну да, вспомнила я, у них же одна редкая группа крови. Я встала ему навстречу, но, не обратив на меня внимания, он скрылся всё за теми же дверьми.
Я не знаю сколько времени я там просидела — час, три. Про меня абсолютно все забыли, считая, видимо, что я давно ушла.
Наконец двое санитаров под руки вывели Арсения. Они почти насильно усадили его в кресло и сделали укол в предплечье.
— Это вас успокоит, — сказал один. — Вы мешаете врачам.
Потом один из них обратился ко мне.
— Попробуйте увести его отсюда. Его пребывание здесь бессмысленно. В операционную его всё равно не пустят. В палату интенсивной терапии тоже. До завтра ему не удастся её увидеть. К тому же у него поднялась температура. Возможно от перевозбуждения, но, возможно, и инфекция. Он не понимает, как это может быть опасно для его жены. Он вообще ничего не понимает. Неадекватен. Так что самое лучшее что вы можете сделать, это увести его отсюда, — повторил он.
Арсений наблюдал за нами взглядом загнанного зверя. Взглядом волка, оскалившегося в последний раз перед неминуемой гибелью.
— Я никуда отсюда не уйду, — почти прорычал он.
Мне стало страшно. Я, на какое-то мгновение, оказалась вдруг в его «шкуре» и физически почувствовала, что чувствует он — у меня внутри как-будто разорвался снаряд, разворотив мне все внутренности. Это было физически невыносимо. И здесь я совершенно чётко поняла одну вещь — он не переживёт смерть Ники. Клинически не переживёт. Это было то, о чём врачи ещё не имели понятия — речь шла сразу о двух жизнях. Вернее о трёх. Ведь был ещё и ребёнок. Неизвестно, живой или мёртвый.
— Господи, а что же с ребёнком? Он родился? Жив?
— Ей стимулируют роды. Кесарево делать поздно. В этом и проблема.
В результате, почти в два часа ночи я отправилась домой одна. Арсений отказался покинуть территорию госпиталя. Его уложили в какой-то палате, где, после лошадиной дозы снотворного, он забылся на несколько часов.
На следующий день была суббота. Я ехала по маршальским бульварам из своей Булони в пятый округ, где находился госпиталь. Проехать было практически невозможно, бульвары были наполовину перекрыты — строили (уже который год) трамвайную линию. Чертыхнувшись, я резко свернула влево, решив попытаться проехать через город. Здесь было ещё хуже — толпы народу, машины, преимущественно с непарижскими номерами, еле двигались. Сезон распродаж (любимого развлечения французов) был в разгаре.
У меня в голове вертелась картинка, увиденная накануне по телику — выброшенная на шикарный пляж Тенерифе лодка с потерпевшими очередное крушение сенегальскими беженцами. Чёрные, измождённые многодневным голодом и жаждой полуживые тела в полусгнивших одеждах, и всполошившиеся отдыхающие — сисястые тётки топ-лесс (в основном, немки), их толстопузые мужья и обгоревшие дети, а также весёлая молодёжь — пытающиеся оказать первую неловкую помощь потерпевшим бедствие. Они спешили к ним со всего пляжа, кто с водой, кто с яблоком, а кто и с банкой пива в руках, накрывали их своими полотенцами, клали их головы к себе на колени, забыв одеться и развесив над ними голые сиськи, от которых потерпевшие (если были в сознании) старательно отводили глаза. Дети, окружившие корчившуюся в последних муках, умирающую у них на глазах женщину. Всё это комментаторы показывали как фон для дебатов о незаконной эмиграции.
В коридоре отделения, где лежала теперь Ника, было довольно оживлённо. Сновали медсёстры и посетители с цветами и фруктами в руках. Никина палата находилась в самом конце коридора, за двумя двухстворчатыми дверьми, маленьким «предбанником» и ещё за одной, плотно закрытой дверью.
Ника лежала высоко на подушках. Её тонкий заострившийся профиль как никогда напоминал бледную, нежнейшей резьбы камею. Такие же бледные, почти с голубизной тонкие руки лежали вдоль тела поверх одеяла. Глаза были прикрыты, но веки подрагивали. По обе стороны от неё сидели Робин и Арсений.
Арсений поднял на меня измученные глаза и кивнул головой. Робин тихо, одними губами поздоровался.
У противоположной стены комнаты стоял небольшой столик. И там, под стеклянным колпаком, обвитое тонкими проводками с присосочками, шевелилось крохотное розовое существо, похожее на креветку.
Я застыла в остолбенении. Ника открыла глаза и улыбнулась в мою сторону слабой улыбкой.
— Подойди к ней, — прошептала она едва слышно.
Я приблизилась к столику. Ребёнок был крохотный, но абсолютно сформировавшийся. Это была девочка. Она лежала, зажмурив глазки и по-паучьи шевелила конечностями.
— Её осмотрели педиатры, сказали, что у ребёнка нет никаких отклонений. Правда, Робин? — Робин кивнул.
Я подошла к Никиной кровати и, так как оба стула были заняты, присела на её краешек.
Ника, поочерёдно посмотрела на обоих мужчин умоляющим взглядом и они, как по команде, встали и вышли.
— Ника… Милая… — сказала я. — Я тебя поздравляю. Всё случилось, как ты хотела.
— Почти, — сказала Ника. — Я не хотела умирать.
— Ты выздоровеешь, — сказала я растерянным голосом.
Она слабо покачала головой.
— Я умираю, — она говорила тихим ровным голосом, без всяких эмоций. — И Арсений об этом знает. Все об этом знают.
У меня полились слёзы из глаз и я ничего, ничего не могла с этим поделать.
— Не плачь… — сказала она, — послушай меня…
Я молча кивнула, давясь слезами.
— Девочка остаётся совсем одна. Арсений её не любит.
Я попыталась что-то сказать, но она остановила меня глазами.
— Он считает её причиной моей смерти. И ничего не может с этим поделать. Он ещё не созрел для отцовства. Все чувства, которые у него были, он отдал мне. Я не знаю, что он намерен делать… но догадываюсь.
— Что? — еле слышно всхлипнула я.
Она покачала головой и дрогнула ресницами, как бы прося не перебивать.
— Сейчас он думает, что не сможет без меня жить. И он не хочет, чтобы ему помогали. Ему никто не нужен. Он сам себе не нужен. И девочка ему не нужна.
— Но… но не бросит же он своего ребёнка?..
— Не бросит, — сказала Ника. — Он её пристроит со всеми своими деньгами. А сам уйдёт умирать. Но смерть коварна. Она не там, где её ждут. Поэтому, что бы ни случилось, я прошу тебя не терять её из виду.
Я кивнула.
— И ещё… Там, в шкафу, мои блокноты. Я хочу, чтобы ты их взяла… и сохранила… для неё. Можешь прочесть — там обрывочные заметки о счастливых совместных снах.
Я открыла шкаф, вынула оттуда две тонких тетради и положила к себе в сумку.
Потом я взяла её руку и поцеловала. Контакт моих сухих шершавых губ с её, удивительно тёплой и какой-то искрящейся кожей показался мне почти кощунственным.
Ника лежала с открытыми глазами, как будто всматриваясь во что-то, видимое только ей одной.
— Мне нужно понять, зачем всё это, — опять заговорила она, как бы с самой собой. — Почему я должна уйти именно сейчас? В самый счастливый и высокий момент моей жизни. Есть ли в этом какой-то смысл? И, если есть, то какой? И почему никто из уже ушедших мне не может подать никакого знака? Я так надеялась на… — она не сказала на кого.
— Тебе… страшно? — Я не могла не задать ей этого вопроса. Для меня он всегда был самым важным в ожидании смерти.
Она прикрыла глаза. Чуть сжала мою руку своей.
— Я изо всех сил пытаюсь представить, как это — перестать существовать… здесь… и не могу. Хотя это уже так близко… так близко… Но я хочу перейти «туда» в сознании… хоть на короткой вспышке сознания…
Потом она забормотала что-то невнятное — «… принцип неопределённости… спроси у Арсения, он объяснит… если сейчас, то не здесь… А если здесь, то не сейчас…». Мне показалось, что она бредит. Но это было не так, она была в полном сознании, ей просто трудно было говорить, силы были на исходе. А речь шла о «принципе неопределённости» Гейзенберга.
Она опять помолчала, собираясь с силами.
— Я бы очень хотела увидеть Машу, — наконец сказала она. — Если ты не возражаешь… — Я кивнула. — …и если она успеет.
Я вышла из палаты. Арсений стоял один в маленьком предбанничке, прислонившись спиной к стене и не сводя глаз с двери, из которой я только что вышла.
Я взяла его за руку. Рука была безжизненной, вялой, пальцы ледяными.
— Она хочет видеть Машу, — сказала я. — Я пойду позвоню.
Он безразлично кивнул, отнял свою руку и, толкнув дверь плечом, вошёл в палату.
Маша примчалась через час. Ещё полчаса у меня ушло на то, чтобы её как-то подготовить. Она знала, что Ника больна, но никак не подозревала о серьёзности положения.
Потом она мне рассказала, что когда она вошла в палату, Арсений, сидя на кровати, держал Нику за руку, и они улыбались друг другу счастливо и спокойно. «Как перед алтарем, — сказала Маша, — как будто они только что сказали друг другу «да» перед Богом». Она остановилась на пороге, как вкопанная, не зная как себя вести. В сторону ребёнка ей почему-то было страшно даже смотреть.
— Поди сюда, Машенька, — позвала Ника.
Маша подошла и села на свободный стул.
— Видишь, Маша, — сказал Арсений, не выпуская Никиной руки, — мы с Никой уходим, — и… улыбнулся.
Машка наклонилась к Нике и стала покрывать ей поцелуями лицо, заливая его своими слезами. Ника погладила её свободной рукой по волосам.
— Не плачь, — сказал Арсений. — Здесь нельзя плакать. Ника расстроится. А ей нельзя. Мы должны уйти счастливыми.
Маша с испугом посмотрела на Арсения, ей в этот момент показалось, что он потерял рассудок.
— Не бойся, Маша, я не сошёл с ума, — сказал Арсик, легко прочтя её мысли. — Я сейчас выйду, чтобы вы могли попрощаться. Только ты не плачь. Обещаешь?
Маша мелко закивала головой, изо всех сил сдерживая слёзы, которые всё равно катились из глаз.
Арсений вышел.
Ника положила её голову себе на грудь и стала шептать ей на ухо, как бы боясь, что их могут услышать.
Маша наотрез отказалась мне потом рассказать, что ей сказала Ника.
— Это наша с ней тайна, — непреклонно сказала она. — Если бы она хотела, она сказала бы это тебе.
Когда мы вышли с ней на улицу, скупое зимнее солнце заваливалось за крыши домов, освещая последним рассеянным светом голые деревья, воробьёв, скачущих в поисках корма и старушек на лавочках. Жизнь продолжалась. Люди спешили по своим делам, делали покупки, сидели в кафе, ели, пили, болтали ни о чём (а может, о чём-нибудь важном) и понятия не имели о том, что Ника умирала. И рядом с ней умирал Арсений.
— Неужели Ника умрёт и в мире ничего не изменится?! — сказала моя дочь. — Это нечестно.
Счастливая, она могла ещё рассуждать такими категориями — честно-нечестно.
Я обняла её за плечи. Этим худеньким хрупким плечикам было не под силу выдержать груз этой первой серьёзной утраты.
— Конечно, изменится, — сказала я. — Миру придётся жить без Ники. И тебе. И мне.
И вдруг она, прямо посреди улицы, завыв каким-то нечеловеческим голосом, кинулась мне на шею. — Мамочка, пожалуйста, не умирай… — захлёбывалась она утробными рыданиями. — Обещай мне, что ты никогда не умрёшь… Ну, пожалуйста… обещай…
Ника умерла на следующий день, рано утром. Арсений, державший её руку вторые сутки без сна, на минуту прикрыл глаза и провалился в короткий, минутный сон. Он открыл глаза на её последнем, коротком, судорожном вздохе. И успел увидеть, как она закрыла глаза и чуть нахмурила лоб, как бы удивившись чему-то. Это выражение лёгкого удивления так и застыло на её прекрасном, даже после смерти, лице.
Прощание состоялось через три дня, в крематории. В очень узком кругу. Урну с прахом предполагалось захоронить в фамильном склепе Робина.
В самом конце краткой церемонии открылась дверь и вошла Ксения — вся в чёрном, на высоких каблуках, в облаке дорогих духов.
Она подошла к Арсению и попыталась взять его за руку, заглядывая при этом, почти по-собачьи, в глаза. Он отнял руку и, даже не повернув в её стороны головы, отошёл на два шага.
Я видела его в первый раз со дня смерти Ники. На протяжении всех этих трёх дней я пыталась представить, что с ним происходит. Он же где-то находился всё это время, дышал, существовал. Как он выносил эту боль? Эти, самые страшные, первые часы и дни? Мне казалось, что он должен чувствовать нечто подобное пассажиру стремительно падающего самолёта, понимающего, что он живёт последние мгновения своей жизни, что вот сейчас сию минуту произойдёт страшный взрыв, и его тело разорвёт в куски, и он перестанет существовать… вот сейчас… через мгновение… И это мгновение длится и длится.
Я пыталась дозвониться ему в эти дни, но оба его телефона были отключены.
И вот теперь он стоял, замурованный в непроницаемое одиночество, с глазами, затянутыми изнутри светонепроницаемыми стальными шторками, и никто не осмеливался подойти к нему с соболезнованиями.
Он вышел тут же после окончания церемонии, так же молча, как и вошёл.
На улице Ксения направилась было в нашу сторону, но моя дочь крепко взяла нас с мужем под руки и, развернув в противоположном направлении, решительно потащила прочь.
«Мёртвые всемогущи — им нечего бояться», — сказал проходящий мимо незнакомый человек.
ххх
Через две недели мне принесли, прямо в квартиру, заказное письмо на моё имя. На конверте, на крупной печати стоял адрес адвокатской фирмы. В письме содержалась официальная просьба прийти в назначенный день и час по указанному адресу. В конце отпечатанного текста рукой Арсения было приписано «Приди, пожалуйста! Это моя личная просьба. Извини, что в такой форме. А…»
В назначенный день я немного задержалась (как всегда не могла припарковаться). Секретарша проводила меня в большой, обитый деревом и уставленный тяжёлой английской мебелью, кабинет. Там все уже были в сборе. Кроме Арсения и Ксении, сидящих по разным концам огромного стола, там было ещё двое мужчин, представившиеся мне адвокатом и нотариусом.
— Ну, вот, теперь все в сборе. Можем начать, — официально-вежливым голосом низкого, красивого тембра произнёс адвокат. Он открыл папку, достал оттуда листки и тем же бестрепетным тоном стал зачитывать содержимое.
Суть дела заключалась в следующем:
Арсений, при жизни, «находясь в твёрдом уме и здравой памяти», завещал всё своё состояние своей дочери, которое она должна была получить в день своего совершеннолетия. Состояние же это было достаточно большим. Он продал свою, основную, часть компании своему младшему партнёру, деньги надёжно вложил, а акции распределил (здесь я услышала имя своей дочери, на имя которой он оставил некоторое количество акций, в качестве подарка к её совершеннолетию). Свою лондонскую квартиру, опять же до совершеннолетия дочери, он отдавал под офис одного из отделений организации «Врачи без границ».
Опекунство же над девочкой, ровно до этого дня, он поручал своей матери. При этом она имела право распоряжаться частью (очень значительной) этого капитала на своё усмотрение, при условии…
Дальше шёл целый список условий, достаточно кабальных, которые должна была принять Ксения, в случае своего согласия. Среди условий были, например, отказ от брака и «от официального сожительства с кем бы то ни было под одной, с ребёнком, крышей», а также отказ Ксении от длительных отлучек из дому (больше недели), независимо от того, связаны ли они с её профессиональной деятельностью, или нет. Отныне её жизнь должна была быть посвящена исключительно воспитанию девочки. Условия жизни и воспитания ребёнка будут строго контролироваться. Сделаны были мельчайшие распоряжения по всем мыслимым и немыслимым поводам, предусмотрены и оговорены все мелочи, вплоть до отказа Ксении от крепких алкогольных напитков и курения; изучения ребёнком двух иностранных языков с раннего возраста, запрещения его вывозить в Россию и практически постоянного (кроме ночных часов) присутствия в доме третьего лица, в качестве «связующего звена с теми, кому поручен контроль».
Когда адвокат закончил читать, в комнате повисло тяжёлое молчание. Слышно было только дыхание Ксении, бесконечно затягивающейся (может быть последней) сигаретой и тяжело выпускающей дым.
— Я на всё согласна, — сказала она наконец, нервно ввинтив окурок в пепельницу.
— Ну, вот и хорошо, — подытожил адвокат. — Теперь все присутствующие, включая свидетеля (то есть меня) должны подписать бумаги.
Что мы и
сделали.
Когда всё было закончено, все встали.
— Что… что ты собираешься теперь делать? — Ксения в умоляющем жесте протянула к сыну сцепленные руки, не решаясь сделать ни шагу в его сторону.
— Я ухожу, — сказал он спокойно.
— Куда?! — она подняла на него глаза, в которых было столько же боли, сколько и отчаяния.
— Совсем, — сказал Арсений. — И не пытайся меня искать — это будет бесполезно. Я изменю имя, фамилию и все остальные данные… так, чтобы тебе не отдали даже моего тела… если его найдут.
Потом я узнала, что он уговорил Робина отдать ему урну с прахом Ники, убедив того, что он единственный, кто знает, где Ника хотела, чтобы прах был рассеян. Робин сказал, что не мог ему отказать.
Я так полагаю, что ещё примерно с неделю он оставался в городе. Так как в конце следующей недели я вынула из своего почтового ящика ещё один конверт. На этот раз конверт был без адреса, на нём просто было написано «Для Шоши». Это могло значить только одно — кто-то положил его в ящик сам, своими руками, без помощи почты. В толстом конверте была маленькая плоская коробочка и записка. «Шошка, — было написано на тонком листочке бумаги, — это тебе от Ники. Извини, что забыл отдать сразу. Спасибо тебе за всё. А…» Я открыла коробку. Там, в чёрных бархатных выемках, покоились серьги с зелёными камнями в форме слезинок. Те самые, в которых была Ника, когда они встретились в самолёте и потом, в тот самый, памятный вечер, в ресторане.
По крайней мере, у него хватило вкуса не написать этого страшного слова «прощай», подумала я.
И всё. Потом он исчез. И мир остался существовать дальше. Без Ники и Арсения.
Мир, но не я. Я решила сохранить в себе надежду. Вопреки всему. Вернее, во имя всего.
ххх
Девочку Ксения назвала Никой.
Париж. 2006
ГЛОТАЮЩИЙ БРИТВЫ
«Разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной».
В. В. Набоков
Русский язык коварен. Одна буква может изменить не просто смысл, но смысл жизни. Например, в фамилии. Например, Пупкин. Измените одну согласную и в символе посредственности найдёте гения.
Ну возможно ли объяснить это своему мужу-иностранцу (на самом деле, иностранка это я, он-то живёт в своей родной стране), хоть и изучающему русский язык и человеку вполне лингвистически одарённому. Если ещё Пушкин для него что-то значит, то объяснить ему собирательный образ Пупкина, его фонетический и семантический ряд, практически невозможно.
— Мой отец вышел замуж на мою маму, когда ему было уже сорок лет, — заявил он мне недавно.
— Надеюсь, он всё ещё был девушкой, — не удержалась я.
Он насторожился, ожидая как всегда подвоха, рассмеялся на всякий случай и пошёл рыться в словарях.
Так вот, Пупкин был моей лучшей подружкой в этой, в общем, чужой мне стране (я вообще предпочитаю в качестве подружек — мужчин), и исполнял он эту функцию со всей ответственностью. То есть, когда мне нужно было поделиться всякими глупостями, неинтересными моему французскому мужу или просто поболтать на родном наречии — он был незаменим. Я, в свою очередь, выслушивала его холостяцкие похождения.
Так вот! Его фамилия была его Голгофа. Надо сказать, что и имечко у него было непростое — Лазарь. Ни больше, ни меньше. При этом похож он был на ирландца — рыжий, с голубыми глазами, богатырского роста и волевым подбородком. Природа горазда на такие шуточки, дай ей только повод.
Как же намучился он, бедняга, с этой фамилией на своей любимой родине.
— Ну вообрази себе, какая девушка захочет всерьёз построить со мной отношения? Это значит, в один прекрасный день ей придётся стать Пупкиной. Да и как я могу обречь на это любимую девушку, не сволочь же я какая-нибудь, — говорил он. — А, потом, попробуй влюбись в будущую Пупкину — это каким нужно быть извращенцем.
Я подозреваю, что это вообще было основной причиной его эмиграции. Действительно, натерпелся человек. А попробуйте устроиться на работу с такими метрическими данными. В одной организации ему так просто и сказали — нам пупкины не нужны… да ещё лазари! При этом он утверждал, что прекрасно их понимает, — ну как ещё можно реагировать на такое неприличное сочетание? Здесь, на Западе, это сочетание звучало вполне невинно и никаких ассоциаций не вызывало. Но он всё равно страдал: — Я-то знаю, что я Пупкин, — говорил он.
Я успокаивала его как могла. Привела в пример одного своего знакомого, который очень гордился своей фамилией — Кибенин, произнося её с ударением на последнем слоге. Уверял, что их дворянский род имеет прямое отношение к французской аристократии. Я предложила ему ещё более благородное звучание, сделав из неё двойную, через чёрточку — Кибенин-Материн. Лазарь хохотал, но не утешался.
— Конечно, — говорил он, — я бы мог жениться и взять фамилию жены. Но это было бы подло по отношению к моему отцу. Он бы мне этого не простил.
— Так он же умер! — прагматически удивлялась я.
— Ну и что! Он проклял бы меня оттуда!
— А дать тебе такое имечко в придачу к фамилии, да ещё в Советском Союзе! Лазарь Пупкин! Это же готовый цирковой номер! — негодовала я.
— Ну… он хотел как лучше — именем искупить фамилию.
— Да… да… это нам известно — дорога в ад выложена благими намерениями.
— Это абсолютно мой случай, — соглашался он.
Лазик был блестящим математиком, но при этом полным ослом в быту и личной жизни. Работа у него была замечательная, по специальности, высоко оплачиваемая; во Франции он вполне адаптировался, язык выучил. Но каждодневное существование давалось ему с трудом. Всё валилось у него из рук, в прямом и переносном смысле. Ходил он, как правило, в разных носках, так как сложить их в клубок после стирки было для него невыполнимой задачей. Когда я посоветовала ему покупать носки одной марки и только двух тонов — светлые и тёмные, он удивился простоте решения вопроса и был страшно уязвлён, что он, со своими математическими способностями, сам не пришёл к этому логическому выводу.
— Ты силён в абстрактной математике, а я в её конкретном приложении. Не отчаивайся, это поправимо. В доме нужна женская рука, — в который раз завела я свою песню.
— Знаю, знаю… — отмахивался он, — но если бы это была только рука …а то ведь к ней обязательно будет приделана хозяйка. И, потом, англичане говорят, зачем покупать корову, когда молоко дешево.
Если бы он только знал, бедолага, как судьба-насмешница зацепится за эти его слова.
Так он и наслаждался своей свободой, как птичка певчая, почти до сорока лет. И, наконец, ЭТО случилось — он влюбился. Амур долго ждал этой минуты — у него было время заточить стрелу и опустить её в смертоносный яд.
Я поняла это по тому, как он изменился. Встречаться мы практически перестали и даже разговор по телефону стал проблемой — он всё время боялся, что она ему позвонит, а у него будет занято… и она больше не перезвонит.
— Ну ты перезвонишь, — говорила я.
— Мне неудобно.
— Это почему же?
— Ну… так… — мялся он.
На все мои расспросы он отвечал невнятно, чем раззадоривал моё любопытство ещё больше.
— Будь осторожен, — предупреждала я, — тебя ничего не стоит облапошить. Ты неопытен в отношениях, как девственница.
Он только неопределённо хмыкал в ответ.
— Надеюсь, она не русская киска, искательница приключений и иностранных паспортов?
— Не говори пошлостей! Как тебе не стыдно! А ещё писатель, — добавлял он, — драматолог! Вспомни, когда ты сама была в таком же положении, под подозрением всего окружения твоего будущего мужа.
Так я поняла, что мои подозрения имеют под собой основания. Но я ещё не знала, до какой степени.
— Сравнил! — возмущалась я. — У нас была Великая Любовь.
— Ну, конечно! Великая любовь может быть только у тебя. Куда уж мне! Я же Пупкин!
Это был запрещённый приём. Мне действительно стало стыдно. И зря! Просто моё бедное воображение пробуксовало перед откровенной карнавальностью действительности.
— Почему же ты тогда никому её не показываешь? — приставала я.
— Ещё не время, — туманно отвечал он.
Так прошло месяца три. Наконец настал день, когда Лазька позвонил и торжественным голосом объявил, что хочет нас познакомить.
— Какое счастье! — ответила я. — И когда произойдёт допуск к телу?
— Не ёрничай, — сказал он, — и учти, я влюблён, как цуцик.
Решили встретиться на нейтральной территории. Он пригласил нас в ресторан. Действительность превзошла самые худшие ожидания. Это действительно было «тело». Дебелая, крупная, с огромной грудью, на неимоверных каблуках, с умопомрачительным декольте до самого пупа, в которое невозможно было не заглянуть даже ангелу, она сияла своей курносой мордашкой с наивно-наглыми глазами как настоящая порно-звезда, всходящая по фестивальной лестнице. Я сразу, для себя назвала её «дояркой» (корова… молоко…). В ресторане не было мужчины, который не оглянулся бы ей вслед, не облизнувшись. Она призывала к этому всем своим видом, кокетничая со всеми сразу и с каждым в отдельности, включая официанта и моего мужа. Говорила она громко, смеялась в самых неподходящих местах, но вдруг, как бы вспомнив о данных самой себе установках, затихала и начинала жеманничать, что в её представлении, видимо, ассоциировалось со светскостью. Официанту она нежно-таинственно заглядывала в глаза и трогала за руку при любой возможности. Тот, заглядевшись в глубины её декольте, дважды проливал вино на скатерть. Потом она принялась теребить галстук на шее у моего мужа, объясняя тягуче-напевным голосом всем желающим услышать, что она «о… очень… о… очень любит мужские галстуки…». Мой муж испуганно косился в мою сторону, не понимая, что в такой ситуации нужно делать. Тут уж я не выдержала:
— Ну и как же вы их любите? — едко спросила я, — галстуки?..
— Ну, как… — хихикнула она, — просто обожаю… смотреть… трогать… и вообще… — сказала она таким тоном, что эрекция наступила даже у меня.
Лазька при этом заржал глумливым смехом. Я вообще его не узнавала — куда девался его вкус, вся его ирония?.. Он, действительно, как «цуцик», заглядывал ей в рот и норовил прикоснуться каждую секунду. Она обращалась с ним вполне снисходительно, называя почему-то «мой бедный рыцарь», а мне при этом почему-то явно слышалось «мой драный котик». Ела она с большим аппетитом, пила тоже, причём исключительно шампанское и исключительно «Вдова Клико», что тоже, видимо, у неё ассоциировалось с чем-то аристократическим. Ресторан был дорогой, а это была уже третья бутылка, и я представляла, в какую копеечку это влетит Лазику. Но он был как под гипнозом, счастлив, как щенок. Я даже была не уверена, слышит ли он что-нибудь вообще — похоже, он следил только за модуляциями её голоса. А модуляции у неё были… Как однажды сказанул мой французский муж про одного оперного певца, что тот пост… «с этими… как это… с выделениями». В её случае я бы ещё добавила — с откровенными. Вообще, глядя на неё, мне почему-то пришло в голову, что из её гениталий можно было бы соорудить добротное велосипедное седло.
Звали её Нонной, что, в переводе с французского, означает монахиня.
На следующий день он позвонил мне с работы, объявить воодушевлённым голосом, что Нонна переехала к нему. Ответом ему было моё гробовое молчание.
— Я понял, она тебе не понравилась, — догадался он, — но это ничего, ты к ней привыкнешь.
— Не думаю, — сказала я, — у меня не будет на это времени.
— В каком смысле? — насторожился он.
— Она бросит тебя ради первого же встречного арабского шейха. И это произойдёт очень быстро. (Пифия. Весталка.)
— Почему шейха? — растерянно спросил он.
— Потому, что у неё на лбу написано — ищу арабского шейха и, через запятую, на любых условиях. И ещё потому, что она абсолютно в их вкусе.
Он помолчал.
— А ты… ты думаешь, что я не смогу ей дать того, что сможет ей дать арабский шейх? — как-то безнадёжно спросил он.
И только тогда я поняла степень его зависимости от неё. Он был готов на всё. Только бы удержать.
— Ты для этого недостаточно богат, — жёстко сказала я. — И слишком тонко организован.
— Ты прямолинейна, как падающий топор, — сказал он и повесил трубку.
Он не звонил долго. Я тоже. Я почему-то восприняла эту историю почти как личное оскорбление. «Ну и чёрт с тобой, — думала я. — Так вам, мужикам, и надо». А тут ещё мой муж, думая меня утешить, влез со своими комментариями:
— Твой друг думает не большой головой, а маленькой головкой. Это есть свойство страсти.
В один прекрасный день раздался звонок в дверь. На пороге стоял Лазька, в состоянии невменяемом, с бешеными глазами, жалкой улыбкой и торчащими во все стороны рыжими вихрами. Он вошёл в комнату и рухнул на диван. В этот раз он был вообще без носков. А на улице стояла зима. Я приблизилась, нюхнула воздух — спиртным от него не пахло.
— Она исчезла, — наконец выдавил он. При этом выражение его лица стало похоже на фотографию Атлантиды на дне моря.
— То есть как, исчезла? — глупо спросила я, уже понимая в чём дело.
— А вот так! Исчезла! — он стал хватать руками воздух. — Я её везде ищу, а её нигде нет. — И зашёлся в каком-то истерическом смехе.
Он был совершенно неадекватен. Мой муж налил ему хорошую дозу виски.
— Выпей, — сказал он, — это помогает.
— Я не пью, — сказал Лазька, — я теперь нюхаю.
Мы не поняли.
Он достал из кармана трубочку, пластиковый пакетик и высыпал из него на стол тонкую струйку белого порошка. Потом он нагнулся и, зажав сначала одну ноздрю, потом другую, лихо втянул его, при помощи трубочки, в нос.
Мы остолбенели.
— Она усадила его на кокаин, — сказал муж.
— Подсадила, — автоматически поправила я.
— Его надо спасать, — сказал он, — потом будет поздно.
— Уже поздно, — отозвался Лазька, — я не могу без неё жить.
— Ты идиот, — взвыла я, — посмотри на себя со стороны! Какой пошлый сюжет! У неё даже имя пошлое — Нонна! Это какой-то путанский псевдоним, а не имя, — бушевала я.
— Ну ладно… — сказал Лазька обречённо, — если мы сейчас начнём про имена….
Я заткнулась. Я как-то совсем забыла про его больное место.
А он заплакал. Я никогда не видела его плачущим. Я вообще не выношу плачущих людей. Мне почему-то становится стыдно. Но тут мне стыдно не стало, а стало его так жалко, что я сама чуть не заплакала.
— Ну всё, — сказала я, — я вас тут оставляю, двух придурков (мужу досталось заодно), а сама пошла спать.
Спать я, конечно, не могла, а муж провозился с ним до самого утра.
— Ему совсем плохо, — сказал он, забравшись на рассвете в постель, — но я его угномил (имелось в виду — угомонил).
— Ты мой смысловой дислексик, — сказала я и, устроившись как всегда у него под мышкой, провалилась наконец в сон.
Лазька проспал двенадцать часов кряду, не знаю уж сколько он не спал до этого, благо был выходной. Когда он наконец вынырнул из своего небытия, я сварила ему крепчайший кофе и потребовала отчёта.
Выяснилось, что кокаин он попробовал вчера впервые. Она-то им, похоже, баловалась регулярно. А он рылся в её вещах, пытаясь найти хоть какой-то след, и наткнулся на порошок. Теперь у него дико болело плечо. Муж сказал, что это «отходяк», имея в виду «отходняк». Мы дали ему болеутоляющего и потребовали рассказа «обо всём».
— А нечего рассказывать, — вяло отозвался он, — взяла и исчезла. Я же днём на работе, прихожу вечером, а её след простыл.
— Этому что-нибудь предшествовало? — вопрошала я.
Он пожал плечами.
— Не знаю… Вроде нет… Вечера она обычно проводила со мной. Мы часто выходили. Она любила бывать в «шикарных местах». А что она делала днём, я не знаю… Я же на работе, — глупо повторил он.
— Из дома что-нибудь пропало?
— Ну что ты! — возмутился он. — Она не воровка! А потом, у меня и нет ничего особенного. Деньги я все на неё трачу.
— Понятно! — сказала я. — А где ты её вообще взял? Что-то я в твоём окружении таких не припоминаю.
— Ну… это не важно… — неопределённо протянул он.
— Очень важно, — настаивала я, — так, по крайней мере, можно предположить, где её искать, если ты, конечно, собираешься её искать.
Искать он не собирался.
— Это бесполезно, — сказал он, обречённо. Он собирался ждать. — Я думаю, она вернётся, — сказал он.
— Это почему же ты так думаешь?
— Она оставила свой паспорт.
— Может, забыла в впопыхах?
— Может, — согласился он, — но без него же никуда….
— А паспорт-то у неё какой? — поинтересовалась я.
— Российский, с просроченной визой.
— Я так и знала, — сказала я. — И нашёл ты её, наверняка, на улице, — предположила я самое худшее. (Святая наивность)
— Нет, не на улице, — тихо сказал он, — и через месяц мы должны пожениться… если она вернётся.
Это была его последняя надежда. Что им воспользуются, хотя бы в этом качестве.
Я пыталась что-то вякнуть насчёт «коровы» и «молока», но он сказал с усмешкой:
— То аглицкая поговорка, а то русская натура… — дура!
— Я дура?!
— Натура-дура.
— На свадьбу можешь не приглашать, — сказала я.
— А я и не приглашаю.
Я поняла безнадёжность какого-либо вмешательства.
Напившись кофе и поклявшись нам с мужем не притрагиваться больше к кокаину, он заторопился домой. В ответ на наше предложение провести с нами week-end, вместо того, чтобы страдать в одиночестве, он посмотрел на нас как на бестолковых детей и сказал с возмущением:
— А если она вернётся! А меня нет дома?!
Как будто, она должна была вернуться, по крайней мере, с передовой.
Он звонил нам каждый вечер в течение недели, сообщая последние сводки, которые, впрочем, звучали вполне однообразно. В тот вечер, когда он не позвонил, я поняла, что она вернулась.
Потом он всё-таки объявился, чтобы поделиться своим счастьем.
— Ну и где же она была всё это время? — спросила я не без ехидства.
— Ухаживала за больной подругой! — объяснил он мне, как объясняют дебильным детям.
— Ну да! Как же я забыла, тут как раз по телеку показывали, как Мать Тереза передавала ей свои полномочия перед смертью.
— Ты просто ревнуешь, — сказал он.
— Конечно, ревную, — подтвердила я. — И не хочу терять свою любимую подругу.
— А я и не собираюсь теряться, мы теперь будем дружить семьями, — с пионерским энтузиазмом заверил он.
— Пошёл ты… — сказала я и повесила трубку.
Он перезвонил на следующий день.
— Зато я знаю теперь, что такое любовь! — сказал он вместо «здрасьте», не подозревая, как это звучит в устах сорокалетнего отморозка.
— Поделись, — попросила я.
— Это божественное шествие бессмертного среди смертных! — сказал он, на полном серьёзе.
— Я могу поставить тебе диагноз, — сказала я.
— Я слушаю.
— Фиксация на травме отнятия от груди.
— Ладно, — сказал он примирительно, — ваше, драматологов, дело комментировать чувства, а не проживать их. Но я всё-таки приглашаю тебя на свадьбу! Будешь моим свидетелем.
— ……?
— Ну, пожалуйста! — заныл он. — Ну можешь ты сделать это для меня! Ну ради нашей дружбы! Это будет самый важный день в моей жизни! А она обязательно хочет свадьбу. В церкви. А потом в «Максиме».
— Ты что!? Рехнулся?! — заорала я. — В какой церкви!? Ты же еврей!
— Ну и что, — сказал он просто. — Христос тоже был из евреев.
— И ты знаешь, чем это кончилось?!
В конце концов, я согласилась. Свадьба была назначена через три недели.
Через неделю у меня была назначена встреча с директором маленькой театральной компании, которая заинтересовалась моей пьесой. Назначена она была в баре отеля «Плаза Атенэ», на авеню Монтень, место, как говорят русские в Париже, очень «бранше», то есть модное именно в данный момент и ходить нужно только туда. Директор оказался человеком маленького росточка, с большой лысой головой и выдающимся носом. Он был каких-то болгарских или югославских корней и звали его Мика Членов. Ассоциации это вызывало самые прямые, даже у людей с бедным воображением. Я ещё подумала, не забыть бы рассказать об этом Лазьке. И тут же вспомнила, что ему сейчас не до шуток.
И в эту секунду я увидела — кого бы вы думали? — ну конечно же Нонну! И с кем бы вы думали? Разумеется с арабским шейхом! Это было как в плохом голливудском кино. Карикатура на карикатуру, по виду и по содержанию. Вид их полностью этому соответствовал. Она — в чём-то блестящем, как всегда с головокружительным декольте и на невообразимых шпильках (и это в 5 часов пополудни, время послеобеденного чая). А он весь в белом и в чалме. Они вплыли в зал и все головы повернулись в их сторону. Она держала его под руку, нежно склонив белокурую головку к его плечу. Как назло, они направились именно в нашу сторону. И тут же она увидела меня. Думаю, в этот момент на моём лице было выражено гораздо больше смущения, чем на её. Она что-то нежно прощебетала на ухо своему спутнику, указав ему на свободный столик, оставила его руку и направилась своей плавной походкой прямиком к нам.
— Привет, — нимало не смутившись, непринуждённо-светски сказала она, — как поживаешь, — и поцеловала меня дважды, по французскому обычаю целовать малознакомых людей.
Пришлось их представить.
— Нонна, — как-то глупо сказала я.
Мика встал и поцеловал ей руку. При этом его внушительных размеров нос оказался точно на уровне её декольте, застыв там, точно корабль, застрявший в льдинах. Я испугалась, что он может потерять сознание.
— А это Мика Членов, — сказала я, почему-то игриво, видимо, от смущения.
Повисла пауза… И тут она расхохоталась. Но как! За этот хохот ей можно было простить многое. Она заливалась на все лады, захлебываясь от восторга, как дитя, которое щекочут, хлопала себя по бёдрам от переизбытка чувств и даже погладила его по лысине, как бы в утешение.
— Я… это… а… а… ха… ха… ха…а… ха, — заходилась она, — это… псс… — пыталась выговорить она что-то сквозь слёзы, — …это… ссп… это псевдоним?… — наконец умудрилась произнести она.
— Вы мне льстите, мадам, — невозмутимо ответил Мика.
Вернувшись домой, я в лицах изобразила всю сцену мужу и спросила, что делать? Говорить Лазьке? Или нет?
— Это ничего не изменяет, — сказал он. — Лучше не говорить. — И добавил: — Он может умереть.
— А ты откуда знаешь? — недоверчиво спросила я.
— Я бы умер, — сказал он, — если бы тебя умканул арабский шейх (он обожал выкапывать такие словечки и использовать их где надо и не надо, безбожно коверкая).
— Но я не могу быть свидетелем на такой свадьбе! — причитала я. — Это профанация!
— И это ничего не изменяет, — ответил мой мудрый муж, — он возьмёт другого свидетеля.
Но свадьба не состоялась. За два дня до неё позвонил Лазька и сказал, что свадьба отменяется, так как невесту украли. Голос при этом у него был на удивление спокоен.
— То есть как украли? — уже понимая, что произошло, спросила я.
— А так. Приехал арабский шейх на здоровенном лимузине, прислал двух «боев», те быстро собрали вещи и она с ними — была такова. На этот раз, с паспортом. Значит, не вернётся, — констатировал он.
Я молчала на другом конце трубки. Ну что я могла сказать?
— Ну что молчишь? — спросил он. — Это же всё в точности по твоему сценарию, тютелька в тютельку. Прорицательница ты наша…
— Для этого не надо быть прорицательницей, — грустно сказала я, — но мне на неё плевать, ты-то как?
— Я ничего, — сказал он спокойным голосом, от которого стыла кровь в жилах, — хуже уже не будет. И на том спасибо, — и повесил трубку.
Теперь начнёт выздоравливать, решила я, чтобы себя успокоить. Но было как-то не по себе. Этот голос. Эта тупая безнадёжность в нём. Я подумала, не поехать ли к нему… так… на всякий случай. Но был уже час ночи и я не поехала.
Я начала ему звонить с семи утра, зная, что на работу он выходит примерно в восемь тридцать. Никто не отвечал. И эти длинные гудки в трубке звучали для меня как сирена «скорой помощи». И я сорвалась.
Я долго звонила в дверь, потом стучала кулаками, потом ногами. На шум открылась дверь напротив и показалась старушка, такой божий французский одуванчик, из тех, кто заранее покупают себе место на кладбище, ставят памятник, выгравировав на нём только дату рождения, высаживают цветочки и, нарядившись, ходят потом к себе на могилу (знала я одну такую).
— Месье увезли в госпиталь, — сказала она мне.
— В какой госпиталь?! Когда!? Он жив?! — заорала я.
— Был жив, когда увозили, но без сознания.
И рассказала мне, как он позвонил к ней в дверь среди ночи, и когда она, надев халат (и накрасив, на всякий случай, губы, подумала я), открыла, то нашла его «вот здесь», она показала место у своей двери, скорчившегося от боли и уже без сознания. Она и вызвала «скорую».
Я поехала в указанный госпиталь. К нему меня не пустили, сказав, что он в реанимации. Но зато, назвавшись сестрой, мне удалось поговорить с врачом. Он пригласил меня в кабинет и, заверив, что опасности для жизни больше нет, стал задавать странные вопросы. Из них я поняла, что он очень сомневается в Лазькиной вменяемости. И он подтвердил это, сказав, что ему вызвали психиатра.
Наконец, мне удалось из него выудить, что Лазик, видимо, пытался покончить с собой, но сделал это очень странным способом.
— Он проглотил бритву, — сказал врач.
— Бритву?! — не поверила я, представив себе почему-то, как он пытается заглотить безопасную бритву, такую, складную, с длинным лезвием, которой брился когда-то мой папа.
Тогда врач вынул из стола коробочку, открыл её и показал мне лежащую там обыкновенную бритву, обоюдоострую, посверкивающую, как ни в чём не бывало своими зазубренными боками.
— Вот это мы из него вынули, — сказал он, — ещё немного, и было бы поздно. У него было сильное внутреннее кровотечение.
Меня пустили к нему только через два дня. Он лежал серый, обросший, отрешённый, под капельницей и весь опутанный какими-то трубочками, скрестив свои тонкие руки поверх одеяла. Опять, как в голливудском кино, подумала я.
Под окнами его палаты почему-то жутко вопили коты — у них, видимо, были свои любовные разборки.
Поставив цветы в вазочку, я осторожно присела рядом с ним и взяла его за бледную руку.
— Ну, какие новости со смертного одра? — натужно-весело спросила я.
Он улыбнулся уголками губ и ничего не ответил.
— Зачем ты это сделал, — спросила я и заплакала.
— Я не хотел себя убивать, — сказал он извиняющимся тоном, — я хотел только заглушить боль, ту, другую. Ничего лучшего под рукой не нашлось.
— В следующий раз глотай пилу, для большей надёжности, — сказала я, сморкаясь и вытирая слёзы.
Мы помолчали. Я гладила его руку. Он прикрыл глаза.
— Ну и как сейчас? — спросила я. — Легче? Прошла боль?
— Пока не знаю, — сказал он, — мне морфин дают. — И уснул.
В ту ночь ко мне пришла первая строка моего будущего романа — «Всю ночь дико орали коты. А ему казалось, что это разрывается его душа».
Мы с мужем приходили к нему, по очереди, каждый день. Через неделю его сняли с морфина, и он стал более адекватен.
— Ну, вот, слава богу, — сказала я. — А то мир мог бы лишиться выдающегося математика, а я…
— Бухгалтера, — перебил он меня.
— Что, бухгалтера? — не поняла я.
— Она называла меня бухгалтером. Для неё это было одно и тоже. Математик, это тот, кто считает, а считать имеет смысл только деньги, а значит — бухгалтер, — объяснил он.
— Да, — сказала я, — хоть она и сбежала из-под венца, но на Настасью Филипповну никак не тянет.
— Ты хочешь сказать, что зато уж я-то точно настоящий идиот.
— Вот именно, — вздохнула я. — Так где ж ты её всё-таки взял?
— Я выкупил её из борделя, — просто ответил он.
— Что?!
— Из дорогого борделя. Частного, — уточнил он, как будто бордели бывают еще и государственные. — Заплатил большие деньги, чтобы ей отдали паспорт и не имели претензий.
— Я надеюсь, ты рассказываешь мне избитый сюжет из какого-нибудь авантюрного романа позапрошлого века! Сегодня такого не бывает.
— Бывает. Видишь, со мной же случилось.
— Но сам-то ты как туда попал? В дорогой бордель? — задала я идиотский вопрос холостому мужчине.
— Это неважно… Случайно… С одним «новым русским». Первый раз в жизни, — сказал он виноватым голосом. — Я вообще-то по борделям не хожу.
— Ну, что ж… Очень правильное место для выбора жены.
— Да уж, — согласился он.
— Ну, и сколько же ты заплатил?
— Много. Почти всё, что у меня было.
У меня немедленно возникло подозрение, что его и тут облапошили. Что это был сговор, и не без участия её самой. Ну, совершенно невозможно было представить, чтобы такую деваху можно было где-то удерживать насильно. А Лазька — идеальный клиент для таких подстав. Но своими соображениями я с ним делиться не стала — пожалела.
— Зато теперь, — сказала я, — ты полностью оправдал своё имя. Твой мудрый папа оказался настоящим провидцем, нарекая тебя Лазарем. Тебя ведь вернули с того света.
— А теперь мне придётся его поменять — по еврейскому обычаю, когда человек избежал смертельной опасности или болезни, ему дают новое имя, а значит, и новую судьбу.
— Да, уж, — сказала я, — скажи спасибо, что хорошо отделался. Твой ангел-хранитель в последний момент отвёл длань судьбы.
Он помолчал.
— Я бы не задумываясь променял своего ангела-хранителя — на неё, — сказал он, наконец.
Выйдя из госпиталя, он провёл ещё какое-то время на реабилитации, в специальном заведении, где-то в лесах Фонтенбло. Туда мы к нему не ездили. Там им занимались специалисты.
Наконец, он вернулся, позвонил сообщить, что со здоровьем всё в порядке, чтобы мы не беспокоились, и опять исчез на месяц.
В один прекрасный день, доставая почту, я нашла там пакет на своё имя. В пакете оказалась тетрадь. А в тетради — стихи. Их было много. Целый цикл. На целую книгу. И записку — «Если ты найдёшь, что это безнадёжно, я тебе поверю».
Я начала их читать и прочитала всю ночь, обливаясь слезами восторга. Это были стихи большого поэта, божественные строки, написанные человеческой рукой. Все, до единого, они были посвящены «ей» — чистой деве, Беатриче. Тот факт, что Беатриче была шлюхой, не интересовал никого. Так… техническая деталь.
Я позвонила ему сразу и потребовала приехать.
Лазька явился незамедлительно. Вид у него был свежий, взгляд вполне уверенный. Похоже было, что он излечился от своей страшной болезни, под названием «Любовь», выплеснув её на бумагу.
— Конечно же ты не поверишь, если я скажу, что это плохо, кокетка несчастная! И правильно сделаешь. Стихи замечательные! Откуда они у тебя? Ты же никогда раньше не писал.
— Никогда, — подтвердил он. — И это не я. Я их не писал, я только записывал.
— Да, — сказала я ревниво, — это называется — открылись шлюзы. Или третий глаз. Я тебе завидую. Был бухгалтером, а превратился в великого поэта. А тут корпишь, корпишь над белым листом… Может, тебе перекачали кровь какого нибудь гения? — предположила я не без злорадства.
— Ну, ладно тебе, — хохотнул он и зарделся от смущения. А может быть от гордости.
— Теперь тебе надо придумать псевдоним, — сказала я и немедленно вспомнила сцену в баре, с Микой Членовым. Но, на всякий случай, рассказывать пока не стала.
— Это еще зачем? — насторожился он.
— Ты должен это напечатать. Теперь это принадлежит человечеству.
— Я как-то об этом не думал, — погрустнел он.
— A тут и думать нечего. Я найду тебе агента. Теперь, как говорят арабы, твоя судьба намотана вокруг твоей шеи.
— Но не могу же я печататься под своим именем!
— А я про что? Псевдоним! Тем более, ты сам говорил, что по обычаю, должен теперь поменять имя.
— Ну и что же ты предлагаешь? — спросил он с опаской.
И тут встрял мой дурацкий муж, присутствующий при разговоре:
— Пушкин, — сказал он, гордый своими познаниями, — Александр Сергеевич! Один буква поменял и всё в порядке.
— У… ууу…у — завыл Лазька и, схватившись за свои рыжие вихры, козлом заскакал по комнате. — Я так и знал!.. Этого было не избежать…
Я вытолкала обалдевшего от такой буйной реакции мужа из комнаты и закрыла за ним дверь.
— Пушкин — Пупкин, какая пошлость, — вопил он. — И это первое, что всем приходит в голову. Мне, с моей фамилией, должно быть запрещено законом писать стихи.
— Успокойся, — сказала я. — Не обращай внимания. Это ж иностранец… Чукча! Семантик несчастный, — добавила я в сердцах. — Мы тебе такой псевдоним придумаем, что ни одна сволочь не докопается до твоего настоящего имени.
— Думаешь это возможно? — спросил он со слабой надеждой в голосе.
— Ещё как, возможно! Ну… например… — задумалась я, — например… Например — «Глотающий Бритвы»! — заявила я торжественно. — А?! По-моему здорово! И, главное, отражает твою суть.
— Да?.. — сказал он неуверенно. — А по-моему это похоже на какой-нибудь Ястребиный Глаз или Острый Коготь. Я же не из индейского племени.
— А мы это переведём на какой-нибудь восточный язык. Наверняка будет красиво, — заверила я его.
С тех пор его стихи переведены на множество языков. Он стал культовой фигурой в мире поэзии. Ходят слухи, что его последнюю книгу даже пророчат на Нобелевку.
Но знают его в мире под именем Балла Эль Мусс, что в переводе с арабского значит Глотающий Бритвы.
Неисповедимы пути творчества.
Париж. 2004

Когда-то она учила его искусству танца. И он был в нее влюблен, как может быть влюблен мальчик в свою учительницу. Потом их пути разошлись. Разве кто-то мог подумать, что детская любовь может стать единственной и на всю жизнь?
Но Судьбе было угодно, чтобы они встретились вновь, в городе всех влюбленных — Париже, бывшая балерина и юный финансовый гений — встретились, чтобы больше не разлучаться.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
очень модный (
фр.)
(обратно)
2
Les guignols (
фр.)
(обратно)
3
фальшивка (
фр.)
(обратно)
4
И. Померанцев
(обратно)
5
козий и овечий сыры (
фр.)
(обратно)
6
в мире должно быть понемножку всего, для того, чтобы он был полноценным (
фр.)
(обратно)
7
предзакуски (
фр.)
(обратно)
8
политически некорректно (
фр.)
(обратно)
Оглавление
КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ
1
2
3
КСЕНИЯ
1
2
3
АРСЕНИЙ
1
2
3
ВСТРЕЧА
1
2
3
ЛЮБОВЬ. НЕНАВИСТЬ
1
2
3
РОЖДЕНИЕ. УХОД
1
2
3
4
ГЛОТАЮЩИЙ БРИТВЫ
*** Примечания ***