
Дмитрий Мамин-Сибиряк
ЖИВАЯ ВОДА
Рассказы
Дозволено цензурою. Москва, 20 января 1905 г.
ЖИВАЯ ВОДА
Рассказ
I

а Солонец мы приехали ночью, когда весь курорт спал крепким сном. Приходилось двигаться тихо и говорить шепотом, чтобы не потревожить чуткого сна больных. Только один сторож спал так крепко, что мы его едва растолкали. Сначала он, видимо, принял нас за разбойников, но, увидав наш сибирский тарантас, заложенный тройкой, успокоился и, зевая, спросил:
— Да вам-то чего здесь понадобилось ночью?..
— А мы изюмом торгуем — вот и приехали, — пошутил мой спутник Иван Васильевич, очень добродушный и неизменно веселый человек. — Номера свободные есть?
— Номера? А я почем знаю? Приезжали бы днем, а то нашли время… Все спят. И Всеволод Александрыч тоже спит…
— Это доктор?
— Конешно, дохтор…
— Так как же, по-твоему, нам на улице ночевать?
— А это уж ваше дело… Известно, ночное дело, все спят…
— Ну, и мы тоже хотим спать… Впрочем, что я с тобой попусту бобы развожу.
Иван Васильевич отличался энергией и сейчас же скрылся в темноте. Слышны были только удалявшиеся его шаги. Он направился прямо к зданию курзала, которое чуть обрисовывалось во мгле июльской безлунной ночи.
— И жисть только… — ворчал сторож, почесывая спину локтями. — Умереть спокойно не дадут… Да вон бессонный дьякон идет, он знает.
— Какой бессонный дьякон?
— А такой… Второй месяц не спит. Как ночь, он и бродит по парку, как неприкаянная душа. Тоже, навяжется человек…
Из темноты по дорожке слышались приближавшиеся шаги, и скоро показалась высокая, тощая фигура.
— В самом курзале вчера освободились два номера… — вежливо предупредил из темноты голос бессонного дьякона. — Две дамы с мигренью уехали… Здравствуйте.
Мы поздоровались. Я закурил папироску и при колебавшемся освещении горевшей спички успел рассмотреть, что суровый сторож был, несмотря на теплую летнюю ночь, одет в тяжелый овчинный тулуп, а о. дьякон бродил по парку в одном подряснике.
У него было бледное, измученное лицо с лихорадочно блестевшими темными глазами.
— В самый раз, — продолжал ворчать старик. — Барин-то пошел в номера, а разбудит Карлу Карлыча, так попадет на орехи… Немец злющий, как подколодный змей. Он и самого Всеволода Александрыча однова чуть не зашиб камнем… Расстервенится, так ему, немцу, все одно.
— Пустяки болтаешь, старик, — мягко остановил о. дьякон. — Карл Карлыч больной человек, ну, и погорячится иногда…
— Больно-ой?! Рожа-то вон какая красная…
— Хорошо, довольно. Ты начинаешь говорить грубости…
В темноте золотой искоркой показалась папироса Ивана Васильича. Он, видимо, был в хорошем настроении духа, потому что шел и мурлыкал какую-то песенку.
— Номер нашел… — заявил он весело, здороваясь с о. дьяконом, точно вчера с ним расстался. — Отличный номер…
Багаж наш был невелик, и мы скоро очутились в своем номере, небольшой комнатке в одно окно, выходившем на узкую деревянную галерею, обложившую легким бордюром второй этаж деревянного, довольно ветхого здания курзала.
 Мы скоро очутились в небольшой комнатке в одно окно…
Мы скоро очутились в небольшой комнатке в одно окно…
— Ничего, жить можно… — решил Иван Васильич, распахивая окно. — Вот бы теперь самоварчик… Ну, да уж так, всухомятку заснем.
Небо начало светлеть. Направо на горе, точно вырезалась тяжелой глыбой вековая сосновая роща, а внизу забелел туман, прикрывавший спавшую реку. Где-то в береговых зарослях слабо чирикали первые утренние птички. Хороши такие июльские ночи на Урале, когда воздух чутко дремлет, точно дожидаясь первого солнечного луча, чтобы вспыхнуть всеми красками и звуками.
Мы сейчас же улеглись спать. Чувствовалась та здоровая дорожная усталость, которая получается только при поездках на лошадях. Мы, вероятно, проспали бы очень долго, но нас разбудили громкие шаги по нашей галерее. Иван Васильич выглянул в окно, оставленное открытым, и проворчал:
— Англичане… Все больные спят, а они маршируют по всей галерее и стучат своими сапожищами. Идиоты, ей Богу!..
Одной из странностей Ивана Васильича было то, что он не выносил англичан, называя их рыжими чертями. На Урале, по заводам, разным промыслам, промышленным предприятиям и фабрикам прижилось немало англичан. Были и французы, и бельгийцы, а всего больше, конечно, немцы — настоящие немецкие немцы, остзейские и те обрусевшие немцы, у которых, кроме немецкой фамилии, ничего немецкого уже не оставалось. Французов сравнительно, встречается мало, да и те проживают временно, как и бельгийцы, а немцы всех трех категорий сделались давно своими людьми, и только одни англичане ревниво остаются англичанами и живут своей собственной, замкнутой английской жизнью. Вероятно, за последнее добрейший Иван Васильич и не любил англичан, считая их эгоистами, гордецами и презирающими все русское, кроме русских денег. Впрочем, по его убеждению, вся заграница была населена отъявленным негодяями.
Иван Васильич затворил окно, спустил штору и непременно хотел заснуть. Но англичане продолжали упорно маршировать, и ему пришлось прятать голову под подушку. Я пробовал последовать его примеру и с одинаковым неуспехом, точно англичане шагали в собственном ухе. Мы промучились таким образом с полчаса, и, наконец, Иван Васильич не вытерпел. Высунув голову из-под подушки, он шепотом спросил:
— Вы не спите?
— Нет…
Он сел на кровати и проговорил уже другим тоном:
— А знаете, мне отличная мысль пришла в голову… Да… Мы закажем самоварчик… Хе-Хе… А пока его подадут, мы сходим умыться прямо на реку. Отлично? Летом я люблю умываться на свежем воздухе… А потом нальемся чайку.
— Через четверть часа мы уже были на берегу реки, где в воду были проведены деревянные мостики. На мостках сидел бессонный о. дьякон с удочкой в руках, а рядом с ним тоже с удочкой черноволосый плотный мужчина в летней чесучовой паре. Я догадался, что последний был тот самый сердитый Карл Карлыч, о котором ночью говорил сторож.
— Нашли место удить… — ворчал Иван Васильич. — Придется прямо с берега умываться. Ну, да ничего… Вон и камень выставляется из воды. Еще удобнее, чем с мостков.
— Иван Васильич прыгнул на камень, но не мог сохранить на его скользкой поверхности равновесия и бултыхнул в воду, которая здесь на его счастье была всего по колено.
— Ах, негодяй!!. — крикнул Иван Васильич, стараясь опять вылезти на предательский камень.
— Кто негодяй? — строго обратился к нему господин в летнем костюме.
— Камень проклятый…
— Ну, камень не виноват, а вот вы пугаете рыбу… Кажется, могли бы умыться и у себя в номере.
— Извините, пожалуйста… А рыба, наоборот, всегда бежит на шум.
Сердитый господин с презрением посмотрел на стоявшего в воде Ивана Васильича, пожал плечами и отвернулся. Лицо у него было красное, загорелое и, как говорится, дышало здоровьем, и никто бы не подумал, что это очень серьезно больной человек. О. дьякон кивнул нам головой, как старым знакомым, и принялся успокаивать сердитого господина.
— Ведь вот какая штука вышла… А? — возмущался Иван Васильич, когда мы возвращались домой. — Куда я теперь мокрый-то годен?
— Ничего, все высохнет, — успокаивал я его.
— Да ведь показаться никуда нельзя, пока не обсохну?..
II
Иван Васильич переоделся, но запасных панталон не оказалось и сапог также. Последнее его очень огорчило.
— Придется по солнышку ходить, пока не высохну, — объяснял он, заваривая чай. — Вот только дамы тут кругом гуляют… Совестно как-то.
За чаем он успокоился, и на его круглом лице появилась обычная добродушная улыбка. Мне нравилось, когда он улыбался. Сердитым я его, впрочем, никогда не видал, и мне кажется, что он принадлежал к очень редкому типу людей, которые просто не умеют сердиться.
— А немец-то как на меня окрысился… — смеялся Иван Васильич, прихлебывая чай. — Ведь это с каждым могло случиться. Ну, да Бог с ним… Ему же хуже. Мне один старичок доктор говорил, что кто много сердится, у того печенка делается, как решето. А вот утро сегодня отличное… И воздух какой здесь…
Утро, действительно, выдалось чудное, а со стороны соснового бора так и тянуло застоявшимся за ночь смолистым ароматом.
— А знаете, что я придумал? — заговорил Иван Васильич, когда мы кончили пить чай. — Я вниз не пойду, а буду гулять на солнышке по галерее, пока не просохну… Дамы все гуляют в роще, ну, а здесь никого не будет. Ей Богу отлично…
— Да что уж вы так беспокоитесь, Иван Васильич… Б случае чего можем сказать, что ночью где-нибудь вместе с экипажем попали в воду. Да и дам знакомых у нас нет. Никто и внимания не обратит.
— Нет, знаете, все-таки… Ах, проклятый камень!..
Мы вышли на галерею, захватив с собой стулья.
— А ведь, право хорошо, что мы рано встали, — говорил Иван Васильич, вдыхая всей грудью воздух. — Проспать такое утро просто бессовестно…
— Вы должны благодарить англичан, которые нас разбудили…
Мне в это утро было особенно хорошо, потому что всего каких-нибудь две недели я был на краю гибели. Смерть стояла близко, рядом… Но роковой кризис миновал, и вот я сижу на ярком солнце, жадно вдыхаю свежий воздух, любуясь чудным видом, который открывался с высоты нашей галереи, и чувствую, как оживаю каждой каплей крови. В серьезных болезнях есть своя мудрость, потому что человек, именно, в эти моменты точно прислушивается к своему внутреннему миру, спускается в те душевные глубины, где незримо и неустанно вершится вечная тайна несознаваемой нами в здоровом состоянии жизни. Все чувства приобретают необыкновенную чуткость, точно от них отодвинули какую-то стену из обычной сутолки, маленьких забот и опутывающих каждый наш шаг пустяков. Яркая и радостная картина начинающегося выздоровления служит только переходным состоянием, и мы, обновленные болезнью, точно начинаем новую жизнь. Да, хорошо, радостно и как-то особенно светло на душе в такие минуты, и я переживал их сейчас. Хотелось просто сидеть на солнце, дышать и любоваться вечно новой красотой природы… Разве не чудо вот такой солнечный летний день? И каждый зеленый листочек — чудо, и каждая капля росы — чудо, и каждое насекомое — чудо, а самое большое чудо, это — то, что творится в душе человека.
Мне не хотелось даже спускаться вниз, чтобы не нарушать своего блаженного состояния.
Провинциальные минеральные воды Солонец занимали очень красивый горный уголок, служивший выпадом далекого горного кряжа. До настоящего Урала отсюда было верст сто. С реки вид представлялся такой: на переднем плане по берегу реки вытянулись деревянные постройки, подходившие слева к горе, поросшей сосновым бором; повыше ванн, в полугоре стоял наш курзал, а в бору были настроены отдельные дачи. От курзала длинная деревянная галерея вела к самому «солонцу», как крестьяне называли бивший из высокой известковой скалы минеральный источник. Общий вид был очень оригинален и красив. За небольшой, но очень бойкой речкой были разбросаны дачи и кое-какая крестьянская стройка, а за ними бесконечные поля.
— Красиво… — думал вслух Иван Васильич, вытягивая ноги на самый припек. — Знаете, скотина прибегает сюда верст за двадцать, чтобы напиться воды из солонца. Вода-то соленая, ну, скотина и рвется. Вот увидите: деревянная загородка стоит, где лишняя вода из источника стекает в реку, так лошади все столбы обгрызают. Крестьяне, когда идут в поле косить или жать, берут с собой воду в ведерках. Очень полезная вода, если у кого малокровие, катар желудка, ревматизмы… Настоящие чудеса бывают: привезут человека без рук, без ног, пальцем не может шевельнуть, а глядишь, через месяц-полтора он уж в бору гуляет. Я-то здесь не в первый раз, так достаточно насмотрелся. Прямо, можно сказать, благодать Божия.
Иван Васильич хотел еще что-то сказать и даже раскрыл рот, но в этот момент в дальнем конце галереи показалась какая-то дама с зонтиком и он опрометью бросился в противоположный конец. Когда дама прошла, голова Ивана Васильича показалась в окне нашего номера.
— Вот напугала-то!.. — говорил он. — даже задохся, так бежал… А я, знаете, чем по коридору бегать, буду в окно спасаться. Раз — и в своем номере… Отлично!..
Но первый же опыт прыганья в окно для Ивана Васильича кончился довольно неудачно: он упал на пол и зашиб коленку. А дама оказалась просто нашей коридорной горничной. Ее послал доктор узнать, что за люди приехали ночью. Но она еще не успела довести допроса до конца, как на галерее показался и сам доктор, очень полный господин в летнем костюме, с типичным русским лицом. Серые глаза, мягкий нос, широкое, мясистое лицо, русая окладистая бородка, немного обрюзглая преждевременная полнота, жирный смех — все было одно к одному. Он еще издали кричал, завидев меня:
— Ах, многоуважаемый, наконец-то!.. Очень рад, очень рад…
Мы расцеловались, и доктор еще несколько раз повторил свое любимое словечко: «многоуважаемый».
— Отлично сделали, что приехали, многоуважаемый.
— Мы тут вас полечим… И водички попьете, и покупаетесь.
Увидав вылезшего из окна Ивана Васильича, доктор засмеялся.
— Что это вы придумали, многоуважаемый? Точно в водевиле…
Иван Васильич в самых трогательных выражениях рассказал о своем неудачном умывании, но, вместо сочувствия, встретил только раскатистый смех доктора.
— Ах, многоуважаемый, многоуважаемый! Очень жалею, что не присутствовал при вашем купаньи… Воображаю, как рассердился многоуважаемый Карл Карлыч. А что касается ваших панталон, то это пустяки. Если хотите, я могу сказать, что прописал вам лечение по методу патера Кнейпа или доктора Ламана. Они заставляют ходить больных босыми по утренней росе, по воде и даже по снегу. Многоуважаемые, что же вы сидите здесь? Идемте вниз…
Мы спустились в первый этаж, где была общая зала для обедов и ужинов, бильярдная, библиотека и аптечка. Из нее длинная деревянная галерея вела к источнику который ровной струей бил в большой каменный бассейн. По галерее уже гуляли больные, исполняя докторскую программу.
 По галерее уже гуляли больные…
По галерее уже гуляли больные…
Доктор здоровался направо и налево, на ходу выслушивал разные жалобы своих пациентов, на одолевавшие их недуги, на ходу давал им советы, шутил с выздоравливающими и вообще превратился в отца своего многочисленного больного семейства.
Иван Васильич захватил из номера свой чайный стакан и залпом выпил первую порцию.
— Отличная вода… — хвалил он, — передавая стакан мне. — Замечательная вода. — Вот сами увидите. Обыкновенной воды не выпьешь и трех стаканов, а этой сколько угодно. Мне случалось выпивать в сутки стаканов по двадцати. Ей Богу…
Я попробовал. Вода была холодная, солоноватая, с сильным запахом тухлого яйца. Последнее говорило о большом содержании сероводорода. Первое впечатление было не из приятных, и я не мог выпить за раз целого стакана.
— Это только сначала, а потом привыкнете, — объяснял мне Иван Васильич.
— Многоуважаемый, что вы делаете? — кричал нам доктор издали, размахивая, по обыкновению, руками. — Иван Васильич, для чего вы то пьете воду? Разве вы больны?
— Нет, слава Богу, совершенно здоров…
— Наверно, утром чай пили?
— А то как же?.. Даже с удовольствием…
— Ну, так и есть… У вас, многоуважаемый, из желудка образуется чернильница, как у каракатицы, потому что вода содержит в себе железо…
— Ничего, доктор, будьте покойны: для меня всякая вода полезна.
III
В течение одного дня мы познакомились почти со всеми «курсовыми», а также и с порядком курсового дня. «Солонец» пользуется большой популярностью, и на него съезжается, кроме своей уральской публики, много больных из Сибири. Кроме больных и выздоравливающих набиралась просто дачная публика.
Перед завтраком мы долго гуляли в сосновом бору, где, как бабочки, мелькали десятки разноцветных дамских зонтиков. Кое-где больные качались в гамаках, прицепленных к вековым соснам. Главным образом, эту мирную картину летнего покоя оживляли дети, которые, как воробьи, неожиданно вылетали из за каждого куста. Крик, шум, звонкий детский смех, и моментально все исчезает. Маленькое человечество пользовалось летней свободой от чистого сердца, не обращая ни на кого внимания.
— Если бы не стыдно, и я побегал бы с ними, — признавался Иван Васильич. — Люблю эту детвору… Главное, веселый народ, и все нипочем. Озорники, конечно, а все-таки приятно даже издали посмотреть.
Но не все дети были веселы. В колясочках возили больных; некоторые лежали на траве; попадались дети с костылями, но таких, сравнительно, было немного.
— Ничего, солнышко всех вылечит, — говорил Иван Васильич.
Больные мужчины встречались реже, потому что уже делалось жарко, и они предпочитали сидеть на галерее или даже у себя в номерах, как сердитый Карл Карлыч, который у окна чертил какие-то планы. Он был инженер, служивший представителем какой-то иностранной фирмы.
К общему завтраку в курзале собралось человек тридцать. Некоторые предпочитали завтракать по своим номерам. Доктор познакомил нас, между прочим, и с сердитым Карлом Карлычем, который оказался совсем не сердитым, а даже веселым и большим говоруном. Исключение представляли одни англичане, которые поместились за отдельным столиком и не обращали ни на кого внимания. Их молчаливое общество оживлял только мальчик с рыжими волосами, одетый в синюю матросскую куртку. Ему было лет шесть, но миловидное детское личико казалось преждевременно серьезным.
За завтраком завязался общий беглый разговор. Дамы интересовались, как о. дьякон провел ночь.
— Опять не спал… — с больной улыбкой отвечал он.
— У вас нервы… — объясняла какая-то худенькая дама.
Эти простые слова почему-то рассердили Карл Карлыча и он раздраженно заговорил:
— Нервы?!.. Простой русский дьякон и вдруг… нервы! Это у дамы нервы, а тут простой русский дьякон, который просто много пил свой простой русский водка… Пфе…
Карл Карлыч даже покраснел и начал размахивать руками. На выручку подоспел доктор.
— Многоуважаемый Карл Карлыч, вы напрасно оскорбляете нашего почтенного о. дьякона, который никогда не пил водки. Это раз… А во-вторых, вы очень добрый человек, хотя это и скрываете от нас, и совсем не желали обижать о. дьякона. Да? Наконец, вы сами многоуважаемый, нервничаете хуже всякой дамы…
Карл Карлыч окончательно вспылил и, ударив себя кулаком в грудь, почти закричал на доктора.
— Я!? Нервы!? О, я имею право иметь нервы… да! Я совсем другое дело… Я делал франко-прусская кампания, я имел рана под Гравелот, я работал всю жизнь… Я и сегодня работал все утро. А русские не умеют работать и не имеют права иметь нервы… Мне все давало на нервы!
Рассердившись, Карл Карлыч начинал коверкать русский язык. Глядя на него, каждый мог убедиться, как неверно наше ходячее мнение о немце, как существе непременно белокуром, неподвижном и бесстрастном. Карл Карлыч горячился из-за всякого пустяка, выходил из себя и глубоко возмущался. Зачем простой русский дьякон не спит? Почему к завтраку подали такой жесткий бифштекс, точно его выкроили из какой-нибудь необыкновенно большой мозоли? Почему доктору всегда везет в карты? Почему на прошлой неделе шел дождь, и была гроза? Благодаря этой строптивости, Карла Карлыча однажды чуть не высекли. Да, Карла Карлыча, который дрался под Бертом, получил рану под Гравелотом… Дело было так. Карл Карлыч уехал на целое лето в Финляндию, чтобы дышать свежим воздухом; Карл Карлыч любил цветы и устроил около своей дачи великолепный цветник. А чухонский петух любил приходить в цветник каждое утро и разрывал грядки, отыскивая червячков. Карл Карлыч страшно сердился, подкараулил петуха на месте преступления и запустил в него камнем с явным намерением лишить жизни. Хозяин петуха, чухонец, тоже рассердился и привлек Карла Карлыча к суду, а чухонский судья по своим чухонским законам приговорил Карла Карлыча к наказанию розгами. Карл Карлыч постыдно бежал из Финляндии и теперь колотил себя кулаками в грудь, стойло ему только напомнить об этой ненавистной стране.
— Я — честный баварец… Да! — повторял Карл Карлыч. — Я давал чухонцу на морда… Я убежал из Финляндии, как честный баварец.
Анекдот о петухе я слыхал раньше. Рассказывали о каком-то генерале. Но Карл Карлыч все переносил на себя, и, как мне кажется, сам верил тому, что рассказывал. У него были, так называемые в медицине, навязчивые идеи. Например, он был глубоко убежден, что некоторые из курсовых его презирают. Была одна худенькая дама полька, которая приехала на воды вместе с двумя племянниками, и Карл Карлыч уверял доктора от чистого сердца:
— О, я — честный баварец, и все понимаю… Да! Эта дама меня не уважает… Вы посмотрите, как она всегда отворачивается от меня. О, она непременно что-нибудь сделает.
— И ночной сторож тоже не уважает? — смеялся доктор.
— Это большой разбойник с дороги…
[1] Вам нравится, что он когда-нибудь меня зарежет.
— Ему одному не справиться, многоуважаемый, и он пригласит для этого на помощь польскую даму…
После завтрака мы пили кофе, потом отдыхали у себя в номере, потом пили воду и долго гуляли в роще. Доктор обладал счастливой способностью появляться зараз в нескольких местах, так что от него невозможно было скрыться. Везде слышался его смех и громкий голос. Он, как хороший пастух, зорко пас свое больное стадо.
— Ох, устал… Умираю от жары… — повторял он, вытирая лицо платком.
IV
В течение двух-трех дней наша жизнь на Солонце совершенно определилась. Мы вставали сравнительно рано. Иван Васильич сейчас же бежал купаться. Потом пили в общей зале чай и составляли план на весь день, при чем нового ничего не могли придумать. Те же прогулки в сосновом бору, катанье на лодке, уженье рыбы и т. д. Вечером в общей зале играл маленький оркестр из пяти музыкантов, но танцующих не было, за исключением двух-трех детских пар.
Я, вообще, заметил, что русские люди совершенно не умеют отдыхать и страшно скучают, когда врачи приговаривают их к обязательному отдыху. Исключение представляла стайка учительниц, приютившаяся в деревне за рекой. Они чувствовали себя очень весело.
— Помилуйте, что же еще нужно: чудный воздух, купанье, прогулки, — заявляли они. — А главное, все здесь удивительно дешево: мы втроем платим за комнату пять рублей, цыплят покупаем по пяти копеек штука, крынка молока в три бутылки стоит четыре копейки. Одним словом, лучшего и желать грешно.
Восхищавшаяся Солонцом девушка походила на молоденькую пестренькую курочку. Худенькая, остроносая, вся какая-то серенькая, но очень живая и подвижная. Она не догадывалась, что хорошо на Солонце совсем не потому, что все здесь было дешево, и воздух был великолепный, а потому, что ей было всего восемнадцать лет, и что она была здорова, как рыбка.
Это естественное веселье здорового человека сейчас же задело за живое Карла Карлыча. Кажется, он даже принял его за личное оскорбление и, нахмурившись, проговорил:
— Вот погодите проведут сибирскую железную дорогу…
— Ну, и что же будет?
— Что будет? А… что будет? — вскипел, по обыкновению, он без всякого повода. — А вот что будет: дорога съест всех ваших дешевых цыплят, выпьет все ваше дешевое молоко, скушает весь ваш дешевый хлеб, и вы будете платить за курица, как на Бавария, три рубля… Да!.. На Бавария все дорого, и это не есть справедливо…
Увы! Карл Карлович на этот раз оказался совершенно прав. Тогда сибирская железная дорога только еще строилась, а когда ее открыли, — все, действительно, вздорожало вдвое и втрое.
Несмотря на свое вечное ворчанье и придирчивость, Карл Карлович являлся тем, что называется душой общества. Когда он по делам уезжал на несколько дней в Екатеринбург, всем чего-то не доставало, и все от души радовались, когда он возвращался на Солонец. Особенно любили Карла Карлыча дети, хотя он частенько и ссорился с ними, ссорился как-то по-детски. А детей было много, разных национальностей: маленькие, но уже аккуратные немцы, один чахлый французик с английской болезнью, несколько маленьких еврейчиков, очень умненьких и наблюдательных, с печальными глазами, два полячка, гордых и легкомысленных, и десятка два русских детей, определенную характеристику которым невозможно дать, потому что «всяк молодец был на свой образец». Маленькие девочки мало чем отличались друг от друга, несмотря на национальность.
Перед террасой нашего курзала был разбит цветник, окаймлявший круглую площадку, плотно утрамбованную песком. Разноплеменная детвора облюбовала это уютное местечко и, не смотря ни на какой жар, по целым дням толкалась на ней. С своей террасы я по целым часам наблюдал беззаботно веселившееся маленькое человечество, и мне площадка казалась каплей воды, какую приходилось наблюдать под микроскопом, и в этой капле проворно и без устали двигались инфузории-человечки.
— О, эти мальшики! — почему-то считал нужным удивляться Карл Карлыч, качая головой.
— А что?
— О, она будет вся большая, мальшики… Мы все будем: крак! А мальшики будут жить и будут делать наше дело. Да, мы будем земля лежать…
— Почему же вы говорите об одних мальчиках и забываете девочек?
— Девочка другое… Она не будет строить мельницы, проводить железные дороги, скупать сибирское сырье…
— Вы несправедливы, Карл Карлыч: у мальчиков свое дело, а у девочек свое.
— Я говорю, как мужчина. О, у, меня своих два мальшика… Там, на Бавария.
Карл Карлыч для ясности поднял два пальца и с гордостью улыбнулся. О, это настоящие, маленькие, честные баварцы… Они уже теперь имеют собственные деньги. Как же!
У каждого маленького баварца есть своя маленькая копилка, а из маленькой копилки деньги идут в сберегательную кассу, где дают за них проценты. Русские дети не понимают цены денег, а маленькие баварцы отлично считают.
— Почему же вы, Карл Карлыч, не привезете детей к себе в Россию?
— Жаль… В России будут ленивые, а там пусть учатся работать… Когда вырастут совсем большие, тогда приедут на Россия работать.
— А как же русские немцы по-вашему, т. е. которые родились и воспитывались в России?
— О, это совсем не наш… Это так, седьмого киселя.
У Карла Карлыча на лице появилось презрительное выражение. Он признавал только немецких немцев.
Маленькое человечество по-своему эксплуатировало Карла Карлыча, и можно было удивляться только дипломатическим хитростям, к каким оно прибегало в данном случае. Сначала происходили таинственные совещания между собой, потом выбирали ходоков, которые и являлись к Карлу Карлычу.
— Как ваше здоровье, Карл Карлыч?
— Благодарим к вам, очень хорошо…
— Сегодня прекрасная погода, Карл Карлыч…
Карл Карлыч понимал, в чем дело, и лукаво подмигнув, говорил кому-нибудь из соседей:
— О, какой маленькой большой плут…
А «маленький большой плут» после этих предварительных разговоров уже другим тоном говорил:
— Карл Карлыч, поиграемте в войну?
— О!?
— Вы такой храбрый… Самый храбрый во всем Солонце.
— О!?.
Маленькое человечество отлично знало, когда Карл Карлыч в хорошем расположении духа, и пользовалось этим случаем. Он выходил на площадку, принимал грозный вид и спрашивал:
— Как по роте?
— По роте все спокойно, Карл Карлыч! — отвечали тонкие детские голоса.
— Благодару…
Дальше начиналась «война», т. е. Карл Карлыч брал палку и производил ученье. Вооруженные палками дети делали ружейные приемы, маршировали и т. д. Сделав из ладони трубу, Карл Карлович подавал сигналы сбора, тревоги, наступления, атаки, и, видимо, сам увлекался игрой в маленькие живые солдатики.
— Карашо! — поощрял Карл Карлыч, делая исключение для одного золотушного купеческого сынка. — А ты всегда будешь швах… Никогда не будешь настоящий золдат.
На эту войну собиралась и публика, главным образом, скучавшие курсовые дамы, желавшие непременно видеть в своих Колях и Ванях будущих героев. Они выражали Карлу Карлычу свое одобрение в разных формах и даже прощали, когда у него в пылу битвы жилет поднимался кверху, и на круглом животе показывалась белая полоска белья, которую доктор называл меридианом. Мне лично эта игра в войну совсем не нравилась, потому что преждевременно и совершенно напрасно ожесточала детскую душу. Милые детские личики принимали зверское выражение, детские кулаки угрожающе сжимались; детское тело каждым мускулом приготовлялось к нападению… Где-то в воздухе над этими детскими головками уже проносился невидимый враг, и злой гений войны вперед торжествовал, вызывая в детской чистой душе боевую злобу. Да, зародыш войны таится в детском сердце, тот кровавый зародыш, из которого создаются величайшие бедствия…
В этих воинских утехах не принимал участия один Чарли, маленький, рыженький англичанин. Он вообще почти ни с кем не дружил, предпочитая гордое одиночество. Доктор наблюдал его с начала сезона и говорил.
— Это совсем особенный ребенок, который нисколько не походит на других детей. Английская кровь… И мне кажется, что вот эти англичане даже бывают больны по-своему, и лекарства на них тоже действуют по своему.
V
День выдался томительно жаркий. Раскаленный воздух точно застыл. Нечем было дышать, и всеми овладела мертвая истома. Замерла деревня на противоположном берегу реки, замерла и река живым зеркалом, и даже дамские зонтики больше не двигались в бору, а бессильно валялись на земле, как сложенные крылья уснувших бабочек.
Завтрак прошел в довольно унылом настроении. Карл Карлыч вытирал потное лицо платком, хмурился и с презрением тыкал вилкой в довольно жесткий бифштекс.
— Вам не нравится опять бифштекс? — спросил его доктор.
Этого невинного вопроса было совершенно достаточно, чтобы честный баварец сейчас же вспылил.
— О, это вы называете бифштекс? Да? Это бифштекс?.. Я еще не сошел с ума, чтобы есть подошву…
— Многоуважаемый, вы забываете одно… — перебил его доктор… — Да, забываете, что здесь нельзя, при всем желании, достать хорошего мяса… Крестьянский скот тощий…
— Все русское — дрянь! — точно выстрелил Карл Карлыч, вскакивая. — Мне нет никакого дела до русских тощих скотов… Я хочу за свои деньги иметь хороший бифштекс, потому что плачу хорошие деньги.
Публика отнеслась к протесту Карла Карлыча совершенно безучастно, а некоторые даже потребовали себе назло ему по второй порции бифштекса. Это уже было слишком обидно, и Карл Карлыч, не кончив завтрака, убежал к себе в номер.
— Многоуважаемый, куда вы? — кричал ему вслед доктор, а потом прибавил уже другим тоном: — Ничего, ему полезно немного поголодать… Вероятно, будет гроза, вот он и нервничает с раннего утра. Еще выкинет какую-нибудь штуку…
— Здорово парит, наверно будет гроза, — подтвердил о. дьякон.
Дамы единогласно заявили, что все страшно боятся грозы. Кстати, кто-то припомнил случай, как во время грозы убило девушку, которая сидела у раскрытого окна. Сидевший рядом с доктором седенький старичок купец, хранивший все дни упорное молчание, неожиданно принял к сердцу вопрос о грозе и заявил:
— Молоньей, значит, всегда баб убивает…
— Почему же именно баб? — полюбопытствовал доктор.
— А уж я этого не могу знать!.. В газетах всегда убитых молоньей баб печатают.
Дамы обиделись за слово «бабы», а старичок не понимал и улыбался самой добродушной улыбкой. О. дьякон тоже припомнил несколько случаев, когда людей убивало молнией, а Иван Васильич для иллюстрации к замечанию купца прибавил:
— Тоже вот, например, я знаю несколько случаев когда молнией убивало коров, а быка ни одного.
Это уже было окончательно обидно для дам, и некоторые поднялись из-за стола. Доктор постарался поправить неудобный разговор.
— Многоуважаемый, ведь это понятно само собой, — я говорю о коровах. — Ведь в стаде коров в пятьдесят штук приходится всего один бык. Что касается того, что молнией убивает чаще всего женщин, то это опять понятно. Грозы бывают летом, а мужчины, в данном случае мужики, все в поле, а дома остаются бабы. Постройки, хотя и невысокие, все-таки притягивают к себе молнию… Вот вам и объяснение.
— А я замечал, что молнией никогда не убивает собак и кошек, — говорил о. дьякон. — Весьма странно, доктор…
— Ну, уж этого я не могу объяснить, — ответил доктор, разводя руками. — Этак мы дойдем до тараканов и комнатных мух.
Разговор о грозе кончился, и мы отправились отдыхать по своим номерам, хотя и странно было говорить: отдыхать, потому что, кроме доктора и Карла Карлыча, по целым дням никто ничего не делал.
— А хорошо… — думал вслух Иван Васильич, стараясь поудобнее улечься на своей кровати. — Право, хорошо!.. Я не понимаю, зачем так волнуется наш Карл Карлыч, Вот я, — я всего несколько дней, как пью воду, а уж чувствую себя гораздо добрее.
— Я невольно засмеялся, но Иван Васильич продолжал развивать свою мысль.
— Нет, серьезно говорю: добрее. Вы понаблюдайте за собой и убедитесь, что я прав.
— Как же я могу в этом убедиться, т. е. в том, что сделался добрее?
— А очень просто… Вчера вы легли вечером и сейчас же заснули, а я долго не мог заснуть. Лежу, и сам здоров, а заснуть не могу. Ну, раздумался о том, о сем… И что же бы вы думали, припомнил какой случай: возил нынче зимой мне мужичок дрова, и я его обидел. Так, за здорово живешь, обидел… Разгорячился и обругал его, а он стоит передо мной, снял шапку и смотрит на меня такими жалкими глазами. Ведь, разве хорошо обидеть бедного человека? Вот я и раздумался. Бедный такой мужичонко, и лошаденка у него самая дрянная, а ведь он семью кормит, вытянулся на работе.
— При чем же тут Солонец?
— А вот при этом самом… да. Отчего я раньше этого не подумал? А тут лежу, и сделалось мне совестно, так совестно… Думаю: как только приеду домой, сейчас разыщу этого мужичонку и… Одним словом, сниму с себя грех, чтобы совесть не мучила.
Иван Васильич хотел еще что-то сказать и даже раскрыл рот, но в этот момент в нашем коридоре послышался такой отчаянный вопль, что мы оба вскочили с своих постелей.
— Мальшики!.. Мальшики!! О, мальшики!!!
— Это Карл Карлыч бунтует… соображал Иван Васильич. — Не даром давеча доктор говорил, что он устроит штуку.
Когда мы выскочили в коридор, нашим глазам представилась такая картина: в глубине коридора стояли два англичанина с трубками в зубах, бесстрастные и неподвижные, как два истукана; ближе к нам стояла худенькая польская дама, за спиной которой прятались ее воспитанники. Перед ней стоял Карл Карлыч, возбужденный, красный, неистовый, с поднятыми вверх кулаками.
— Я вам не позволю убивать детей! — кричала худенькая дама, тоже поднимая руки. — Наконец, вы забываете, что я дама, и что кричать так на меня доктор вам не позволит… да…
— Ваши мальшики стучал мой дверь!! — неистово выкрикивал Карл Карлыч. — Мой работал, а мальшики мне мешал… Мальшики стучал мой дверь… О, я их буду убивать, ваши мальшики! Вот так: крак! Кнакс!!. Трах…
Карл Карлыч энергичными жестами показал, как он уничтожит двух маленьких польских шалунов. В этот критический момент показался в конце коридора доктор.
— Многоуважаемые, успокойтесь! — кричал он на ходу задыхаясь. — Карл Карлыч… мадам… ради Бога! что такое случилось?
На шум выскочил о. дьякон, седенький купчик, какие-то две дамы, приехавшие только вчера, — одним словом собралась публика.
— Я дама, а он хотел убить моих детей, — объясняла польская дама, задыхаясь от волнения. — Да, вот все это слышали… Он и меня убьет, а я дама.
— О, мальшики!! — неистово вопил Карл Карлыч. — Мой работал… мой никому не стучал дверь…
Доктор, не тратя напрасно слов, схватил Карла Карлыча под руку, и силой утащил его в его номер. Полька с своими воспитанниками моментально скрылась, как наседка, которая прячет цыплят от ястреба. Англичане постояли, очевидно ожидая еще нового представления, и потом величественно ушли в свой номер. О. дьякон зашел в наш номер и, чтобы поделиться впечатлениями проговорил:
— Мальчики, конечно, не правы, но и Карл Карлыч потерял всякое душевное равновесие… Вообще, нехорошо.
Все номера разделялись между собой тонкими дощатыми переборками, и слышно было все, что делалось в соседних номерах. Голос Карла Карлыча разносился по всему коридору. Он страшно неистовствовал и говорил, что-то, вероятно, очень обидное по адресу «дам с мальшики».
— Многоуважаемый, успокойтесь, — уговаривал его доктор. — Выпейте стакан воды…
— Вы меня принимаете сумасшедший человек, который бежал на клиники?
— Нет, вода успокаивает, многоуважаемый!..
— Пусть ваш дам с мальшики пьет вода, пусть вся река пьет… О, если бы она не был дам… да… Я… я сказал бы ей, как честный баварец: ти — дурак!!..
Докторский спокойный голос подействовал, как вода, и Карл Карлыч вдруг начал стихать.
— Ведь у вас в Баварии, многоуважаемый, есть свои дети, а все дети любят пошалить…
— О, большой шалун!..
— Вот видите, многоуважаемый… Если уж баварские дети шалят, то русские все шалуны. Ведь они вырастут большими и тогда не будут стучать в двери чужих комнат. Так?
— Зачем я люблю дети, доктор? А они мне дают на нервы…
В голосе Карла Карлыча вдруг послышались слезливые ноты. Доктор что — то говорил вполголоса, а потом было слышно, как он наливал воду в стакан.
— Он плачет? — удивлялся о. дьякон.
— Кажется… У него истерический припадок.
— Мне, знаете, он нравится… добрый он в сущности и детей любит…
Посмотрев в окно, Иван Васильич проговорил:
— А гроза-то будет… Очень хорошо… После грозы вся земля точно вздохнет. И всем делается легко…

VI
Вечером действительно разразилась гроза, одна из тех буйных гроз, какие бывают только в горах и в подгорных местностях. Наша компания собралась на террасе, за исключением Карла Карлыча.
— Он теперь лежит в постели и голову спрятал под подушку, — объяснял доктор. — Страшно боится грозы…
— И дамы все попрятались по своим номерам…
Из нашей компании, вероятно, многие побаивались грозы, а в том числе и я. Не то чтобы страшно, а неприятно. Если кто совершенно не боялся грозы, так это о. дьякон. При каждом всполохе молнии он шептал:
— Хорошо… Въявь чудо… Глагол небесный.
— И грешная душа растет, — прибавлял Иван Васильич. — А я побаиваюсь грозы, особенно, когда один. На людях не так страшно…
Гроза разразилась с жестоким ливнем. Перед особенно сильными ударами грома дождь на несколько секунд стихал, точно сознательно подготовляя световой и звуковой эффект. И действительно, получалась редкая по своей красоте картина: из окружавшей тьмы на одно мгновение всполохом молнии выхватывалось громадное пространство — и река, и деревня за рекой, и далекие поля. Все было ясно до мельчайших подробностей. После каждого всполоха молнии, тьма делалась еще темнее, видимый мир точно проваливался в бездну, а вместе с ним в этой тьме исчезал и человек с его большим страхом за свое маленькое ничтожество. Древние слышали в грозе разгневанный голос своих богов, и мы прислушиваемся к этому голосу с мистическим страхом, не смотря на все наши знания.
Гроза продолжалась часа полтора. Истомленная зноем земля была напоена целительной влагой, омыт был каждый листочек, напилась воды досыта каждая травка. Гроза умчалась. Реже и реже доносились громовые раскаты, точно залпы отступавшей неприятельской армии. Из лесу потянуло смолистым ароматом и запахом лесных цветов и засвежевшей травы.
— Господа, я есть хочу… — неожиданно заявил доктор, что вызвало общий смех. — Собственно, ужин прошел, но мы добудем каких-нибудь холодных закусок. Кстати нужно добыть Карла Карлыча… Храбрый «золдат», наверно, лежит еще под подушкой.
Появление головы Карла Карлыча в окне его номера вызвало общее оживление, точно он совершил какой — то необыкновенный подвиг.
— О, я получил такой страх… — точно оправдывался честный баварец.
— Ну, что же, дело прошлое, — говорил доктор, помогая Карлу Карлычу вылезти из окна. — А вы, многоуважаемый, будьте паинькой и не станете больше капризничать…
Доктор подхватил его под руку и повел вниз, в столовую. Карл Карлыч немного конфузился за свой давешний скандал, а потом хитро подмигнул и проговорил:
— Весь дом спит, и мальшик спит… Нам останется больше места за столом.
— Какой вы эгоист, Карл Карлыч… — корил его доктор.
В столовой мы провели время очень весело, главным образом благодаря поставленному не в урочный час самовару. Для сибиряков самовар — все. Особенно развеселился Карл Карлыч и даже спел какую-то студенческую песню, причем почему-то снял пиджак.
— Иначе песня не выходит… объяснял он.
Когда пробило двенадцать часов, доктор спохватился.
— Многоуважаемые, что же это такое: ведь вы больные и давно должны быть в своих постелях. Карл Карлыч, о. диакон, отправляйтесь спать.
Это была счастливая мысль, и все с веселым галдением, как выпущенные из класса школьники, разбрелись по своим номерам.
Мы спали по-деревенски, с открытым окном. Иван Васильич как лег, так и заснул. Я не был настолько счастлив и несколько времени ворочался в своей постели, а когда начал засыпать, — меня разбудили осторожные шаги по террасе. Это шагал наш бессонный о. дьякон, которого растревожила гроза. Потом послышался осторожный разговор вполголоса. Я узнал голос Карла Карлыча.
— Так чудо, о. дьякон?
— Великое чудо, Карл Карлыч… А всякое чудо сокрыто от нас. Возьмите хоть наш Солонец. Ну, стоит камень — только. Мало ли камней на свете и каменистых гор, а тут Господь из камня источил живую воду. Откуда она берется, как образуется в каменистых недрах? Так и с людьми бывает… Да. Ведь в каждом человеке есть живая вода, потому что есть душа, но не у всякого она прорывается наружу. Почему, например, мы все любим не только своих детей, но и чужих?
— Я очень люблю мальшика.
— Это все
равно, Карл Карлыч… Мы, большие люди, любим в детях утраченную нами невинность. «Будьте как дети», сказал Учитель.
Пауза. О. дьякон делает по террасе несколько шагов. Слышно, как Карл Карлыч угнетенно вздыхает, а потом начинает торопливо говорить, точно боится, что не успеет высказать всего. Да, все высказать вот в эту чудную летнюю ночь, когда все освежилось промчавшейся грозой, когда, как говорил давеча о. дьякон, душа растет.
— Да, да… это хорошее русское слово: чудо.
— Внутреннее чудо, Карл Карлыч…
— Вот именно. Сидим мы с вами ночью на террасе… да… Вы русский дьякон, я немецкий инженер и бывший золдат. А мысли и чувства у нас одни… Представьте себе, вот сейчас сколько миллионов детей спит — белокурых, русых, рыжих, черноволосых, и сколько любви сосредоточено около их кроваток. Ведь нет ничего трогательнее, когда ребенок засыпает, — все равно, к какой бы нации он ни принадлежал, — и вот взрослому и сильному человеку хочется его приласкать, прикрыть, защитить. Да? Давеча я ссорился с этими шалунами, а теперь они спят, и я с удовольствием расцеловал бы их. О, я всех люблю… И мне кажется, что со временем люди будут так же любить всех людей, как сейчас мы любим только детей. Я глубоко убежден, что такое время настанет…
— Да, Карл Карлыч… И тогда мы сами превратимся в детей, по чистоте своих мыслей и чувств.

КУКОЛЬНЫЙ МАГАЗИН
Рассказ
I

а Гороховой улице, недалеко от Садовой, лет двадцать существовал часовой магазин, но хозяин-старик умер, а наследники не пожелали продолжать дела, и на большом зеркальном окне появилось объявление, что магазин сдается. Место было бойкое, почти центр Петербурга, и явилось много желающих его снять. Приходили, осматривали и уходили, — кому дорого, кому неудобно. В числе других пришел седой, сгорбленный старичок с молодой девушкой. Они подробно все осмотрели и остались довольны.
— Нам с тобой, Катя, будет здесь хорошо, — объяснил старик. — Для тебя будет комнатка и для меня и для мастерской… Положим, эти комнаты выходят окнами на двор, но всем деревни не выберешь… Главное, что место самое бойкое.
— А не дорого, дедушка? — спрашивала девушка.
— Ничего, как-нибудь справимся. По нашему делу самое главное — место…
Катя была настоящей русской девушкой: русоволосая, с круглым румяным лицом, с добрыми карими глазами. Она не была родной внучкой, а выросла приемышем.
— Да, отлично… — повторял старичок, прикидывая что-то в уме.
— А где ты денег возьмешь, дедушка?
— Денег? Хе-хе… Все денежки, милая, вот у таких старичков, как я. Молодые-то не умеют их беречь, а старички копят да копят… да. Теперь первое дело — вывеска. Надо что-нибудь такое веселенькое, чтобы и видно было издали, и чтобы тянуло каждого в магазин… У меня уж есть на примете один мастер. Он устроит…
Вывеска появилась ровно через неделю и, действительно, обращала на себя внимание публики. Она была голубая. Золотыми буквами вверху было написано: «Андрей Иваныч Пастухов и К
0», а под этим — «Игрушки и починка кукол».
— Дедушка, какая же у тебя компания? — спрашивала Катя.
— А про себя-то ты и забыла? Хе-хе… Знаешь, это как-то важнее выходит: «Андрей Иваныч Пастухов и компания». Я тебя в следующий чин произведу: раньше ты была просто Катя, а теперь будешь Катериной Петровной… Хе-хе!.. Ловко придумано? Это тоже для важности… Катями горничных зовут, а ты теперь будешь купчиха.
Девушка даже покраснела от смущения, хотя дедушка и любил пошутить. Он был такой добрый и всегда улыбался.
— Ну-с, Катерина Петровна, главное сделано, — болтал старик. — А теперь милости просим, почтеннейшая публика…
Новый магазин наполнился игрушечным товаром как-то сразу. Появились деревянные сундуки, коробья, ящики, свертки, корзины. Все это распаковывалось, и на Божий свет появлялись самые удивительные вещи. Первым появился на окне клоун с медными тарелочками в руках.
— Наконец-то… — весело проговорил он, хлопая тарелками. — Ух! Как я устал лежать без всякого движения! Целый год пролежал в темном ящике… Положим, кругом была солома, но все-таки ужасно скучно… Главное, не видать своих соседей, и не с кем слова сказать.

Оказалось, что соседи по ящику были самый интересный народ. Араб в красной курточке, две лошадки, Ванька-встанька, десятка два кукол, две роты деревянных солдатиков, бумажный медведь, паяц, прыгавший утенок, трубочист, спеленатый ребенок, зеленый попугай… Все были рады, что, наконец, освободились из своей тюрьмы.

— Давайте, познакомимтесь, господа, — предлагал клоун. — А то мы и говорить разучимся…
Все были рады знакомству, особенно куклы.
— Магазин, кажется, ничего… — говорил трубочист. — Хотя бывают и лучше.
— А ты видел?
— Сам-то не видал, а рассказывали другие трубочисты…
— Отличный магазин, господа… А главное — такое громадное окно. Все нас видеть будут… Очень интересно! Пусть все любуются…
Клоун, очевидно, любил поговорить и, как все говоруны, не умел слушать того, что говорят другие. Среди веселой кукольной компании упорно молчал один толстый немец в желтом фраке и зеленом жилете. Он даже отвернулся от болтуна-клоуна и проговорил:
— Пфуй!.. Все он врет…
— Кто врет? — послышались нетерпеливые голоса.
— И клоун врет, и трубочист врет, — спокойно ответил немец. — Откуда они могут знать, какие бывают магазины?.. А я вам скажу… да… Они попали сюда не прямо из мастерской, а сначала побывали где-нибудь в починке…
— А ты откуда это узнал, что кукол отдают в починку? — зараз спросили клоун и трубочист. — Эге, значит, и ты тоже побывал в починке, Карл Иваныч… Ну, признавайся?
— Что же, я не спорю… да… — бормотал Карл Иваныч. — Меня немножко, того… почистили… Я люблю аккуратность и чистоту. Раньше у меня был красный жилет, а теперь зеленый… да… и башмаки теперь совсем новые…
— Если на то пошло, так и мы тоже побывали в переделке… — признались трубочист и клоун. — Трубочисту приделывали новую ногу… Что же из этого? Не все ли равно хозяину?
— Нет, не все равно! — спорили куклы. — Это обман, а обманывать не хорошо. Почему вы молчали, когда хозяин вас покупал за новых?
— А не мое дело… — спокойно ответил Карл Иваныч. — Ведь не я покупал себе хозяина, а он покупал меня, он и должен был смотреть в оба.
— Все-таки, Карл Иваныч, вы притворялись новой игрушкой!.. Ах, как это нехорошо!.. У вас живот набит паклей, и одна нога короче, а вы делаете вид, что вы настоящий немец… Конечно, наш хозяин добрый человек и верит вам, а все-таки не хорошо.
— Ну, мы потом разберем, что хорошо и что не хорошо… — спокойно говорил Карл Иваныч. — Всякий должен это знать прежде всего про себя, а потом говорить о других…
В ответ послышался из угла, где были свалены в одну кучу дешевые игрушки, чей-то грубый смех, а потом громкий голос:
— Братцы, не верьте хитрому немцу: обманет.
Все оглянулись. У Карла Иваныча даже нос покраснел от злости.
— Я… я… значит, я обманываю… а?!.
— А кто первый осудил других? — продолжал грубый голос. — Э, брат, так не годится…
Это говорил дворник в белом фартуке и с метлой в руках. Он стоял все время в углу и терпеливо слушал общую болтовню, пока не возмутился хвастовством немца. Лежавшие на окне в коробках дорогие куклы посмотрели на него с презрением и зашептались.
— Фи, русский мужик!..
— И он еще разговаривает?!.
— Какой невежа!..
— Благодару к вам, фрейлен, — говорил Карл Иваныч, шаркая ножкой. — А впрочем, не мое дело… В сущности, виноват наш хозяин, который собрал в одной комнате слишком разнообразное общество. Можно ожидать всего… да… Мужик всегда нагрубит, и, кроме того, от него воняет дегтем. Я ведь ни слова не сказал, что все мужики… как это сказать повежливее? Да, я ничего не сказал, что они все глупые, невоспитанные и грубые люди…
Карл Иваныч умел говорить долго и красноречиво, хотя по временам и перевирал русские слова.
Все куклы как-то сразу разделилась на богатых и бедных, вернее сказать, — на дорогих и дешевых. Особенно это было заметно между куклами-женщинами. Куклы с фарфоровыми головками, умевшие закрывать глаза, а особенно те, которые умели говорить «папа» и «мама», совсем не желали смотреть на простых кукол с бумажными головами, в дешевеньких ситцевых костюмах. Особенно важничала французская десятирублевая кукла с рыжими волосами. Она была в настоящем шелковом платье и в шляпе с пером.
— У меня одна надежда, что я когда-нибудь вырвусь отсюда, — повторила она со вздохом, закатывая большие, черные глаза. — Конечно, меня купят порядочные люди, т. е. люди богатые… Говоря между нами, наш хозяин хотя и добрый человек, но я очень сомневаюсь, чтобы он понимал что-нибудь по-французски. И вообще он получил не совсем хорошее воспитание… да…
— А по-моему дело гораздо проще, мамзель, — перебил ее бесцеремонно клоун. — Его в детстве, вероятно, часто били по голове палкой… Очень неприятно, когда бьют по голове палкой. Я это испытал, когда учился своему ремеслу… Нет ничего труднее, как быть клоуном, потому что должен постоянно притворяться перед публикой веселым.
Этот спор прекратился, когда в магазин вошел Андрей Иваныч с новыми покупками.
II
Хлопот по устройству магазина хватило ровно на две недели. Кроме магазина нужно было устроить жилые комнаты: одну Андрею Иванычу, одну Катерине Петровне, кухню и мастерскую. Последняя заменяла и столовую. Мебель была простенькая, комнаты маленькие, и приходилось выгадывать каждый уголок.
— Ничего, устроимся, — думал вслух Андрей Иваныч. — Много ли нужно места живому человеку, Катерина Петровна?
Девушка заведывала всем хозяйством. Она наняла дешевенькую кухарку и сама учила ее, как готовить, сама ходила покупать провизию. Нужно было рассчитывать каждую копейку. Капиталов у дедушки осталось немного, хотя он и не жаловался. Маленькая комнатка Катерины Петровны выглядела даже нарядно, благодаря дешевеньким кисейным занавескам, дешевеньким цветам на окнах, дешевенькому туалету и дешевеньким картинкам на стенах.
— Совсем отлично, Катерина Петровна, — хвалил ее Андрей Иваныч, причмокивая. — Как в лучших домах…
Больше всего времени, конечно, заняло устройство магазина, где нужно было устроить витрины с товаром, сделать выставку в окне, разложить товар подешевле по полкам и т. д.
— Главное, чтобы у покупателя глаза разбегались, и дух захватывало, когда он войдет в магазин, — рассуждал Андрей Иваныч.
— Дорогой и мелкий товар, дедушка, мы в витринах разложим, чтобы не пылился, а дешевый расставим по полкам.
— Так, так, Катерина Петровна, — соглашался со всем дедушка. — Умница ты у меня…
Когда дело дошло до устройства выставки товара в окне, дедушка и внучка чуть не поссорились. Андрей Иваныч устроил все сам и позвал внучку полюбоваться своей работой.
— Хорошо… а?
Девушка посмотрела на его работу и только покачала головой.
— Не хорошо? — удивился старик.
— Да, не совсем, дедушка…
— Вот тебе раз!.. Благодарю, не ожидал… Впрочем, что я тебя спрашиваю: ты еще просто девчонка я ничего не понимаешь.
— Нет, понимаю…
— Нет, не понимаешь!..
Старик даже обиделся. Хлопотал, старался, работал, и вдруг: не годится.
— Дедушка, вы не обижайтесь, — уговаривала его девушка. — Вот вы выставили на самом видном месте дорогую французскую куклу, а платье на ней и выцветет от солнца.
— Ну, положим… гм… пожалуй…
— Мы ее отодвинем в сторонку, где с улицы видно, а солнце не хватает. Потом вы расставили оловянных солдатиков, а их с улицы и не видно… Только будут напрасно место занимать.
— Ну?
— Потом… Одним словом, позвольте мне все устроить самой, а потом посмотрите с улицы.
— Будем посмотреть, как говорят русские немцы. А все-таки ты ничего не понимаешь… — решительно ничего! Просто — дрянная девчонка, которая вздумала учить старика. А курицу яйца не учат… да…
Теперь уж обиделась Катерина Петровна. Даже слезы на глазах показались. В самом деле, за что дедушка называет ее дрянной девчонкой? Скрепя сердце, она принялась за работу, и через полчаса выставка в окне была готова. Андрей Иванович надел пальто и шляпу и вышел на улицу. Он три раза прошел по тротуару — сначала быстро, потом потише, а потом уже совсем тихо.
— Ничего… У Катерины Петровны, действительно, того… есть вкус… — бормотал он про себя. — А ну-ка перейдем на другую сторону.
И с противоположной стороны улицы выставка в окне ничего не потеряла. Особенно хороши были зеленый попугай, трубочист и толстый немец Карл Иваныч. Совсем живые…
Разные блестящие погремушки тоже были недурны.
Вернувшись в магазин, старик молча расцеловал внучку.
— Да, да, есть вкус, а в нашем деле это целый капитал… — бормотал он. — Женщины, вообще, умеют сделать из пустяков что-то такое… этакое, вообще, одним словом.
Мир был восстановлен. Пришлось старику покориться, хотя, несмотря на всю свою доброту, он любил делать все по-своему.
— Если бы я был помоложе, так лучше твоего сделал бы, — оправдывался он. — Глаза у меня притупились… да… Зато вот ты попробуй-ка починить куклу!.. Ага, не умеешь?.. Тут, братец ты мой, нужно вот в этом магазине кое-что иметь. Да…
Андрей Иваныч довольно выразительно постукал себя по лбу пальцами. Девушка и не думала спорить с ним, счастливая своей маленькой победой. Она так любила своего дедушку…
— Да, умный я человек, — в этом вся беда, — бормотал Андрей Иваныч. — Все могу понимать… Значит, что и к чему относится. Другие-то ходят и запинаются, а я на два аршина под землей вижу… Да-с!..
Когда все было, наконец, устроено, оставалось только ждать покупателя. Ведь интересно, кто первый придет… А покупатели уже давно облепили окно, точно воробьи, но, к сожалению, у этих покупателей совсем не было денег. Все это была та беспризорная уличная детвора, которая ютилась по чердакам и подвалам. Андрей Иваныч невольно любовался этими детскими личиками, жадно прилипавшими к зеркальному стеклу окна, не жалея носа, превращавшегося в какую-то белую лепешку. Десятки светлых детских глаз с жадностью рассматривали разложенные на выставке сокровища. К сожалению, полных и розовых, как куклы, детей здесь не было. Большинство были такие худенькие, бледные, заморенные. Эта детвора по-своему ценила разложенный в окне товар.
— А из чего сделан у немца живот? Вот бы посмотреть…
— Куклу бы распороть… Что у нее под платьем?
— Я знаю, — под платьем спрятана другая кукла…
— А вот и врешь: она вся деревянная, а руки и ноги на ниточках…
Ребятишки спорили, толкались и смеялись.
— А хозяин-то тоже походит на старую куклу… У него и зубов нет, а глаза, как у галки.
— Он богатый…
— И, вероятно, очень добрый… Все добрые люди дарят детям игрушки.
С «первым покупателем» вышла целая история. Сначала явился запыхавшийся мальчик, оборванный, грязный, бросил на прилавок три копейки и сказал:
— Французскую булку в три копейки… Только хозяин просил, чтобы получше.
— Здесь, милый, не булочная, а игрушечный магазин, — объяснил огорченный Андрей Иваныч. — Разве не видишь, что в окне разложены игрушки? Потом и на вывеске прямо написано…
— Я не грамотный, — оправдывался мальчик. — А потом перед праздниками во всех булочных на окнах игрушки… потом меня послали сюда из табачной лавочки…
— Ага! Понимаю.
Табачная лавочка была недалеко. Там, между прочим, тоже продавались игрушки, и хозяин хотел посмеяться над новым игрушечным магазином, который будет отбивать у него покупателей.
— Катерина Петровна, этот табачник будет делать нам неприятности, — объяснил Андрей Иваныч.
— За что же, дедушка? Мы, кажется, ничего дурного ему не сделали…
— Как тебе сказать… Ведь тебе тоже было бы неприятно, если бы напротив нас открылся другой магазин игрушек? Это называется, милая, конкуренцией…
Предсказания Андрея Иваныча сбылись. Вторым покупателем явилась простоватая деревенская девушка с жестянкой для керосина, потом опять мальчик, спрашивавший на пятачок ваксы, и т. д. Очевидно, всех их подсылал хозяин табачной лавочки.
— Дедушка, он совсем злой, этот табачник, — жаловалась девушка.
— Нет, Катерина Петровна… Просто, всякий хочет заработать свой кусочек хлеба, и, конечно, обидно, когда его вырывают у тебя прямо из-под носа…
— И все-таки не понимаю, дедушка… Если бы рядом с нами открылся другой игрушечный магазин, конечно, мне это было бы неприятно, но это еще не значило, что я должна была делать неприятности его хозяину.
— Вот это верно, Катерина Петровна. Самое главное, чтобы мы кого-нибудь не обижали… да… самое главное!..
Но табачник не унимался и подослал какого-то пятилетнего мальчугана, который принес в починку лошадку, у которой не было ни хвоста, ни гривы, ни ног.
— Почините лошадку… — серьезно просил он.
Андрей Иваныч даже расхохотался. Очень уж милый был мальчуган. Добрый старик взял безногую лошадку, осмотрел ее и, покачав головой, проговорил:
— Да, тут была серьезная работа… ха-ха!.. Даже и живот распорот… Вот что, мальчуган, так как ты у меня первый покупатель, то я тебе подарю совсем новую лошадку.
Он достал с полки лошадку и передал мальчику.
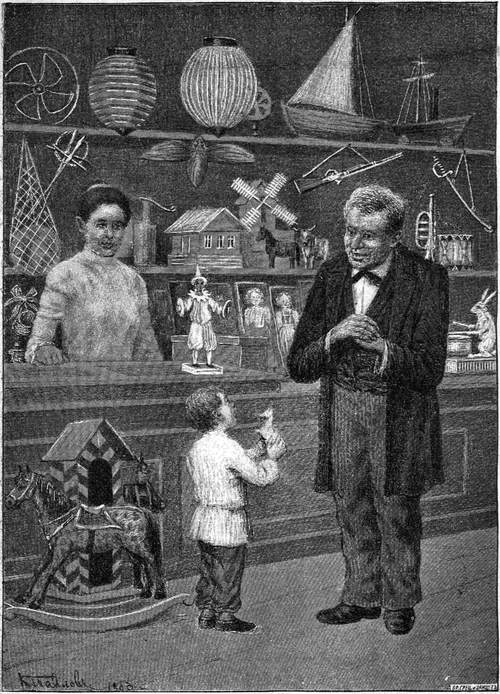 Он достал лошадку и передал мальчику.
Он достал лошадку и передал мальчику.
Тот схватил подарок и, не поблагодарив, опрометью бросился из магазина. А Андрей Иваныч стоял и смеялся.
— Катерина Петровна, это обычай у старинных торговцев: первому покупателю что-нибудь подарить.
Счастливый первый покупатель убежал из магазина, оставив безногую лошадку на прилавке.
III
Покупатели явились как-то разом, один за другим. Конечно, продавались, главным образом, дешевые игрушки. Дедушка и внучка как-то сразу привыкли именно к своему дешевому покупателю.
— Это наши кормильцы, Катерина Петровна, — говорил старик, показывая на полку с дешевым товаром. — Дорогой-то покупатель пойдет не к нам, а на Невский, в дорогой магазин. Дорогие игрушки, конечно, нужно иметь, но только так, для выставки.
Лучше всего шла починка кукол. Андрей Иваныч склеивал какими-то составами расколотые головы, вставлял глаза, приделывал руки и ноги, а Катерина Петровна раскрашивала куклам физиономии, завивала волосы и шила разные костюмы из обрезков и лоскутков, которые покупались в модных магазинах. Здесь все шло в дело: и лоскутки всевозможных материй, и ленты, и бахрома, и тесьма, и обрезки кожи, и картон, и цветная бумага. Вообще, работа кипела, и день казался коротким. Андрей Иваныч работал и покуривал свою коротенькую трубочку-носогрейку, а Катерина Петровна шила и мурлыкала вполголоса какую-нибудь песенку.
 Андрей Иваныч работал и покуривал трубочку, а Катерина Петровна шила и мурлыкала песенку.
Андрей Иваныч работал и покуривал трубочку, а Катерина Петровна шила и мурлыкала песенку.
— Вот что нам скажет Рождество, Катерина Петровна, — часто повторял Андрей Иваныч. — Теперь осень, и покупатель случайный, а тогда всем наш товар на елку понадобится. Пожалуй, двоим и не управиться. Придется прихватить постороннего человека…
— Я боюсь, дедушка, если у нас появится кто-нибудь чужой. Стеснять будет… Теперь мы что хотим, то и делаем.
— Да и я тоже не люблю; а не управиться двоим.
— Теперь какой обед приготовим, тот и хорош… А тогда лишняя работа будет — кормить чужого человека.
Андрей Иваныч отличался старческой болтливостью, т. е. любил поговорить вслух и даже думал вслух. Ведь невеселое дело починивать сломанные игрушки, и старик разговаривал с ними, как с живыми людьми. Он постоянно удивлялся, когда ему приносили какую-нибудь изувеченную куклу.
— Ах, ты, братец ты мой, как это тебя растрепали… а!.. Чистая работа, нечего сказать… Живого места не оставили… И какой это изверг естества так тебя обработал?..
Старику казалось, что куклы его понимают, и не раз он даже слышал, как они разговаривают между собой.
— Что-о? — вмешивался он. — Как ты сказала? Головка болит? Ну, как же ей не болеть, когда она вся расколота… А вот мы набьем ее куделькой, да подклеим, да подмажем, да подкрасим, — боль как рукой снимет. Так я говорю? Ну, что ты на меня свои глупые глазенки таращишь? Ах, глупая, глупая!..
Странно, что стоило только Андрею Иванычу вмешаться в разговор кукол, как они сейчас же смолкали, делали совсем глупые кукольные лица и притворялись, что ничего не понимают.
Это даже огорчало доброго старика, и он начинал ворчать:
— Вот починю вас всех, а потом опять ко мне же вернетесь. Так-то… Тут, брат, нечего хитрить. Да… я у вас в том роде, как доктор: ножку вывихнула куколка, — ножку поправим; глазок выпал, — новый вставим; ручка отвалилась, — приделаем новенькую… Хе-хе! Ну, куда вы без меня, без Андрея Иваныча Пастухова? Отец родной я вам всем, вот что, потому что очень уж я добрый человек…
Особенно красноречив был Андрей Иванович с покупателями и никого не отпускал из магазина с пустыми руками…
— Учитесь, Катерина Петровна, как на белом свете жить, — хвастался он перед внучкой. — Главное, надо уметь зубы заговорить… И не нужно человеку, и не нравится, а купит. Хе-хе…
Девушка иногда смеялась до слез, когда старик разговаривал с покупателями, или когда он начинал разговаривать с своими куклами в магазине. Отворяя утром дверь, он всегда с ними здоровался.
— Ну, здравствуйте, братцы… Уж постарайтесь для старичка. Я для вас хлопочу, а вы для меня… Вон клоун, — он первым выскочил; трубочист тоже не осрамил. А Акулина Ивановна? Самая простая кукла, а сейчас же сумела понравиться… Славная была кукла. Солдатики тоже недурно работают.
 Солдатики тоже недурно работают.
Солдатики тоже недурно работают.
Вот только один у меня франт замешался… Эх, Карл Иваныч, как вам не стыдно: только место напрасно занимаете!.. Совершенно верно вам говорю… Никто и смотреть-то на вас не хочет, потому что вид у вас даже весьма глупый, точно вы мухой подавились. Ну, что вы молчите, Карл Иваныч? Вам и говорить-то лень?..
Почему-то Андрей Иваныч невзлюбил ни в чем неповинного немца и всеми правдами и неправдами старался его сбыть.
Когда подходили покупатели, старик первым делом показывал им ненавистного немца.
— Господа, обратите, пожалуйста, ваше внимание на этого господина: настоящий немец, Карл Иваныч, доктор Киндербальзам, и нос набалдашником… Любит пить пиво, курить трубку… Очень интересная кукла даже для взрослых, потому что имеет самый скромный характер.
Но покупатели не хотели покупать Карла Иваныча, точно на зло, так что Андрей Иваныч даже погрозил немцу кулаком:
— Ты у меня смотри, колбаса!..
Все куклы смеялись над несчастным Карлом Иванычем и дразнили его, а честный немец, как называл себя Карл Иваныч, сердился, краснел и бранился.
— Ничего вы все не понимаете… да! Если я хотел бы сказать правду, так бы сказал про себя, что во всем магазине самая интересная кукла, это — я. Но я скромен, я ничего не говорю…
Но худшее было еще впереди. Одна старушка купила, наконец, Карла Иваныча для своего внучка, — он ей понравился своей немецкой солидностью, — но на другой же день принесла его обратно.
— Обмените его мне на какую-нибудь другую куклу, — просила старушка. — Внучек и смотреть не хочет на немца…
Андрей Иваныч был взбешен и швырнул Карла Иваныча в угол.
— Дедушка, зачем ты сердишься? — говорила Катерина Петровна. — Право, Карл Иваныч не виноват… Вот будут устраивать елки, тогда и его продадим.
— Да, продашь его, толстомордого… Он мне весь магазин портит, колбаса немецкая. Он да еще эта французская мамзель. Тоже, продай-ка ее…
— Она нужна для выставки, дедушка.
— Я тоже думал раньше, да только это пустяки… Если будут покупатели, так придут и без нее. Я вот выдам ее замуж за Карла Иваныча, — больше ничего не остается.
Это выходило очень смешно, но шутка Андрея Иваныча почти оправдалась. На французскую куклу нашлась покупательница, но только очень уж торговалась. Это была нарядная дама, которая хотела сделать сюрприз имениннице-дочурке. Андрей Иваныч уступил все, что мог.
— Сударыня, поверьте, больше не могу, — убеждал он ее. — Право, за свою цену отдаю… Справьтесь в других магазинах: везде дороже.
Дама была очень настойчива и уже хотела уходить, как в голову Андрея Иваныча пришла счастливая мысль.
— Сударыня, уступить я не могу, а могу вам предложить в придачу отличную куклу. У меня есть Карл Иваныч, очень скромный немецкий человек, прекрасного поведения…
Таким образом Карл Иваныч попал в одну картонку с французской куклой и был очень доволен.
— Здравствуйте, мадемуазель…
Модная французская кукла даже ничего не ответила, а только очень невежливо толкнула ногой Карла Иваныча прямо в живот. Карл Иваныч зарычал, как раненый тигр, но в этот момент коробка с куклами очутилась уже на извозчике, и он примирился с своей печальной участью. Дама еще раз вернулась в магазин и спросила:
— У вас производится и починка кукол?
— Да…
— Можете починить какую угодно куклу?
— Очень просто…
— Отлично!.. У нас есть очень старая и очень дорогая кукла, которую мы называем «Бабушкой», потому что ею играла в детстве еще моя мать, потом играла я, а сейчас играет с ней моя дочурка. «Бабушка» немного поистрепалась, и ее нужно поправить… Так я ее привезу вам завтра же.
Действительно, на другой же день дама привезла «Бабушку». Это была очень большая и дорогая французская кукла. Она с презрением осмотрела магазин и проговорила.
— Куда я попала? Фу, какой скверный магазин и хозяин какой-то замухрышка!.. Я родилась в Париже, в роскошном магазине, потом приехала в Петербург и прожила всю жизнь в богатой обстановке.
Куклы наперерыв расспрашивали ее о судьбе проданной Андреем Иванычем французской куклы и Карла Иваныча.
— Это совсем не французская кукла, — объясняла «Бабушка», — а немецкая… Теперь много кукол делают в Германии, а продают за настоящие французские. Вообще, дрянь…
— А Карл Иваныч?
— Ну, этот уж совсем никуда не годится… Ему в первый же день дети отломали нос и распороли живот. Не стоит даже о нем говорить…
IV
Андрей Иванович долго и внимательно рассматривал у себя в мастерской «Бабушку». Она лежала на его большом рабочем столе, закрыв глаза. Старик осматривал ее, как доктор осматривает больного, и время от времени покачивал головой.
— Ну, матушка, видала ты на своем веку виды, — думал он вслух. — Французского-то в тебе только и осталось, что одна голова да левая рука. Все остальное нашей русской работы: и обе ноги, и правая рука, и туловище, и волосы, и платьице.
— «Фу, какой невежа!.. — думала про себя обиженная „Бабушка“. — Настоящий вахлак, который ничего не понимает».
Чтобы угодить даме, избавившей его от дорогой французской куклы и ненавистного Карла Иваныча, Андрей Иваныч обратил на «Бабушку» особенное внимание и принялся за ее починку не в очередь. Ничего, дешевые куклы и подождут… Впрочем, он раз совершенно явственно слышал, как лежавшая с разбитой головой мамка простонала:
— Ох, наскрозь болит головушка… Моченьки моей не стало.
— Ничего, кума, подождешь, — успокаивал ее Андрей Иваныч. — Не велика барыня!.. Придет и твой черед, а теперь потерпи.
Разобрав «Бабушку» по частям, Андрей Иваныч позвал Катерину Петровну и сказал:
— Вот посмотри, как ее обработали пострелы ребята… То-есть места живого не оставили!.. Ах, разбойники! А главное, надо им непременно знать, что у дорогой куклы в середке. Вот и расковыряли всю… Ежели бы, Катерина Петровна, так-то человека можно было починивать! В лучшем бы виде все было…
— Дедушка, твой стол походит на больницу, куда свозят изувеченных и раненых.
— Вот, вот… Настоящая больница. Точно с поля сражения навезли раненых… Ах, ребята!.. И задают же они старику работы! Вот как стараются…
«Бабушка» скоро была приведена в порядок. Катерина Петровна сшила ей новое платье, завила волосы, нарумянила и положила на окно на выставку. Сначала «Бабушка» долго молчала, потому что от усталости не могла выговорить ни одного слова, а потом уже прошептала слабым голосом:
— Где я?
— В магазине, сударыня, — ответил из угла дворник. Значит, в кукольном магазине на Гороховой… Не извольте беспокоиться. Ежели что вам понадобится по нашей дворницкой части, так только кликните.
— Ежели тоже трубы вам почистить… — отозвался с полки трубочист. — Мы вполне можем соответствовать…
— Что вы пристаете к барыне? — вмешался кучер-лихач. — Разве это дамское дело возиться с дворниками и трубочистами? А вот я — другое дело. Сейчас лихо подам лошадь. Извольте садиться, сударыня… Куда прикажите прокатить? Очень даже просто…
— Эй, вы, чумазые! — крикнул на них стоявший на полке деревянный офицер. — Молчать!.. «Бабушка», вы не обращайте на них внимания. Если они еще будут разговаривать, я их всех разрублю пополам, сударыня…
— Ах, благодарю вас, г. офицер!.. — слабым голосом ответила «Бабушка», открывая глаза. — Я так страдала… не могу опомниться… У меня в голове совсем пусто, как у самой дешевой куклы.
— Вероятно, это очень неприятно, — согласился офицер.
Днем куклы могли разговаривать только урывками, когда в магазине никого не было. Их беседы шли, главным образом, ночью, когда магазин запирался. Большинство кукол были новые и совсем не знали, что их ожидает впереди, хотя и были уверены в одном, что всем будет очень, очень весело. Только бы вырваться из магазина. Ничего нет глупее, как торчать по целым месяцам на каких-то дурацких полках без всякого движения. Роптали даже животные, ослик, умевший брыкаться, или корова, умевшая мычать. Сохранял полное спокойствие только один старый козел, которому было решительно все равно, где ни жить.
Прошло несколько дней, пока «Бабушка» успела отдохнуть. Она все время прислушивалась к болтовне кукол и только покачивала головой. Ах, какие они все глупые, и как все ничего не понимают! Ну, вот как есть решительно ничего!.. Под конец она не утерпела и вмешалась в общий разговор.
— Господа, вы ничего не понимаете… да!
— Как не понимаем?
— А не понимаете, как на свете трудно жить… Ах, как трудно, господа!.. Я прожила всю жизнь в лучших семействах и то натерпелась всего. Если рассказывать, так и конца не будет.
— «Бабушка», миленькая, расскажите!..
— Ох, уж не знаю, детки… Стара я стала. Вот и платье новое на меня надели, и нарумянили, и волосы завили, а все старая, потому что очень уж долго жила.
«Бабушка» покашляла, вздохнула и начала свой рассказ.
— Родилась я, детки, в Париже… Далеко это будет. Ах, какой это чудный город!.. Ну, да это все равно, да и я прожила в нем недолго, потому что меня скоро купили и продали в Россию. Да… Я приехала прямо в Петербург и поселилась на Невском. Семья была богатая, а детская вся была просто завалена игрушками. Детей было всего двое, — девочка и мальчик. Девочка очень меня любила, берегла и ласкала, а мальчик… Я даже теперь без ужаса не могу вспомнить о нем, хотя он уже давно умер. Дослужился до генеральского чина и умер. Ну-с так этот мальчик однажды рассорился с сестрой и, чтобы досадить ей, засунул меня в клетку к попугаю. Можете представить, что из этого вышло… Ужасно даже вспомнить. Отвратительнее птицы, как попугай, нет. Это всем известно, а между тем в богатых домах везде держат попугаев… Он жив и сейчас, ему уже больше ста лет. Да, так, когда я попала в клетку, попугай набросился на меня, как сумасшедший… Первым делом ободрал у меня все волосы на голове, потом разорвал все платье, потом распорол живот и вытащил всю вату… Можете себе представить, в каком виде нашла меня моя маленькая хозяйка. Бедняжка горько плакала, а будущего генерала лишили четвертого, сладкого блюда, и поставили в угол. Тогда я в первый раз попала в починку… Потом меня надолго оставили в покое, потому что мою барышню отдали в институт. Потом она выросла большая, вышла замуж, у нее родилась девочка, и она вспомнила обо мне. Эта маленькая девочка тоже выросла большая, вышла замуж и подарила меня свой девочке… От нее я натерпелась не мало. Злая была девчонка и оборвала мне руки и ноги.
— Ах, какие вы ужасы рассказываете, «Бабушка»! — пропищала одна кукла, закатывая глазки. — Этак и жить на свете не стоит…
Другая кукла толкнула ее в бок и прошептала:
— Старушка немного, того… привирает…
— «Бабушка», не все же дети злые!
— Я этого не говорила, что все злые, — оправдывалась «Бабушка». — А только случается терпеть от них неприятности… Это даже не злость, а просто непонимание. Дети еще не умеют ценить чужой труд…
— Это богатые дети такие злые. Они избалованы…
— Дети везде одинаковы. Впрочем, я бедных детей не видала.
«Бабушка» рассказывала, каждую ночь что-нибудь новое, припоминая свою долгую жизнь. Это начинало уже надоедать, потому что все богатые люди одинаковы, да и богатых людей так немного на свете.
— «Бабушка», скучно, — заявил кто-то. — Вероятно, твои богатые люди очень скучают, потому что им нечего делать…
— Бывает и скучно, а все-таки все стараются разбогатеть, детки, — добродушно объясняла «Бабушка».
«Бабушке» и самой надоело торчать в магазине без, всякого дела. Она тоже скучала. Очень уж простые куклы были, ничего не понимали, и не с кем слова сказать… А ее хозяйка и не думала приезжать за ней.
— Этак можно с ума сойти… — ворчала нарумяненная старушка, закатывая глаза. — И говорить совсем разучишься…
— Потерпите, «Бабушка», — уговаривал ее офицер. — Другие ждут, и вы потерпите…
— И то всю жизнь терплю…
Хозяйка «Бабушки» явилась за ней только через месяц и привезла в починку изуродованного Карла Иваныча.
— Это совсем скверная кукла, — жаловалась она Андрею Иванычу. — А вы еще так расхваливали… Посмотрите, что с ней сделалось.
Андрей Иваныч внимательно рассмотрел искалеченного немца и только головой покачал.
— Д-да, хорошо над ним поработали, нечего сказать… — бормотал он. — И починивать почти нечего. Лучше нового немца сделать…
— А вы все-таки поправьте его, — просила дама. — Детям эти куклы очень нравятся. Такой смешной немец… Подай им непременно вот этого немца. Такие смешные…
Карл Иваныч лежал на столе и жалобно стонал.
— Ах разбойники, что они со мной сделали… — жаловался Карл Иваныч.
V
Починки у Андрея Иваныча набиралось все больше и больше, так что ему пришлось взять помощника.
— Этак скоро и кукол совсем не будут покупать. — ворчал старик. — Ох, уж эти ребята!.. Ведь дарят им новые куклы, так нет, подавай им старую. А есть новые, — опять все исковеркают.
Катерина Петровна не жаловалась на починку и с удовольствием шила на них костюмы, одевала и всячески наряжала. За работой она или мурлыкала какую-нибудь песенку, или разговаривала с куклами, как с живыми людьми. Ей казалось, что они отлично ее понимают, а только не умеют говорить. Она особенно любила дешевеньких кукол, которых покупали небогатые люди. Сколько радости приносила с собой в какую-нибудь бедную квартиру вот такая дешевенькая куколка, какими ласковыми словами ее осыпали, как с ней няньчились, — вообще, любили до того, что, в конце-концов, такая любимая кукла превращалась в тряпку. Одевая кукол, девушка припоминала свое собственное детство. У нее было так мало кукол, и она по целым часам любовалась ими в окнах игрушечных магазинов. Теперь ей иногда казалось, глядя на прильнувшие к стеклу их магазина детские личики, что это опять она любуется чужими куклами, и ей страстно хотелось подарить каждому бедному ребенку по кукле. Если бы она была богатой, она так бы и сделала.
Пусть и бедные дети порадуются… Она ходила бы по чердакам и подвалам, где ютятся самые бедные дети, и потихоньку, как добрая фея в сказке, оставляла игрушки, чтобы потом слышать радостный детский лепет, неудержимый смех и те милые, ласковые слова, какими только дети разговаривают со своими игрушками.
Рождество было уже не далеко, и число покупателей увеличивалось с каждым днем, так что дедушка с внучкой едва успевали управляться.
— Нет, кончено: закрываю свой лазарет, — решил Андрей Иваныч. — Ни одной куклы не возьму сейчас в починку… Не разорваться же в самом деле!
Торговля шла бойко. Товар так и рвали. Приходилось добавлять новым. Из старых кукол почти никого не оставалось, а новые не успевали даже хорошенько познакомиться между собой, потому что их сейчас же по купали. Место для магазина было выбрано самое удачное, и Андрей Иваныч только потирал руки от удовольствия.
— Катерина Петровна, посмотрите на меня: ведь умный я человек? — хвастался он. — Мне бы не куклами торговать, а быть министром… хе-хе!.. Вот какое место усмотрел: нельзя пройти мимо магазина, чтобы не купить игрушки!..
Катерина Петровна ничего не отвечала. Она и радовалась, и чего-то боялась. Есть примета, что когда уж очень хорошо идет дело, то это не к добру. Она даже не любила считать дневную выручку вечером, когда проданный за день товар записывался в книгу.
Мастерская бездействовала. На рабочем столе Андрея Иваныча в беспорядке валялись искалеченные куклы, напрасно ожидавшие своей очереди поступить в починку.
— Что же это такое, господа?!. — негодовал Карл Иваныч, починенный только наполовину. — У меня голова держится на одной ниточке, правая рука оторвана, а костюм в таком беспорядке, что стыдно в люди показаться.
— Главное, праздник на носу… — жаловался кто-то. — Все будут хорошо одеты, все будут веселиться…
— Рождество — наш праздник!..
— А как весело, господа, быть на елке!.. Сколько огней, сколько веселья, а главное, — все тобой любуются. Очень приятно…
Куклы-калеки без конца рассказывали о своих приключениях, где и как жилось. Большинство прожило свой недолгий кукольный век недалеко от магазина Андрея Иваныча, — на Гороховой и Садовой улицах с ближайшими переулками. Население здесь, главным образом, торговое, и покупателями игрушек являлись лавочники, приказчики, ремесленники. Народ все трудовой, занятый своим делом с утра до вечера. Дети до школьного возраста предоставлены самим себе и рано привыкают к самостоятельности. Они и своих кукол заставляют работать или торговать и строго с них взыскивают за разные воображаемые провинности. На чердаках и в подвалах куклам достается еще тяжелее.
— Да, трудненько на свете жить нашему брату, — со вздохом повторяли куклы. — И еще нас же называют глупыми куклами…
— Никакого уважения! Бывают, конечно, хорошие дети, которые любят и берегут своих кукол, но их, к сожалению, слишком немного…
Куклы рассуждали разумно, как взрослые люди. Некоторые даже были рады отдохнуть в починке, хотя и не высказывали этого прямо. Один Карл Иваныч никак не мог успокоиться и продолжал роптать.
— Главное: праздник скоро, и я останусь без жилета… — ворчал он, мотая головой. — Разве это порядок? Я привык к порядку и чистоте, а тут везде грязь и пыль… тьфу!..
Рождественский торг прошел самым блестящим образом. У Андрея Иваныча появились даже «лишние деньги», как он называл свой торговый барыш.
— Ого-го! Да мы скоро будем миллионерами, Катерина Петровна, — говорил вслух старик.
— Дедушка, перестань… — уговаривала его девушка. — Нехорошо.
Но Андрея Иваныча трудно было удержать. Он надевал свои очки, брал карандаш и бумагу и начинал высчитывать вслух.
— Мы к Рождеству заработали больше пятисот рублей… хе-хе!.. А в год заработаем и всю тысячу… Так? Нужно принять во внимание, что дело у нас новое, т. е. что мы не успели еще приспособиться к нашей публике, да и товара было маловато. Так? На следующий год тысячу мы заработаем к одному Рождеству… В пять лет это составит пять тысяч, в десять лет — десять тысяч.
— Ах, дедушка…
— Молчи, глупая!.. Не о себе хлопочу, — много ли старику нужно? Да… А тебе будет хорошее приданое… Богатая у меня невеста будет… Но это пустяки, а главное — свой кусок хлеба уметь заработать честным трудом. Так я говорю, Катерина Петровна? Будем понемногу откладывать копеечку про черный день… А потом можем и получше магазин открыть где-нибудь на Садовой! Там уж совсем бойкое место…
Андрей Иваныч был неисправимым мечтателем, чем не мало огорчал Катерину Петровну.
Предчувствия Катерины Петровны сбылись. Перед самым Рождеством Андрей Иваныч разболелся.
— Это я от усталости, — точно оправдывался старик. — А может, и ветром прохватило… Магазин-то постоянно отворяли, ну, с улицы холодный воздух и дул. Тоже и года, Катерина Петровна… Не молодое мое дело.
Пришлось обратиться к доктору, который определил, что у Андрея Иваныча воспаление легких. Катерина Петровна потихоньку горько плакала. Старик морщился, когда она приходила с заплаканными глазами.
— Не следует так малодушествовать, Катерина Петровна… — уговаривал он внучку. — В свое время всякий человек умрет… да. О чем же плакать? И ты в свое время тоже умрешь…
Все это, конечно, было плохим утешением, и девушка продолжала плакать. Ведь она так любила своего хорошего дедушку… Да и родных никого у нее не было. К Андрею Иванычу иногда заходили какие-то старички, пили чай, толковали о своих стариковских делах, жаловались на дороговизну и на свои старческие недуги, но девушка чувствовала себя среди них чужой.
Болезнь шла своим чередом. Девушка пришла в полное отчаяние, когда Андрей Иваныч терял сознание и начинал бредить. Он не узнавал даже ее, соскакивал с своего дивана, который заменял ему постель, и все старался куда-то уйти. Катерина Петровна дежурила у него день и ночь и спала, сидя в старом кресле. Молодой доктор успокаивал ее, хотя и напрасно. Разве могут быть в такие минуты какие-нибудь утешения?
Андрей Иваныч лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Его томил жар, а еще больше томили галлюцинации. Он бредил своими игрушками, которые окружали его, как рой пчел, наполняли всю комнату и страшно давили его. А как они пищали, стрекотали, жужжали!.. Андрею
Иванычу казалось, что у него даже в голове шевелятся эти куклы, наконец, что он сам — тоже кукла, отданная в починку. Ах, как все это было мучительно!..
— Катерина Петровна… ведь я старая кукла, которую тебе принесли в починку? — спрашивал он слабым голосом.
— Нет, ты мой миленький дедушка… Доктор не велел миленькому дедушке много говорить.
— Да, да, понимаю… Он хочет мне приклеить новую голову.
Как долго шли две недели!.. Особенно тяжело было по ночам, когда время точно останавливалось. Ровно через две недели Андрей Иваныч в первый раз уснул спокойно.
— Благодарите Бога, это — кризис, — объяснил доктор. — Теперь все пойдет отлично…
Старик проспал почти целые сутки, а потом проснулся и точно не узнал собственной комнаты.
— Внучка, где я?
— У себя дома, миленький дедушка…
— Ах, как я далече был!.. Как я устал!..
Наступила великая радость, и Катерина Петровна плакала от этой радости. А вдруг бы не стало дедушки?.. Нет, лучше об этом не думать.
Андрей Иваныч быстро понравился, благодаря своему крепкому организму. Он подробно рассказал о мучивших его во время болезни галлюцинациях.
— Знаешь, Катерина Петровна, а ведь мне и сейчас кажется, что куклы живут и все понимают, — говорил он. — То-есть, они не совсем живые, а в этом роде…
— И мне тоже иногда кажется, дедушка…
— Вот, вот… Ну, тебе-то еще это рано, кажется, а я уж обращаюсь в детство, и скоро, вероятно, сам буду играть в куклы.

НА ЛИНИИ
Рассказ

I
Трудно сказать, почему Николай сделался железнодорожным сторожем. Сам он никогда не думал, что придется коротать остаток жизни в будке на линии железной дороги и притом коротать совершенно одному, а в сорок лет одиночество тяжело.
Секрет всех житейских неудач заключался том, что он как-то умел везде опоздать. Рассчитывает, соображает, надеется, а, смотришь, уж кто-нибудь другой предупредил его.
— Ну, чем же я виноват? — говорил Николай, оправдываясь перед самим собой. — Кажется я-то ни у кого и ничего не отнимал…
Товарищи посмеивались над добродушием Николая и выхватывали у него лучшие куски из-под носу. Он из деревни двадцатилетним парнем попал в солдаты, служил исправно и чуть не дослужился до унтер-офицера, но опоздал, и вместо него назначили другого; потом он мечтал занять место швейцара в одном из богатых петербургских домов, где так хорошо живется швейцарам, но и тут он ухитрился опоздать раз десять. Нечего делать, отправился к себе в деревню, но и там все было захвачено: в отцовской избе жил младший брат, земля была давно разверстана — одним словом, солдату тут нечего было делать.
— Какой же ты крестьянин, когда у тебя и жены нет, — говорили ему деревенские мужики. — Да и жениться ты опоздал…
Действительно, Николай остался холостым и не подумал раньше об этом.
Подумал, подумал он и решил: что же, свет не клином сошелся, да и много ли одному нужно. Пожалуй, и хорошо, что не женился, а то теперь пришлось бы кормить и жену, и ребятишек.
Пошел Николай искать работу на железной дороге. Кажется, уж тут ли не быть работе, да еще у Николая был знакомый жандарм Егоров на одном полустанке. Николай к нему. Егоров только руками всплеснул.
— Ведь вот какой случай: только вчера наняли сторожа, который в колокол звонит на платформе. Уж лучше тебе этого места и не найти… И тепло, и светло, и работа не трудная, и на чай иногда от проезжающих перепадет.
— Уж, видно, у меня такая судьба, — жаловался Николай. — Везде-то я опоздаю… Удивительно, как это другие умеют устроиться. Вот если бы я получил тогда унтер-офицера, так мог бы поступить в швейцары, а то простого солдата не берут.
— Да, трудненько добывать места, — жалел Егоров. — А впрочем я ужо похлопочу… Есть тут у меня знакомая кухарка, она служит у начальника станции — при случае замолвит словечко. Все от счастья, братец, зависит…
Идти дальше было некуда, и Николай остался на станции. Жил так себе, без всякого дела и собственно не жил, а только перебивался. Сегодня одному поможет, завтра другому — глядишь, и накормят. На Николая напало упрямство, и он сказал самому себе: не уйду, покуда не достану себе места. Ночевал он потихоньку на вокзале, а кормился кой чем. Он часто проходил мимо кухни в квартире начальника станции. В окно всегда можно было видеть краснощекую, здоровую кухарку Анисью. Николай идет мимо и снимет шапку. Потом как-то в праздник познакомились.
— И что это, Николай, такой ты мужчина, молодой, здоровый, а шляешься без всякого дела? удивлялась Анисья. — Даже тошно смотреть на тебя… Вот я — баба, а и то при своей должности состою.
— А видно ты счастливее меня… Стараюсь, а ничего не выходит. Только бы место найти, так я сейчас бы…
— Что: сейчас-то?
— Да женился бы… Надоело одному жить.
— Самому есть нечего, а ты жениться, — смеялась Анисья.
— Вот отыщи место, так я на тебе и женюсь, — говорил Николай серьезно. — Вместе бы стали жить… Ты бы кухаркой, а я где-нибудь тут же, на станции.
Анисье нравился безответный, скромный солдат, и, пожалуй, она пошла бы за него замуж, но все дело в месте. При случае, она замолвила словечко барину, но тот только развел руками — было место сторожа, да сплыло.
— Пусть подождет твой солдат, — сказал начальник. — Кто знает, может быть, и место где-нибудь освободится…
Живет Николай на станции месяц, два, целых полгода и все думает о том, как было бы хорошо жениться ему на Анисье и зажить своим домком. Не хорошо завидовать другим, а все как-то думается. Ведь, вот сторож, который в колокол звонит, как он хорошо устроился. А и вся разница только в том, что он раньше пришел на станцию, а Николай, по обычаю, опоздал. Раздумается Николай о стороже и начинает его ненавидеть, зачем он его место захватил, а потом раздумается, что у каждого свое счастье, и сделается ему совестно.
А сторож, как на зло, раз и говорит Николаю:
— Что это ты, Николай, зря проедаешься здесь и даром только баклуши бьешь. Потом, пора и честь знать… Шел бы куда в другое место.
— А я тебе мешаю? — озлился Николай.
Чуть он не поругался со сторожем. Очень уж обидно, что сторож попрекнул чужим хлебом.
— В самом деле надо уходить, — решил Николай, раздумавшись. — Сторож-то прав, хоть и занял мое место. Хорошо ему разговоры разводить, когда сыт, одет и при своем месте…
Николай даже совсем собрался было уходить, как Анисья прибежала на станцию, разыскала его и сказала, что есть свободное место сторожа.
— Вот и тебе счастье выпало, Николай.
Так и попал Николай сторожем, хотя и тут ему досталась самая плохая будка, — совсем в лесу и далеко от станции. Ну, да он и этому был рад — не из чего было выбирать.
— Ты, Анисья, не забудь, что я тебе говорил, — сказал Николай, отправляясь на новую службу. — Вот только устроюсь и женюсь на тебе.
II
Поселился Николай в своей будке и первое время был очень счастлив. Много ли одному человеку нужно? А тут еще и квартира готовая, дрова под боком, можно свой огород развести, даже можно и коровку купить. Одним словом, хорошо. И работа не трудная. Обошел свой участок, встретил поезд, и конец тому делу. Правда, что поездов было много, и они надоедали по ночам, но нет худа без добра и добра без худа. А двадцатого числа получай жалованье десять рублей. Очень даже достаточно, да и куда девать деньги в лесу?
Живет Николай у себя в будке месяц, другой, кой-чем обзавелся по хозяйству, справил одежу и вспомнил про Анисью. А хорошо бы теперь жениться… Анисья и обед бы приготовила, и сшила, что нужно, и огород развела бы, и за коровой походила бы — одним словом, полное хозяйство. Главное, двоим то веселее.
Еще прожил Николай два месяца, нарочно не получал жалованья и отправился на станцию, где жила Анисья. Приходит. Встретил жандарма Егорова. То, се, поговорили, а потом Николай и спрашивает:
— А что Анисья?
— А тебе ее на что?
— Да так… Мы с ней как то тут говорили. Одним словом, хочу, брат, жениться. Самая для меня подходящая баба…
Жандарм только рассмеялся.
— Чудак же ты, Николай… Вот уж месяц, как твоя Анисья вышла замуж за того самого сторожа, который твое место занял. Ты опоздал, брат…
Подумал-подумал Николай, жаль ему стало Анисьи, а с другой стороны, может быть, и сторож человек хороший — что же, его счастье. Значит, так судьба. Все-таки захотелось ему повидать молодую. Анисья немного смутилась, когда его увидела и проворчала:
— Что же мне тебя было ждать, Николай? Да и не велика радость в лесу с тобой жить, а здесь все же на людях, да и я на службе служу. Муж одно жалованье получает, а я другое…
— Это ты правду говоришь, Анисья. Ну, прощай, будь счастлива…
Анисье опять сделалось совестно дай жаль Николая, — хороший и смирный мужик. Хотела она что-то сказать ему на прощанье, да только махнула рукой. Что тут будешь говорить, когда дело сделано!
Получил Николай свое жалованье и пошел назад, в свою будку. Бедному человеку и погоревать некогда — служба не ждет. Идет Николай и ропщет. Нигде то ему нет удачи… Ну, не опоздай он тогда — служил бы сторожем на станции, женился на Анисье, получал бы жалованье, а она другое. Почему же так устроился другой, а не он, Николай? Ах, не хорошо, а главное — скучно. Пожалуй, и новой своей службе не рад: заест одного тоска в лесу.
Идет Николай и ропщет, а когда пришел домой — все ему сделалось не мило. Раньше-то все мечтал и так и этак устроиться, а тут вдруг ничего не нужно.
— Эх, такой уж я, значит, несчастный родился, — подумал Николай. — Везде опоздаю…
А тут, как на грех, еще весна. Снег стаял, зазеленела первая травка, распустилась березка, защебетала разная птичка в лесу. Смотрит Николай, слушает, а сердце так и ноет. Вот и птичка Божья радуется, потому что не одна. Гнездышко себе вьет, хлопочет и своим птичьим голосом наговаривает, что всем она довольна. Ведь, самая малая птичка, и та счастлива. Да, и солнышко греет, и птичка щебечет, и травка зеленеет, а Николая еще сильнее давит тоска. Солнышко то для счастливых светит…
Начал задумываться Николай. Летят поезда один за другим, на поездах мчатся тысячи людей, куда-то торопятся, кто-то их ждет, у каждого своя забота, а главное — все могут ехать, не то, что он — сиди в своей будке, как сыч в дупле. И вперед едут люди, и обратно едут, и конца им нет. И будут ехать, когда Николая не будет, и другой сторож займет его будку. Николаю почему-то начало делаться обидно, что другие едут, а он точно привязан к своей будке.
— А ежели бросить службу? — начал думать Николай. — Лучше голодать да на воле…
Очень скверно чувствовал себя Николай все лето. Даже похудел с тоски.
Что это с тобой? — спрашивал жандарм Егоров, когда он приходил на станцию за жалованьем.
— А так, нездоровится…
Николаю не хотелось разговаривать даже со старым благоприятелем, точно тот в чем-то провинился пред ним.
Опять живет Николай в своей будке. Прошла весна, прошло лето, наступала осень. Пожелтел лист на дереве, жалобно шелестела высохшая трава, весело певшие весной птички улетели в далекие теплые края. По целым дням лил дождь, а по ночам завывал голодным волком холодный осенний ветер.
Раз, в ожидании поезда, Николай сидел у огонька. Он часто делал теперь это: разложит огонек перед будкой и сидит. Весело трещит пламя, и чем-то живым оно кажется. Сидит Николай и видит: идут двое мужиков. Подошли, поздоровались.
— Можно обогреться у огонька?
— Милости просим… Откуда бредете?
— А мы из Питера… Значит, мостовую мостили, а теперь домой собрались.
— Отчего же вы не по чугунке.
— Да капиталу не хватило на двоих… — объяснил мужик помоложе. — У меня то были, а вот у товарища не хватило. Разнемогся он, пролежал в больнице и ни с чем домой идет, а там семья, ребятишки. Кормильца ждут, а он едва на ногах держится. Вытянулся на работе…
Вольной мужик едва дышал от усталости и ничего не говорил.
— Может быть, вы поесть хотите? У меня вон и картошка варится…
Совестно было мужикам признаться, что они целый день ничего не ели, но делать нечего. Поблагодарили доброго солдата, закусили, отдохнули и пошли дальше.
— Этакое тебе счастье, — говорил на прощанье больной мужик. — Все-то у тебя есть, и работа не трудная… Кажется, месяц бы так-то пожил, отдохнул… Ну, да всякому свое. Прощай…
Остался Николай один, и сделалось ему совестно, что он кому-то завидовал, а сам сыт, одет, имеет свой угол и, главное, здоров. Все у него больной мужик из головы не выходит… Где-то он теперь? Дошел он живой до дому, или нет? Как-то перебивается его семья без работника? Ох, много горя ходит на земле…
III
Зима была бесснежная, с частыми оттепелями. В народе ходила глухая молва о будущем неурожае. Старики припомнили свои старые приметы. Действительно, наступила весна, холодная и ветряная, а потом дождливое, серое лето. Хлеб плохо родился повсеместно. Едва собрали семена. Все думали о страшной, голодной зиме. Николай тоже думал и говорил о голоде, но ему нечего было бояться — и жалованье получит, как всегда, и деньжонки кой-какие припасены про черный день.
Наступила осень с дождями и холодным ветром. В поездах ехало меньше народу. Вдоль полотна железной дороги шли толпами голодные рабочие, искавшие работы. Николай по ночам боялся, что как бы его не убили. С голода у людей мутится ум. Ему начинало казаться, что эти голодные люди каким-то чутьем слышали, что у него припрятано в сундуке целых двести рублей, которые он скопил в течение шести лет. Он их теперь чаще пересчитывал и перепрятывал с места на место.
Раз, когда он пересчитывал свои деньги, в будку неожиданно взошла женщина. Николай вздрогнул.
— Тебе что нужно, милая? — спросил он сердито, пряча деньги за пазуху.
Женщина смутилась и как-то умоляюще посмотрела на дверь. Николай только теперь заметил, что она еще совсем молодая, но такая худая, точно после болезни.
— Я-то не сама пришла, а вот мальчоночко… ослаб в дороге… заговорила она со слезами в голосе. — Присел у канавки и плачет… «Мамка, не могу дальше идти»… Конечно, он глупый, Васька… Затощал в дороге, а покормить его нечем… Вот я и пришла…
Договорить она не могла, а только опустила глаза, полные слез.
Николай понял, в чем дело, и вышел. Мальчик, действительно, сидел у канавки и плакал. Он был такой худенький и напрасно прятал замерзшие худые ручонки в мокрые рукава рваного, худого пальтишка.
— Эй, Васька, иди в будку погреться…

Мальчик недоверчиво посмотрел на Николая, молча поднялся и пошел за ним.
— Вот мы сейчас утешим мальчугу, — радостно говорил Николай, вытаскивая из печи горшок с кашей. — Васька, хочешь каши? Да и матка поест вместе. Садитесь к столу. Тебя как звать-то, умница?
— Матреной…
— Ну, вот, и отлично…
Гости присели к столу. Васька с жадностью накинулся на кашу и несколько раз чуть не подавился. Мать стеснялась есть и отламывала хлеб маленькими кусочками. Она несколько раз пробовала отодвинуть горшок с кашей от Васьки, который продолжал есть с прежней жадностью.
— Пусть поест, не тронь… остановил ее Николай. — Ты это в Питер бредешь? В ученье мальчугу ведешь?
Матрена рассказала, что она вот уже с год, как овдовела. Семья у них большая, а тут голод. Хлеб вышел, и каждый кусок на счету. Большаки начали на нее взъедаться за мальчика, что он даром хлеб ест. Под конец и хлеба не стало. Вот она и надумала уйти в Питер и отдать мальчика в обученье куда-нибудь к сапожнику, а сама наймется кухаркой.
— Так, так… говорил Николай. — Только тяжело будет мальчуге-то в учениках…
— Уж что делать, так видно ему на роду написано…
Николай оставил Матрену с Васькой переночевать. Мальчик, все равно, не мог идти дальше. Гости улеглись рано и сейчас же заснули мертвым сном, а Николай лежал и все думал. Куда денется несчастная баба в городе? Куда определится Васька? Попадет он куда-нибудь к пьяному сапожнику, и будут его бить походя, пока не вырастет большой и не сделается таким же пьяницей. А теперь такой славный мальчуган… И всего — то пять-шесть лет его покормить — человеком будет. Много разных других мыслей было у Николая в голове, и он почти не спал всю ночь, а утром сказал Матрене:
— Оставайся у меня пока… Жалованья я тебе платить не могу, а сыта и одета будешь и мальчика при себе оставишь.
Подумала-подумала Матрена и осталась, потому что жаль ей было сына отдавать в ученье.
Через месяц Николай пришел на станцию за своим жалованьем. Жандарм Егоров увидел его и сказал:
— Ну, теперь, Николай, не зевай… Сторож-то, который твое место занимал, помер. Ступай скорее к начальнику станции…
— Нет, брат, я не пойду…
— Ах, ты, глупый! Ты и на Анисье теперь можешь жениться… Баба хорошая и жалованье получает. Вот как заживете… А я буду к вам чай приходить пить.
— Не надо…
Николай помялся и рассказал про Матрену. Тоже хорошая женщина. Скромная, работящая — воды не замутит. Теперь будку-то и не узнаешь… Да и мальчик любопытный. Смышленый такой. И то ему расскажи, и другое, и третье. Скоро и большой вырастет. Ну, тогда на своих ногах — скатертью дорога на все четыре стороны.
— Жениться, что ли, хочешь? — спросил Егоров.
— Около этого… Выходит, значит, такая судьба. Главное, мальчуга-то пропал бы в городе… Жаль.
— Что же, дело хорошее… — сказал Егоров, подумавши. — Ужо я как-нибудь к тебе на дрезине приеду.
Через полгода Николай женился и зажил по новому. Около его будки был разбит небольшой огородик, бегали куры, и мычала коровка — новокупка. Когда Николай уходил на линию, вместо него с зеленым флагом встречал поезд Васька.
Николай больше никому не завидовал и только удивлялся, куда это люди так торопятся, зачем так хлопочут и суетятся, когда так немного нужно каждому…

SUUM CUIQUE[2]
Рассказ
I

не съездить ли к о. Якову? — вслух подумал о. Андрей, старичок лет шестидесяти, сгорбленный и худенький, с реденькой бородкой и добрыми глазами.
Кругом все точно приглашало почтенного старичка к осуществлению этой мысли. В открытое окно смотрел такой чудный летний день. Купы рябин и черемухи стояли, не шелохнувшись. Из садика несло запахом свежей травы. Тишина нарушалась только гуденьем пчел. По голубому небу, в недосягаемой выси плыли белые облака. Вообще, все было отлично.
— Отчего бы не съездить к о. Якову? — повторил о. Андрей, выглядывая в окно.
Домик у о. Андрея был небольшой деревянный, но такой уютный и добродушный. У дома был разбит садик. Из-за живой стены рябин и черемух виднелась каменная заводская церковь, а за ней поднимались невысокие лесистые горы. О. Андрей жил один. Старушка жена умерла несколько лет тому назад, а дети выросли и разлетелись в разные стороны. Старческое одиночество чувствовалось о. Андреем больше всего именно в такие хорошие летние дни, когда его охватывала какая-то неопределенная тоска.
Был вызван кучер Ефим, он же дворник, садовник и чиновник особых поручений. Это был довольно хмурый старик, глядевший куда-то в сторону. На последнем основании о. Андрей считал его очень хитрым.
— Еще что-нибудь сделает, — думал иногда о. Андрей, наблюдая своего верного слугу. — Если у человека совесть чиста, то он будет смотреть прямо в лицо, а не в сторону. Кто его знает, что у него на уме… Непременно нужно будет ему отказать и взять другого кучера.
Так думал о. Андрей и не один раз откровенно высказывал свои мысли Ефиму. Но последний ни мало не смущался и отвечал одно и то же:
— Такой уж уродился, о. Андрей… А что касаемо отказа с места, так куды я пойду? Слава Богу, скоро двадцать лет, как служу тебе… Одним словом, некуда мне идти.
О. Андрей соображал про себя и соглашался, что, действительно, Ефиму некуда идти.
Вызванный со двора Ефим стоял в передней и тяжело переминался с ноги на ногу. О. Андрей вышел к нему и нерешительно проговорил:
— А не съездим ли мы к о. Якову, Ефим?
— А отчего не съездить?.. — ответил Ефим, глядя в угол.
— Ты думаешь, хорошо?
— На что лучше… Вёдро
[3] стоит вот какое.
— Ну, а как Сивко?
— Што Сивко, — в огороде траву ест. Одним словом, лукавая скотина…
— Не нужно так говорить, Ефим! — наставительно заметил о. Андрей. — «Блажен, иже и скоты милует»… Сивко не виновен, что состарился. Я его купил еще по четвертому году. Двадцать лет выслужил…
— В самый раз продать его татарам на мясо. Рубля три дадут. Вон у о. Якова пара коней… Коренник-то — загляденье, только держи!
— Ты бы не удержал, Ефим…
— Пожалуй, и не удержал бы… — уныло согласился Ефим, продолжая глядеть в угол. — Состарился я… Вместе с Сивком двадцать лет служим тебе…
— Хорошо, хорошо… Ступай, закладывай!
Ефим пошел к дверям, потом вернулся и спросил:
— Так закладывать, што ли?
— Сказано: закладывай! Ах, какой ты!..
У Ефима была дурная привычка спрашивать одно и то же по десяти раз. Он вернулся из сеней и еще раз спросил, закладывать ли лошадь. О. Андрей знал, что он вернется, и немного рассердился. Выжил совсем Ефим из ума, и нужно будет ему отказать.
Собраться в гости к о. Якову, т. е. проехать целых девять верст, — для о. Андрея было настоящим событием. Он собирался битых часа два. Не забыть бы чего-нибудь (забывать было решительно нечего), не испортилась бы погода, не случилась бы какая-нибудь неотложная треба, не сломалось бы колесо дорогой, не захромал бы Сивко и т. д. Ефим все это время закладывал лошадь, ворчал себе под нос и мотал уныло головой.
— Разве это лошадь? — повторял он, без всякого основания тыкая Сивка в бок. — Волки и те не станут есть…
Сивко, действительно, был стар. Натруженные ноги были согнуты в коленках, нижняя губа отвисла, во всем теле сказывалась старческая худоба, на левый глаз он почти ничего не видел.
«Его и корм не берет», думал Ефим. — «А еще называется поповская лошадь»…
Когда закладка кончилась, Ефим отправился в переднюю и громко спросил:
— Ехать, што ли?
— Сейчас выхожу, Ефим. Вот только нужно Матрене наказать… Уедем, а тут не знаю, что может случиться.
Перед отъездом о. Андрей обошел все комнаты, запер все двери и окна, спустился в кухню и долго читал глухой кухарке Матрене наставления, как нужно себя вести, когда кухарка остается в доме одна.
— Понимаешь: я уезжаю, объяснял он, — а ты остаешься одна… Совсем одна в доме.
— Ну? — грубо спрашивала Матрена, ничего не понимая.
О. Андрей показал на себя и махнул рукой в сторону Нового завода (Матрена поняла), потом показал на нее и, отставив один палец, объяснил:
— Понимаешь: одна?
— Ну? К о. Якову поехали с Ефимом…
— Вот, вот… Если кто придет или приедет, так и скажи, что я уехал на Новый завод, к о. Якову, и вернусь только вечером. Поняла?
— Ну? Ночевать там останешься…
— Ах, какая ты!.. Разве я когда-нибудь оставался там ночевать? А ты никуда не уходи… Уйдешь, ворота забудешь запереть, а воры и залезут… Воры… Поняла?
О. Андрей показал, как залезут воры и все утащат, хотя отлично знал, что Матрена никуда не уйдет, да и идти ей было некуда.
— И этой надо непременно отказать, — думал вслух о. Андрей, усаживаясь в долгушку.
— Глухая тетеря… — ворчал Ефим, догадавшись, о ком идет речь. — Хоть кол ей на голове теши, все равно, ничего не услышит.
Ефим и Матрена, как и следует кучеру и кухарке, вечно ссорились, хотя и жили в кухне вместе целых двадцать лет. О. Андрею постоянно приходилось их мирить.
Старый завод, где жил о. Андрей, точно потерялся в горах, рассыпав свои бревенчатые домики по берегу длинного и глубокого заводского пруда. Другая часть селенья вытянулась вниз и вверх по течению горной речки Шайтанки. На горе стояла церковь, под горкой у плотины горбились почерневшими железными крышами заводские корпуса. Вечно дымили доменная печь и десятка два труб. Фабрика была невелика, как и все селенье. Долгушка о. Андрея спустилась на плотину, обогнула деревянный амбар и начала забирать в гору.
— Ну, ну, не бойся! — покрикивал Ефим, когда Сивко в гору сбавил шагу. — Ах, какая лукавая скотинка!..
— Ничего, пусть шажком поднимется в гору… Стар стал, тяжело ему.
— Ничего не тяжело, а просто лукавит… Ну, ты не бойся!..
О. Андрей знал в своем заводе, конечно, каждый дом и каждого человека. Да и как было не знать, когда он всех крестил, венчал и хоронил! И его все знали, и все кланялись, Знали все и то, что о. Андрей поехал в Новый завод, к о. Якову в гости, и что кучеру Ефиму перепадет в гостях рюмочка водки, а то и две.
От Старого завода до Нового было всего девять верст. Дорога все время шла горным перевалом, с горки на горку. Красивее место трудно себе и представить, хотя Урал здесь и не отличается особенной высотой. Горы точно покрыты дорогим зеленым ковром. В двух местах с высоты открывался чудный вид, — с одной горы виднелся Старый завод, с другой Новый. Издали дома казались игрушками. Но ровному месту Сивко тащил долгушку с грехом пополам, а когда приходилось подниматься в гору, он останавливался и, помахивая хвостом, оглядывался назад.
— Ну, ну, чего стал? — кричал Ефим. — Не бойся!..
— Действительно, скверный конь! — соглашался о. Андрей, вылезая из долгушки. — Но я могу и пешком подняться на горку… Доктора говорят, что это даже весьма полезно для моциона. Полирует кровь…
— Убить мало упрямую скотину, — ворчал Ефим, слезая с козел. — Ты думаешь, о. Андрей, она не может везти в гору? Все обманывает… Это она нарочно куражится над нами: пускай, дескать, пешочком, на своих — на двоих. Смеется над нами Сивко…
— Что же поделаешь, Ефим?..
— Вон у о. Якова какие кони… Только успевай держать.
— То у о. Якова, а то у о. Андрея.
Сивко слушал эти мудрые речи и медленно поднимался в гору, как ни в чем не бывало. Пустую долгушку было не трудно везти. Ефим шагал рядом, держа вожжи в руке, точно старая смирная лошадь могла вырваться и убежать. У старого Ефима были свои мысли: хорошо бы у о. Якова поесть пельменей, а потом сходить в гости к куму Спиридону. О. Андрей шел по правой стороне дороги, где пешеходами была пробита такая славная тропка. Кусты жимолости, рябин и черемух протягивали к нему свои зеленые ветки, точно хотели его обнять. Попадались кусты малины с спелой ягодой, в траве мелькали ягоды земляники. Из соснового леса тянуло смолистой струей теплого воздуха.
— Никуда не годится Сивко, — думал о. Андрей, глядя на старого коня, едва тащившего пустую долгушку. — Надо его продать хоть за три рубля… Ничего не поделаешь. От старости лекарства нет…
II
Летний день в Новом заводе был так же хорош, как и в Старом. О. Яков, полный старик, совершенно седой, с окладистой бородой и румяным лицом, глядя в окно на дорогу из Старого завода, подумал вслух:
— Отчего это о. Андрей не едет в гости? Спесив стал, старых однокашников забывает… А у меня прошлогодняя рябиновая наливка поспела…
Не успел о. Яков огорчиться в полную меру, как на заводской плотине показалась долгушка о. Андрея.
— Эге, легок на помине! — радостно проговорил о. Яков, потирая руки. — Вот и отлично…
Экипаж о. Андрея едва дотащился до поповского домика, несмотря на то, что Ефим дергал локтями и кричал: «Ну, ты не бойся!..» Старый Сивко едва передвигал ноги, точно он двигался на деревянных костылях.
Подъехав к самым воротам, Ефим счел нужным натянуть вожжи и, как настоящий кучер, лихо осадил лошадь, точно Сивко мог сломать ворота. О. Яков смотрел в окно, улыбался и говорил:
— Милости просим, дорогой гость!.. Забыл ты нас совсем.
Матушка Леоконида Гавриловна улыбалась гостю из другого окна, а из-за ее плеч выглядывали бойкие детские личики Коли и Вани и тоже улыбались о. Андрею. В следующий момент оба мальчика уже были за воротами и трогательно помогали о. Андрею вылезти из долгушки, при чем не забыли дернуть Сивка за хвост, а кучеру Ефиму показать язык.
— Ну что, шалуны? — здоровался о. Андрей.
— Здравствуйте, о. Андрей!.. — в десятый раз кричали шалуны, подхватывая старика под руки.
— Учитесь?
— Учимся, о. Андрей…
— Очень хорошо… Науки юношей питают, отраду старцам подают. Так, малыши?
— Совершенно верно…
О. Андрей торжественно введен был в переднюю, где его встретили о. Яков с матушкой.
— Забыли вы нас, о. Андрей! — пеняла матушка. — Уж мы ждали вас, ждали да и ждать перестали…
— Да все собирался, Леоконида Гавриловна, все собирался… Соберешься, а тут, как на зло, что-нибудь и задержит. То с требой позовут, то дождь пойдет, то кто-нибудь из знакомых завернет.
Старушка матушка побежала в кухню заказывать пельмени. Она имела такой вид, точно о. Андрей мог каждую минуту умереть с голода. В самом деле, человек проехал целых девять верст.
— Самовар скорее, Авдотья! — умоляла старушка. — Ах, батюшки, сухариков, которые любит о. Андрей, кажется, у нас нет?… Варенья земляничного достань, сливок сними свежих…
Домик у о. Якова был небольшой, но от него так и веяло домашним теплом. Матушка Леоконида Гавриловна без устали хлопотала с утра до ночи над своим гнездом и умела все устроить уютно. Последнее особенно ценил о. Андрей, у которого дома чувствовалась пустота. Ему казалось, что у о. Якова и печки иначе топятся, и самовар иначе кипит, и хлеб вкуснее. Ефим находил то же самое и каждый раз жаловался кучеру о. Якова, Сергею, на свою глухую кухарку Матрену.
— Наша Авдотья тоже хороша, — утешал его Сергей, совсем еще молодой парень с глуповатым, добродушным лицом. — Одним словом, баба…
Поповские кучера очень дружили и поверяли друг другу свои горести. Улучив свободную минутку, они уходили вместе к куму Спиридону и возвращались домой навеселе, напрасно стараясь принять бодрый вид, при чем особенно страдал Ефим, как более слабый.
— Погоди, вот самовар отопьют, — говорил Сергей своему приятелю, — Авдотья начнет пельмени делать, — ну, мы с тобой и того…
— Я уж отпрашивался у о. Андрея…
— Ну, а я и так уйду.
О. Яков любил летом по вечерам пить чай в небольшом садике, который развел своими руками и которым, на этом основании, особенно гордился. Каждое деревцо было родное, каждый кустик, каждая клумбочка. Днем он любил здесь отдохнуть после обеда в тени развесистой рябины. Хорошо было в садике…, когда приезжали гости, пили здесь чай, обедали и ужинали. И сегодня самовар был подан в сад. О. Андрей похвалил кусты малины, смородину, клумбы цветов.
— У тебя тоже хороший садик, — заметил скромно о. Яков.
— Да, ничего…
За чаем поговорили о погоде, о последних заводских новостях, о старческих недомоганиях, о нараставшей дороговизне, о том, что с каждым днем все на свете делается как будто хуже — и люди хуже, и провизия дороже, и материи не отличаются прежней прочностью, и как будто даже сахар не такой уж сладкий, как бывал раньше.
— Отчего бы ему-то, сахару, быть таким, т. е. хуже? — удивлялся о. Андрей. — Впрочем, я больше с медом пью чай…
— Хорошо тебе одному мед есть, — заметил о. Яков и, указав глазами на внучков, прибавил: — А вот накорми-ка медом таких молодцов…
Мальчики принимали самое деятельное участие в чаепитии, тем более, что варенье подавалось только при гостях, да и бабушка при гостях делалась, как будто, добрее.
— Ах, юность, юность! — со вздохом говорил о. Андрей, любуясь детьми. — А ведь и мы с тобой были, о. Яков, когда-то такими…
Старики любили вспомнить то время, когда они вместе учились. Это была бесконечная тема, и матушка уходила, чтобы присмотреть в кухне. Разве можно довериться Авдотье? А вдруг она сделает что-нибудь не так… Возьмет и сделает. Никто не знал, о чем думала Авдотья, когда она ни с того, ни с сего пересаливала кушанья, пережаривала телятину, забывала, сколько нужно было класть масла, перцу, луку, и т. д. Когда старушка ушла в кухню, а о. Яков и о. Андрей предались своим воспоминаниям, «юность» мигом очистила стоявшее на столе варенье и предалась позорному бегству.
— Я очень люблю о. Андрея, — говорил Коля, вытирая запачканное второпях лицо вареньем. — Помнишь, как бабушка угощала его кедровыми орехами, а у него и зубов нет…
— И я его тоже люблю, — соглашался Ваня и, подумав немного, прибавил: — я его больше всего люблю за то, что у него сивая лошадь… хвост совсем белый… длинный хвост…
— У старых лошадей всегда бывают короткие хвосты, а у Сивка длинный… Отлично бы подергать волос на лески…
Мальчики заглянули на кухню, — ни Сергея, ни Ефима там не было. Во дворе их тоже не было. Лошадь о. Андрея стояла привязанная к столбу. Ефим еще не отложил ее. Это было очень хорошо. Мальчики обошли ее кругом несколько раз, погладили морду, похлопали по шее. Сивко держал себя равнодушно, не прижимая ушей. Ничего не оставалось, как воспользоваться этим добродушием. Ваня подошел спереди и начал гладить дремавшего Сивка, а Коля с замечательной смелостью и ловкостью в этот момент успел вырвать из хвоста Сивка целый клок великолепных, длинных волос. Сивко прижал уши и смешно лягнул в оглоблю левой ногой.
— Ему не нравится, — заметил Ваня.
— Это злая лошадь, — заметил Коля.
— Нет, ей больно… Дедушка говорит, что не хорошо мучить животных.
— А зачем она лягается?
— Ведь она не таракан… Чем больше животное, тем ему больнее.
Выдернутые из хвоста лошади волосы оказались верхом совершенства, но беда была в том, что по расчету, их хватало только на одну удочку.
— А если дернуть еще одну прядку? — сообразил Коля, отличавшийся большой предприимчивостью. — Для чего Сивку такой большой хвост.
Ване было немножко стыдно, но он должен был согласиться. Когда маленькие враги начали подходить к Сивку, тот прижал уши и начал лягаться. Очевидно, что это была неисправимо злая лошадь. Коля в это время успел сбегать в кухню, принес ломоть хлеба, посыпанный солью, и дал его Сивку.
 Коля принес ломоть хлеба и дал его Сивку.
Коля принес ломоть хлеба и дал его Сивку.
Старый конь с удовольствием сел хлеб, но все время оглядывался, когда к нему подходили с хвоста. Он прижимал уши и лягался. Коля даже рассердился и заявил, что терпеть не может злых и хитрых лошадей, и что он думал о Сивке гораздо лучше.
— Знаешь что, Коля, — проговорил Ваня: — мы с тобой сделали большую глупость…
— Именно?
— Очень просто: совсем не следовало вырывать волосы… да… Знаешь, у бабушки есть отличные ножницы… очень острые… Ты ступай в кухню, где бабушка стряпает пельмени, а я пойду в комнату бабушки… Ножницы у нее лежат всегда на красном комоде…
Наступал уже вечер, чудный летний вечер, когда пахнет свежей травой. В садике о. Якова воздух был пропитан ароматом черемухи, смородины и разных цветов. Пока в кухне готовились пельмени, о. Андрей и о. Яков успели закончить свои юношеские воспоминания и перешли к политике. Матушка Леоконида Гавриловна не выносила именно этих разговоров о политике, потому что мирная беседа друзей детства в этом случае всегда заканчивалась горячим спором. Даже о. Андрей, такой скромный и сдержанный, начинал горячиться, а о. Яков краснел и угрожающе размахивал руками. Дело в том, что о. Андрей почему-то ненавидел французов, а о. Яков ненавидел англичан. О. Яков говорил о. Андрею: «твои англичане», а о. Андрей говорил о. Якову: «твои французы».
— И что вы только делите? — удивлялась матушка.
— А это дело очень, очень серьезное, достопочтенная Леоконида Гавриловна, — говорил о. Андрей. — Да, очень серьезное… Например, Наполеон I или Севастопольская кампания, — все французы виноваты. Много от них мы имели неприятностей.
— А твои англичане тоже хороши! — спросил о. Яков. — Француз действует прямо, откровенно, а англичанин непременно хочет всех обмануть…
— Будет вам спорить, — уговаривала матушка. — Мне фельдшер Илья Иваныч говорил, что кто много спорит, у того печенка портится… Да и пельмени поспели.
За пельменями, когда начинался спор, матушка прибегала к маленькой военной хитрости, именно: наливала рюмку рябиновой и говорила:
— Прикушайте, о. Андрей!.. Сама готовила.
— Матушка, не пью и никогда ничего не пил.
— Ах, виновата, о. Андрей!..
III
Пельмени доедали уже при огне. Июльская ночь была совсем темная, и о. Андрей несколько раз поглядывал на свои часы.
— Посидите еще немножко, о. Андрей, — уговаривала матушка. — Куда вам торопиться?..
— А как же дома-то, Леоконида Гавриловна? Матрена одна осталась… Она и не знаю, что может наделать. Да и ехать темно будет…
— Темнее не будет, — уговаривал о. Яков. — Дай дорога известна: курица доедет. А кроме того, лошадь пусть отдохнет… Совсем старый конь.
— И не говори, о. Яков, — скверный конь.
— Пусть Ефим на кухне закусит, говорила матушка. — Я ему рюмочку подала…
— Вот уж это вы совсем напрасно матушка.
Старушка скрыла, что Ефим вернулся от кума Спиридона сильно навеселе. Он сидел в кухне и улыбался блаженной улыбкой.
— Ну, выпил, — эка беда! — повторил он. — Да, выпил…
Коля и Ваня забегали в кухню несколько раз, чтобы посмотреть на подгулявшего Ефима, который так смешно говорил.
— Ефим, спой песенку!..
— Вот я вам спою, пострелы…
Когда пришлось запрягать лошадь, Ефим едва справился. Дуга не желала попадать в гужи, хомут не затягивался, вожжи выпадали из рук и т. д. Коля и Ваня все время вертелись около и изо всех сил помогали Ефиму.
— Ну, вот спасибо! — благодарил Ефим. — Разве это лошадь? Ххе!.. Отвести в лес да подарить волку на именины.
После пельменей, о. Яков еще немного поспорил с гостем о политике. Когда о. Андрей сидел уже в своей долгушке, о. Яков крикнул, стоя на крыльце:
— А все-таки французы народ хороший!
— А кто под Седаном сдал стотысячную армию? — донесся голос о. Андрея из темноты.
Очутившись на улице, о. Андрей пожалел, что так долго загостился. Изволь теперь ехать в темноте! А тут еще от Ефима разило водкой на версту.
— Ефим, ты опять наклюкался? Ах, какой ты…
— Я-то?
— И тебе не совестно?.. Что скажут о тебе? Да и меня не похвалят за такого кучера…
— А пусть говорят, о. Андрей… Я, т. е. вот как, стараюсь для тебя…
— Это и видно… Держи правей!..
— Ну, не бойся! — кричал Ефим, дергая лошадь. — Зачем я поеду вправо, о. Андрей? Уж это такая лошадь, что все норовит вправо забрать… Едва ногами шевелит, а тут откуда прыть берется. Ну, не бойся!..
Ефим рассуждал всю дорогу. О. Андрей слушал и удивлялся. Обыкновенно молчаливый, Ефим сейчас болтал без умолку.
— А я знаю, что ты думаешь, о. Андрей… Уж я знаю… да… Ты думаешь, что я пьян…
— Может быть, и думаю. Это мое дело…
— Нет, постой!.. Это кум Спиридон, действительно, пьян, лыка не вяжет; а я, может, получше другого трезвого. Вот оно какое дело… да… Ты только подумал, да не успел еще и подумать, а я уж сделал… Вот каков Ефим-то!.. Хор-рроший человек… И Матрена тоже подумает, что я пьян… ххе!.. А я, как стеклышко, чист…
Ночью, когда темно, дорога кажется длиннее. Отцу Андрею хотелось спать, и он еще раз пожалел, что не уехал раньше. Куда бы лучше засветло уехать… Потом его серьезно беспокоило, не случилось бы чего-нибудь дома. Матрена наверно завалилась спать, а лампу позабыла потушить. Вдруг взорвет керосин… Сколько таких случаев описывают в газетах! Нынче все пожары от недосмотра за лампами. Подъезжая к старому заводу, о. Андрей все посматривал, нет ли зарева… Нет, ничего, слава Богу, и у него отлегло на душе.
— А французы все-таки дрянь! — неожиданно проговорил о. Андрей, мысленно продолжая свой спор с о. Яковом.
Ночью бывают такие неожиданные мысли, которые выскакивают из головы, как зайцы из-под куста. Такой живой заяц перебежал дорогу, когда долгушка катилась под горку уже к самому заводу. Ефим почему-то рассердился и принялся бранить скрывшегося в темноте зверка.
— Ах, проклятый!.. Ведь ни раньше, ни позже его нечистая сила вытолкнула на дорогу.
— Зачем ты его бранишь, Ефим? Надо и зайчику жить…
— А зачем он дорогу перебегает? Бежал бы по стороне, места довольно… Нет, он через дорогу! Одним словом, не к добру…
— Перестань глупости болтать, Ефим! Надоело…
— Мне что? Мне все равно, — обиженно ворчал Ефим. — А все-таки не к добру… Не стало ему места, зайцу? Он только кажется зайцем… Да… тьфу!.. Не к ночи будь сказано…
— А ты помолчи: может быть, лучше будет.
— И помолчу… Не мое дело. И что лошадь скверная — молчу, и что кухарка глуха — молчу, и что ты меня ругаешь — все молчу, и про зайца буду молчать. Даже очень просто… Эй, ты, Сивко, не бойся!..
Сивко без понукания прибавил шагу и молодцом пронесся по плотине, как следует хорошей лошади.
— Ах, лукавый! — удивлялся Ефим.
— Ну, и конь!.. Знает, где овсом кормят. Ну, не бойся!..
Матрена, действительно, крепко спала. Будить ее пришлось долго. Кончилось тем, что Ефим перелез где-то забор и отворил ворота.
— Ну, слава Богу, — проговорил о. Андрей. — В гостях хорошо, а дома лучше того…
О. Андрей обошел все комнаты, осмотрел все окна и двери, — все было в порядке. Очевидно, воры отложили свое нападение до следующего раза. Когда о. Андрей хотел уже ложиться спать, в кухне послышался громкий спор.
— Говорю тебе, что не наша лошадь!.. — кричал Ефим. — Слава Богу, еще не ослеп… Пойду к о. Андрею и доложу. Никак невозможно… Вот тебе и заяц! Недаром его точно выкинуло из стороны…
— Что такое случилось? — тревожно спрашивал о. Андрей, когда Ефим вошел в переднюю с фонарем в руках.
— А вот это самое… — мрачно заявил Ефим, глядя в угол. — Будет, натерпелся… Раньше ты меня гнал, а теперь я сам уйду… Вот тебе и заяц!..
— Что ты бормочешь? Говори толком, что такое случилось?
— А такое… Пойдем во двор, так сам увидишь. А я больше не согласен служить… шабаш!
Пошли во двор. Впереди шел Ефим с фонарем, за ним о. Андрей, а последней шла Матрена и вытирала слезы. Под навесом стоял Сивко. Ефим еще не успел его распрячь.
— Вот!.. — ткнул на него пальцем Ефим. — Не наша лошадь, и конец тому делу.
— Как не наша? — удивлялся о. Андрей. — Наш Сивко…
— А
ты обойди-ка его кругом, так и увидишь… Вот я тебе посвечу. Не даром заяц-то давеча выскочил, точно кто его бросил… А лошадь не наша, о. Андрей.
Когда о. Андрей зашел сбоку, его глазам представилась крайне печальная картина: от великолепного, белого хвоста у Сивки осталась одна жалкая кочерыжка… Все волосы были обрезаны начисто.
— Говорю, не наша лошадь… — повторял Ефим.
— Да, странный случай, — заметил о. Андрей, качая головой. — Даже весьма удивительно… Как же это ты, Ефим просмотрел?
— Чего же смотреть-то? Хвост все время был… Когда запрягал — хвост был на своем месте, когда выезжали — был, до половины дороги все болтался, а тут, как заяц выскочил из стороны…
— Ах, отстань! Пожалуйста, не говори глупостей!..
— Страм-то какой!.. — говорила Матрена. — За водой и то нельзя съездить.
О. Андрей еще раз обошел лошадь кругом и еще раз покачал головой. Для него было ясно, как все это случилось, и кто виноват. Сомнений не могло быть.
— Нужно будет написать о. Якову, — решил он. — Так дело нельзя оставить… Преступники должны понести соответствующую случаю кару. Конечно, хвост с течением времени отрастет и даже может быть лучше старого, но справедливость — прежде всего.
Укладываясь спать, почтенный старичок вспомнил, что ему следовало рассердиться, но было уже поздно, и он отложил это дело до завтра.
На другой день поздно вечером, когда уже было совсем темно, Ефим отправился верхом в Новый завод с письмом к о. Якову.
— Что случилось? — спрашивал о. Яков, распечатывая письмо.
— А тут все написано… — угрюмо ответил Ефим. — Я и лошадку к тебе привел, о. Яков. Посмотри сам.
Когда о. Яков прочел послание о. Андрея, написанное довольно красноречиво и убедительно, то только развел руками. Потом он сказал:
— Да, действительно… А где у нас Коля и Ваня?
Преступники были разысканы где-то в саду и приведены под конвоем Авдотьи.
— Ну, друзья мои, — заговорил о. Яков, держа письмо в руках. — Да… Вот что пишет мне достопочтенный и уважаемый о. Андрей… да. «Досточтимый и достоуважаемый о. Иаков, пишу тебе сие с душевной скорбью и волнением, именно, вернувшись от тебя вчера, я обратил внимание на полное отсутствие хвоста у известной тебе моей сивой лошади. Как это могло произойти, решительно не могу себе представить… Должен тебе сказать, что вышеупомянутая лошадь сивая, редкой породы и служила мне больше двадцати лет и может прослужить еще столько же, хотя полная утрата ею хвоста сделала ее неудобной для продолжения службы. Кроме того, т. е. кроме материального ущерба, нанесен и ущерб нравственный. Разыщи виновников и, как говорили в бурсе, воздай suum cuique. А впрочем, остаюсь твой доброжелатель». Да, вот что пишет о. Андрей… А теперь посмотрим на опозоренное преступной рукой животное.
Осмотр происходил во дворе. Авдотья освещала всю картину своим фонарем. Сивко стоял спокойно, точно дело шло о какой-то другой лошади. Кучер Сергей в качестве специалиста осмотрел хвост Сивка и только покачал головой.
— Ну, друзья мои, — обратился о. Яков к внучатам, — как вы находите сие обстоятельство?
— Дедушка, это все Ваня… — ответил Коля. — Это он принес бабушкины ножницы…
— Дедушка, это Коля обрезал хвост, — ответил Ваня.
— Значит, оба лучше? Очень хорошо…
Ефим вернулся домой только к утру. О. Андрей вставал рано и встретил его во дворе.
— Ну, что?
— А вот…
Ефим вынул из-за пазухи отрезанный хвост и подал о. Андрею.
— И только?
— Наказывал о. Яков кланяться…
— Письма нет?
Ефим еще порылся за пазухой и вытащил смятое письмо.
— Чуть не забыл… А еще как о. Яков наказывал, чтобы я не потерял это самое письмо.
О. Яков писал подробно о произведенном осмотре лошади и предлагал держать ее у себя, пока вырастет новый хвост, на что, по словам Сергея кучера, потребуется почти целый год. «Что касается виновников сего преступления», писал о. Яков, «то они получили воздаяние suum cuique»…
— Здорово попало поповичам!.. — угрюмо объяснил Ефим. — А вперед не балуй!..
В УЧЕНЬИ
Рассказ
I
Наступал уже дождливый осенний вечер, когда Сережка с матерью подходил в первый раз к фабрике. От вокзала за Невскую заставу они шли пешком. Мать едва тащилась, потому что страдала одышкой. Кроме того, ее давила дорожная котомка, сделанная из простого мешка. На улице уже зажигались фонари, мимо несколько раз пронеслась «паровая конка», пуская клубы дыма; фабрики смотрели на улицу сотнями ярко-освещенных окон… Это было фабричное предместье Петербурга, вытянувшееся вверх по Неве на десять верст.

Мать останавливалась перед каждой фабрикой и спрашивала — не та ли это фабрика, на которой работает дядя Василий? Ответы получались разные, а один пьяненький мастеровой объяснил:
— Дядя Василий? Как же, оченно хорошо знаю… Недавно вместе три недели в остроге сидели. Теплый мужик, зимой даже без шубы щеголяет…
Сережке делалось страшно, и он жался к матери. Его пугали эти большие дома, гремевшая конка, торопливо бежавшие куда-то люди, валивший густыми клубами дым из высоких фабричных труб и вообще все, что попадалось на глаза. Ему невольно вспоминалась своя деревня, где сейчас так тихо-тихо, и только кой-где мелькают красные огоньки. Сердце Сережки сжималось как-то само собой, и ему почему-то казалось, что попадавшиеся на встречу люди непременно злые.
— Мамка, скоро? — шепотом спрашивал он.
— Скоро, скоро… Погоди.
Наконец, они дошли и до той фабрики, на которой работал дядя Василий. Стоявший у ворот сторож сказал, что надо будет подождать, когда отдадут свисток на шабаш. Он как то особенно любовно посмотрел на Сережку и заговорил:
— В учёбу привела мальчонку?
— Уж не знаю, как дело выйдет… — уныло ответила мать. — Отец-то у нас помер после Успенья, так вот… я…
У нее точно перехватило горло. От усталости и ожидания она расплакалась.
— Значит, деревенские — решил сторож. О чем ревешь-то, глупая? И здесь люди живут…
— Девчоночка у меня махонькая осталась в деревне-то… Значит, у свекровушки сейчас. Ох, горе наше горькое… Только стали поправляться, избу новую поставили, а тут немочь и присунься. Всего две недельки и полежал Тихон-то Петрович… Долги остались… Новая изба за полцены ушла, да еще лошадь продали. Как есть, не при чем и остались…
Сережка слышал эти причитанья матери слишком часто и потому был занят совсем другим: мимо них катились тяжелые телеги ломовиков, с дребезгом ехали извозчики, и люди шли без конца.
— Откуда только берется такая прорва народа — думал Сережка.
Он от удивления раскрыл даже рот, но сейчас же получил от бежавшего мимо мальчишки здоровый подзатыльник.
— Ворона залетит, деревня! — крикнул мальчишка, удирая по тротуару.
Наконец, загудел фабричный свисток, и из ворот фабричного двора длинным хвостом потянулись рабочие, мужчины и женщины. Сторож осматривал каждого и сделал исключение только для дяди Василия.
— Тут к тебе пришли, Василий — объяснил он.
Мать Сережки в первую минуту не узнала брата, так он изменился за десять лет, как ушел из своей деревни. Он и похудел, и оброс окладистой бородкой, и точно сделался ниже ростом. Поздоровавшись с сестрой, он как-то растерянно заговорил:
— Знаю… все знаю… Ну, что же делать!.. Все под Богом ходим. Как-нибудь надо жить… Помаленьку устроимся…
Он покосился на Сережку и почесал в затылке. Мать заметила это движение и удержалась, чтобы не разреветься.
— Ну, пойдемте… как-то нерешительно предложил дядя Василий. — Я тут близко живу… Да, угораздило тебя, Марфа… Ну, да переговорим после…
Они перешли дорогу, повернули влево и пошли на двор двухэтажного деревянного дома. Дядя Василий делался с каждым шагом все мрачнее… В глубине двора стоял покосившийся двухэтажный флигель, куда они и вошли.
— Держи левее — повторил несколько раз в темноте дядя Василий. — А тут прямо…
Марфа с трудом поднялась по лестнице во второй этаж. Дядя Василий ждал в дверях.
— Кого это принесло? — послышался раздраженный женский голос из-за ситцевой занавески, разделявшей большую грязную комнату на две половины.
— А из деревни… — неохотно ответил дядя Василий, с ожесточением бросая свою фуражку куда-то в угол. — Значит, сестра… да…
«Чистая половина» освещалась дешевенькой лампочкой. На столе в переднем углу стояла приготовленной какая-то еда, а около нее сидела на стуле девочка лет пяти, сгорбленная и худенькая, как щепка.
— Ну, садитесь, так гости будете — приглашал дядя Василий.
Из-за занавески выглянуло испитое женское лицо. Это была жена дяди Василия.
— Вот так обрадовали, нечего сказать — проговорила она и засмеялась. — В самый раз, дорогие гости.
Марфа стояла у дверей, не решаясь снять своей котомки. Она в первый раз видела невестку, о которой дядя Василий писал всего раз, что «принял закон с девицей Катериной Ивановной».
— Чего стоишь-то? — тоже с раздражением проговорил дядя Василий. — Раздевайся… Катя, а ты, того, самоварчик сообрази.
— Да ты с ума сошел! — послышалось из за занавески. — У нас не постоялый двор, чтобы поить чаем встречного-поперечного…
— А ты помалкивай, — уже грубо заметил дядя Василий. — Пожалуй, лучше так-то будет. Не встречные-поперечные пришли, а родная сестра, Марфа Мироновна. Так это и чувствуй…
— Всякая деревенщина полезет в избу…
Дядя Василий быстро ушел за занавеску, и оттуда послышались глухие всхлипывания.
— Чего дерешься-то, идол? Каторжная я вам далась, што ли…
Дядя Василий вернулся к столу такой бледный и долго, молча, гладил по голове свою девочку. Он тяжело дышал и несколько раз смотрел злыми глазами на занавеску. Мать Сережки медленно и с трудом сняла свою тяжелую котомку, мокрую кофту и осталась в деревенском сарафане. Ее больше всего смущало то, что она может «наследить» грязными башмаками, а снять их не решалась. Ссора дядя Василия с женой из-за нее тоже не обещала ничего хорошего. Так уж все шло одно к одному… Сережка смотрел на мать и на дядю и начинал бояться последнего. Когда дядя Василий опять хотел идти за занавеску, Марфа его удержала за рукав.
— Не надо, Вася…
— Ах, оставь… Ничего ты не понимаешь. Катя, ты сейчас иди к свояку и позови его чай пить…
— Так и побежала…
— Ты опять?
Послышалось сморканье, а потом Катерина Ивановна, накрывшись платком, быстро вышла из комнаты. Дядя Василий проводил ее глазами, покрутил головой и проговорил совсем другим голосом:
— Марфа, ты не подумай, что Катя злая. Так, стих на нее находит… А спускать ей тоже невозможно. Ни, Боже мой… Способу не будет, ежели ей покориться. А так она добрая…
— А ты бы все-таки, Вася, ее не трогал — нерешительно проговорила Марфа, поглядывая на дверь. — Родня родней, а она жена…
— Ничего, все обойдется.
Дядя Василий подозвал Сережку, поставил его перед собой, пощупал руки и грудь и проговорил:
— Ничего, мальчуга хороший… Пристраивать его привела, Марфа?
— Уж и не знаю, Вася, как быть… Дома-то не у чего ему оставаться. Избу продали, лошаденку продали…
В ее голосе послышались опять слезы, но она удержалась, потому что дядя Василий нахмурился.
— Ладно, ладно, сестра… Будет. «Москва нашим слезам не верит», говорили старики. Устроим мальчугу, вот как… А ты на Катю не обращай внимания. Обойдется помаленьку…
Время от времени дядя Василий гладил свою девочку по голове и приговаривал:
— Смотри, Шурка, какие ребята в деревне-то растут! Вон какой крепыш… Не то, что ты.
— Она хворая? — спросила Марфа.
— Нет, этого нельзя сказать… А так, не она хлеб ест, а ее хлеб ест. Наши фабричные ребятишки все такие изморыши… Значит, здесь климат такой для ребят, т. е. сырости много… и притом грязь. Самый скверный климат, не то, что в деревне у вас, где один воздух…
II
Этот разговор был прерван шумом на лестнице, а потом в комнату вошел приземистый мужик в одной жилетке и опорках, надетых на босу ногу.
— А я вот-ан, Василь Мироныч!.. Здравсте… Эге, видно, ехала деревня мимо мужика, да в гости и приехала. Сестрица будете Василь Миронычу? Наше почтение, значит, вполне… ежеминутно…
Потом пришедший погрозил пальцем хозяину, укоризненно покрутил головой и заметил:
— Эх, брат, не хорошо обижать женский пол… Вот как разливается теперь Катерина Ивановна, река рекой. А промежду прочим, отлично… Пусть Катерина Ивановна чувствует свое ничтожество, потому как ежеминутно должна покоряться собственному законному супругу…
— Будет тебе околесную-то нести, Фома Павлыч, — остановил его дядя Василий. — А мы вот что сообразим… чтобы честь честью все было… Понимаешь?
— Ежеминутно…
Фома Павлыч при этом подмигнул и потянул воздух носом. Дядя Василий достал кошелек, вынул из него рублевую бумажку и, откладывая по пальцам, говорил:
— Сороковка водки — раз… пару пива — два… Теперь насчет закуски; колбасы вареной полфунта, селедочку… парочку солененьких огурчиков… ситного три фунта… Понимаешь?
— Вот как понимаю, одна нога здесь, а другая там… Ежеминутно оборудуем.
Подмигнув и повернувшись на одной ноге, Фома Павлыч ушел.
— И для чего это ты затеваешь, Вася, — корила Марфа. — Деньги только понапрасну травишь, а жена будет тебя ругать.
— Перестань, говорят… Ничего вы, бабы, не понимаете. Как есть ничего… А при этом кто мне может запретить родную сестру угостить? В кои то веки увидались… Бывает и свинье праздник, милая сестрица. Вы только не беспокойтесь, потому как у вас свои порядки, а у нас свои… А Фома Павлыч мой благоприятель и при этом свояк: на родных сестрах женаты.
Фома Павлыч, действительно, вернулся «живой ногой», а за ним пришла и Катерина Ивановна.
— Катя, самовар поскорее! — весело торопил дядя Василий. — Гости-то наши здорово проголодались. Сидят да, поди, думают: в городе толсто звонят, да тонко едят.
— Мы еще на машине хлебушка поели — ответила Марфа. — Сытёхоньки…
— Сказывай… Знаем мы вашу деревенскую еду.
Пока самовар кипел, дядя Василий развернул закуску и налил четыре рюмки водки.
— Нет, уж меня уволь, Вася, — отказалась Марфа. — Отродясь не пивала…
— Ну, как знаешь… Эй, Катя…
Катерина Ивановна вышла и выпила поданную ей рюмку.
— Это ей для здоровья дохтур велел — объяснил дядя Василий, точно извиняясь за жену. — Ну, Фома Павлыч, будь здоров на сто годов…
— Аль выпить, Василь Мироныч? Ну, одну-то куды ни шло… Будьте здоровы… ежеминутно…
От селедки и колбасы Марфа тоже отказалась, а за ней и Сережа, что даже обидело дядю Василия. За то они с величайшим удовольствием принялись за ситник и огурцы. Сережка ел с таким аппетитом, что у него даже выступили слезы на глазах. Мать потихоньку дергала его за рукав рубашки, но мальчик был слишком голоден, чтобы понимать это предупреждение. Маленькая Шура с удивлением смотрела на него своими большими глазами и, наконец, проговорила:
— Папа, дай мне такой же точно кусок ситника… и огурец…
— Позавидовала? — смеялся дядя Василий. — Ну, учись у деревенских, как хлеб нужно есть… Она у нас, как барышня, — только посмотрит, да понюхает еду.
Когда сороковка была выпита, дядя Василий и Фома Павлыч сделались сразу добрее.
— Что же это у нас закуска даром остается? — говорил дядя Василий, почесывая в затылке. — Фома Павлыч, не иначе дело будет, как ты позовешь Пашу, а окромя этого…
Он что-то шепнул Фоме Павлычу на ухо и сунул что-то в руку.
Катерина Ивановна выпила две рюмки, и ее бледное лицо покрылось красными пятнами. Она уже не пряталась за занавеской по-давешнему, а сидела у стола и не сводила глаз с Сережки.
— Вот и посмотри, Катя, какие деревенские бывают! — ласково говорил дядя Василий. — Сколоченый весь…
— На сиротство Бог и здоровья посылает — задумчиво отвечала Катерина Ивановна, вздыхая. — Уж, кажется, мы ли не кормим нашу Шурку, а толку все нет. Едва притронется к пище и сыта…
Пришла Парасковья Ивановна. Она походила на сестру, — такая же худая и с таким же сердитым лицом.
— Загуляли? — проговорила она, подсаживаясь к столу.
— Загуляли, Паша, — ответил дядя Василий. — Потому нельзя: сестра.
Фома Павлыч принес вторую сороковку и на пятачок студню в бумажке.
— Это от меня закуска, Марфа Мироновна… На целый пятачок разорился, потому как и мы с вами в родстве приходимся. Вот и мальчуган поест студню…
Парасковья Ивановна выпила рюмку водки и страшно раскашлялась.
— Чахоточная она у меня — объяснил Фома Павлыч гостье. — Скоро помрет… Две уж весны помирала. Ежеминутно…
После второй сороковки мужчины сделались окончательно добрыми. Фома Павлыч называл дядю Василия уже Васькой, хлопал по плечу и лез целоваться.
— Отстань… уговаривал его дядя Василий.
— А ежели я тебя люблю, дядя Василий? То есть — вот как люблю… Скажи мне: «Фомка, валяй в окно!» И выскочу, ей Богу выскочу… Ежеминутно. У меня уж такой скоропалительный карахтер… Или люблю человека, или терпеть ненавижу.
Парасковья Ивановна подсела к Марфе и начала ее расспрашивать про деревенское житье-бытье. Марфа повторила свой рассказ: как захворал муж, как продали избу и лошадь, как она оставила маленькую девочку у свекрови и повезла Сережку в Питер.
— Куда же ты его денешь в Питере? — спрашивала Парасковья Ивановна.
— А не знаю… Ничего не знаю, голубушка. Как уж Бог устроит, так тому и быть.
Выпившие женщины жалели ее и качали головами. Трудно придется такому махонькому мальчонке в чужих людях. Еще неизвестно, куда попадет. Конечно, Бог сирот устраивает, а все-таки жаль…
Дядя Василий, когда начали пить пиво, вдруг сделался скучным и все отмахивался рукой, как отгоняют комаров. Фома Павлыч раскраснелся, хихикал и к каждому слову прибавлял: «ежеминутно».
— Чему ты радуешься-то? — говорил ему дядя Василий. — Несчастные мы с тобой люди, и больше ничего. Да… И не люди, а так… слякоть!
— В каких это смыслах будет, Васька? Я в другой месяц все пятьдесят цалковых заработаю… Какого же тебе еще человека надобно? Ступай-ка, заработай столько в деревне…
— В деревне? Да ты и во сне не видал, какая такая деревня есть… «Пятьдесят цалковых!» Велики твои пятьдесят цалковых… Как будто и деньги, а в руки взять нечего. Я вот тоже по сорока цалковых зарабатываю, а где они? Ты вот и подумай, шалый человек… И никому мы с тобой не нужны. Вот во всем не нужны… А вот деревня то всем нужна — она, матушка, всех нас, дураков, кормит и поит. Без деревни-то мы все бы передохли, как земляные черви…
— Ежеминутно, — бормотал Фома Павлыч. — Какой же человек, ежели ему хлеба не дать. Правильно…
— То-то вот и есть… И народ там правильный, в деревне, потому как вся ихняя жисть есть правильная, а у нас баловство. Ну, вот выпили мы с тобой две сороковки, поели колбасы да селедки, а дальше что? К чему, например, эта самая колбаса? Вот Сережка и не глядит на нее, потому ему претит… Ты ему щей дай, каши, картошки, а не колбасы. Он будет здоровый мужик, а мы подохнем с своей колбасой. В деревне то как говорят: «растет сирота — миру работник». А у нас сирота у всех, как заноза. А ты мне свои пятьдесят цалковых показываешь! Тьфу. Вот что твои пятьдесят цалковых да и мои сорок вместе…
Дядя Василий чем дальше говорил, тем больше сердился. Лицо у него покраснело, глаза сделались злые; время от времени он кому то грозил кулаком.
— Правильно… — соглашался во всем Фома Павлыч, начинавший моргать глазами. — Ежеминутно.
Этот разговор закончился совершенно неожиданно. Фома Павлыч поднялся, подошел к дяде Василию и, протягивая руку, проговорил:
— Коли так, Васька… ежели, например, сказать к примеру… воопче… Ну, значит, и ударим по рукам.
— В чем дело?
— Давай, просватывай племяша… Значит, тово… беру его в ученики… Человеком сделаю…
— Марфа, слышишь? — спросил дядя Василий. — Значит, определяй Сережку по сапожной части…
— Не знаю, как ты, Вася… — испуганно отвечала Марфа.
— Ну, так руки, — проговорил дядя Василий. — Фома Павлыч человек хороший, хоть и пьяница; не обидит Сережку. А там видно будет… По условию, на пять лет, Фома Павлыч?
— На пять, Васька…
Они ударили по рукам, а Марфа должна была разнять руки. Она горько плакала. Сережка смотрел на всех и ничего не понимал.
— Ну, теперь будем литки с тебя пить, — заплетавшимся языком проговорил Фома Павлыч. — Посылай еще за сороковкой…
III
Когда Фома Павлыч проснулся на другой день, у него страшно трещала голова с похмелья. Он лежал несколько времени на постели с закрытыми глазами и старался припомнить — какую сделал вчера глупость. Глупость была, Фома Павлыч это помнил, но очень смутно. Из-за ситцевой занавески, которая отделяла кровать от большой русской печи, он видел только спину жены. Она, по обыкновению, встала рано и хлопотала по хозяйству. Фома Павлыч по тому, как жена гремела жестяной кастрюлей и бросала ухваты, понял одно, что она сердится и сердится именно на него.
— Ах, братец ты мой… — сообразил Фома Павлыч, продолжая валяться на постели — выходит дело-то ежеминутно… Ну, чего Паша злится? Уж эти бабы… У самой бы так-то голова поболела с похмелья… да. Тогда бы узнала, каково на свете жить.
Парасковья Ивановна несколько раз заглядывала за занавеску и, наконец, не утерпела.
— Ты это что валяешься-то, лежебок? — заворчала она. — Белый день на дворе, а ты дрыхнешь.
— Паша, я… ежеминутно.
— Ступай хоть полюбуйся на нового работника. Кормильца нанял…
Фома Павлыч сел на кровати, поскреб свою виноватую голову и сразу все сообразил.
— Ах, братец ты мой… Оно, действительно, Паша, того… Одним словом, ежеминутно!.. И на кой черт я его взял… Где он?
— А сидит в мастерской и смотрит, как другие работают. Совсем у тебя ума нет, вот и навязал себе на шею кормильца…
— Ежеминутно, Паша…
И для чего, в самом деле, он взял мальчишку в ученики? Припоминая, как было дело, Фома Павлыч только почесал в затылке. Просто хотелось выпить и сорвать с дяди Василия «литки», а своих денег не было.
— Ах, не хорошо, братец ты мой, Фома Павлыч, вот даже как не хорошо. А ежели отказаться от мальчика — перед дядей Василием совестно… Вот тебе, пьяный дурак! — погрозил Фома Павлыч самому себе кулаком. — Бить тебя мало…
Сапожная мастерская помещалась в подвале старого деревянного дома. Она состояла из двух комнат; в одной была мастерская, а в другой жил сам хозяин. Мастерская освещалась всего двумя маленькими оконцами, выходившими на улицу. Эти окна лежали вровень с землей и давали слишком мало света.
Старый подмастерье, отставной солдат Кириллыч, и днем работал с огнем. Перед ним стояла всегда жестяная лампочка, свет которой пропускался сквозь стеклянный шар с водою, заменявший увеличительное стекло. Кириллыч страдал глазами и плохо видел. Кроме него были два ученика подростка, лет по пятнадцати — рыжий Ванька и кривой Петька. Кириллыч всегда был мрачен, любил вздыхать и думать вслух. У него всегда были наготове какие-то сердитые мысли, которыми он точно стрелял в неизвестного врага. Ванька и Петька отличались веселым характером, любили подраться и, вообще, что-нибудь поозорничать. Одеты они были, как все сапожные ученики, в грязные рубахи, опорки и грязные фартуки, когда-то белого цвета. Для своих лет оба были слишком малы ростом и казались гораздо моложе. Испитые зеленые лица говорили о многолетнем сиденьи в подвале.
В первую минуту, когда Сережка проснулся, — он спал на лавке — он долго не мог сообразить, где он. Было еще темно, но рабочие сидели уже вокруг низенького столика и работали. Сережка видел только согнутую спину Кириллыча, а из-за нее смотрели на него Петька и Ванька.
— Проснулся, деревенский пирожник, — проговорил рыжий Ванька и фыркнул.
Кривому Петьке тоже понравилось это прозвище, хотя оно и было придумано без всяких оснований. Петька тоже фыркнул. Конечно — пирожник, настоящий деревенский пирожник!.. По этому случаю кривой Петька даже ткнул рыжего Ваньку в бок кулаком, и обоим сделалось ужасно смешно. Кириллыч сурово посмотрел на них поверх круглых очков в медной оправе и проговорил:
— Вы-то чему обрадовались? Хозяйское дело: кого хочет, того и берет. На то он и хозяин… да. Будь я хозяин — кто мне может указать? Что захотел, то и сделал… Я, наприменно, главный подмастерье и тоже по своей части что захочу, то и сделаю.
— А ежели он пирожник? — ответил рыжий Ванька.
— Не наше дело…
Сережке не понравилась мастерская. И темно, и сыро, и холодно, и дышать тяжело. Пахло свежим сапожным товаром, дегтем и еще чем-то кислым… так пахнет, когда мочат долго кожу. Рабочие тоже ему не понравились. Они, наверно, злые, особенно рыжий Васька, скаливший свои белые, крепкие зубы. Парасковья Ивановна несколько раз выглядывала из своей комнаты, и Сережке казалось, что она смотрит на него такими злыми глазами. Сережке вдруг захотелось плакать, и он решил про себя, поглядывая на дверь:
— Убегу… Напременно убегу к себе в деревню.
Мысль о деревне разжалобила Сережку. Он припомнил проданную новую избу, проданную лошадь… Если бы жив был отец, все было бы иначе. Маленькое детское сердце сжалось от страшной тоски по родине. Сережка мысленно видел свою деревенскую церковь, маленькую речку за огородами, бесконечные поля, своих деревенских товарищей… Там все были добрые и хорошие. В заключение Сережка еще раз подумал про себя: «убегу».
Фома Павлыч вышел в мастерскую всклокоченный, с опухшим лицом и красными слезившимися глазами.
— Сапоги Корчагину готовы? — строго спросил он, не обращаясь ни к кому.
— К вечеру будут готовы… — ответил сурово Кириллыч.
— То-то, смотрите у меня…
На Сережку хозяин даже не взглянул, а пошел обратно на свою половину. Послышались переговоры.
— Опохмелиться-бы, Паша? — виновато говорил Фома Павлыч.
— В самый раз… — сердито ответила Парасковья Ивановна. — Давай деньги…
Фома Павлыч только что-то промычал.
— Кто велел вчера натрескаться?
— Кто? А ежели дядя Василий посылал за мной.
— Дядя Василий, не бойсь, на работе, а ты валяешься… Чему обрадовался-то?
— Всего один стаканчик, Паша…
— Отстань смола!
— Паша… Ах, Боже ты мой!.. Ежеминутно…
У Парасковьи Ивановны были припрятаны на черный день три рубля, но она крепилась и не давала денег. Фома Павлыч надел свои опорки, взял шапку и хотел уходить.
— Ты это куда поплелся? — остановила его Парасковья Ивановна, загораживая собою дверь. — Сказано, не пущу. Вот еще моду придумал.
Фома Павлыч обиделся и начал отталкивать жену, приговаривая:
— Как ты можешь мне препятствовать? Кто хозяин в дому? Ступай прочитай вывеску: «Фома Павлыч Тренькин». А ты: «не пущу». У меня дело есть…
— Знаем твои дела. В кабак уйдешь, а то в портерную.
Этот неприятный разговор был прерван совершенно неожиданно. Отворилась дверь, и вошла мать Сережки. Она отыскала глазами маленький образок в углу, помолилась и, поклонившись всем, проговорила:
— Здравствуйте… Хозяину с хозяюшкой много лет здравствовать.
Потом она передала Парасковье Ивановне какой-то узелок, в котором оказались сороковка водки, горячий калач и десяток принесенных из деревни яиц. Самой Марфе не догадаться бы все это сделать, но научила Катерина Ивановна. Фома Павлыч сразу отмяк.
— Вот это настоящее дело, Марфа Мироновна… В самый, то-есть, раз. Паша, сделай-ка нам яишенку и прочее.
Марфу провели на хозяйскую половину и посадили к столу. Фома Павлыч совсем повеселел, даже потирал руки от удовольствия.
— А вы, не бойсь, о своем детище беспокоитесь, Марфа Мироновна? Будьте без сумления… Все в лучшем виде устроим. Человеком будет…
Когда яичница была готова, позвали Кириллыча.
— Ну-ка, Кириллыч, поздравимся с новобранцем? — говорил Фома Павлыч, разливая водку. — Что делать, выучим помаленьку…
— Как не выучить, ежели понятие есть; — уклончиво ответил Кириллыч, выпивая рюмку. — Все дело в понятии… Без понятия никак невозможно.
Выпитая сороковка всех оживила, и даже Парасковья Ивановна повеселела.
— Что же, пусть его живет, — проговорила она. Помаленьку выучится… Все так же начинали. Ежели баловать не будет, так и совсем хорошо.
Марфа осмотрела мастерскую и хозяйскую половину, и ей тоже не понравилось, как Сережке. Не красно живет Фома Павлыч…
IV
Марфа погостила всего три дня и собралась домой. Это было страшным горем для Сережки, первым детским горем. Он так плакал, что Катерина Ивановна взяла его к себе.
— Еще убежит, как раз, — говорила она мужу. — Карахтер у него такой. Тошно покажется… Пусть пока поиграет с Шуркой.
Сережка не мог успокоиться целых два дня. Он как-то сразу привязался к маленькой Шуре, тихой и послушной девочке, вечно сидевшей на стуле. Она ходила с трудом, как утка. Сережка мастерил ей свои деревенские игрушки, пел деревенские песни, а главное, рассказывал без конца о своей деревне.
Шура все говорила и все понимала. В ее воображении Сережкина деревня рисовалась каким-то земным раем. Кроме своего грязного двора и грязной фабричной улицы, она ничего не видала. Девочка напрасно старалась представить себе те нивы, на которых родится хлеб, заливные луга, с которых собирают душистое, зеленое сено, домашнюю скотину, огороды, лес, маленькую речку, белую деревенскую церковь, зеленую деревенскую улицу. Это незнание доводило Сережку до отчаяния.
— Эх, если бы тебе ноги, Шурка… — повторял он.
— Что бы тогда, Сережка?
Сережка осторожно оглядывался и шептал:
— А мы бы убегли с тобой!.. Видела котомку у мамки моей? Вот такую же котомку бы сделали, наложили бы сухарей, да по машине бы и пошли… Я знаю дорогу. Прямо бы в свою деревню ушли… А там спрятались бы в бане… Потом я пошел бы к дяде Якову. У него три лошади… Вот как бы ты выправилась в деревне-то.
Маленькая Шура только отрицательно качала своей большой золотушной головкой.
— Я боюсь, Сережка…
— Чего бояться? Будешь здоровая, как наши деревенские девки… Вон ты и есть-то не умеешь по настоящему, а там наелась бы черного хлеба с луком да с редькой, запила бы квасом… вот как бы расперло.
Мысль о бегстве засела в голове Сережки клином с первого дня городской жизни. Он лелеял эту мысль и любил поверять ее только одной Шуре.
— Ты только никому не говори… — просил он ее.
— А тебя поймают дорогой…
— Я руки искусаю… Палкой буду драться.
В мастерской Сережка освоился быстро. Работа была нетрудная. Пока он сучил шнурки для дратвы, приделывал к концам щетинки, натирал варом; потом Кириллыч научил его замачивать кожу и класть заплатки на женские ботинки. В первый же праздник рыжий Ванька его поколотил, но не со злости, а так, как бьют всех новичков.
— Нас еще не так дубасили, — объяснил он плакавшему Сережке. — А ты просто пирожник…
Кривой Петька изображал собой публику.
— Дай ему еще хорошего раза, Ванька, — поощрял он приятеля. — Ишь какие слезы распустил, пирожник…
Фома Павлыч и Кириллыч совсем не обижали Сережку, и последний убедился, что в городе не все злые. Парасковья Ивановна даже жалела его, когда он по праздникам сидел один в мастерской.
— Ты бы хоть на улицу шел с ребятами поиграть…
— Они дерутся.
— А ты им сдачи давай.
— Они больше меня…
Праздники для Сережки были истинным мученьем. Делать было нечего, и его заедала мысль о своей деревне. Он пробовал выходить на улицу, но кроме неприятностей из этого ничего не получалось. По шоссе бродила без цели и толку громадная толпа народа. Все галдели, толкались, кричали. К вечеру появлялись пьяные, и начинались драки. Фабричные ребятишки шныряли в этой праздничной толпе, как воробьи, затевая свои драки, шалости и редко игры. Эти изможденные, бледные тени не умели играть… Сережку удивляло, что все они какие-то злые. Он или сидел в мастерской, или уходил к дяде Василию играть с Шурой.
— Чудной он какой-то, — жаловалась сестре Парасковья Ивановна. — На других ребят и не походит совсем…
— Погоди, привыкнет — такой же будет. Деревенское-то все соскочит… Тоскует все.
— Тих уж очень…
К вечеру Фома Павлыч возвращался домой всегда выпивши. В праздники ему разрешалось выпить, и Парасковья Ивановна не ворчала. Он садился у стола и кричал:
— Сережка, как ты меня понимаешь… а? Говори: «сапожный мастер Фома Павлыч Тренькин…» Так. Рраз… Второе: «Где учился Тренькин?» У немца Адама Адамыча… Немец был правильный. Так… А почему? Потому, что он немец… А про русского сапожника говорят прямо: «пьян, как сапожник». Хха… Ежеминутно!..
Под пьяную руку Фома Павлыч непременно кому-нибудь завидовал — то немцу Адаму Адамычу, у которого прожил в учениках шесть лет; то дяде Василию, который получает жалованье, как чиновник, то деревенским мужикам, которые живут помещиками…
— Сережка, ведь лучше в деревне… а?
— Лучше…
— Вот то-то… Это только название, что мужик. А как он живет-то, этот самый мужик?
— Всяко живут, Фома Павлыч… Разные мужики бывают. Которые совсем хорошо, которые ровненько, а которые и совсем худо.
— Худо? А сколько дён в году твой мужик работает? Только летом, и то с передышкой… Обсеялись — жди страды, отстрадовали — лежи целую зиму на печи. Ну, съездит помолотить, на мельницу, за дровами там — только и всего. Мы-то вот целый год дохнем над работой, а мужику что… Брошу я свою мастерскую и уеду в деревню жить. Будет у меня пашенка, лошаденка, коровенка, огородишко… главное — все свое. Никому Тренькин не обязан… Так, Сережка? Дядя-то Василий правду говорит, что мы есть самые пропащие люди. Денег зарабатываем бугры, а какая цена нашим деньгам: что нажил, то и прожил, а у самого опять ничего.
Иногда заходил дядя Василий. Он тоже немного выпивал в праздник и любил поговорить о деревне и правильной жизни. Выпивши, дядя Василий непременно начинал жалеть свою Шурку и даже плакал. С Сережкой он держал себя строго и спрашивал каждый раз Фому Павлыча:
— Ну, как мой племяш? Не балует…
Все почему-то не доверяли Сережке и ждали, что вот-вот он выкинет какую-нибудь штуку. Эти подозрения скоро оправдались. Подметила дело своим бабьим глазом Парасковья Ивановна. В углу на печи начали появляться корки черного хлеба. Потом они исчезали. Парасковья Ивановна принялась выслеживать Сережку и скоро открыла припрятанные им сухари.
— Это он себе на дорогу готовит — сообразила она. — Ах, прокурат… Уж эти тихонькие!..
Дальше открыла она, что Сережка устроил себе из старой рубахи и разного тряпья настоящую котомку. Когда Сережка укладывался спать, она потихоньку приносила эту котомку и показывала мужу.
— Что же, правильно, — сообразил Фома Павлыч. — Провиант есть… Теперь остается только забрать спичек и нож. Без этого невозможно… Малый-то серьезный.
Приготовлялся Сережка к бегству очень медленно, почти всю зиму. Он уносил из-за еды по кусочку хлеба и сушил на печке. А потом, как говорил Фома Павлыч, явилась коробка шведских спичек. Мать оставила Сережке пятак, и он истратил на спички «родную копейку». Все дело оставалось в ноже. На четыре копейки его не купишь, а украсть нехорошо.
— Ну, как нож положит в котомку, тогда и накроем — решил Фома Павлыч. — Закон требует порядку… Ежеминутно.
Около масленицы в котомке появился и нож.
— Шабаш, брат! — заявил Фома Павлыч. — Теперь надо будет позвать дядю Василия. Его дело… Мы его не обижали.
В решительную минуту Парасковья Ивановна невольно пожалела Сережку. Дядя Василий бить будет.
Роковой день наступил. Это было как раз воскресенье перед масленицей. Позвали дядю Василия. Парасковья Ивановна принесла котомку, к которой уже были пришиты ременные лямки.
— Это что такое? — громко спросил дядя Василий.
 — Это что такое? — спросил дядя Василий.
— Это что такое? — спросил дядя Василий.
Сережка даже весь побелел и только взглянул с немым укором на Парасковью Ивановну.
Расправа произошла тут же, в мастерской. Дядя Василий больно прибил Сережку, а потом высек. Рыжий Ванька помогал ему от чистого сердца. Сережка даже не кричал, а только мычал от боли.
— Я тебя выучу, змееныш! — кричал дядя Василий, не помня себя от злости. — Тебе добра хотят, а ты что затеял?!..
Он опять хотел бить Сережку, но вступилась Парасковья Ивановна и не дала.
— Поучили, и будет — уговаривала она, удерживая дядю Василия. — Мал еще, ну и глупит… Мы свое думаем, а он свое.
V
Первой мыслью Сережки после наказания было поджечь мастерскую Фомы Павлыча и этим устранить причину всякого зла в корне. Но так как, кроме мастерской, мог сгореть весь дом, а главное деревянный флигель, в котором жила маленькая Шурка, то эта мысль заменилась другой — идти и утопиться в Неве. Последнего приходилось подождать, потому что сейчас Нева была покрыта льдом, а броситься в прорубь Сережка не желал. Он боялся холодной, ледяной воды.
Всю масленицу Сережка просидел дома и ни за что не хотел показываться ни на дворе, ни на улице. Ему казалось, что все будут указывать на него пальцами и говорить:
— Вот это тот самый Сережка, который хотел убежать к себе в деревню, и которого дядя Василий высек…
В прощенный день на масленице пришла Катерина Ивановна и сказала:
— Ты это что же, Сережка, и глаз к нам не кажешь… Шурка без тебя вот как стосковалась. Пойдем.
Сережка боялся идти к дяде Василию, но ему хотелось видеть Шурку, о которой он уже соскучился. Скрепя сердце, он пошел за теткой. К счастью, дяди Василия не оказалось дома. Шурка страшно ему обрадовалась и сделала строгий выговор:
— Ты папы не бойся — уверяла она. — Он добрый…
— Ну, не всякое лыко в строку — говорила Катерина Ивановна, оправдывая мужа. — Мало ли что бывает… Тоже и то сказать, Сережка, что и ты не прав. Хоть бы Шурку пожалел: убежал бы, а она с кем стала бы играть?
Сережке вдруг сделалось легче, точно свалилась гора с плеч. Да, он, действительно, забыл о маленькой, больной Шурке.
— Это ты от меня хотел убежать — плаксиво говорила девочка. — Ты нехороший…
Сережка плакал, потому что ему было жаль и своей деревни, и больной городской девочка.
Время шло. Проходили дни, недели, месяцы… Сережка продолжал думать о деревне и мечтал о том блаженном времени, когда сделается совсем большим и вернется домой.
Через два года он стал получать уже маленькое жалованье, а потом зарабатывал кое-что в свободное праздничное время. Сколько было радости, когда он мог послать матери первые заработанные три рубля.
— Ну, вот, молодец! — похвалил дядя Василий. Кто родителей помнит, того Бог не забывает. А в деревню хочешь уйти?
— И уйду, дядя, как только буду большим.
Теперь Сережка уже не боялся дяди Василия и говорил с ним смело. Дядя Василий сам любил поговорить о деревне и правильной жизни.
— Отчего же ты, дядя, не уйдешь в деревню? — удивлялся Сережка.
— А так… Привык здесь, а там я уж чужой, как выдернутый зуб. Какой я буду мужик, ежели меня по крестьянству определить… Курам на смех. А на фабрике-то я дома… А главное, не один я тут — большие нас тыщи народу. На людях и смерть красна… Который человек ежели без ошибки, так всегда можно жить, и даже очень превосходно.
Из Сережки рос серьезный, трудолюбивый мальчик, так что дядя Василий говорил про него:
— Ну, этот далеко пойдет. Он нам всем утрет нос… Много в нем этой самой деревенской силы.
Фома Павлыч только потряхивал головой. Что же, действительно, парень хороший, хоть куда. Вырастет — вот какой работник будет.
Лучшим развлечением Сережки, по-прежнему, оставалась больная Шурка, которая тоже выросла, но не поправилась. Она была такая же бледная и так же плохо ходила. Сережка играл с ней, как маленький. Теперь Катерина Ивановна души в нем не чаяла и принимала, как дорогого гостя. Она выросла в городе и тоже любила послушать рассказы Сережки о деревне.
— Что ты там делать-то будешь, Сережка? — спрашивала она.
— А все… Землю пахать, сеять, сено косить. Я природный крестьянин, и мне сейчас должно общество надел дать. Ну, лошаденку заведу, корову… Пока мать за хозяйством присмотрит, а потом сестренка подрастет. Женюсь, потому без бабы какое же хозяйство…
— Хочешь богатым быть?
— Зачем богатым… И так проживем. Главное, не надо эту проклятую водку пить… От нее все зло и по городам, и по деревням.
— Это ты верно, Сережка.
Шурка слушала все эти разговоры и только вздыхала. Она была уверена, что сейчас бы поправилась, если бы попала в деревню.
— Конечно, поправилась бы — уверял Сережка. — У нас вон какие здоровые деревенские девки. Не чета фабричным…
— Это уж конечно… Где же фабричным… синявки какие-то!
Рыжий Васька и косой Петька давно примирились с «деревенским пирожником», тем более, что он частенько выручал их от разных неприятностей. Молодые люди любили погулять и скоро узнали дорогу в портерные и трактиры. Из-за этих удовольствий как-то и работа не выходила в срок, и Кириллыч ворчал, а Парасковья Ивановна грозила, что прогонит.
— Вон какие лбы выросли — ворчала она. — Пора и своим умом жить. Сегодня обрадовались, завтра обрадовались, а кто работать будет?
Фома Павлыч угрюмо отмалчивался, потому что сам встречался в трактире с своими подмастерьями. Кириллыч «срывал» в год раз и пропадал недели на две. В конце-концов, самым надежным человеком в мастерской оставался Сережка. Через три года он уже выучился работать, как настоящий мастер, и только робел немного, когда приходилось снимать мерки и выкраивать товар… Как раз ошибешься!
— Ты уж того, Сережка, постарайся, — говорил Фома Павлыч все чаще и чаще. — Понимаешь? Потому как есть настоящий мастер Фома Павлыч Тренькин и не желаю оказывать себя свиньей… У меня своя сапожная линия. Ежеминутно…
И Сережка старался. От работы и житья в подвале он сильно похудел, вытянулся, и в его лице появилась какая-то скрытая озлобленность, как и у других мастеровых. Он так же бегал в опорках и в грязном фартуке, а по праздникам одевался уже совсем по-городски — в пиджак, суконный картуз и суконные брюки. Верхом торжества в этом городском костюме были резиновые калоши, подержанное
осеннее драповое пальто и зонтик. Когда дядя Василий увидал его в первый раз в таком костюме, то невольно проговорил:
— Ну, теперь, Сережка, ничего тебе не остается, как жениться. Да… Вот тебе и выйдет вся деревня.
Наконец, прошли и пять лет. За последние годы Сережка успел кое-что отложить себе и заявил в день своего мастерового совершеннолетия Фоме Павлычу:
— Хозяин, теперь мы с тобой в расчете.
— Ну?
— Значит, еду к себе в деревню…
— Спасибо здешнему дому — пойду к другому? Ежеминутно…
Фома Павлыч страшно обиделся и побежал сейчас же жаловаться дяде Василию. Тот его выслушал, почесал в затылке и проговорил:
— Ничего не поделаешь, Фома Павлыч… Сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит.
— А я то как без него останусь? Вот так ежеминутно… Паша как услыхала, так заревела… Он у нас родным жил. Все его жалеют. Главное — непьющий, в аккурате всегда.
Сережка простился со всеми, как следует. Больше всех горевала о нем Шурка, которой было уже десять лет. Она горевала молча и старалась не смотреть на Сережку.
— В крестьяне запишешься? — спрашивал дядя Василий.
— В крестьяне… Зимой сапоги буду шить.
— Та-ак… Что же, дело невредное. С Богом… Ужо в гости к тебе приедем с Фомой Павлычем…
— Милости просим… Ну, прощайте, да не поминайте лихом.
Катерина Ивановна и Парасковья Ивановна плакали о нем, как о родном.
Дело было осенью, когда уже начались дожди, и дни делались короткими. По вечерам в мастерской частенько вспоминали Сережку и завидовали ему, особенно Фома Павлыч.
— Теперь страда кончилась, все с хлебом, — говорил он с каким-то ожесточением. — Свадьбы играют… Пиво свое домашнее, закуска всякая тоже своя, а водку покупают прямо ведрами. Ежеминутно… Эх, жисть!
Можно себе представить общее изумление, когда ровно через три недели, поздно вечером, в мастерскую вошел Сережка.
— Ты это откуда взялся-то? — удивлялся Фома Павлыч. — Вот так фунт.
— Где был, там ничего не осталось, — уклончиво ответил Сережка.
Вечером у дяди Василия был устроен настоящий пир. Сережка купил на собственные деньги водки, пива и разной закуски. Угощались дядя Василий и Фома Павлыч с женами, и Кириллыч.
— Эх, брат, как же это ты так, т. е. ошибку дал? — спрашивал дядя Василий. — Мы-то тебе тут завидуем, а ты вот-он.
— Скучно показалось, дядя… Точно чужая вся деревня… И все люди точно чужие. Пожил, посмотрел, и потянуло меня опять в город… Обрусел я здесь совсем, а там чужой стал… Они чужие, и я чужой. Вот сколочусь деньжонками, мать сюда с сестренкой выпишу. Будем вместе жить… Главная причина, делать мне там нечего цельную зиму. Какие в деревне сапоги, — одно званье, что сапог. Даже по ночам просыпался: так и вижу всех живыми — Фому Павлыча, дядю Василия, Кириллыча. Слава Богу, худа ни от кого не видал. Ну, так и порешил… Значит, уж такая линия вышла!.. Шурку вот все жалел…

СВЯТОЙ УГОЛОК
Путевая заметка
I

ы едем в Киев!.. — повторяю я с особенным удовольствием, прощаясь с знакомыми в Москве.
— Вот счастливец… завистливо отвечают вольные и невольные москвичи. Теперь в начале мая там рай! Все цветет… соловьи… пирамидальные тополи…
Мне делается совестно за свое собственное благополучие, и я начинаю повторять уже только про себя: «Мы едем в Киев… да, в Киев. Через два дня мы будем в Киеве… до Киева сорок часов езды по железной дороге». Южнее Москвы мне не случалось бывать, а Киев уже юг, тот благословенный юг, который нам, северянам, рисуется в самых радужных красках, хотя, не скрою, отзывам самих южан, особенно малороссов об их несравненной украине, я не совсем доверял по свойственному нашему брату сибиряку скептицизму. Во-первых, всякий кулик свое болото хвалит, а во-вторых — все южане по природной живости своей горячей южной крови немножко хвастуны…
И так, едем в Киев, в мать городов русских, в излюбленный святой уголок для всех русских странников.
День был ясный, солнечный; но на одной стороне неба быстро собиралась весенняя гроза. Апрельская свежесть бульваров и скверов теперь занялась наливавшейся тяжелой столичной духотой, а на распускавшихся деревьях уже сидел толстый слой пыли. На душе становилось весело уже от одной мысли, что еще какой-нибудь час, и курский поезд с быстротой ветра унесет и от этого неумолкающего вечного грохота столичной мостовой, и от едкой столичной пыли, которая проникает всюду.
На курском вокзале происходила настоящая давка.
Второй звонок… Свисток. На платформе и в вагонах слышатся перекрестные прощания, сыплются взаимные советы и договариваются на ходу позабытые поручения. На платформе машут платками и фуражками.
— Вы докедова? — спрашивает в нашем вагоне невидимый голос.
— А до Курскова… — отвечает другой невидимый голос.
Мы едем в третьем классе. Вагон низкий, с самыми неудобными деревянными лавочками, какие только могло придумать человеческое воображение, — ни сесть хорошенько, ни прилечь. Публики набито, как сельдей в бочонке, и, всякий, видимо, утешает себя мыслью, что многие едут до ближних станций, а там будет свободно. Опытные и бывалые люди начинают вперед опрашивать своих соседей, кто и докуда едет, и чаще всего слышится общий ответ: «до Курскова». Пассажиры нашего вагона по преимуществу московского уклада, — чуйка и «спинджак» заполонили все. Несколько мужицких серяков и зипунов как-то совсем теряются на этом общем фоне.
— Рогожское будет вон там… — объясняет кто-то высунутой в окошко голове. — А энто шапкой-то, значит, новый Спас — как шар горит. Эх, Москва — матушка, ишь как раскинулась!..
Действительно, вид на Москву очень хорош, и золотая шапка храма Спасителя долго еще висит в воздухе, когда уже самый город совсем потонул в желтоватой мгле. Из смешавшихся в одну мутную полосу домов, садов и разных фабричных зданий одиноко торчат фабричные трубы да иглы московских колоколен. Тучка догнала нас, и в мутной колебавшейся полосе сыпавшегося крупными каплями весеннего дождя пропало все московское великолепие, а по сторонам дороги уже расстилались пашни, и самым мирным образом бродил разный скот, околачивавшийся по межам и придорожинам.
Меня всегда удивляет этот необыкновенно быстрый переход от наших столиц к настоящей деревне, — какая-нибудь верста, много две, и шумная столица со всеми своими чудесами точно сквозь землю провалилась, а кругом вас стелется настоящая деревенская Русь, со всем ее мирным убожеством и необъятным врачующим простором. Вообще, никакого перехода от столицы к деревне, и в виду Москвы пашут землю что ни на есть самые деревенские мужички, и где-то в ложке мелькает самая настоящая великорусская деревня, т. е. пять-шесть убогих избенок с соломенными крышами, точно развороченные нарочно изгороди и т. д. Издали такую деревню не скоро отличишь от кучек навоза, вся разница в том, что навоз разложен по полям более симметрично.
II
Собственно до Курска дорога не представляет из себя чего-нибудь интересного, кроме разве того, что московская Русь, Великороссия, постепенно переходит в степные равнины, в начинающееся южное приволье. Из попадавшихся на пути городов красивее других были Серпухов и Орел. Но подъезжая к Курску, уже начинаешь чувствовать, что здесь что-то другое, свое, чего не было раньше, — необозримым ковром раскинулись пашни, и в первый раз выглянули хохлацкие мазанки.
Курск очень красивый город, и можно только пожалеть, что он так далеко от вокзала, или вернее, что так далеко вокзал от города.
Киевский поезд унес нас дальше, к благословенному приднепровью. И публика была уже другая — в одном углу вагона слышалась «польская мувь», а в другом настоящий еврейский жаргон. Появились дамы с корзинками, мешочками и картонками, каких раньше не было. Слышатся непривычные для уха названия городов, как Нежин, Конотоп; — для нас это только безразличные географические термины, лишенные плоти и крови и, самое большое, знакомые по рассказам Гоголя.
По сторонам дороги опять бесконечные поля и поля; кой где по балкам и около воды какие-то жалкие кустики вербы и, должно быть, ветлы, а может быть, и дубы, — издали трудно разобрать. Попалось несколько пирамидальных тополей, но особенного впечатления они не производили, — дерево как дерево, ничего такого, что бросалось бы в глаза.
— Погодите, вот в Киеве увидите… уверяет какая-то дама, большая поклонница юга вообще, а Киева в особенности.
В вагоне свободно, и мы мечтаем, что здесь можно и выспаться будет, не то что «до Курскова», — на каждого по целой скамейке достанется. По другую сторону вагона тоже на отдельных скамьях поместились какой-то благообразный старичок из купечества средней руки и, довольно суровая на вид, дама с какими-то белыми узлами.
— А что, Конотоп хороший город? — спрашиваю я старичка.
— Какой хороший, — одна грязь. Одним словом, конская топь была, да и теперь осталась.
— А Нежин?
— Нежин как будто немножко поаккуратнее… Да нет, такая же непролазная грязь. Вот Киев — это город… Да-с, можно сказать, а это какие города — будто одно только название, что город.
Вечереет. Деревушки начинают попадаться чаще. Около хаток разведены садочки. Яблони стоят в полном цвету, точно обсыпаны мукой. Это не наши жиденькие волжские яблони, которые выглядывают такими заморышами. Воздух бьется в окно вагона душистой струей. К Конотопу мы подъезжаем на солнечном закате. Самый город далеко, а к полотну дороги прижались сплошной стеной все те же цветущие яблони. Из окна вагона можно рассмотреть все нехитрое хохлацкое хозяйство, — хатки такие маленькие, с крошечными, кривыми оконцами, кривой завалинкой, а соломенные крыши походят на нахлобученные по самые глаза шапки. Все остальное хозяйство из одного плетня, и только кой где навес или стойло для скота. Одни садики скрашивают все; но такие садики, к сожалению, не везде. Сравнивать это жилье с нашим великорусским, особенно с северным, как-то даже смешно. Нужно очень сильное воображение, чтобы опоэтизировать эти птичьи гнезда, кой как слепленные из прутьев и глины.
Впрочем, это чисто железнодорожное впечатление, а, как говорят, по Днепру и особенно в Полтавской губернии, хатки очень красивы.
— Бедный народ все живет… — участливо повторяет старичок купец, поглядывая в окошки. Главная причина — большое умаление земли. Переселенцы так и прут на Самару и в Томскую губернию.
С Курска малороссийский говор начинает постепенно сменять великорусскую речь, и южное мягкое произношение приятно отзывается в ухе. В Конотопе на вокзале показались и первые настоящие хохлы — в свитах, в белых необъятных шароварах и черных бараньих шапках хохлацкого фасона. Медленные движения, медленный взгляд исподлобья и какая-то флегма являются резким контрастом с оставшейся позади московской вертлявостью и пробойностью.
III
— Соловей… слышите, соловей?.. — проговорила моя соседка, когда поезд медленно подходил к нежинскому вокзалу.
Я торопливо выскочил на платформу слушать настоящего курского соловья. Кругом стояла теплая, мглистая южная ночь, какой не бывает на нашем севере, — синяя бездонная глубь над головой искрилась и переливалась каким-то внутренним мерцанием, а звезды плавали в ней, как золотые искры. Внизу разлилась молочная теплая мгла, прозрачная дремлющая мгла, и среди этой мглы величаво поднимались пирамидальные тополи. Да, это были они, главная краса благословенной Малороссии. Хороша была и ночь, и эти тополи, и цветущие шпалеры яблоней; но все это получило чарующую южную прелесть только от соловьиной песни, которая страстными и зовущими трелями дрожала и переливалась в воздухе.
Ночь пролетела незаметно.
— Скоро уж Киев… говорит кто-то. — Посмотрите, вон сколько богомолок и странников идет… Все с котомками, с палочками.
— Это все хохлы, — объясняет кто-то. Теперь расстановка у них, — пахота кончилась, а страда еще начнется через неделю, ну, и бредут к мощам.
Железная дорога в этом месте пересекала шоссе, по обеим сторонам которого тянулись вереницы богомольцев и богомолок. Лапти, босые ноги, сгорбленные спины с котомками, длинные палки в руках, загорелые на солнце и покрытые потом и пылью лица, — вот эта бродячая по угодникам Русь, одинаковая везде и везде имеющая в себе что-то неотразимо-привлекательное, как проявление высших духовных требований.
Местность принимает заметно холмистый характер, попадается даже сосновый бор, настоящий сосновый бор, бор, который стоит здесь, как подошедшее с далекого севера войско. Скоро потянуло свежестью, — близок Днепр. Утро великолепное, и южное небо высоко поднимается над головой. Что-то такое радостное и бодрое в самом воздухе, который курится ароматом распустившейся зелени.
— Вот и Киев…
Поезд с каким-то победным гулом выполз из леса и быстро начал спускаться в широкую зеленую равнину, дымившую утренним туманом. А вот и Днепр, красавец Днепр, который здесь так великолепно разлился между низкими островами. Вон и правый гористый берег; а там дальше, вверх по течению, на самом верху гор красуются белые церкви, и жарко горят золоченые главы и кресты. Самого города, настоящего Киева, не видно, — он за горой, из-за которой можно рассмотреть только домики предместья, Николаевский мост через Днепр и часть утонувшего в синеватой дымке Подола. Картина великолепная, единственная в своем роде…
Поезд, сдержанным ходом, вползает на великолепный мост, и правый берег начинает быстро приближаться к нам. Все затянуто густой зеленью, которая лепится по кручам и скатам и залегает сплошными массами в глубоких выемках, где основной кряж точно расседается, чтобы образовать эти красивые зеленые уголки. Направо, в двух шагах от моста, в такой расселине совсем спряталась небольшая церковка, а рядом с ней выше креста поднимает свою голову гигант-тополь.
— Это Выдубецкий монастырь, — объясняет кто-то: — а повыше на горке Иёна…
— Что это такое Иёна?
— А монастырек такой… В нем старец Иёна все объясняет. К нему все ходят, потому угодный старец. А там вон дальше на горке-то Лавра…
Низкий левый берег и пасть островов заняты какими-то поселками. По реке медленно бороздят маленькие лодки, где-то далеко свистит пароход… А Днепр, могучий, синий Днепр, идет так тихо и важно и пропадает где-то на горизонте в золотистой утренней мгле.
Железный путь проложен по дну глубокой котловины, которую прорыла в горах речка Лыбедь. Поезд подходит к городу с южной стороны. Сквозь лес мелькают крыши домов, налево выдвигаются отдельные хутора — Байков, Протасов яр; новый Киев, залегший к самому полотну железной дороги, показывается сплошной массой домов справа, где все перепуталось в массе зелени, из которой смело поднимаются кверху пирамидальные тополи, точно зеленые минареты. Да, вода, горы и могучая южная растительность составляют главную красоту Киева, а пирамидальные тополи придают ему немного восточный вид. Глаз невольно ищет плоских восточных кровель и узких кривых улиц, но здесь все ново, все с иголочки, — широкие улицы, новые дома, одним словом, самый европейский город, а издали уже доносится раздражающий нервы лязг и треск мостовой.
Последний свисток, и поезд торжественно останавливается у платформы. Происходит обычная вокзальная толкотня. Пристают носильщики, артельщики, извозчики, точно мы приехали куда-то на пожар. Наконец, все устроено: — багаж получен, извозчик взят, двугривенные рассованы, и мы едем в самый город. С вокзала вид очень красив, но не видно Днепра, который за горой.
— Вези в Лавру… Там есть гостиница?
— Странноприемница, есть… — не торопясь отвечает извозчик хохол.
— Ну, все равно.
По громыхающей мостовой мы въезжаем в самый город с его широкими мощеными улицами и чистенькими домиками, которые издали очень красивы. Зеленая стена Бибиковского бульвара представляет единственное в своем роде зрелище, — эти гиганты-тополи вытянулись в несколько рядов, точно развернутый фронт какой-то лесной гвардии. Бульвар тянется стрелой версты на две. Наш экипаж медленно поднимается в гору мимо громадных домов, выстроенных из какого-то особенного желтоватого кирпича. Направо из-за каменной стены зеленым облаком круглится ботанический университетский сад, за ним здание университета, выкрашенное в казарменную красную краску, потом спуск к Крещатику, где развертывается уже картина настоящего столичного города — четырехэтажные дома, унизанные вывесками, широкие панели, движущаяся масса экипажей.
— Вот это так город… повторяю я.
Проезжаем по площади какого-то рынка и начинаем подниматься по крутому университетскому спуску на знаменитые Липки, где дома совсем потонули в садах. Прелестный уголок эти Липки с своими чистыми, широкими улицами, игрушками-домами и той особенной домовитой уютностью, какой недостает столичным улицам. Опять пирамидальные тополи, клены, яблони и еще какие-то громадные деревья, названий которых я не знаю. А там, уже новые облака зелени, — это какой-то сквер на самом берегу Днепра. Мы минуем его, потом площадь с кругом для скачек и въезжаем в черту крепости. Собственно Киев остался назади, мы теперь въезжаем в Печерск, т. е. на территорию Киево-Печерской лавры.
Киевская крепость занимает собою громадное пространство, так что внутри ее может свободно поместиться средней руки губернский город. Лавра с ее церквами, кельями, помещениями для богомольцев и разными хозяйственными пристройками занимает небольшой уголок этой крепости, именно, — крутой спуск к Днепру в юго-восточной части.
По дороге в крепость начали опять попадаться толпы богомольцев, и чем дальше мы подвигались, тем более эти толпы увеличивались. Целые партии расположились тут же у дороги на травке, благо места свободного здесь много. Переезжаем через несколько линий громадных земляных валов, украшенных старинными чугунными пушками, и въезжаем через каменные ворота во двор крепости, где уже движется сплошная толпа богомольцев. Большинство составляют женщины. Особенно их много толпится около маленьких лавчонок, где продаются крестики, образки, четки, лубочные картинки, все то, что разносится богомольцами из Киева по всей Руси.
Вот и десятки золоченых глав знаменитого Печерского монастыря, и святые ворота, сплошь расписанные фигурами печерских подвижников, а немного дальше вторые ворота, где идет крутой спуск во внутренний двор Лавры, отведенный для богомольцев. Впереди виднеется гауптвахта и новая крепостная стена с воротами. Мимо проходят кучки солдат, и как-то странно смотреть на эти подтянутые, вымуштрованные фигуры, замешавшиеся в пестрой толпе богомольцев.
— Вам у контору? — спрашивает извозчик.
— Вези в контору.
Мы въезжаем в третий внутренний двор, где и останавливаемся у низенького одноэтажного домика, — это и есть контора. В низенькой комнатке посетителей принимают несколько монахов.
— Вам комнатку?..
— Да…
— Позвольте ваши документы.
Старший монах, вероятно, о. эконом, бегло просматривает мой вид, выдает бумажку с номером помещения и посылает маленького служку проводить. Мы идем через двор, весь занятый богомольцами, и, наконец, останавливаемся у четырехэтажного здания недавно отстроенной странноприемницы. Служка, мальчик лет десяти, одетый в темный подрясничек и черную шапочку, передает нас с рук на руки одному из братьев, прислуживающих в странноприемнице.
— Пожалуйте у третий этаж… говорит в малороссийским акцентом скромный молодой человек в такой же черной шапочке и подряснике.
Через пять минут я с балкона странноприемницы уже любуюсь чудным видом на Днепр, на далекое Заднепровье, а под ногами у нас уходит к реке глубокая котловина, вся затянутая зеленью, из которой так красиво поднимаются церкви, церковки, и точно прячутся свеженькие белые домики. Самая лавра стоит выше, на горе; мне из-за монастырской стены видны только золотые куполы лаврских церквей; но здесь, именно, в этой котловине, расположились ближние и дальние пещеры — основание и главная историческая древность всего монастыря. Мы в самом центре святого уголка…
IV
Было еще рано, но в воздухе начинала наливаться томящая мгла настоящего летнего жара. Нужно было торопиться съездить в город за некоторыми покупками, а отчасти и затем, чтобы познакомиться с городским центром.
Я опять среди богомольцев на монастырском дворе. В низенькие ворота монастырской стены народ так и валит, — одни богомольцы прямо с дороги, запыленные и усталые, другие от ранней обедни или из пещер. Весь двор полон этим народом, точно в Христову заутреню. Все лавочки облеплены «странными людьми», каждый тенистый уголок, а большинство расположилось прямо под открытым небом, на вымощенном плитами полу, среди своих котомок, страннических палок и снятой с притомившихся ног обуви. Везде хохлатский говор и хохлатские лица. Нашего российского и званья нет. Хохлы в белых шароварах и бараньих черных шапках едва шевелятся за более подвижными хохлушками. Мелькают запаски и плахты, где-то тяжело постукивают железными «пидковками» красные сафьяновые чоботы, в каких щеголяют дивчата.
— Батюшечка, родненький — просит милостыню какая-то слепая старушка и кланяется на шум приблюкающихся шагов.
Я люблю бродить в незнакомой толпе и прислушиваться к ее говору, а здесь это удовольствие увеличивалось приятным южным акцентом малорусского говора. И лица совсем не наши, великорусские или сибирские, — нет окладистых бород, лопатой прежде всего, а потом что-то такое придавленное и скрытое в выражении упрямых глаз. Я напрасно искал глазами забубенных запорожских голов, — ничего похожего. В толпе наших русских богомольцев вы всегда найдете массу тех типичных физиономий, красивых оригинальной старческой красотой, — эти широкие спокойные лица, обрамленные почтенной сединой, особенно хороши, и сами собой просятся на полотно, как и лица старух-богомолок. Здесь не было этого, как не было дышавшей здоровьем молодежи.
Но что приятно поражает глаз в этой толпе, — так это какая-то особенная простота выражения, как женских, так и мужских лиц, трудовая сосредоточенность взглядов и вообще что-то такое патриархальное, чего уже не достает нашему великоруссу, а тем больше — сибиряку. Да, убого, некрасиво, но, все-таки, хорошо именно своей простотой и сердечностью. И все свое, — своей домашней работы: рубахи, шаровары, свиты, запаски, плахты. Правда, некрасиво сидит эта самодельщина, особенно на молодежи, но за то вы нигде не увидите ситцев и миткалей, в какие разодеты наши русские бабы. Фабричная цивилизация еще не задела этот мирный народ, и, много-много, если какая-нибудь щеголиха вырядится в кумачный красивый платок, или обмотает голову безобразной бумажной шалью.
— Вертайся до нас, Галю… — слышится ласковый старушечий голос. — Пидем у пещеры…
— Бабуся, мы трохи сходимо у город, до купцов.
— Нэхай…
Эти разговоры на «вы» как-то даже странно слышать после нашей великорусской и сибирской грубости. Ни галденья, ни звонких бабьих голосов, даже молодежь смотрит так серьезно и сдержанно, — ничто не нарушает святости заветного уголка.
Беру первого, попавшегося на глаза, хохла-извозчика и отправляюсь в центр города, т. е. на Крещатик. По дороге — те же толпы богомольцев, такая же толкотня у мелких лавчонок с образками. Какой-то молодой хохол растянул на прилавке полотно, с намалеванным на нем черным крестом, лестницей, мертвой головой и еще какими-то принадлежностями траура, и, видимо, торгуется уже давно, потому что разбитная толстая торговка утирает пот с лица и накидывается на хохла с особенным азартом.
— Что это он покупает? — спрашиваю извозчика.
— А на смерть покупав… покров такий… — отвечает извозчик и почесывает в затылке на великорусский манер.
Мы так оставили запасливого хохла торговаться на смерть. Сейчас за крепостной стеной глянул на нас синий Днепр и скрылся за зеленью Царского сада, распланированного чистенькими дорожками, клумбами и куртинами. Налево — низменный одноэтажный дом совсем как-то потерялся в тени целой роты великолепнейших тополей; там дальше опять сады и опять тополи и какие-то совсем неизвестные мне деревья, покрытые пирамидками белых цветов, точно святочная елка свечами.
— Грецкий орех… — сурово объяснил извозчик, хотя этот грецкий орех оказался впоследствии каштаном.
К Крещатику, главной артерии Киева, мы спустились мимо целых облаков зелени городского сада, — я не ожидал такой красоты и глазел по сторонам, как пошехонец. Вот и Крещатик с его трехсаженными панелями, бесчисленными магазинами, цукернями, продажей минеральных вод на каждом шагу, треском и лязгом мостовой и вечной толпой пешеходов, бойко сновавших взад и вперед. Оставив извозчика, я отправился пешком. Зашел по делам в два-три магазина, купил газету и завернул в погребок «натуральных кахетинских вин» освежиться стаканом вина.
В погребке было очень прохладно, а пред окном тянулась бесконечная толпа пешеходов, напрасно старавшаяся спастись от жара в тени домов. Нужно было перевести дух и всмотреться в двигавшуюся городскую толпу.
Крещатик поразил меня своим столичным великолепием и необыкновенным движением гораздо больше, чем удивлял прежде Невский или Кузнецкий мост. Это такая щегольская и чистенькая улица, при том с европейской складкой, чего, пожалуй, не найти и в столицах. Да, это именно европейская улица, вся пропитанная специально польским щегольством, — везде лица польского типа, особенная польская чистота и бойкая «польская обувь». Ни русского, ни хохлацкого, начиная с объявлений на окнах магазинов, где русскими буквами в одном месте требовалась «девушка к платьям».
— Мое ушинованье, пан Здислав… — врывается в отворенную дверь погребка густой басок невидимого пана.
— До видзенья, пан Иосиф.
Торопливо бегут по тротуарам с коробками в руках «девушки к платьям», полулежа в колясках катятся красивые паненки и пани; с строгими лицами проходят сердитые старухи-польки, вечно занятые и вечно озабоченные, а настоящим, кровным панам, одетым по последней модной картинке, и счету нет. Много типичных, красивых лиц.
Решительно, этот Крещатик — улица-красавица, и я остался от нее в восторге, особенно когда за двугривенный купил такой великолепный букет из тюльпанов, сирени, белых нарциссов и еще каких-то розовых, душистых цветов, какой у нас на севере не купишь в это время ни за какие деньги.
V
Считаю не лишним сказать несколько слов относительно местоположения и истории Киева, этой колыбели нашей родины и, по выражению Александра II, «Иерусалима земли русской».
Как известно, Киев расположен на правом гористом берегу реки Днепра. Если смотреть на него с высоты птичьего полета, представляется такая картина: гористый высокий берег, который поднимается над уровнем реки на сорок сажен, изрезан по направлению к Днепру несколькими речонками, вырывшими глубокие лога, или, по степному, — «балки»; — эти речки с историческими названиями, именно: Лыбедь, Почайна, Глубочица, Киянка и т. д. Некоторые речонки давно исчезли, как Желань, Любка и Сестомля, но остались вымытые ими глубокие разрывы берега. Центр города занимают старокиевские высоты, где, собственно, стоял «град Кыев»; южнее идет печерская возвышенность, отделенная от старого города широкой крещатой долиной, по которой вытянулись чистенькие улицы нового города, придвинувшегося к линии железной дороги. Севернее старого Киева стоит гора Щекавица, а сейчас у его подножья выдвинулся в Днепр полуостровом низкий берег — Подол. Днепр у города разветвляется и образует Труханов остров с Долобским озером. За ним, на левом берегу Днепра, виднеется Лысая гора, — сборище знаменитых киевских ведьм. Вверх по реке, в туманной дымке горизонта чуть-чуть брезжат Межигорье и высоты Вышгорода.
Собственно Кыев, где стояли языческие боги, а потом блуждающим огоньком мелькнул первый свет христианства, занимал на старо-киевских высотах очень небольшое место, и можно только удивляться, что на таком ограниченном пространстве свершилось так много славных и великих дел. «Золотые ворота» показывают пределы старого града Кыева, и, глядя на них, невольно дивишься, как немного было нужно места для такого бойкого, торгового и воинственного города, каким был Киев при Ярославе I. По нынешним порядкам этого места едва-едва хватит, чтобы устроить народное гулянье или парадное учение местному гарнизону; а между тем тут стояли языческие боги, княжеские дворы и терема, потом выросли церкви и монастыри, не считая хором и избенок мелких киевских людишек. Тут приносили человеческие жертвы Перуну, пировали у Красного Солнышка, ласкового князя Владимира, великие русские богатыри, и тут же смиренно замаливались всякие грехи, содеянные «во тьме язычестей»; мелкие киевские людишки перебивались разным киевским рукомеслом, торговали, обманывали добродушных полян и суровых древлян, а потом шли воевать себе на пользу, а великому князю на славу. Да и война в то доброе время была у себя же дома, — дрались с удельными князьями сейчас под горой в долине Глубочицы, с поляками и степными кочевниками — прямо у Золотых ворот.
Бойкое было место этот «градок», а кругом тянулись дремучие леса, и уходила из глаз пестрым ковром заднепровская степь. Этот лес начинался сейчас же за городской стеной, и княжеские ловы устраивались в крещатой долине, составлявшей начало старинного Перевесища, где развешивались сети для ловли зверей и птиц. Перейдя эту долину, вы попадаете в Печерск, т. е. на печерскую возвышенность, где красовалось Берестово, летний загородный приют киевских князей, а за ним начинался знаменитый Печерский монастырь. Дальше к югу шел зверинец с урочищами, Соколий Рог и Неводищи, — названия эти сами объясняют свое значение. Через Днепр на Трухановом острове «деялись» тоже княжеские ловы, и здесь великие киевские князья в общей потехе братались с князьями черниговскими, а, может быть, и с разной степной ордой, напиравшей с юго-востока.
В общем получается немного места. А кругом этого маленького места, где творилась русская история, рыскал дикий зверь, наезжал не менее дикий половчанин, и без конца-краю расстилалось то дикое приволье, на котором «разыгралась» потом русская история.
История Киева — это история языческой и удельной Руси; главным действующим лицом являлся здесь именно город, и каждый вершок этой городской земли напоен киевской кровью. История эта обрывается только в Москве, когда этот город «переклюкал» и колыбель русской земли, и слишком много «такавшего» господина великого Новгорода.
Первые исторические люди, которые заняли эти днепровские высоты, были братья Кий, Щек и Хорив, а сестра их Лыбедь поселилась в долине реки, которая теперь носит ее имя. Так записал народное предание Нестор. По имени старшего брата первый «грядок» назван был Кием или Кыем. До начала VIII века история этого градка остается неизвестной. В летопись он попадает благодаря тому, что являются Козары, разбойничавшие по Днепру, завоевывают градок и облагают его жителей данью. В 864 г. варяжские витязи, Аскольд и Дир, по дороге из Новгорода в Царь-град, завоевывают Киев и основываются в нем на настоящее жительство; но в 882 г. витязь Олег убивает своих предшественников, занимает Киев под свою руку и, по словам летописца, говорит: — «Се буде мати градом русским». Благодаря Олегу, Киев делается стольным городом, и таким образом завязывается первый исторический узел.
Через сто лет в 980 году в Киеве является князем Владимир и утверждает здесь язычество, а потом в 988 г. заменяет его христианством. Киевский народ крестится, строятся церкви, заводятся школы и дома призрения. Немец Дитмар, современник Владимира, пишет, что в Киеве теперь до 300 церквей и 8 торжищ. Адам Бременский называет его вторым Константинополем. Город процветает. В XI веке Киев много пострадал от пожара, а потом был взят польским королем Болеславом. Зенита своей славы Киев достигает при великом князе Ярославе, который умер в 1054 г. А затем следует беспрерывная цепь специально киевских злоключений, растянувшихся на несколько столетий: в 1096 г. нападал на Киев половецкий хан Боняк и причинил городу большое разорение; в 1151 г. Киев разорили, благодаря княжеским усобицам, торки и берендеи; в 1169 г. князь Андрей Суздальский во главе других двенадцати князей взял Киев приступом и передал его своим воинам на трехдневное разграбление; в 1171 г. завладел Киевом князь Святослав Всеволодович; в 1204 г. Киев был разорен половцами, приведенными сюда князем Рюриком; в 1240 г. Киев был взят и разграблен ордой Батыя.
Собственно, этим моментом роль Киева и кончается, — «красная нить» истории уходит на север, а Киев предоставляется самому себе.
Татары не оставили в Киеве камня-на-камне; но город оправился, и в 1320 г. великий князь литовский Гедимин выгнал из него татар, а город присоединился к Литве. Киев оторван от остальной православной Руси, я в нем развивается католичество; — первый католический «бискуп» назначен в Киев в 1321 г. В 1415 г. Киев взят и разорен татарским ханом Эдигеем, а в 1483 г. — крымским ханом Мегли Гиреем; в 1569 г. присоединен к Польше. С момента водворения в Киеве польщизны начинается длинная история борьбы южно-русского казачества за свою отчизну, пока в 1654 г. Киев не был присоединен к России. Но это не помешало татарам еще несколько раз нападать на Киев, именно, в 1677 г. и в 1680-4 г. В 1706 г. 15 августа Петр I собственноручно заложил печерскую крепость, и с того времени Киев не видал в своих стенах ни одного врага.
Мы останавливаемся на этом кратком перечне событий и предоставляем читателю обратиться за более подробными сведениями к специальным историческим источникам. По приведенным выше данным вы видите, что Киев — Иерусалим русской земли. Исторические события громоздились здесь в невообразимую пеструю кучу: исторических памятников сохранилось в Киеве не особенно много. Даже внешний вид киевских высот изменен настолько, благодаря новейшим «украшениям» города вроде насыпей и уравнений местности, что древний киевлянин, поднятый из могилы, наверно не узнал бы своего пепелища. От языческого Киева, кроме собственных имен, не осталось решительно ничего, а затем сохранившиеся христианские памятники, как мы увидим ниже, потерпели самые обидные искажения.
История Киева, во всяком случае, представляет собой глубокий и неумирающий интерес, переходящий чрез все исторические наслоения. Здесь, как в фокусе, переплелись и сконцентрировались всевозможные течения: языческая Русь, варяжская цивилизация, древнее христианство, византийское влияние, удельные княжеские усобицы, вековечная борьба с татарскими ордами, польщизна и казачество, католицизм и т. д. Конечно, все это давно миновало; но если не сохранилось видимых памятников этих исторических водоворотов, то следы живут еще в летописи, в народных преданиях, в песнях и думах, в обычаях, и главное, в языке, в этом нарастающем богатстве каждого народа.
VI
Нынешний Киев давно оставил старую городскую черту и разросся, особенно в последнее время, главным образом, по долине р. Лыбеди, прижавшись к линии железной дороги. Старокиевские высоты и Печерск тоже застроены почти сплошь, а особенно много домиков попряталось по балкам и спускам. Замечательно то, что раньше Киев рвался все к Днепру, и самая бойкая торговая часть находилась на Подоле, а теперь началось обратное движение, и процветает, и растет Лыбедская часть. Насколько быстр этот рост города, доказывает тот простой факт, что местность, где теперь залегает самая богатая и красивая улица Крещатик, еще в двадцатых годах настоящего столетия, представляла «пустынную, поросшую лесом местность, на которой только кое-где виднелись деревянные лачуги.
Осмотр Киева я, конечно, начал с старого города, где сгруппированы, главным образом, исторические памятники, как Десятинная церковь, златоверхий Михайловский монастырь, знаменитый Андреевский собор, Св. София или по местному говору — Софея, памятник князю Владимиру, Золотые ворота и т. д. С Крещатика мы поднялись сначала к памятнику Владимира, откуда открывается единственный по красоте вид на город, а особенно на Днепр с его островами, далеким Заднепровьем и пригородными деревнями. Подъем к памятнику устроен по всем правилам новейшего искусства и около памятника превращается в аллеи.
Вид на Днепр от памятника так хорош, что забываешь о самом памятнике. — Под кручей берега Днепр разлился так красиво, и эта синяя даль облегла его со всех сторон так картинно, точно дорогая бархатная рама, а над массой живой воды столько воздуха, света и радужных переливов! Смотришь-смотришь, пока в глазах не зарябит, и все-таки не насмотришься. Отсюда, наверно, любовались Днепром и Кий с братьями, и варяжские витязи, и великие князья киевские с своими богатырями, любовались развертывавшимся синей далью Заднепровьем, смутно предчувствуя будущую историю великого народа, который займет эту равнину. Отсюда эти Владимирские богатыри посматривали на синеватую мглу межигорья, где около Вышгорода была главная переправа «поганых» через Днепр. Много бед налетало вихрем с этой стороны, и только дым и зарево пожаров показывали путь всеистребляющей степной саранчи…
 Памятник Св. Князю Владимиру.
Памятник Св. Князю Владимиру.
Полюбовавшись святым местом, спрятавшимся в густой зелени глубокого оврага, со дна которого поднимается белая колонна Крещатицкого памятника, поставленного над ключиком, где по преданию крестились 12 сыновей равноапостольного князя Владимира, мы отправились в златоверхий Михайловский монастырь. По дороге попадались толпы богомольцев, которые брели сюда от Святого места со своими котомками и палками в руках. Михайловский монастырь, после лавры, пользуется особенным вниманием богомольцев, потому что в нем покоятся мощи великомученицы Варвары, на поклонение которым ходят и католики. Сам по себе монастырь не представляет ничего замечательного, как и Десятинная церковь.
Вот Андреевский собор — совсем другое дело. Это такая оригинальная и едва ли не самая красивая церковь во всей России, построенная знаменитым Растрелли. Церковь стоит на отдельном возвышении, где по преданию апостол Андрей водрузил крест и предсказал, что на киевских горах воссияет благодать Божия. С паперти собора открывается, по моему мнению, самый лучший киевский вид, даже лучше чем от памятника Владимира. — Сейчас под ногами стелется Подол, налево от него высится Щекавица с Олеговой могилой, дальше киевские предместья — Куреневка и Приорка, а туда к Подолу ведет извилистый и крутой спуск, известный в древности под названием Борычева увоза. Кстати: по этому увозу киевляне тащили в Днепр своего Перуна, которого так сильно колотили, что даже «бес в том идоле восклицаше, рыдая зело». Гора, на которой красовался Перун, и самый увоз получили после этого название «чертова беремища». По преданию, к этому же увозу приставали и древлянские послы, приезжавшие в Киев сватать княгиню Ольгу за своего князя Мала; — известно, какую жестокую тризну по убитом муже устроила Ольга, бросив древлян в яму.
Да, здесь каждый вершок земли пропитан историей. — Вот тут наверху стояли княжеские терема, где княгиня Ольга пестовала своего маленького княжича Святослава, из которого вырос такой страшный вояка, чуть не «поруйновавший» Царьград: тут похаживал по своим светлицам ласковый князь Владимир, любуясь на удаль и богатырскую ухватку пировавших богатырей; тут томилась в своем княжем тереме гордая полоцкая княжна Рогнеда, кончившая свои дни где-то на р. Лыбеди под именем Бориславы; тут жили греческие царевны: Анна, христианская жена Владимира, и Варвара, жена вел. кн. Святополка, привезшая с собой из Византии в приданое мощи великомученицы Варвары, потом вторая жена Святослава, дочь половецкого хана Тугаркана, и дочери царевны Варвары — Сбыслава и Предслава; первая вышла замуж за польского короля Болеслава Кривоустого, а вторая — за венгерского королевича Николая и т. д., и т. д. В воображении встает бесконечный ряд мужских и женских имен, с которыми связано столько поэтических представлений. Вот стоит идол Перун с своей серебряной головой и золотыми усами, а перед ним «точат» русскую «кровушку» неистовые языческие «жрецы». Картина этого идоложрения» ужасна, и только Днепр отдает далеким эхом бесовское пение и топот пляски… Тут же, недалеко, в княжих теремах идет пир горой, где перед князем Красным-солнышком стараются превзойти друг друга хвастовством и крестьянский сын Илья Муромец, и «завидущие глаза» Алеша Попович, и сам матерый вояка Добрыня свет-Никитич. А там — внизу, под Щековицей кипит кровавая сеча удельных князей, и «поганые» черной тучей идут к Днепру, о котором Ярославна «рано кычет» на путивльской стене.
На Подоле стоял идол Волоса, около которого паслись покровительствуемые им стада. Там живали и Козары, и Половцы, и варяжские ладьи приставали с товарами к гостеприимному берегу, и там же, на заре русской истории, поселились евреи, которых изгонял из Киева Владимир Мономах еще в 1115 г., на Подоле в 1589 г. польский «круль» Сигизмунд III учредил при церкви Богоявления ту знаменитую «школу», из которой выросла киевская братская коллегия — это гнездо «сильных и крепких как львы»: в ней учились гетман Богдан Хмельницкий, патриарх Иоаким, Лазарь Баранович, Св. Дмитрий Ростовский, Стефан Яворский, Феофан Прокопович, М. В. Ломоносов, философ Сковорода, Георгий Конисский, царедворец А. А. Безбородко и многие, которые отсюда несли на север плоды киевского просвещения. Тут же на Подоле была «бискупщина», и стоял «контрактовый дом». Святые доминиканские отцы испортили много киевской крови, а в «контрактовом доме» совершались финансовые операции, обездолившие благословенную Украйну. На «контракты» съезжалось все ясновельможное окрестное панство и шляхетство. Около «бискупщины» и весело гарцевавших панов выросло цепкое и хитроумное еврейство, которое на Подоле свило себе крепкое гнездо.
VII
Переходим к Св. Софии, к этой «главе и матери всех православных церквей». По наружному виду храм напоминает златоверхий Михайловский монастырь; такая же каменная стена, такая же несоразмерно высокая
колокольня и такая же масса золотых глав. Вообще, вид не особенно привлекательный.
Те же богомольцы в церковном приходе, на дворе, на крылечке. Вблизи собор говорит не больше того, как и издали, — низкое, точно рассевшееся строение совсем потеряло свой первоначальный вид, благодаря массе позднейших боковых пристроек, а эта горевшая на солнце позолота режет глаза.
Вхожу под низкие каменные своды притвора. Идет служба. Богомольцы толпятся в главной церкви и в приделах. Низко, и трудно что-нибудь рассмотреть. Иду за другими богомольцами по отлогой круглой лестнице во второй ярус церкви. Стены расписаны древними фресками.
Аллегорические фигуры и целые сцены: — тут и охота на медведя, и апокалипсические звери, и танцующие византийские фигуры, и музыканты. Главное, и по рисунку, и по странным сюжетам видно, что это самая почтенная византийская древность, к которой относишься с невольным уважением.
На хорах певчие; снуют богомольцы. Забравшись в боковой правый придел, я подошел к самой балюстраде, взглянул вниз, вверх, по сторонам и почувствовал невольное изумление, какого не испытывал ни в московском Спасе, ни в Исаакиевском соборе.
— Вот она, Святая София!.. — вслух проговорил я, продолжая рассматривать церковь. — Ведь, это «нерушимая стена» над алтарем, а на арках настоящая византийская мозаика. И запрестольный образ тоже мозаичный, и все настоящей византийской работы…
 Храм Св. Софии.
Храм Св. Софии.
Самая неподдельная древность времен Ярослава Великого обступала нас со всех сторон, начиная с этих толстых стен, низких сводов и кончая мозаикой. Византийский стиль всей постройки безупречен, притом все части так гармонично связаны между собой; — теперь сделался понятным царствовавший внизу полумрак, который делал еще воздушнее главный купол. Эти боковые галереи тоже хороши. Здесь молились женщины, желавшие остаться невидимыми. Вообще, пред вашими глазами не мертвая каменная глыба, а что-то живое, проникнутое неумирающей мыслью. Тут все на своем месте, и нет ничего лишнего; а эти строгие лики угодников, строгая драпировка фигур и чисто византийская сухость в рисовке библейских сюжетов наводят на самые благочестивые размышления.
Самое замечательное в Св. Софии — это громадный запрестольный образ «святой премудрости», т. е. мозаичная икона Богоматери, кругом которой сохранилась знаменательная греческая надпись, которая в переводе гласит: «Бог посреди Ея не подвяжется: поможет Ей Бог день в день» (ст. 6, псалма 45). Смысл этого изречения может быть приурочен и к самой иконе Богоматери, и к храму, и к православной вере… В самом деле, чего-чего ни видала эти „нерушимая стена" с молящейся Богоматерью… Церковь разоряли и грабили не только половцы и татары, но и свои. Так, в 1160 г. 12 князей российских под предводительством Мстислава Андреевича, князя Суздальского, взяли Киев приступом, и суздальские воины беспощадно разорили Св. Софию: «иконы одраша и иные поимаша и кресты честные, и сосуды священные, и книги, и порты блаженных первых князей — то вся положиша себе в полон». В 1202 г. Св. Софию еще сильнее разорили половцы, приведенные в Киев князем Рюриком Ростиславичем; в 1240 г. окончательно разорил ее Батый, оставив одни стены. Униаты во время польского владычества забелили известкой всю византийскую живопись. Но «нерушимая стена» пережила все эти злоключения и стоит такой же, какой была при Ярославе.
Да, это величайшая русская святыня!
 Древняя икона Божией Матери Византийского письма.
Древняя икона Божией Матери Византийского письма.
Мы обошли весь собор и долго рассматривали подробности его архитектуры и живописи, — это единственный памятник во всех отношениях. Толпы богомольцев наполняли всю церковь, боковые приделы и верхний ярус, как, вероятно, они наполняли его в дни Ярослава: — это была настоящая «нива Божия», где головы клонилися, как колосья в поле. Особенно хорошо молятся хохлушки: — куда ни взглянешь, везде наклоненные спины, широкие кресты и шепот восторженной молитвы. Этот простой народ несет сюда, к святой премудрости, свое мужицкое горе, как несли его и далекие предки…
VIII
Я жил в Киеве несколько дней, и все время уходило как-то между рук: ездишь, ходишь, и, в конце-концов, начинало надоедать. Описывать все эти мелочи не стоит. Жизнь лаврской странноприимницы шла своим чередом, — те же молчаливые и скромные служки, те же приезжавшие и уезжавшие богомольцы, тот же монастырский двор, вечно переполненный странниками и странницами. Окно моего номера выходило на задний дворик, где останавливались крестьяне богомольцы, приезжавшие на своих лошадях. В свободное время приходилось быть невольным свидетелем разных семейных сцен. Забравшись в сторонку, хохлы по целым часам лежали на самом припеке, покуривали люльки и покорно шли за хохлушками «по угодникам».
— Точно в юбках они ходят, когда снимут сапоги, — удивлялась одна дама богомолка: — помните у Гоголя запорожские шаровары, которые были шире Черного моря! Вот такие же как у этих хохлов. И какой смирный народ: ни одного пьяного, нет этой вечной ругани, как у нас.
— Может быть они дома бранятся…
После осмотра старого города, я ездил смотреть Золотые ворота, которые ничего замечательного не представляют, памятник Ирины, городской сад, потом на Турханов остров — плоское и скучное место и т. д. Из всех этих поездок самая удачная была на Аскольдову могилу, прелестный и уютный уголок, о котором можно только пожалеть, что он обращен в кладбище. Вид на Днепр с Аскольдовой могилы чрезвычайно хорош, но только окружающие возвышенности и весь берег, где проходит шоссированная набережная, поражает неприятной пустотой, — нет ни строений, ни зелени. Самая могила Аскольда находится в склепе небольшой круглой церковки, куда мы, конечно, спустились, и не нашли ничего особенного, кроме, действительно, могильной сырости, хотя и склеп, и церковь содержатся очень чистенько.
Киев — город соловьев, и эти даровые концертанты поют не только ночью, но и днем.
Любимым местом прогулок и отдыха был для меня университетский ботанический сад, один из тех поэтических уголков, какими так богат Киев. Представьте себе облака густой южной зелени, в которой аллеи кажутся какими-то темными коридорами. Солнце едва пробирается сквозь густую листву и падает на траву и песок дорожек дрожащими золотыми пятнами и полосками, точно это переливается живое, южное золото. Тень и прохлада, и могучая растительная красота охватывают вас, когда вы идете по каштановой аллее, а дальше живой стеной из цветов встают сирени и душистые акации, отдельно дремлют залитые цветами яблони и еще какие-то розовые кусты, усыпанные мелкими цветочками, названия которых я не знаю. Даже наши березы и лиственницы здесь неузнаваемы, точно это не наши деревья, — о сучьях нет и помину, а зелень начинается прямо от земли. Ветви лиственниц, которые на нашем севере топорщатся так уродливо во все стороны, и которые чуть-чуть посыпаны жалкой, бледной зеленью, здесь точно увешены тяжелой зеленой бахромой… Если смотреть издали, откуда-нибудь сверху, глазу представляется фантастическая картина! Большие деревья по колена стоят в обступившей их зелени кустов и кустарников, и все кругом увешено зелеными кружевами и расцвечено разными цветами.
Я облюбовал один тенистый уголок на краю крутого обрыва и здесь проводил целые часы, любуясь окружавшей роскошью. Неугомонные соловьи заливались среди белого дня и старались перещеголять друг друга. Все кругом жило такой полной и яркой жизнью, а в воздухе немолчно стояла «торжествующая песнь любви», и соловьиные трели сыпались, как дождь. Именно, лес здесь живой, и в душе у меня поднималось предательское чувство, для этого южного леса я точно изменял скромным красотам молчаливых северных лесов. Но нет, читатель, природа хороша здесь, и у нас, в нашем северном лете, есть свои прелести и достоинства.
Настоящая гуляющая публика являлась в сад только вечером, а днем здесь бродили студенты, завертывавшие передохнуть между экзаменами, да играли дети под надзором нянек, бонн и гувернанток. Много детских головок мелькало по дорожкам и аллеям сада, но это были не наши русские лица — маленькие Стасики и Михалики держали себя настоящими джентльменами с такими же крошечными Зосями, Масями и Дидями. Дети играли так чинно и прилично, точно большие люди, если бы последние умели играть…
IX
Описание Киево-печерской лавры мы оставили к самому концу, как самое интересное. Помните, как косноязычный Моисей пас стадо своего тестя, мадиамскаго священника Иофора, и увидел в пустыне терновый куст, который «горел и не сгорал». Подошел Моисей к самому кусту и услышал таинственный голос: «Иззуй прежде сапог от ноги твоея, место, на нем же стоиши, свято есть». То же самое мы скажем о лавре: это место свято, свято не потому только, что именно здесь нашли свое спасение сотни киевских угодников, но и потому, что вот сюда, на эту днепровскую гору, в течение сотен лет простой русский народ несет свои великие слезы и находит утешение, — здесь постоянно творится великая тайна, страшная и простая, когда человек не только мирит свою совесть с требованиями неба, но и прощает, прощает седмижды семь раз, потому что здесь, на освященном молитвами, страданиями, слезами и подвигами пустынножительства месте, люди находили и находят силу отрешиться от духа зла.
Наше обозрение мы начнем с нового печерского монастыря или собственно Лавры.
Вход в нее с площадки арсенала в святые ворота, сплошь покрытые живописью. Здесь три года стоял вратарем преподобный Никола Святоша, в мире князь Святослав Давидович Черниговский, — это было в 1106 г. Сейчас за воротами открывается внутренность широкого монастырского двора, куда никто не смеет въехать на лошади. По обеим сторонам тянутся кельи монашествующей братии, а прямо высится громада лаврской колокольни, которая с крестом достигает почтенной высоты 46 саж.
 Общий вид Киево-Печерской лавры.
Общий вид Киево-Печерской лавры.
По своей величине это двенадцатое здание в свете, а после Петропавловского собора в Петербурге, второе в России. На колокольней стоит знаменитый Успенский собор. Это красивая и оригинальная церковь.
Раздавался благовест тысячепудового колокола. Вымощенный плитами пол был покрыт сплошной массой богомольцев. Около садика и на лавочках разместились на отдых очень живописные группы хохлов и хохлушек с котомками, торбами и странническими посохами. Кое-где закусывали доморощенными паляницами или купленными бубликами. Где-то простучали по каменному помосту красные чоботы записной щеголихи; попадались рубахи, расшитые «жовтогорячими шелками, головы дивчат, украшенные живыми и искусственными цветами.
— Вы бачайте, дядечку, вже ж сховались наши человеки… лепечет женский голос.
— Оце вони гуторят, Химочко… Та где ж Оришко!..
— Вона побигла у пещеры, дядечка, чи, мобут у церкви.
— Ото ледаща дивчина, розбигалось, як курка з яйцом… А стара з ней пишла.
— Буде гвалтувати… — оговаривает старческий голос.
Из церкви доносится монашеское пение, того особенного протяжного напева, как поют в наших единоверческих церквах. Непривычному уху такое пение не понравится, как и, вообще, все киевские напевы. В церкви страшная давка и невыносимая духота. Общий вид напоминает внутренность московского Успенского собора. Мы не будем описывать находящихся в этом храме святынь, потому что об этом всякий может прочитать в путеводителе по Киеву. Укажем только на ряд знаменитых могил, которые помещаются в церкви и около нее: здесь погребен в 1106 г. киевский воевода Ян Вышатич, дочь в. кн. Всеволода, Евпраксия, бывшая замужем за немецким императором Генрихом IX, знаменитый Константин, князь Острожский, тут же «добре потрудившийся» для Киева митрополит Петр Могила, фельдмаршал Румянцев Задунайский, знаменитая страдалица княгиня Наталья Борисовна Долгорукая; вне церкви, в числе других знаменитых и незнаменитых людей, покоятся тела генерального судьи П. Л. Кочубея и полтавского полковника Искры, казненных в 1708 г. Мазепой.
Сейчас за собором идет спуск к так называемым пещерным воротам лаврской ограды. Здесь на ступенях лестницы вечно толкутся нищие с деревянными мисочками, нищенскими торбами и кошелями: чем ближе к пещерам, тем их больше.
— Ридненький — батюшечко… — точно шелест сухих листьев, провожает вас этот нищенский шепот. — Спасыби вам, пани матко…
В уголке на камнях мостовой стоял на коленях слепой старик и громко читал псалмы; рядом с ним сидели калеки — один с высохшей рукой, другой без ног, дальше целый ряд самых древних старушек, инок в скуфейке, видимо нездешний, — одним словом, картина повторялась та же самая, какую вы увидите на ярмарках, в монастырях и по всяким богомольям. В общем, в Лавре, где стекается такая масса богомольцев, нищих очень мало, и никакого сравнения не может быть с Москвою или Троицко-Сергиевской лаврой.
По дороге в пещеры начали все чаще и чаще попадаться богомольцы с большими красными и зелеными восковыми свечами, которые они бережно несли, завернув в «хусточки», — эти возвращались уже из пещер. Мы долго шли по длинному досчатому коридору, куда-то под гору, потом начали подниматься и, наконец, вышли к церкви, где выход в дальние пещеры.
Самый вход в пещеры представляет узкую ничем не замечательную калитку, какие обыкновенно устраиваются в церковных притворах. Мы купили восковые свечи толщиной в обыкновенную стеариновую, и в числе других постоянно прибывавших богомольцев стали дожидаться очереди. У затворенной двери стоял инок-путеводитель и уговаривал нетерпеливых, напиравших к калитке:
— Треба дождать трохи, пока разойдутся другие…
В ответ слышится шепот торопливой молитвы, самые нетерпеливые зажигают свечи и проталкиваются вперед. Наконец, дверь отворена, наш путеводитель с зажженным пуком тоненьких свечей исчезает в темном отверстии калитки, а за ним начинают спускаться один за другим богомольцы. Из подземелья пахнуло тяжелым воздухом, и мы идем по каменным ступенькам вниз, где колеблющимися красными языками едва мелькает пламя свечей. Вырытый в твердом песчаном грунте коридор — вышиною в рост человека, а шириной — едва двоим разойтись.
— Раз… два… три… четыре… пять… шесть… считает ступеньки чей-то голос где-то впереди.
— О, Господи, милостивый!.. о, преподобные угодники, молите Бога о нас грешных… — слышится другой голос назади.
Ступеньки идут все глубже, коридор делает поворот налево, воздух заметно становится удушливее и теплее. Свечи горят красным пламенем и дымят, точно они начинают тоже задыхаться. На глубине восьмидесяти ступеней встречается какая-то дама с красным вспотевшим лицом и потухшей свечей, — она возвращается уже назад и пробивает себе дорогу довольно энергично.
— Совсем задохлась… дурно… повторяет она какому-то мужчине, который помогает ей выбраться на свежий воздух.
Нас обгоняет несколько бойких хохлушек, которые так и рвутся вперед. Ступеньки идут все ниже, точно спускаемся в глубокую шахту, какое-то сухое пещерное тепло мешает дышать. Но вот и первые ниши с открытыми гробами угодников. В стене слабо мерцают лампадки, монах на ходу заученным тоном объясняет имена и подвиги угодников:
— Пафнутий затворник… при кончине удостоился лицезреть ангелов… Дионисий священник… Феофил, архиепископ новгородский, которому во сне явился Св. Нифонт и возвестил его кончину. Зинон — постник… Григорий чудотворец… Ипатий целебник… Лукиян — священномученик.
— О, милостивый Господи… Ипатий чудотворец, моли Бога о нас!.. — шепотом, как эхо, повторяют богомольцы за монахом, торопливо крестятся и прикладываются к мощам.
— Феофил целебник, моли Бога о нас… Пафнутий затворник…
Некоторые гроба открыты, и по складкам покрова можно рассмотреть формы человеческого тела: голову, скрещенные на груди руки, вытянутые ноги. Кое-где белеют положенные в гроб крендельки и мелкие монеты. От недостатка воздуха и высокой температуры свечи начинают гаснуть, и мы остаемся в совершенной темноте, когда монах путеводитель исчезает где-нибудь за углом. На самой глубине коридор разветвляется, есть заделанные ходы, куда публику не пускают. Это целый город мертвых, и нужно удивляться терпению и выносливости печерских угодников, живьем замуровавших себя в это подземелье. Некоторые подвижники жили десятки лет здесь безвыходно, это так называемые затворники — Лаврентий, Кассиан и др. Их пещеры и сейчас остаются в том же виде, как были при их жизни, — дверь заложена камнем, и в ней оставлено только маленькое отверстие, в которое едва пройдет рука.
Начало пещерножительства положено в 1013 г. знаменитым Антонием, который, избегая мирской суеты, поселился в так называемых варяжских пещерах, на месте нынешних дальних. К Антонию пришел Феодосий, и пещерножительство утвердилось. В пещерах возникло обширное Монашеское братство, привлекавшее все новых членов, так что, кроме дальних пещер, были ископаны и ближние: — первые называются пещерами пр. Феодосия, вторые — пр. Антония. Введенный здесь студийский устав отличался величайшей строгостью. В дальних пещерах сохранилась келья пр. Феодосия с его «земляным ложем» и три церкви — Благовещения, пр. Феодосия и Рождества Христова. Эти подземные церковки всего с небольшую комнатку и освещаются едва тлеющими лампадами, отчего кажутся еще меньше.
Монах путеводитель шел скоро, и его объяснения могли слышать только ближайшие богомольцы. Мы, таким образом, отстали, и одна дама принялась читать надписи над гробами и пещерами, что сейчас же образовало около нее целую толпу безграмотных богомолок, повторявших за нею каждое слово. Тяжелые вздохи прерывались благочестивыми восклицаниями, громкой молитвой и торопливо сыпавшимися крестами. Особенно бабы обрадовались, когда среди угодников оказалась Ефросиния, игуменья полоцкая, в мире дочь князя полоцкого Святослава.
— Угодница Божия… матушка Ефросиния, моли Бога о нас!..
— Арсений трудолюбивый, прости наши великие согрешения…
— О, господи батюшко… Тит воин, моли Бога о нас!..
Особенно усердствовали хохлушки и молились с каким-то всхлипыванием, как плачущие дети. Нельзя было смотреть равнодушно на эту глубокую молитву, которая превозмогает все.
В дальних пещерах почивает открыто 33 угодника и 13 затворников. Мощи преп. Феодосия покоятся в Успенском соборе лавры.
Ближние пещеры от дальних отделяет пространство в несколько сот сажен. Вы идете мимо зеленеющих садиков, где растут плодовые деревья, и пестреют птицы. Цветущие яблони наклоняются из-за садовой калитки над самыми головами богомольцев, яркое полуденное солнце слепит глаза. Как хорошо, после тяжелого сумрака пещер и спертого воздуха!.. Этот резкий контраст просто ошеломляет, точно сам сейчас вышел из своей могилы: мир так хорош, над головой высокое южное небо, кругом целые облака зелени, а где-то в цветущих кустах заливаются невидимые певцы.
Ближние пещеры «ископаны» у самого подножья монастырской стены. Ход в них такой же, как и в дальние, — такая же узенькая калитка, такой же уползающий в глубину коридорчик и такая же духота, которая охватывает вас с первых шагов. Основав дальние пещеры, пр. Антоний удалился сюда и здесь оставался до конца своих дней. Спускаться здесь не так далеко, но здесь больше разветвлений и отдельных келий. Мы спускаемся за монахом, который опять уходит далеко вперед. Всех мощей почивающих здесь угодников считают 73 и в затворе один. Вот келья самого пр. Антония, где устроена церковь, и где почивают его мощи. Дальше мощи преп. Прохора лебедника (он питался лебедой), потом мощи Иулиании, княжны Ольшанской, первого игумена пещерского Варлаама — в мире сын киевского боярина Яна и внук знаменитого воеводы Вышаты. Вот два родных брата, Иоанн и Феофил, почивающие в одном гробе. Рядом покоится священномученик Кукша, проповедывавший слово Божие вятичам на р. Оке и замученный ими. В открытом гробе покоится преп. Нестор летописец, написавший «Повесть временных лет».
Особенным вниманием богомольцев пользуется Иоанн многострадальный, который закапывался стоймя в землю и оставался в таком положении по шести дней; этот подвиг продолжался целых тридцать лет, и преподобный умер, стоя в земле, как и сейчас почивают его мощи, — в углублении келии видна одна голова, покрытая пеленой.
Дальше следуют мощи Нифонта, епископа новгородского, получившего название «поборника всей земли русской»; от него осталось в русской церкви постановление не хоронить мертвых после солнечного заката, потому что «то бо последнее солнце до общаго воскресения». Недалеко от преп. Нифонта почивают в одном гробе двенадцать братьев, пришедших «из греки» строить великую печерскую церковь и кончивших жизнь в пещерах. Мы уже прошли эту пещеру, когда навстречу попался очень озабоченный хохол, который спрашивал всех каким-то испуганным голосом:
— Та где ж вони, двенадцать братов?.. Будьте таки ласковиньки, кажите, бо в мене така ледаща голова…
Я вернулся, чтобы показать ему двенадцать братов. Хохол упал на колени и принялся отбивать земные поклоны.
Потом он догнал нас и опять спрашивал, где Илья Муромец — это было рядом с пещерой 12 братьев. Сейчас за пещерой преп. Ильи коридор делал поворот под углом, и тут стояла какая-то молодая хохлушка, державшая на руках маленький гробик. Проходящие прикладывались, — это был гробик младенца Иоанна, убиенного вместе с отцом в 983 г. идольскими жрецами.
В заключение этого беглого обзора дальних и ближних пещер прибавим поэтическое предание о чуде, совершившемся в 1453 г. Именно, священник и затворник Дионисий Щепа, почивающий в дальних пещерах, «на велик день» обходил все эти подземелья и, когда пришел в общинную келию ближних пещер, где была когда-то трапезная пещерной братии, воскликнул: «Святые отцы и братие! Сегодня есть великий день — Христос воскресе!..». В ответ, как гром, раздались голоса всех почивающих угодников: «Воистину воскресе»!
X
Я проводил в Киеве последнюю ночь, — завтра нужно было возвращаться домой, на свой родной холодок. Я опять сидел заполночь на балконе странноприимницы, — над головой висела лихорадочно мерцавшая синева южного неба, далеко внизу блестящей, точно выкованной из металла, полосой лежал застывший Днепр, ближе мягкими круглившимися очертаниями поднимались сады. Опять перезванивали перекликавшиеся колокола, и смутно доносилось откуда-то монашеское пение, точно пела сама земля, эта живая могила, поглотившая в себе столько горя, мук и страданий… Там, под землей "город мертвых», а наверху и зелень, и звезды, и соловьиная трель. Да, и ночь, и звезды, и молочная мгла, которая облегла всю даль, ту даль, где скрылись и «татарские загоны», и «крымская неволя», и «польские заезды», и те курганы, под которыми спит мертвым сном казацкая сила, батьки сечевики. И паны, настоящие старинные паны, тоже «поховались» в землю и тоже спят непробудным сном, побратавшись в этом покое с своими врагами казацкими батьками.
Все замолкло. Нэхай молчит: Така Божа воля…
А вот и монастырский двор, который больше не «гомонит», и все богомольцы, которые пришли в Киев «на прощу», давно спят «покотом». Мертвая тишина нарушается сонным бредом да чьей-то молитвой… Смотришь, слушаешь, и на душе делается и грустно, и хорошо, и всего охватывает какое-то жуткое чувство.

Примечания
1
Вместо: «разбойник с большой дороги».
(обратно)
2
Латинская поговорка: «Всякому свое».
(обратно)
3
Вёдро — хорошая погода.
(обратно)
Оглавление
ЖИВАЯ ВОДА
Рассказ
КУКОЛЬНЫЙ МАГАЗИН
Рассказ
НА ЛИНИИ
Рассказ
SUUM CUIQUE[2]
Рассказ
В УЧЕНЬИ
Рассказ
СВЯТОЙ УГОЛОК
Путевая заметка
*** Примечания ***


 а Солонец мы приехали ночью, когда весь курорт спал крепким сном. Приходилось двигаться тихо и говорить шепотом, чтобы не потревожить чуткого сна больных. Только один сторож спал так крепко, что мы его едва растолкали. Сначала он, видимо, принял нас за разбойников, но, увидав наш сибирский тарантас, заложенный тройкой, успокоился и, зевая, спросил:
— Да вам-то чего здесь понадобилось ночью?..
— А мы изюмом торгуем — вот и приехали, — пошутил мой спутник Иван Васильевич, очень добродушный и неизменно веселый человек. — Номера свободные есть?
— Номера? А я почем знаю? Приезжали бы днем, а то нашли время… Все спят. И Всеволод Александрыч тоже спит…
— Это доктор?
— Конешно, дохтор…
— Так как же, по-твоему, нам на улице ночевать?
— А это уж ваше дело… Известно, ночное дело, все спят…
— Ну, и мы тоже хотим спать… Впрочем, что я с тобой попусту бобы развожу.
Иван Васильевич отличался энергией и сейчас же скрылся в темноте. Слышны были только удалявшиеся его шаги. Он направился прямо к зданию курзала, которое чуть обрисовывалось во мгле июльской безлунной ночи.
— И жисть только… — ворчал сторож, почесывая спину локтями. — Умереть спокойно не дадут… Да вон бессонный дьякон идет, он знает.
— Какой бессонный дьякон?
— А такой… Второй месяц не спит. Как ночь, он и бродит по парку, как неприкаянная душа. Тоже, навяжется человек…
Из темноты по дорожке слышались приближавшиеся шаги, и скоро показалась высокая, тощая фигура.
— В самом курзале вчера освободились два номера… — вежливо предупредил из темноты голос бессонного дьякона. — Две дамы с мигренью уехали… Здравствуйте.
Мы поздоровались. Я закурил папироску и при колебавшемся освещении горевшей спички успел рассмотреть, что суровый сторож был, несмотря на теплую летнюю ночь, одет в тяжелый овчинный тулуп, а о. дьякон бродил по парку в одном подряснике.
У него было бледное, измученное лицо с лихорадочно блестевшими темными глазами.
— В самый раз, — продолжал ворчать старик. — Барин-то пошел в номера, а разбудит Карлу Карлыча, так попадет на орехи… Немец злющий, как подколодный змей. Он и самого Всеволода Александрыча однова чуть не зашиб камнем… Расстервенится, так ему, немцу, все одно.
— Пустяки болтаешь, старик, — мягко остановил о. дьякон. — Карл Карлыч больной человек, ну, и погорячится иногда…
— Больно-ой?! Рожа-то вон какая красная…
— Хорошо, довольно. Ты начинаешь говорить грубости…
В темноте золотой искоркой показалась папироса Ивана Васильича. Он, видимо, был в хорошем настроении духа, потому что шел и мурлыкал какую-то песенку.
— Номер нашел… — заявил он весело, здороваясь с о. дьяконом, точно вчера с ним расстался. — Отличный номер…
Багаж наш был невелик, и мы скоро очутились в своем номере, небольшой комнатке в одно окно, выходившем на узкую деревянную галерею, обложившую легким бордюром второй этаж деревянного, довольно ветхого здания курзала.
а Солонец мы приехали ночью, когда весь курорт спал крепким сном. Приходилось двигаться тихо и говорить шепотом, чтобы не потревожить чуткого сна больных. Только один сторож спал так крепко, что мы его едва растолкали. Сначала он, видимо, принял нас за разбойников, но, увидав наш сибирский тарантас, заложенный тройкой, успокоился и, зевая, спросил:
— Да вам-то чего здесь понадобилось ночью?..
— А мы изюмом торгуем — вот и приехали, — пошутил мой спутник Иван Васильевич, очень добродушный и неизменно веселый человек. — Номера свободные есть?
— Номера? А я почем знаю? Приезжали бы днем, а то нашли время… Все спят. И Всеволод Александрыч тоже спит…
— Это доктор?
— Конешно, дохтор…
— Так как же, по-твоему, нам на улице ночевать?
— А это уж ваше дело… Известно, ночное дело, все спят…
— Ну, и мы тоже хотим спать… Впрочем, что я с тобой попусту бобы развожу.
Иван Васильевич отличался энергией и сейчас же скрылся в темноте. Слышны были только удалявшиеся его шаги. Он направился прямо к зданию курзала, которое чуть обрисовывалось во мгле июльской безлунной ночи.
— И жисть только… — ворчал сторож, почесывая спину локтями. — Умереть спокойно не дадут… Да вон бессонный дьякон идет, он знает.
— Какой бессонный дьякон?
— А такой… Второй месяц не спит. Как ночь, он и бродит по парку, как неприкаянная душа. Тоже, навяжется человек…
Из темноты по дорожке слышались приближавшиеся шаги, и скоро показалась высокая, тощая фигура.
— В самом курзале вчера освободились два номера… — вежливо предупредил из темноты голос бессонного дьякона. — Две дамы с мигренью уехали… Здравствуйте.
Мы поздоровались. Я закурил папироску и при колебавшемся освещении горевшей спички успел рассмотреть, что суровый сторож был, несмотря на теплую летнюю ночь, одет в тяжелый овчинный тулуп, а о. дьякон бродил по парку в одном подряснике.
У него было бледное, измученное лицо с лихорадочно блестевшими темными глазами.
— В самый раз, — продолжал ворчать старик. — Барин-то пошел в номера, а разбудит Карлу Карлыча, так попадет на орехи… Немец злющий, как подколодный змей. Он и самого Всеволода Александрыча однова чуть не зашиб камнем… Расстервенится, так ему, немцу, все одно.
— Пустяки болтаешь, старик, — мягко остановил о. дьякон. — Карл Карлыч больной человек, ну, и погорячится иногда…
— Больно-ой?! Рожа-то вон какая красная…
— Хорошо, довольно. Ты начинаешь говорить грубости…
В темноте золотой искоркой показалась папироса Ивана Васильича. Он, видимо, был в хорошем настроении духа, потому что шел и мурлыкал какую-то песенку.
— Номер нашел… — заявил он весело, здороваясь с о. дьяконом, точно вчера с ним расстался. — Отличный номер…
Багаж наш был невелик, и мы скоро очутились в своем номере, небольшой комнатке в одно окно, выходившем на узкую деревянную галерею, обложившую легким бордюром второй этаж деревянного, довольно ветхого здания курзала.
 Мы скоро очутились в небольшой комнатке в одно окно…
Мы скоро очутились в небольшой комнатке в одно окно…
 По галерее уже гуляли больные…
По галерее уже гуляли больные…


 а Гороховой улице, недалеко от Садовой, лет двадцать существовал часовой магазин, но хозяин-старик умер, а наследники не пожелали продолжать дела, и на большом зеркальном окне появилось объявление, что магазин сдается. Место было бойкое, почти центр Петербурга, и явилось много желающих его снять. Приходили, осматривали и уходили, — кому дорого, кому неудобно. В числе других пришел седой, сгорбленный старичок с молодой девушкой. Они подробно все осмотрели и остались довольны.
— Нам с тобой, Катя, будет здесь хорошо, — объяснил старик. — Для тебя будет комнатка и для меня и для мастерской… Положим, эти комнаты выходят окнами на двор, но всем деревни не выберешь… Главное, что место самое бойкое.
— А не дорого, дедушка? — спрашивала девушка.
— Ничего, как-нибудь справимся. По нашему делу самое главное — место…
Катя была настоящей русской девушкой: русоволосая, с круглым румяным лицом, с добрыми карими глазами. Она не была родной внучкой, а выросла приемышем.
— Да, отлично… — повторял старичок, прикидывая что-то в уме.
— А где ты денег возьмешь, дедушка?
— Денег? Хе-хе… Все денежки, милая, вот у таких старичков, как я. Молодые-то не умеют их беречь, а старички копят да копят… да. Теперь первое дело — вывеска. Надо что-нибудь такое веселенькое, чтобы и видно было издали, и чтобы тянуло каждого в магазин… У меня уж есть на примете один мастер. Он устроит…
Вывеска появилась ровно через неделю и, действительно, обращала на себя внимание публики. Она была голубая. Золотыми буквами вверху было написано: «Андрей Иваныч Пастухов и К0», а под этим — «Игрушки и починка кукол».
— Дедушка, какая же у тебя компания? — спрашивала Катя.
— А про себя-то ты и забыла? Хе-хе… Знаешь, это как-то важнее выходит: «Андрей Иваныч Пастухов и компания». Я тебя в следующий чин произведу: раньше ты была просто Катя, а теперь будешь Катериной Петровной… Хе-хе!.. Ловко придумано? Это тоже для важности… Катями горничных зовут, а ты теперь будешь купчиха.
Девушка даже покраснела от смущения, хотя дедушка и любил пошутить. Он был такой добрый и всегда улыбался.
— Ну-с, Катерина Петровна, главное сделано, — болтал старик. — А теперь милости просим, почтеннейшая публика…
Новый магазин наполнился игрушечным товаром как-то сразу. Появились деревянные сундуки, коробья, ящики, свертки, корзины. Все это распаковывалось, и на Божий свет появлялись самые удивительные вещи. Первым появился на окне клоун с медными тарелочками в руках.
— Наконец-то… — весело проговорил он, хлопая тарелками. — Ух! Как я устал лежать без всякого движения! Целый год пролежал в темном ящике… Положим, кругом была солома, но все-таки ужасно скучно… Главное, не видать своих соседей, и не с кем слова сказать.
а Гороховой улице, недалеко от Садовой, лет двадцать существовал часовой магазин, но хозяин-старик умер, а наследники не пожелали продолжать дела, и на большом зеркальном окне появилось объявление, что магазин сдается. Место было бойкое, почти центр Петербурга, и явилось много желающих его снять. Приходили, осматривали и уходили, — кому дорого, кому неудобно. В числе других пришел седой, сгорбленный старичок с молодой девушкой. Они подробно все осмотрели и остались довольны.
— Нам с тобой, Катя, будет здесь хорошо, — объяснил старик. — Для тебя будет комнатка и для меня и для мастерской… Положим, эти комнаты выходят окнами на двор, но всем деревни не выберешь… Главное, что место самое бойкое.
— А не дорого, дедушка? — спрашивала девушка.
— Ничего, как-нибудь справимся. По нашему делу самое главное — место…
Катя была настоящей русской девушкой: русоволосая, с круглым румяным лицом, с добрыми карими глазами. Она не была родной внучкой, а выросла приемышем.
— Да, отлично… — повторял старичок, прикидывая что-то в уме.
— А где ты денег возьмешь, дедушка?
— Денег? Хе-хе… Все денежки, милая, вот у таких старичков, как я. Молодые-то не умеют их беречь, а старички копят да копят… да. Теперь первое дело — вывеска. Надо что-нибудь такое веселенькое, чтобы и видно было издали, и чтобы тянуло каждого в магазин… У меня уж есть на примете один мастер. Он устроит…
Вывеска появилась ровно через неделю и, действительно, обращала на себя внимание публики. Она была голубая. Золотыми буквами вверху было написано: «Андрей Иваныч Пастухов и К0», а под этим — «Игрушки и починка кукол».
— Дедушка, какая же у тебя компания? — спрашивала Катя.
— А про себя-то ты и забыла? Хе-хе… Знаешь, это как-то важнее выходит: «Андрей Иваныч Пастухов и компания». Я тебя в следующий чин произведу: раньше ты была просто Катя, а теперь будешь Катериной Петровной… Хе-хе!.. Ловко придумано? Это тоже для важности… Катями горничных зовут, а ты теперь будешь купчиха.
Девушка даже покраснела от смущения, хотя дедушка и любил пошутить. Он был такой добрый и всегда улыбался.
— Ну-с, Катерина Петровна, главное сделано, — болтал старик. — А теперь милости просим, почтеннейшая публика…
Новый магазин наполнился игрушечным товаром как-то сразу. Появились деревянные сундуки, коробья, ящики, свертки, корзины. Все это распаковывалось, и на Божий свет появлялись самые удивительные вещи. Первым появился на окне клоун с медными тарелочками в руках.
— Наконец-то… — весело проговорил он, хлопая тарелками. — Ух! Как я устал лежать без всякого движения! Целый год пролежал в темном ящике… Положим, кругом была солома, но все-таки ужасно скучно… Главное, не видать своих соседей, и не с кем слова сказать.


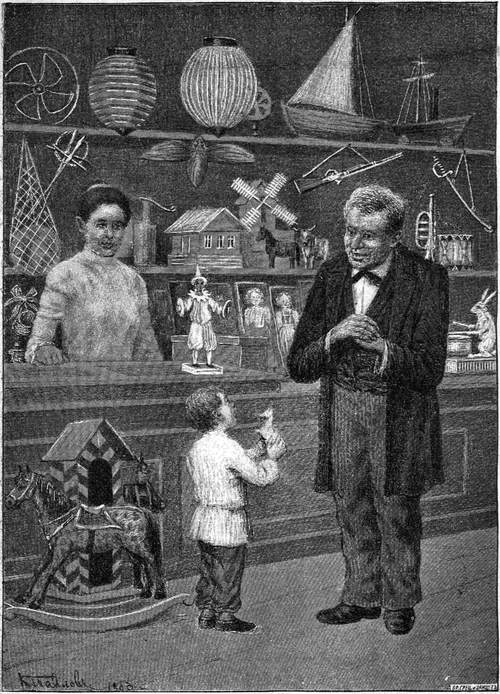 Он достал лошадку и передал мальчику.
Он достал лошадку и передал мальчику.
 Андрей Иваныч работал и покуривал трубочку, а Катерина Петровна шила и мурлыкала песенку.
Андрей Иваныч работал и покуривал трубочку, а Катерина Петровна шила и мурлыкала песенку.
 Солдатики тоже недурно работают.
Солдатики тоже недурно работают.




 не съездить ли к о. Якову? — вслух подумал о. Андрей, старичок лет шестидесяти, сгорбленный и худенький, с реденькой бородкой и добрыми глазами.
Кругом все точно приглашало почтенного старичка к осуществлению этой мысли. В открытое окно смотрел такой чудный летний день. Купы рябин и черемухи стояли, не шелохнувшись. Из садика несло запахом свежей травы. Тишина нарушалась только гуденьем пчел. По голубому небу, в недосягаемой выси плыли белые облака. Вообще, все было отлично.
— Отчего бы не съездить к о. Якову? — повторил о. Андрей, выглядывая в окно.
Домик у о. Андрея был небольшой деревянный, но такой уютный и добродушный. У дома был разбит садик. Из-за живой стены рябин и черемух виднелась каменная заводская церковь, а за ней поднимались невысокие лесистые горы. О. Андрей жил один. Старушка жена умерла несколько лет тому назад, а дети выросли и разлетелись в разные стороны. Старческое одиночество чувствовалось о. Андреем больше всего именно в такие хорошие летние дни, когда его охватывала какая-то неопределенная тоска.
Был вызван кучер Ефим, он же дворник, садовник и чиновник особых поручений. Это был довольно хмурый старик, глядевший куда-то в сторону. На последнем основании о. Андрей считал его очень хитрым.
— Еще что-нибудь сделает, — думал иногда о. Андрей, наблюдая своего верного слугу. — Если у человека совесть чиста, то он будет смотреть прямо в лицо, а не в сторону. Кто его знает, что у него на уме… Непременно нужно будет ему отказать и взять другого кучера.
Так думал о. Андрей и не один раз откровенно высказывал свои мысли Ефиму. Но последний ни мало не смущался и отвечал одно и то же:
— Такой уж уродился, о. Андрей… А что касаемо отказа с места, так куды я пойду? Слава Богу, скоро двадцать лет, как служу тебе… Одним словом, некуда мне идти.
О. Андрей соображал про себя и соглашался, что, действительно, Ефиму некуда идти.
Вызванный со двора Ефим стоял в передней и тяжело переминался с ноги на ногу. О. Андрей вышел к нему и нерешительно проговорил:
— А не съездим ли мы к о. Якову, Ефим?
— А отчего не съездить?.. — ответил Ефим, глядя в угол.
— Ты думаешь, хорошо?
— На что лучше… Вёдро[3] стоит вот какое.
— Ну, а как Сивко?
— Што Сивко, — в огороде траву ест. Одним словом, лукавая скотина…
— Не нужно так говорить, Ефим! — наставительно заметил о. Андрей. — «Блажен, иже и скоты милует»… Сивко не виновен, что состарился. Я его купил еще по четвертому году. Двадцать лет выслужил…
— В самый раз продать его татарам на мясо. Рубля три дадут. Вон у о. Якова пара коней… Коренник-то — загляденье, только держи!
— Ты бы не удержал, Ефим…
— Пожалуй, и не удержал бы… — уныло согласился Ефим, продолжая глядеть в угол. — Состарился я… Вместе с Сивком двадцать лет служим тебе…
— Хорошо, хорошо… Ступай, закладывай!
Ефим пошел к дверям, потом вернулся и спросил:
— Так закладывать, што ли?
— Сказано: закладывай! Ах, какой ты!..
У Ефима была дурная привычка спрашивать одно и то же по десяти раз. Он вернулся из сеней и еще раз спросил, закладывать ли лошадь. О. Андрей знал, что он вернется, и немного рассердился. Выжил совсем Ефим из ума, и нужно будет ему отказать.
Собраться в гости к о. Якову, т. е. проехать целых девять верст, — для о. Андрея было настоящим событием. Он собирался битых часа два. Не забыть бы чего-нибудь (забывать было решительно нечего), не испортилась бы погода, не случилась бы какая-нибудь неотложная треба, не сломалось бы колесо дорогой, не захромал бы Сивко и т. д. Ефим все это время закладывал лошадь, ворчал себе под нос и мотал уныло головой.
— Разве это лошадь? — повторял он, без всякого основания тыкая Сивка в бок. — Волки и те не станут есть…
Сивко, действительно, был стар. Натруженные ноги были согнуты в коленках, нижняя губа отвисла, во всем теле сказывалась старческая худоба, на левый глаз он почти ничего не видел.
«Его и корм не берет», думал Ефим. — «А еще называется поповская лошадь»…
Когда закладка кончилась, Ефим отправился в переднюю и громко спросил:
— Ехать, што ли?
— Сейчас выхожу, Ефим. Вот только нужно Матрене наказать… Уедем, а тут не знаю, что может случиться.
Перед отъездом о. Андрей обошел все комнаты, запер все двери и окна, спустился в кухню и долго читал глухой кухарке Матрене наставления, как нужно себя вести, когда кухарка остается в доме одна.
— Понимаешь: я уезжаю, объяснял он, — а ты остаешься одна… Совсем одна в доме.
— Ну? — грубо спрашивала Матрена, ничего не понимая.
О. Андрей показал на себя и махнул рукой в сторону Нового завода (Матрена поняла), потом показал на нее и, отставив один палец, объяснил:
— Понимаешь: одна?
— Ну? К о. Якову поехали с Ефимом…
— Вот, вот… Если кто придет или приедет, так и скажи, что я уехал на Новый завод, к о. Якову, и вернусь только вечером. Поняла?
— Ну? Ночевать там останешься…
— Ах, какая ты!.. Разве я когда-нибудь оставался там ночевать? А ты никуда не уходи… Уйдешь, ворота забудешь запереть, а воры и залезут… Воры… Поняла?
О. Андрей показал, как залезут воры и все утащат, хотя отлично знал, что Матрена никуда не уйдет, да и идти ей было некуда.
— И этой надо непременно отказать, — думал вслух о. Андрей, усаживаясь в долгушку.
— Глухая тетеря… — ворчал Ефим, догадавшись, о ком идет речь. — Хоть кол ей на голове теши, все равно, ничего не услышит.
Ефим и Матрена, как и следует кучеру и кухарке, вечно ссорились, хотя и жили в кухне вместе целых двадцать лет. О. Андрею постоянно приходилось их мирить.
Старый завод, где жил о. Андрей, точно потерялся в горах, рассыпав свои бревенчатые домики по берегу длинного и глубокого заводского пруда. Другая часть селенья вытянулась вниз и вверх по течению горной речки Шайтанки. На горе стояла церковь, под горкой у плотины горбились почерневшими железными крышами заводские корпуса. Вечно дымили доменная печь и десятка два труб. Фабрика была невелика, как и все селенье. Долгушка о. Андрея спустилась на плотину, обогнула деревянный амбар и начала забирать в гору.
— Ну, ну, не бойся! — покрикивал Ефим, когда Сивко в гору сбавил шагу. — Ах, какая лукавая скотинка!..
— Ничего, пусть шажком поднимется в гору… Стар стал, тяжело ему.
— Ничего не тяжело, а просто лукавит… Ну, ты не бойся!..
О. Андрей знал в своем заводе, конечно, каждый дом и каждого человека. Да и как было не знать, когда он всех крестил, венчал и хоронил! И его все знали, и все кланялись, Знали все и то, что о. Андрей поехал в Новый завод, к о. Якову в гости, и что кучеру Ефиму перепадет в гостях рюмочка водки, а то и две.
От Старого завода до Нового было всего девять верст. Дорога все время шла горным перевалом, с горки на горку. Красивее место трудно себе и представить, хотя Урал здесь и не отличается особенной высотой. Горы точно покрыты дорогим зеленым ковром. В двух местах с высоты открывался чудный вид, — с одной горы виднелся Старый завод, с другой Новый. Издали дома казались игрушками. Но ровному месту Сивко тащил долгушку с грехом пополам, а когда приходилось подниматься в гору, он останавливался и, помахивая хвостом, оглядывался назад.
— Ну, ну, чего стал? — кричал Ефим. — Не бойся!..
— Действительно, скверный конь! — соглашался о. Андрей, вылезая из долгушки. — Но я могу и пешком подняться на горку… Доктора говорят, что это даже весьма полезно для моциона. Полирует кровь…
— Убить мало упрямую скотину, — ворчал Ефим, слезая с козел. — Ты думаешь, о. Андрей, она не может везти в гору? Все обманывает… Это она нарочно куражится над нами: пускай, дескать, пешочком, на своих — на двоих. Смеется над нами Сивко…
— Что же поделаешь, Ефим?..
— Вон у о. Якова какие кони… Только успевай держать.
— То у о. Якова, а то у о. Андрея.
Сивко слушал эти мудрые речи и медленно поднимался в гору, как ни в чем не бывало. Пустую долгушку было не трудно везти. Ефим шагал рядом, держа вожжи в руке, точно старая смирная лошадь могла вырваться и убежать. У старого Ефима были свои мысли: хорошо бы у о. Якова поесть пельменей, а потом сходить в гости к куму Спиридону. О. Андрей шел по правой стороне дороги, где пешеходами была пробита такая славная тропка. Кусты жимолости, рябин и черемух протягивали к нему свои зеленые ветки, точно хотели его обнять. Попадались кусты малины с спелой ягодой, в траве мелькали ягоды земляники. Из соснового леса тянуло смолистой струей теплого воздуха.
— Никуда не годится Сивко, — думал о. Андрей, глядя на старого коня, едва тащившего пустую долгушку. — Надо его продать хоть за три рубля… Ничего не поделаешь. От старости лекарства нет…
не съездить ли к о. Якову? — вслух подумал о. Андрей, старичок лет шестидесяти, сгорбленный и худенький, с реденькой бородкой и добрыми глазами.
Кругом все точно приглашало почтенного старичка к осуществлению этой мысли. В открытое окно смотрел такой чудный летний день. Купы рябин и черемухи стояли, не шелохнувшись. Из садика несло запахом свежей травы. Тишина нарушалась только гуденьем пчел. По голубому небу, в недосягаемой выси плыли белые облака. Вообще, все было отлично.
— Отчего бы не съездить к о. Якову? — повторил о. Андрей, выглядывая в окно.
Домик у о. Андрея был небольшой деревянный, но такой уютный и добродушный. У дома был разбит садик. Из-за живой стены рябин и черемух виднелась каменная заводская церковь, а за ней поднимались невысокие лесистые горы. О. Андрей жил один. Старушка жена умерла несколько лет тому назад, а дети выросли и разлетелись в разные стороны. Старческое одиночество чувствовалось о. Андреем больше всего именно в такие хорошие летние дни, когда его охватывала какая-то неопределенная тоска.
Был вызван кучер Ефим, он же дворник, садовник и чиновник особых поручений. Это был довольно хмурый старик, глядевший куда-то в сторону. На последнем основании о. Андрей считал его очень хитрым.
— Еще что-нибудь сделает, — думал иногда о. Андрей, наблюдая своего верного слугу. — Если у человека совесть чиста, то он будет смотреть прямо в лицо, а не в сторону. Кто его знает, что у него на уме… Непременно нужно будет ему отказать и взять другого кучера.
Так думал о. Андрей и не один раз откровенно высказывал свои мысли Ефиму. Но последний ни мало не смущался и отвечал одно и то же:
— Такой уж уродился, о. Андрей… А что касаемо отказа с места, так куды я пойду? Слава Богу, скоро двадцать лет, как служу тебе… Одним словом, некуда мне идти.
О. Андрей соображал про себя и соглашался, что, действительно, Ефиму некуда идти.
Вызванный со двора Ефим стоял в передней и тяжело переминался с ноги на ногу. О. Андрей вышел к нему и нерешительно проговорил:
— А не съездим ли мы к о. Якову, Ефим?
— А отчего не съездить?.. — ответил Ефим, глядя в угол.
— Ты думаешь, хорошо?
— На что лучше… Вёдро[3] стоит вот какое.
— Ну, а как Сивко?
— Што Сивко, — в огороде траву ест. Одним словом, лукавая скотина…
— Не нужно так говорить, Ефим! — наставительно заметил о. Андрей. — «Блажен, иже и скоты милует»… Сивко не виновен, что состарился. Я его купил еще по четвертому году. Двадцать лет выслужил…
— В самый раз продать его татарам на мясо. Рубля три дадут. Вон у о. Якова пара коней… Коренник-то — загляденье, только держи!
— Ты бы не удержал, Ефим…
— Пожалуй, и не удержал бы… — уныло согласился Ефим, продолжая глядеть в угол. — Состарился я… Вместе с Сивком двадцать лет служим тебе…
— Хорошо, хорошо… Ступай, закладывай!
Ефим пошел к дверям, потом вернулся и спросил:
— Так закладывать, што ли?
— Сказано: закладывай! Ах, какой ты!..
У Ефима была дурная привычка спрашивать одно и то же по десяти раз. Он вернулся из сеней и еще раз спросил, закладывать ли лошадь. О. Андрей знал, что он вернется, и немного рассердился. Выжил совсем Ефим из ума, и нужно будет ему отказать.
Собраться в гости к о. Якову, т. е. проехать целых девять верст, — для о. Андрея было настоящим событием. Он собирался битых часа два. Не забыть бы чего-нибудь (забывать было решительно нечего), не испортилась бы погода, не случилась бы какая-нибудь неотложная треба, не сломалось бы колесо дорогой, не захромал бы Сивко и т. д. Ефим все это время закладывал лошадь, ворчал себе под нос и мотал уныло головой.
— Разве это лошадь? — повторял он, без всякого основания тыкая Сивка в бок. — Волки и те не станут есть…
Сивко, действительно, был стар. Натруженные ноги были согнуты в коленках, нижняя губа отвисла, во всем теле сказывалась старческая худоба, на левый глаз он почти ничего не видел.
«Его и корм не берет», думал Ефим. — «А еще называется поповская лошадь»…
Когда закладка кончилась, Ефим отправился в переднюю и громко спросил:
— Ехать, што ли?
— Сейчас выхожу, Ефим. Вот только нужно Матрене наказать… Уедем, а тут не знаю, что может случиться.
Перед отъездом о. Андрей обошел все комнаты, запер все двери и окна, спустился в кухню и долго читал глухой кухарке Матрене наставления, как нужно себя вести, когда кухарка остается в доме одна.
— Понимаешь: я уезжаю, объяснял он, — а ты остаешься одна… Совсем одна в доме.
— Ну? — грубо спрашивала Матрена, ничего не понимая.
О. Андрей показал на себя и махнул рукой в сторону Нового завода (Матрена поняла), потом показал на нее и, отставив один палец, объяснил:
— Понимаешь: одна?
— Ну? К о. Якову поехали с Ефимом…
— Вот, вот… Если кто придет или приедет, так и скажи, что я уехал на Новый завод, к о. Якову, и вернусь только вечером. Поняла?
— Ну? Ночевать там останешься…
— Ах, какая ты!.. Разве я когда-нибудь оставался там ночевать? А ты никуда не уходи… Уйдешь, ворота забудешь запереть, а воры и залезут… Воры… Поняла?
О. Андрей показал, как залезут воры и все утащат, хотя отлично знал, что Матрена никуда не уйдет, да и идти ей было некуда.
— И этой надо непременно отказать, — думал вслух о. Андрей, усаживаясь в долгушку.
— Глухая тетеря… — ворчал Ефим, догадавшись, о ком идет речь. — Хоть кол ей на голове теши, все равно, ничего не услышит.
Ефим и Матрена, как и следует кучеру и кухарке, вечно ссорились, хотя и жили в кухне вместе целых двадцать лет. О. Андрею постоянно приходилось их мирить.
Старый завод, где жил о. Андрей, точно потерялся в горах, рассыпав свои бревенчатые домики по берегу длинного и глубокого заводского пруда. Другая часть селенья вытянулась вниз и вверх по течению горной речки Шайтанки. На горе стояла церковь, под горкой у плотины горбились почерневшими железными крышами заводские корпуса. Вечно дымили доменная печь и десятка два труб. Фабрика была невелика, как и все селенье. Долгушка о. Андрея спустилась на плотину, обогнула деревянный амбар и начала забирать в гору.
— Ну, ну, не бойся! — покрикивал Ефим, когда Сивко в гору сбавил шагу. — Ах, какая лукавая скотинка!..
— Ничего, пусть шажком поднимется в гору… Стар стал, тяжело ему.
— Ничего не тяжело, а просто лукавит… Ну, ты не бойся!..
О. Андрей знал в своем заводе, конечно, каждый дом и каждого человека. Да и как было не знать, когда он всех крестил, венчал и хоронил! И его все знали, и все кланялись, Знали все и то, что о. Андрей поехал в Новый завод, к о. Якову в гости, и что кучеру Ефиму перепадет в гостях рюмочка водки, а то и две.
От Старого завода до Нового было всего девять верст. Дорога все время шла горным перевалом, с горки на горку. Красивее место трудно себе и представить, хотя Урал здесь и не отличается особенной высотой. Горы точно покрыты дорогим зеленым ковром. В двух местах с высоты открывался чудный вид, — с одной горы виднелся Старый завод, с другой Новый. Издали дома казались игрушками. Но ровному месту Сивко тащил долгушку с грехом пополам, а когда приходилось подниматься в гору, он останавливался и, помахивая хвостом, оглядывался назад.
— Ну, ну, чего стал? — кричал Ефим. — Не бойся!..
— Действительно, скверный конь! — соглашался о. Андрей, вылезая из долгушки. — Но я могу и пешком подняться на горку… Доктора говорят, что это даже весьма полезно для моциона. Полирует кровь…
— Убить мало упрямую скотину, — ворчал Ефим, слезая с козел. — Ты думаешь, о. Андрей, она не может везти в гору? Все обманывает… Это она нарочно куражится над нами: пускай, дескать, пешочком, на своих — на двоих. Смеется над нами Сивко…
— Что же поделаешь, Ефим?..
— Вон у о. Якова какие кони… Только успевай держать.
— То у о. Якова, а то у о. Андрея.
Сивко слушал эти мудрые речи и медленно поднимался в гору, как ни в чем не бывало. Пустую долгушку было не трудно везти. Ефим шагал рядом, держа вожжи в руке, точно старая смирная лошадь могла вырваться и убежать. У старого Ефима были свои мысли: хорошо бы у о. Якова поесть пельменей, а потом сходить в гости к куму Спиридону. О. Андрей шел по правой стороне дороги, где пешеходами была пробита такая славная тропка. Кусты жимолости, рябин и черемух протягивали к нему свои зеленые ветки, точно хотели его обнять. Попадались кусты малины с спелой ягодой, в траве мелькали ягоды земляники. Из соснового леса тянуло смолистой струей теплого воздуха.
— Никуда не годится Сивко, — думал о. Андрей, глядя на старого коня, едва тащившего пустую долгушку. — Надо его продать хоть за три рубля… Ничего не поделаешь. От старости лекарства нет…
 Коля принес ломоть хлеба и дал его Сивку.
Коля принес ломоть хлеба и дал его Сивку.

 — Это что такое? — спросил дядя Василий.
— Это что такое? — спросил дядя Василий.

 ы едем в Киев!.. — повторяю я с особенным удовольствием, прощаясь с знакомыми в Москве.
— Вот счастливец… завистливо отвечают вольные и невольные москвичи. Теперь в начале мая там рай! Все цветет… соловьи… пирамидальные тополи…
Мне делается совестно за свое собственное благополучие, и я начинаю повторять уже только про себя: «Мы едем в Киев… да, в Киев. Через два дня мы будем в Киеве… до Киева сорок часов езды по железной дороге». Южнее Москвы мне не случалось бывать, а Киев уже юг, тот благословенный юг, который нам, северянам, рисуется в самых радужных красках, хотя, не скрою, отзывам самих южан, особенно малороссов об их несравненной украине, я не совсем доверял по свойственному нашему брату сибиряку скептицизму. Во-первых, всякий кулик свое болото хвалит, а во-вторых — все южане по природной живости своей горячей южной крови немножко хвастуны…
И так, едем в Киев, в мать городов русских, в излюбленный святой уголок для всех русских странников.
День был ясный, солнечный; но на одной стороне неба быстро собиралась весенняя гроза. Апрельская свежесть бульваров и скверов теперь занялась наливавшейся тяжелой столичной духотой, а на распускавшихся деревьях уже сидел толстый слой пыли. На душе становилось весело уже от одной мысли, что еще какой-нибудь час, и курский поезд с быстротой ветра унесет и от этого неумолкающего вечного грохота столичной мостовой, и от едкой столичной пыли, которая проникает всюду.
На курском вокзале происходила настоящая давка.
Второй звонок… Свисток. На платформе и в вагонах слышатся перекрестные прощания, сыплются взаимные советы и договариваются на ходу позабытые поручения. На платформе машут платками и фуражками.
— Вы докедова? — спрашивает в нашем вагоне невидимый голос.
— А до Курскова… — отвечает другой невидимый голос.
Мы едем в третьем классе. Вагон низкий, с самыми неудобными деревянными лавочками, какие только могло придумать человеческое воображение, — ни сесть хорошенько, ни прилечь. Публики набито, как сельдей в бочонке, и, всякий, видимо, утешает себя мыслью, что многие едут до ближних станций, а там будет свободно. Опытные и бывалые люди начинают вперед опрашивать своих соседей, кто и докуда едет, и чаще всего слышится общий ответ: «до Курскова». Пассажиры нашего вагона по преимуществу московского уклада, — чуйка и «спинджак» заполонили все. Несколько мужицких серяков и зипунов как-то совсем теряются на этом общем фоне.
— Рогожское будет вон там… — объясняет кто-то высунутой в окошко голове. — А энто шапкой-то, значит, новый Спас — как шар горит. Эх, Москва — матушка, ишь как раскинулась!..
Действительно, вид на Москву очень хорош, и золотая шапка храма Спасителя долго еще висит в воздухе, когда уже самый город совсем потонул в желтоватой мгле. Из смешавшихся в одну мутную полосу домов, садов и разных фабричных зданий одиноко торчат фабричные трубы да иглы московских колоколен. Тучка догнала нас, и в мутной колебавшейся полосе сыпавшегося крупными каплями весеннего дождя пропало все московское великолепие, а по сторонам дороги уже расстилались пашни, и самым мирным образом бродил разный скот, околачивавшийся по межам и придорожинам.
Меня всегда удивляет этот необыкновенно быстрый переход от наших столиц к настоящей деревне, — какая-нибудь верста, много две, и шумная столица со всеми своими чудесами точно сквозь землю провалилась, а кругом вас стелется настоящая деревенская Русь, со всем ее мирным убожеством и необъятным врачующим простором. Вообще, никакого перехода от столицы к деревне, и в виду Москвы пашут землю что ни на есть самые деревенские мужички, и где-то в ложке мелькает самая настоящая великорусская деревня, т. е. пять-шесть убогих избенок с соломенными крышами, точно развороченные нарочно изгороди и т. д. Издали такую деревню не скоро отличишь от кучек навоза, вся разница в том, что навоз разложен по полям более симметрично.
ы едем в Киев!.. — повторяю я с особенным удовольствием, прощаясь с знакомыми в Москве.
— Вот счастливец… завистливо отвечают вольные и невольные москвичи. Теперь в начале мая там рай! Все цветет… соловьи… пирамидальные тополи…
Мне делается совестно за свое собственное благополучие, и я начинаю повторять уже только про себя: «Мы едем в Киев… да, в Киев. Через два дня мы будем в Киеве… до Киева сорок часов езды по железной дороге». Южнее Москвы мне не случалось бывать, а Киев уже юг, тот благословенный юг, который нам, северянам, рисуется в самых радужных красках, хотя, не скрою, отзывам самих южан, особенно малороссов об их несравненной украине, я не совсем доверял по свойственному нашему брату сибиряку скептицизму. Во-первых, всякий кулик свое болото хвалит, а во-вторых — все южане по природной живости своей горячей южной крови немножко хвастуны…
И так, едем в Киев, в мать городов русских, в излюбленный святой уголок для всех русских странников.
День был ясный, солнечный; но на одной стороне неба быстро собиралась весенняя гроза. Апрельская свежесть бульваров и скверов теперь занялась наливавшейся тяжелой столичной духотой, а на распускавшихся деревьях уже сидел толстый слой пыли. На душе становилось весело уже от одной мысли, что еще какой-нибудь час, и курский поезд с быстротой ветра унесет и от этого неумолкающего вечного грохота столичной мостовой, и от едкой столичной пыли, которая проникает всюду.
На курском вокзале происходила настоящая давка.
Второй звонок… Свисток. На платформе и в вагонах слышатся перекрестные прощания, сыплются взаимные советы и договариваются на ходу позабытые поручения. На платформе машут платками и фуражками.
— Вы докедова? — спрашивает в нашем вагоне невидимый голос.
— А до Курскова… — отвечает другой невидимый голос.
Мы едем в третьем классе. Вагон низкий, с самыми неудобными деревянными лавочками, какие только могло придумать человеческое воображение, — ни сесть хорошенько, ни прилечь. Публики набито, как сельдей в бочонке, и, всякий, видимо, утешает себя мыслью, что многие едут до ближних станций, а там будет свободно. Опытные и бывалые люди начинают вперед опрашивать своих соседей, кто и докуда едет, и чаще всего слышится общий ответ: «до Курскова». Пассажиры нашего вагона по преимуществу московского уклада, — чуйка и «спинджак» заполонили все. Несколько мужицких серяков и зипунов как-то совсем теряются на этом общем фоне.
— Рогожское будет вон там… — объясняет кто-то высунутой в окошко голове. — А энто шапкой-то, значит, новый Спас — как шар горит. Эх, Москва — матушка, ишь как раскинулась!..
Действительно, вид на Москву очень хорош, и золотая шапка храма Спасителя долго еще висит в воздухе, когда уже самый город совсем потонул в желтоватой мгле. Из смешавшихся в одну мутную полосу домов, садов и разных фабричных зданий одиноко торчат фабричные трубы да иглы московских колоколен. Тучка догнала нас, и в мутной колебавшейся полосе сыпавшегося крупными каплями весеннего дождя пропало все московское великолепие, а по сторонам дороги уже расстилались пашни, и самым мирным образом бродил разный скот, околачивавшийся по межам и придорожинам.
Меня всегда удивляет этот необыкновенно быстрый переход от наших столиц к настоящей деревне, — какая-нибудь верста, много две, и шумная столица со всеми своими чудесами точно сквозь землю провалилась, а кругом вас стелется настоящая деревенская Русь, со всем ее мирным убожеством и необъятным врачующим простором. Вообще, никакого перехода от столицы к деревне, и в виду Москвы пашут землю что ни на есть самые деревенские мужички, и где-то в ложке мелькает самая настоящая великорусская деревня, т. е. пять-шесть убогих избенок с соломенными крышами, точно развороченные нарочно изгороди и т. д. Издали такую деревню не скоро отличишь от кучек навоза, вся разница в том, что навоз разложен по полям более симметрично.
 Памятник Св. Князю Владимиру.
Памятник Св. Князю Владимиру.
 Храм Св. Софии.
Храм Св. Софии.
 Древняя икона Божией Матери Византийского письма.
Древняя икона Божией Матери Византийского письма.
 Общий вид Киево-Печерской лавры.
Общий вид Киево-Печерской лавры.
